Клод Руайе-Журну. Инверсия (перевод с французского и предисловие Кирилла Корчагина)
КЛОД РУАЙЕ-ЖУРНУ: ТЕТРАЛОГИЯ
Клод Руайе-Журну – представитель того блестящего поколения в новой французской поэзии, к которому принадлежит также Анна-Мария Альбиак, Эмманюэль Окар, Доминик Фуркад и некоторые другие поэты. Это поколение непосредственно следовало за Андре дю Буше, Жаком Дюпеном и Ивом Бонфуа, объявившим войну сюрреализму, который превратился из революционного и авангардного течения в очередную форму бытования культурного истеблишмента. Руайе-Журну – один из авторов, который последовательно и методично подтачивал сюрреализм, и прежде всего он боролся с образами. Как он скажет в одном интервью, формулируя свое поэтическое кредо: «Не образ, а слово "образ"».
Центральное его произведение – так называемая тетралогия: четыре поэтические книги, каждая из которых представляет собой цельное произведение, с трудом членящееся на части и требующее точного воспроизведения расположения всех слов на странице, интервалов и пустот (пустота – вот на что здесь стоит обращать внимание в первую очередь). Это упорная работа длиной в три с половиной десятилетия: первая книга вышла в 1972 году, последняя – в 1997-м: «Инверсия» (1972), «Понятие препятствия» (1978), «Предметы содержат в себе бесконечность» (1983), «Неделимые сущности» (1997). Потом было еще несколько книг, развивающих темы этих четырех. В этом номере «Флагов» публикуется первая из этих книг, в следующих номерах будут появляться следующие, чтобы читатель смог постепенно открыть для себя мир тетралогии.
У Руайе-Журну есть несколько любимых слов – они повторяются в каждой его книге, некоторые – с редкой настойчивостью. Каждое из них сложно перевести на русский язык: русское слово кажется либо слишком широким, зараженным мистикой (так Бибихин переводил хайдеггеровский Dasein картезианским присутствием), либо, напротив, слишком узким, неспособным выразить хотя бы приблизительно тот же смысл. Примерный список этих слов: image, geste, couleur, mer, mére, sens, récit, fable, phrase, offrand, blanc, vide, corde, espace, piéce. Здесь есть те слова, которые можно воспринимать как терминологию лингвистическую (phrase, sens) или философскую (espace, image), есть слова, относящиеся к области письма (récit), которые значат не совсем то, что при буквальном переводе: когда поэт пишет récit, он явно имеет в виду стихотворение и его специфическое течение, развертывание во времени. Есть и такие слова, двусмысленность которых трудно объяснима: часто встречается слово corde, относительно которого никогда нельзя быть уверенным идет речь о геометрической хорде (как в стихах про геометрическую разметку садового участка) или о веревке, о струне. Это те элементы, которые составляют сеть ключевых для поэта понятий, остов, на котором держится здание тетралогии.
Таких слов достаточно много, но главное и самое частое из них – image. В некоторых случаях это слово явно обозначает изображение или некую визуальную картину, однако в нем сохраняется и более глубокий смысл – тот же, что присутствует в русском слове образ, когда речь идет об иконах, где, по словам Мари-Жозе Мондзен, «видимое не является воспринимаемым». Образ могущественен, и именно за пределы этого могущества стремится вырваться поэзия Руайе-Журну: здесь всё сопротивляется представлению – читая эти стихи, невозможно что-либо вообразить или представить.
Такой чисто словесный образ существует уже за пределами литературы и литературности – он становится следом знака, указывающим на что-то неясное, не поддающееся реконструкции и интерпретации. «Наука о следах (ихнология), с которой начинается реконструкция роста и веса доисторического животного, не столь уж далека от моего труда» – пишет поэт в другом месте по схожему поводу. Он ограничивает себя, настойчиво следуя за привычными, обжитыми словами, стертыми значениями, так долго бывшими в употреблении, что их истинный смысл уже перестал быть кому-либо известен. Но в этом ограничении – как и в постоянном вымарывании, сокращении, превращении текста в зияющее поле умолчаний – пожалуй, кроется суть поэтической экономии Руайе-Журну:
Я предлагаю прочитать то, что едва видимо: то, что таит в себе угрозу, – то, откуда может возникнуть нечто жестокое. Батай говорит, что философ – это тот, в ком есть страх. Есть нарядные книги. Но писать – значит быть способным показать всю анатомию. Нужно дойти до границ литературности. Я привязан к Аристотелю и Витгенштейну. Я часто думал: это из-за того, что я ничего в них ничего не понимал. Сейчас я думаю: это из-за того, что они писали просто, кропотливо, дотошно. Меня завораживает дотошность. Если довести литературность до предела как это сделал Витгенштейн можно соскользнуть в ужас.
Часто о Руайе-Журну и его сподвижниках (прежде всего, об Альбиак и Оккаре) говорят, когда вспоминают международный успех языковой поэтики, перечисляя аналоги этого движения за пределами США. Однако американская поэзия все-таки далека от этих текстов, даже несмотря на то, что в них иногда упоминаются ее мэтры – Чарльз Бернстин, Майкл Палмер. Их имена, впрочем, скорее указывают на связность международного поэтического пространства – на то, что при всех различиях поэты готовы читать друг друга (600-страничный том Руайе-Журну вышел в США в переводе Кейт Уолдроп, а сам французский поэт на протяжении многих лет пропагандирует американскую поэзию, хотя, скорее, объективистскую: его любимый поэт – Луис Зукофски).
Поэзия Руайе-Журну кажется более аналитичной, чем стихи его американских визави: последние куда настойчивее стремятся уловить реальность в ее кинестетико-тактильном измерении (что верно чувствовал Аркадий Драгомощенко, много переводивший американцев); они доверяют звуку (за это Руайе-Журну критикует Бернстина), в них еще отзывается голос площадей, не дававший покоя битникам. Искусство Руайе-Журну кажется куда более камерным: оно решительно отказывается говорить с миром на его языке, остается равнодушным к непосредственным впечатлениям, ощущениям тела: всё это скрыто в подтексте и безжалостно вымарывается поэтом, хотя какие-то указание на чувственную полноту мира все-таки остаются – в виде никогда не называемой прямо женской фигуры, всегда находящейся в центре разворачивающегося récit, фигуры влечения.
При этом аналитичность и борьба с образом не означают отказа от больших тем: значительную часть публикуемой здесь книги «Инверсия», занимает поэма в прозе «Многочисленный круг», где поэт с почти навязчивой настойчивостью пытается исчерпать образы алжирского восстания на улицах Парижа и его кровопролитного подавления: 17 октября 1961 года протесты против французского правления в Алжире были жестоко подавлены французской полицией – очевидцы утверждали, что тела избитых до полусмерти протестующих сбрасывали в Сену. Разрушительные последствия этих событий до сих ощущаются во французской культуре, хотя само событие скорее замалчивается (можно вспомнить, например, фильм Михаэля Ханеке «Скрытое»).
Тетралогию Руайе-Журну не назвать прямым откликом на эти события, как и на события 1968 года, также присутствующие здесь незримой тенью, однако в ней чувствуется желание подвергнуть отстраненному анализу ужас, который охватывает человека при столкновении с государственной машиной. Руайе-Журну больше не возвращался целенаправленно к этой теме, однако спустя годы образы восставших будут возникать в более поздних книгах, где на смену коллективному страданию (захлебнувшейся революции) придет осознание индивидуального страдания – переживания смерти матери, ставшего со временем едва ли не основным мотивом его поэзии. Созвучие матери и моря во французском, mére и mer, позволило поэту «разомкнуть» индивидуальность, частность этого переживания, сделав его переживанием коллективным, расширяющимся далеко за пределы личного опыта: людское море впервые появляется в поэме, посвященной алжирскому восстанию, и возвращается отзвуком в более поздних текстах, где отношения с матерью становятся прообразом отношений со всем человечеством, с коллективностью как таковой.
– Кирилл Корчагин
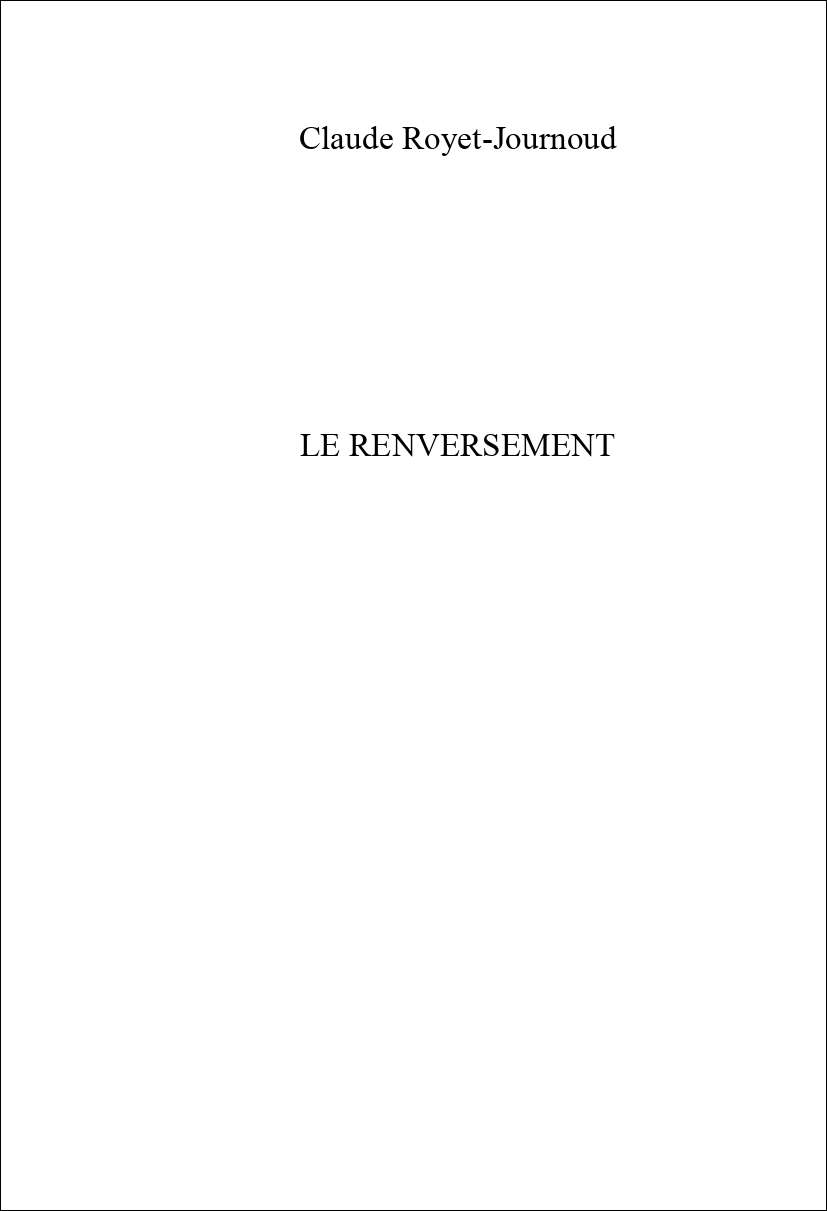
.png)
.png)
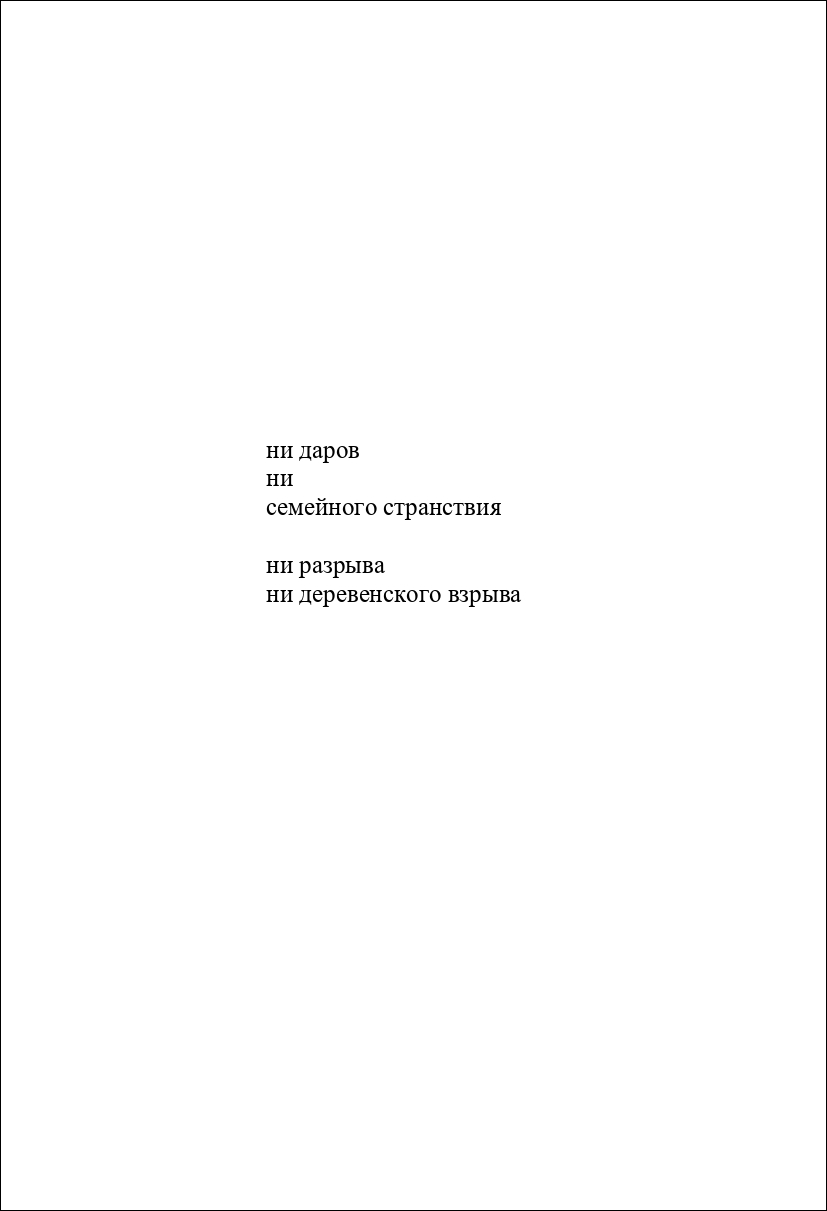
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png) <br>
<br>.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

