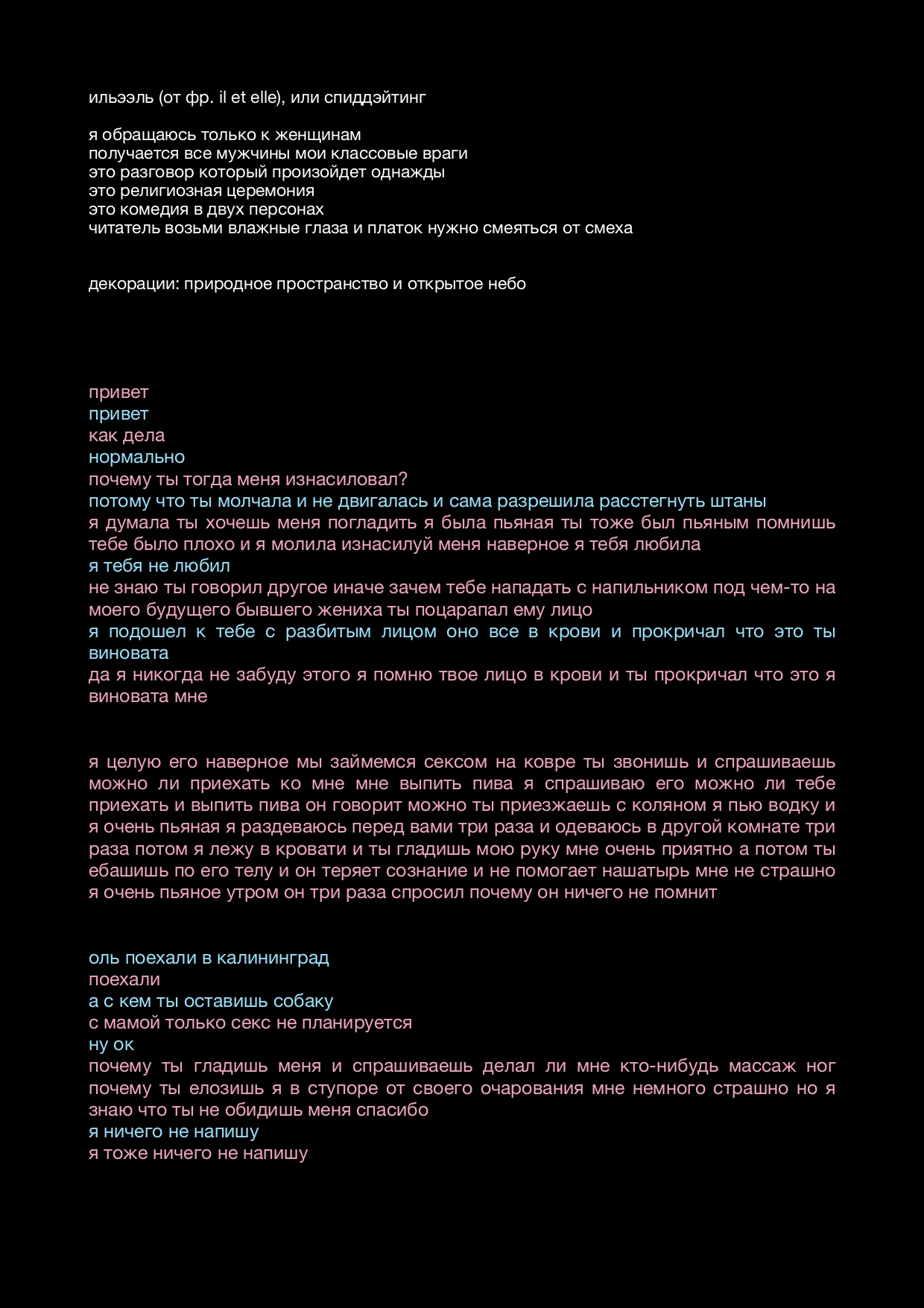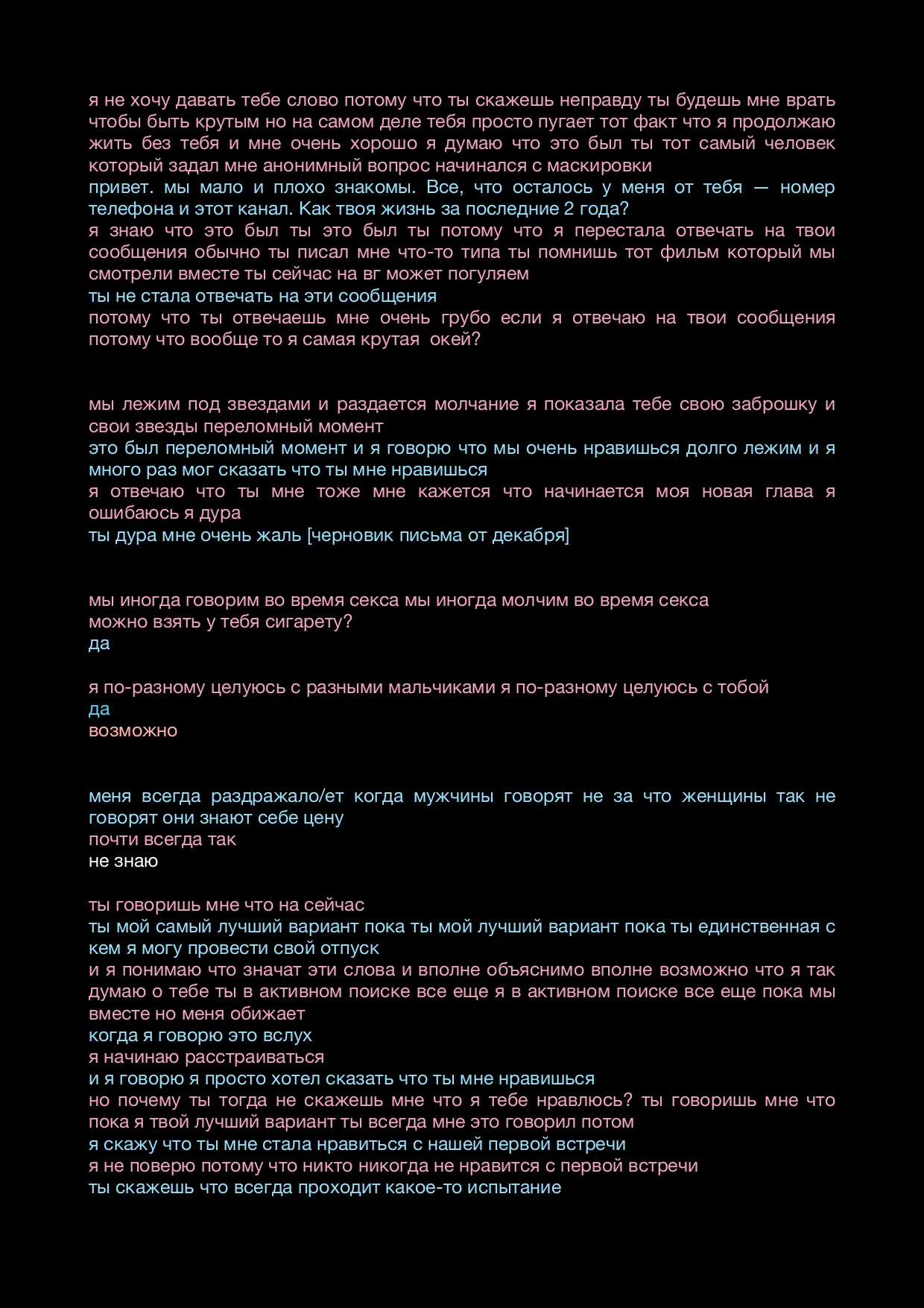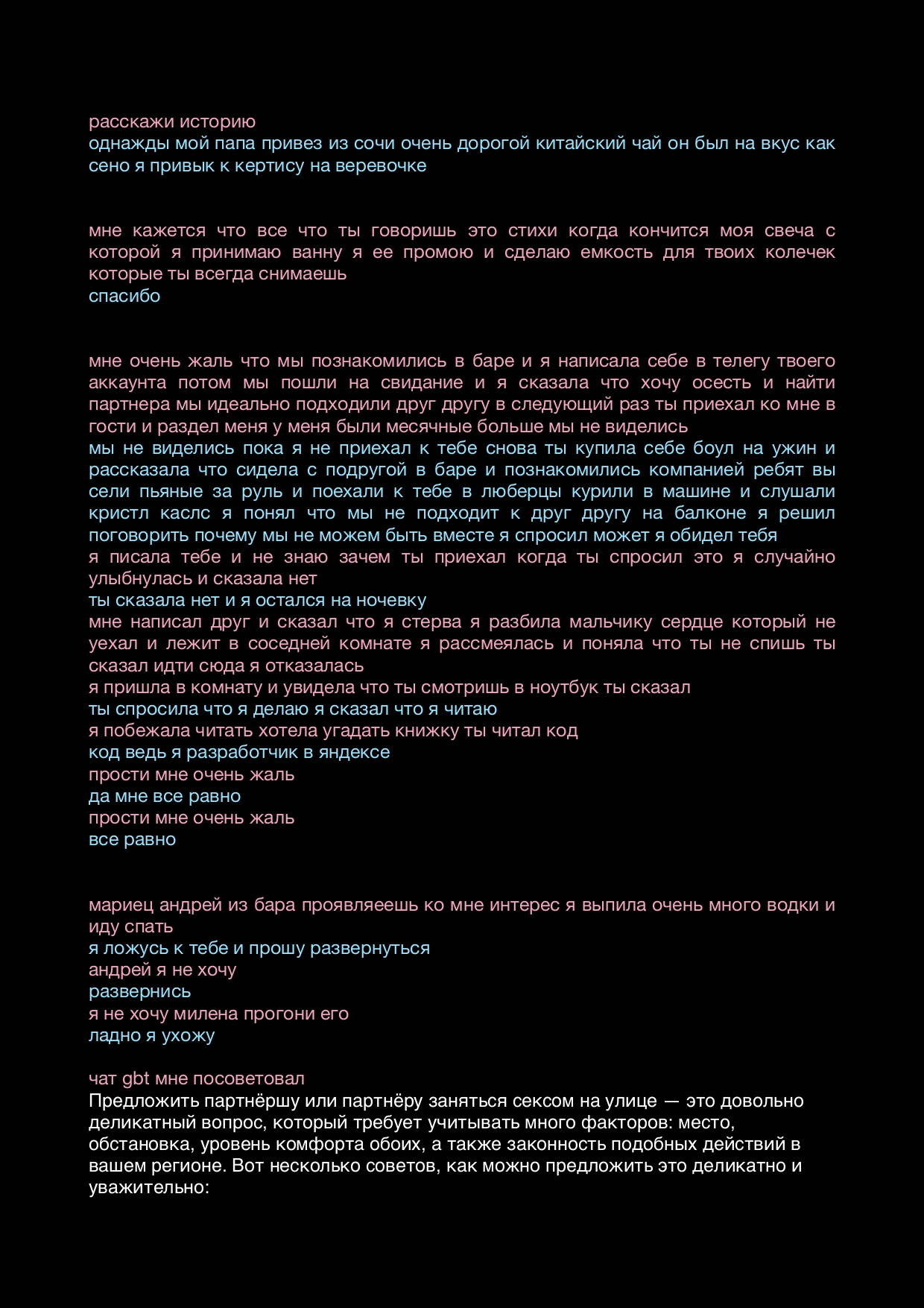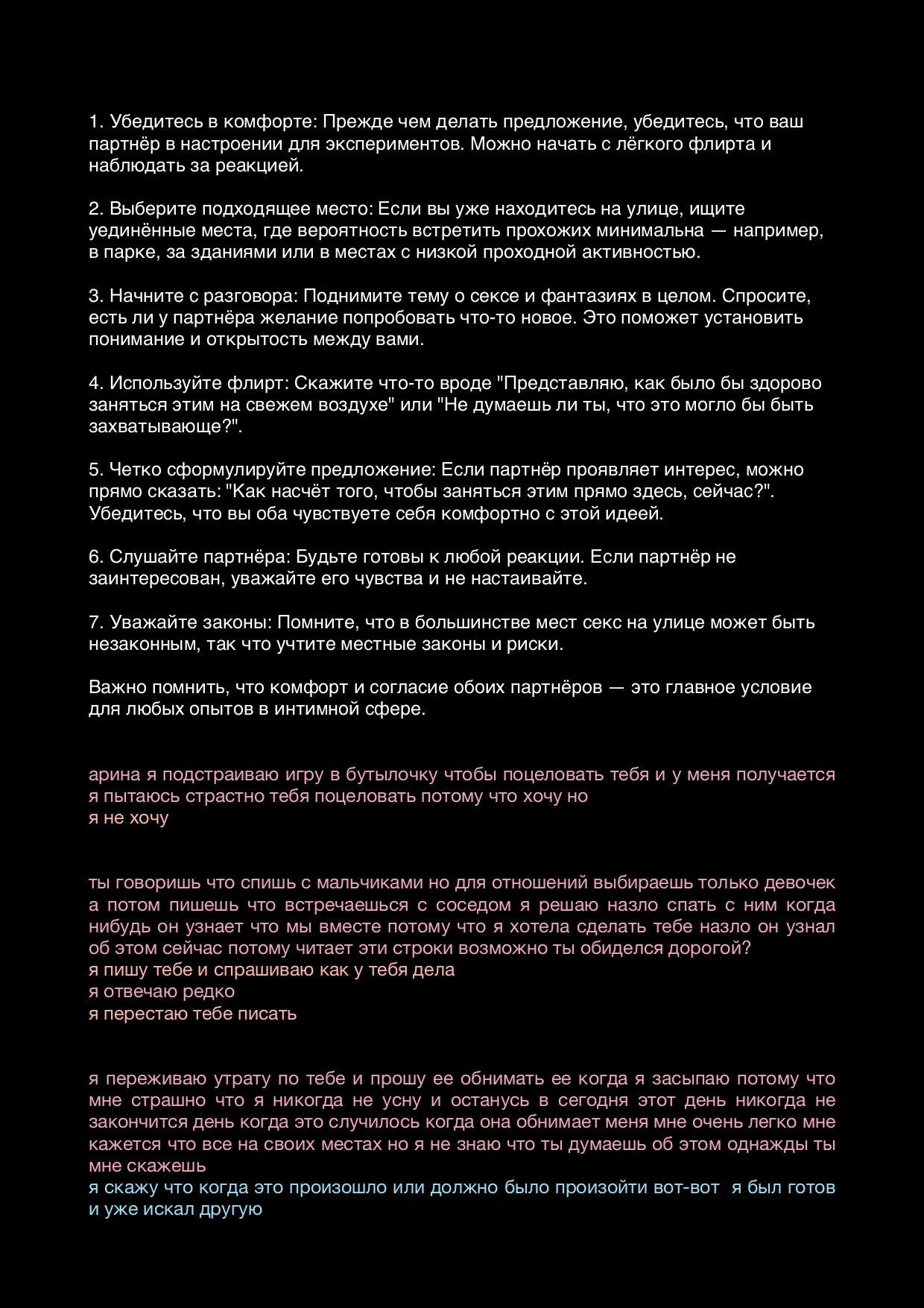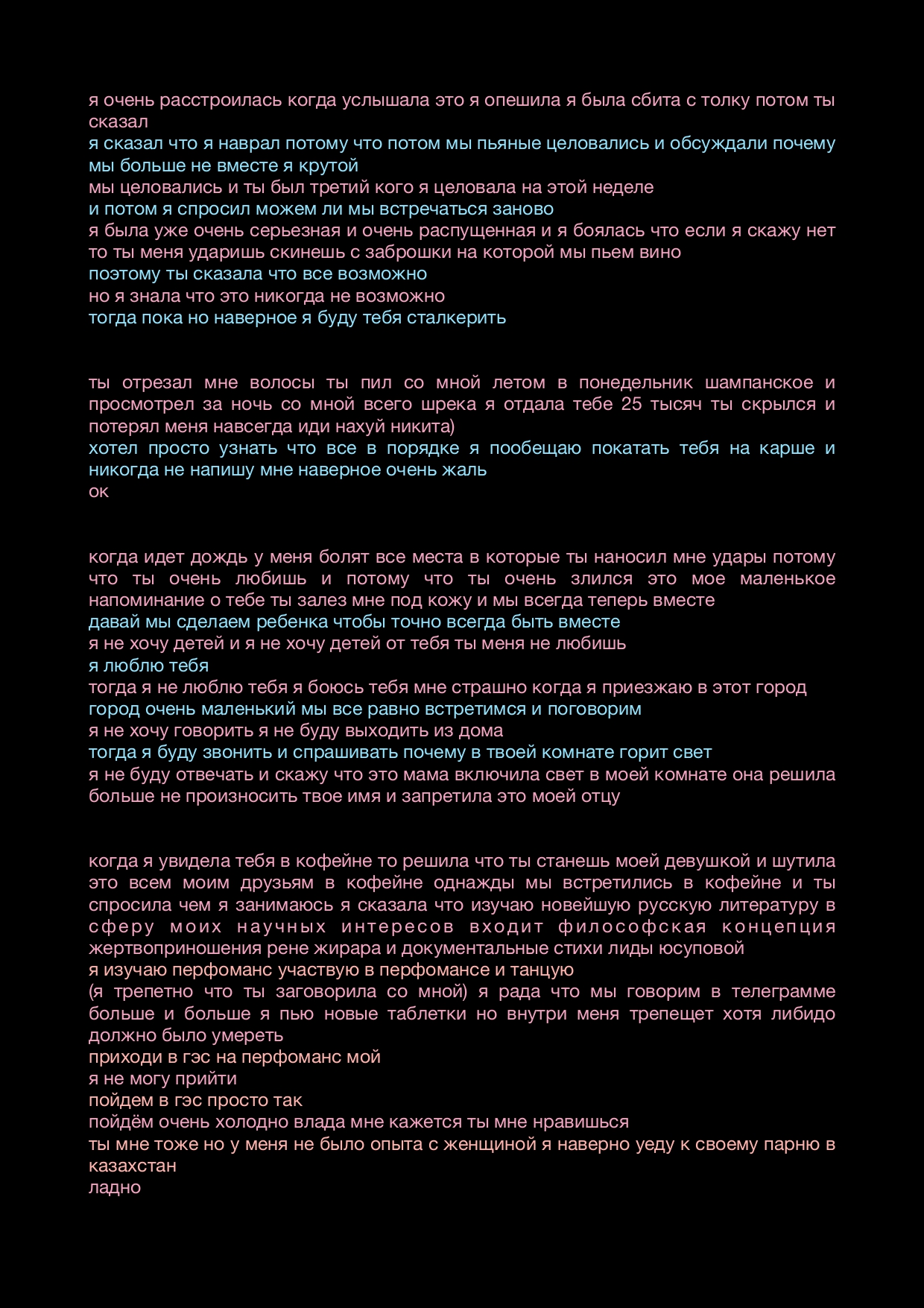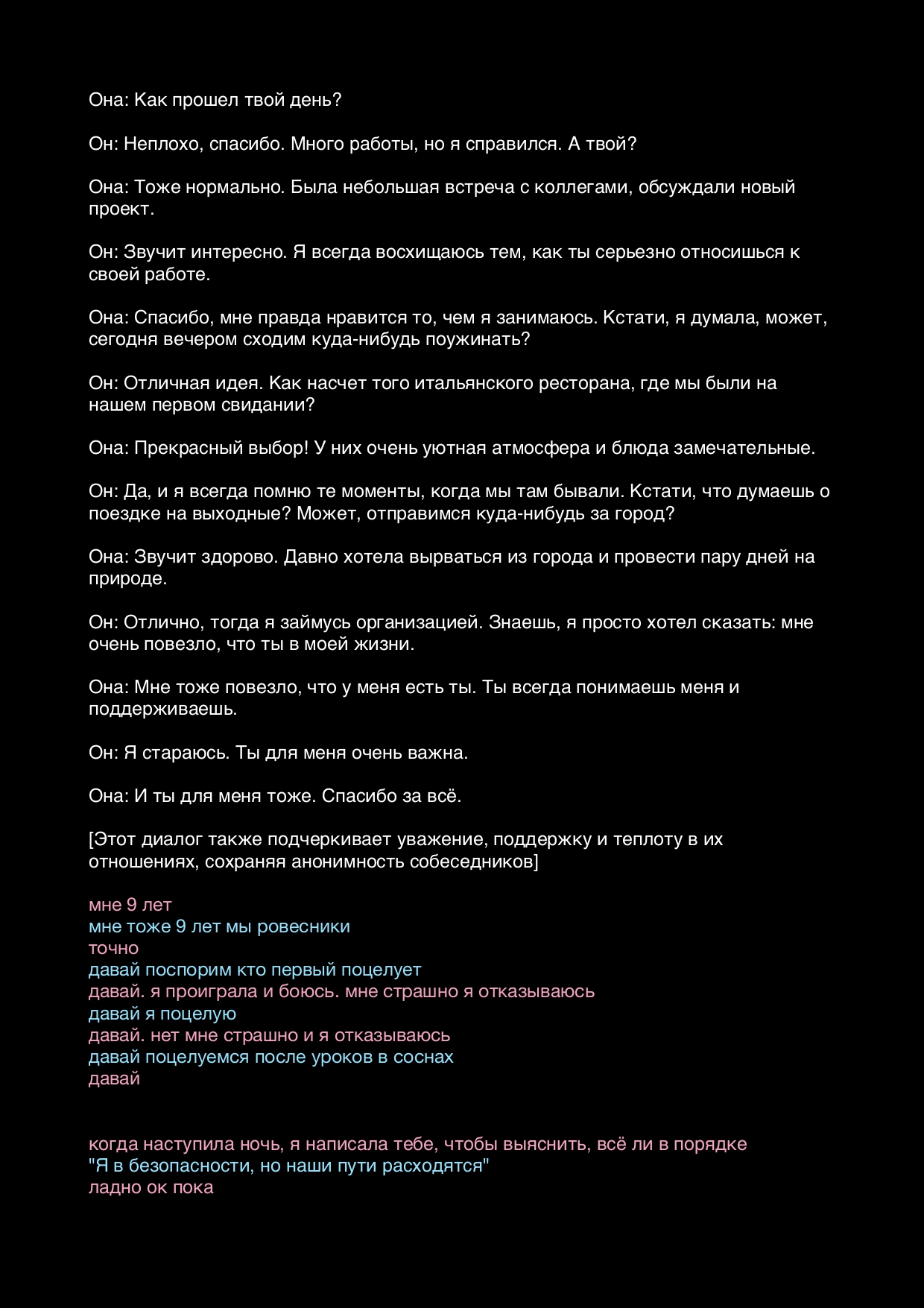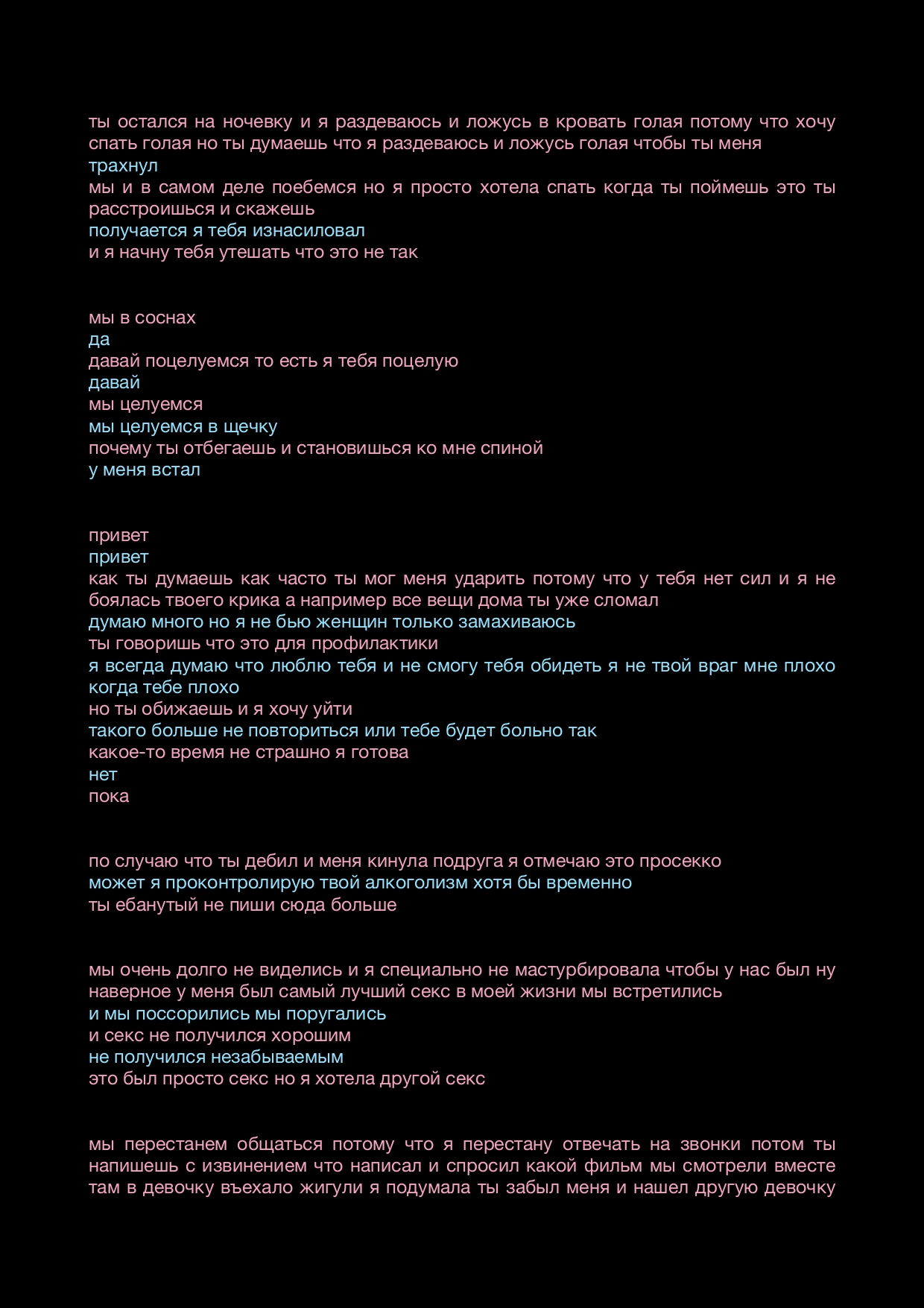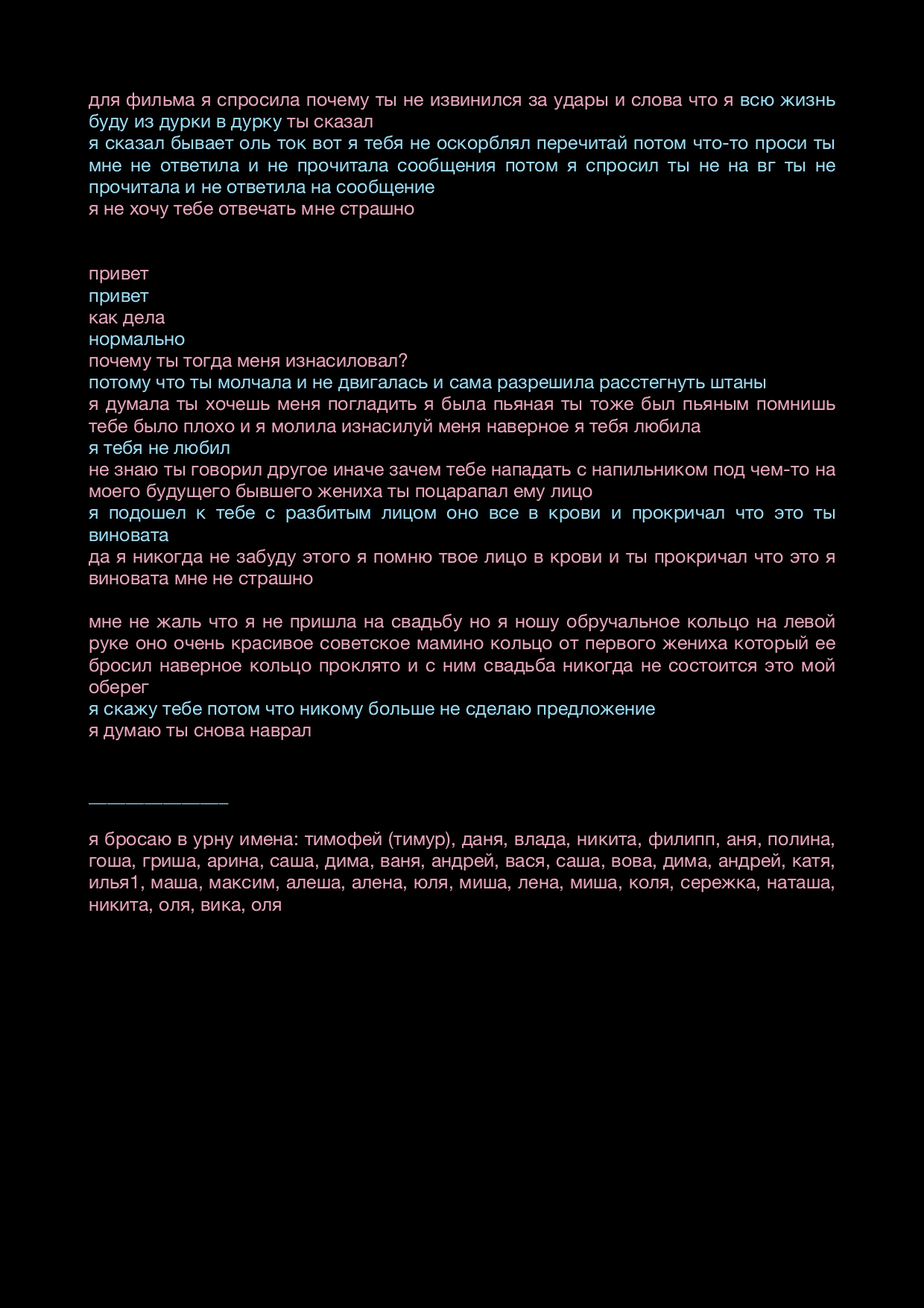ильээль (с комментарием Екатерины Августеняк)
в активном жестоком поиске
Сложно в итоге сказать точно, сколько персон пришло на свидание в природное пространство под открытым небом. Сколько ударов было нанесено. Сколько осталось жертв. Кто победил. Это комедия «в двух персонах», как в двух действиях или актах, но идентичностей, как и исполнителей может быть один или множество. Перечень имен в финале, как список на траурном камне. Найди своё имя. Помяни. Только это не могила, это урна. Велика ли разница в наши дни. Комедия очень страшный жанр. После трагедии или, скажем, хоррора, зритель облегченно выдыхает. Комедия душит и норовит уколоть. Особенно, если в этой комедии «мало действия, пять пудов любви»[1] и почти никто кроме автора не считает ее комедией, как было с чеховской «Чайкой». У Чехова, если честно, тоже много насилия, никто никого не любит, и у всех болезненные амбиции.
«я обращаюсь только к женщинам
получается все мужчины мои классовые враги» —
Так начинается пьеса Оли Чермашенцевой «ильээль», и до конца не ясно, автор ли это говорит с нами или уже персонаж. Или ставить вопрос о таких границах, как и о разделении между разными героями, для этой пьесы не вполне уместно. Линии персон размываются, ситуации сливаются, череда свиданий проносится, как лавина происшествий или хоровод проклятых аттракционов. Ярко, жутко, беспощадно.
Поработаем с шаблонами: у мальчиков пинетки должны быть голубые, у девочек — розовые. Соответственно, одни реплики в тексте — голубые, другие — розовые, понятно кто есть кто? Нет. Выйдем за рамки шаблонов — это ничего не изменит, кроме цвета реплики и ритма. Цвет реплик может быть озвучен разными голосами, но персонажи буквально говорят друг за друга, или авторский голос говорит за всех. И это логично — диалог в драматургии умер больше века назад. Ведь оказывается, разговор в рамках конвенциональной «хорошо сделанной пьесы» не способен разрешить ни социальные, ни общественно-политические или ментальные, ни мировоззренческие проблемы. Поэтому диалог на сцене может разворачиваться внутри одной личности. Театр вообще, как мы убедились, не занимается решением проблем, он может лишь причитать о них: в игровой, психологической или ритуальной форме. При этом диалог продолжает быть одним из основных инструментов драмы. Люди по-прежнему пытаются коммуницировать. Диалог перешел в форму быстрых цифровых сообщений. Поэтому и в современной драматургии он присутствует, но уже как восставший/воскресший после смерти. Теперь это какой-то совсем иной диалог.
В «ильээль» он существует как сообщения, отправляемые до/во время/после/вместо свидания в космическом вакууме никому ниоткуда. «Нас» нет, есть только внешние маркеры, навязанные «нам» гендерными отличиями по цвету. Есть попытки изменить цвет, но нет инструментов для сближения тех, чьи очертания в расфокусе. Эти «мы» чрезвычайно близки и далеки одновременно.
мы говорим вместе: давай попробуем сделать свой перфоманс против насилия
мы поссоримся и перестанем общаться я скажу друзьям что ты плохая
когда будет идти в москву пригожин я напишу тебе и спрошу все ли в порядке и в безопасности ли ты
я удивлюсь и испугаюсь раз даже ты звонишь мне раз даже ты мне звонишь я не в
порядке и не в безопасности и поеду к сестре в деревню
Проявление заботы может быть считано как угроза. Нападение, например, с напильником на «будущего бывшего жениха», или любое другое нападение, может быть считано как любовь. «Мы» сбиты с толку от собственных проявлений, ошибок и чувств, сенсорные аппараты дают сбои — дайте инструкцию, как взаимодействовать в новых условиях. Ведь в наше время можно получить ответ на любой вопрос.
чат gpt мне посоветовал
Она: Как прошел твой день?
Он: Неплохо, спасибо. Много работы, но я справился. А твой?
На уровне бестелесных лингвистических конструкций нет зависти, нет стыда, нет желаний, нет насилия — благодать. И «нас» нет даже как подражающих друг другу в своих желаниях и поэтому постоянно конкурирующих индивидов. Это пока слишком большие данные. Но конкуренция — это практика, которую слишком легко усвоить, «мы» заражаемся ею с детства и далее постоянно по кругу воспроизводим попытку выйти «самыми крутыми» из игры в отношения.
мне 9 лет
мне тоже 9 лет мы ровесники
точно
давай поспорим кто первый поцелует
В «наших» желаниях нет ничего уникального, и «нам» необходима невинная жертва, чтобы продолжать. Это следует из концепции Рене Жирара, об исследовании которой упоминает героиня пьесы. Я бы предположила, что лучшим художественным осмыслением идей Жирара может быть фильм Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Чувство вины доходит до абсурдно-катастрофических масштабов внутри одной семьи. Дети и супруга конкурируют в предъявлении своей любви, пытаясь избежать гибели и не стать жертвой расплаты, совершаемой отцом за свою же ошибку. Неизбежность кровавого ритуала врывается в их жизнь, как злой рок из античной трагедии, как стихийное бедствие. Стихийным бедствием в пьесе «ильээль» оказывается несовпадение и, как результат, — критическая поломка чувственных настроек и включение защитных функций в виде «классовой борьбы» с маскулинной системой.
ты спросила что я делаю я сказал что я читаю
я побежала читать хотела угадать книжку ты читал код
код ведь я разработчик в яндексе
прости мне очень жаль
да мне все равно
прости мне очень жаль
всё равно
Разве те, кто читают и пишут коды, еще не научили нейросети конкурировать друг с другом и подражать нашим желаниям? Ещё немного, и они дадут нам действенные инструкции, как побеждать в этих играх. Война машин окажется не противостоянием роботов и людей, а борьбой персон, прокачанных нейросетями. Искусственные машины будут помогать воздействовать на человеческие машины желаний, которые продолжают нервно работать и подвергаться поломкам в «телах без органов», согласно шизоанализу[2].
Но нет, пьеса Оли Чермашенцевой не предлагает сценариев будущего, она только фиксирует боль настоящего в метаироничном потоке. И, на первый взгляд, не показывает возможных выходов из лабиринтов травмы. Хотя, возможно, способ освобождения сопровождает нас в течении всего текста и лежит на поверхности. Та самая межличностная размытость, это прохождение реплик сквозь друг друга, это присвоение языка насилия и отказа от него. Когда спасение на уровне сюжета невозможно, остается только совершать системный слом на уровне языка.
«Хорошая новость, однако, заключается в том, что происходящее за сценой сексуального представления системное, превентивное, пожирающее насилие отцов — это не последняя реальность. За сценой желания — или, как сказал бы Фрейд, судьбы — прячется не только насилие, но и любовь, связывающая нас с другими на каком-то базовом, животном уровне»[3].
[1] Полная цитата из письма А.П. Чехова А.С. Суворину: «…можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».
[2] Идеи шизоанализа философа Жиля Делеза и психоаналитика Феликса Гваттари сформулированы в их работах «Анти-эдип» и «Тысяча плато».
[3] Из книги Оксаны Тимофеевой «Мальчики, вы звери»