Стихи из собрания стихотворений (с комментарием Валерия Шубинского)
В «Издательстве Ивана Лимбаха» выпущено двухтомное собрание стихотворений Олега Юрьева (1959–2018), составленное и прокомментированное Ольгой Мартыновой и Валерием Шубинским. В поддержку книги мы публикуем несколько стихотворений Олега Юрьева с комментариями Валерия Шубинского и видеорассказом о работе над двухтомником.
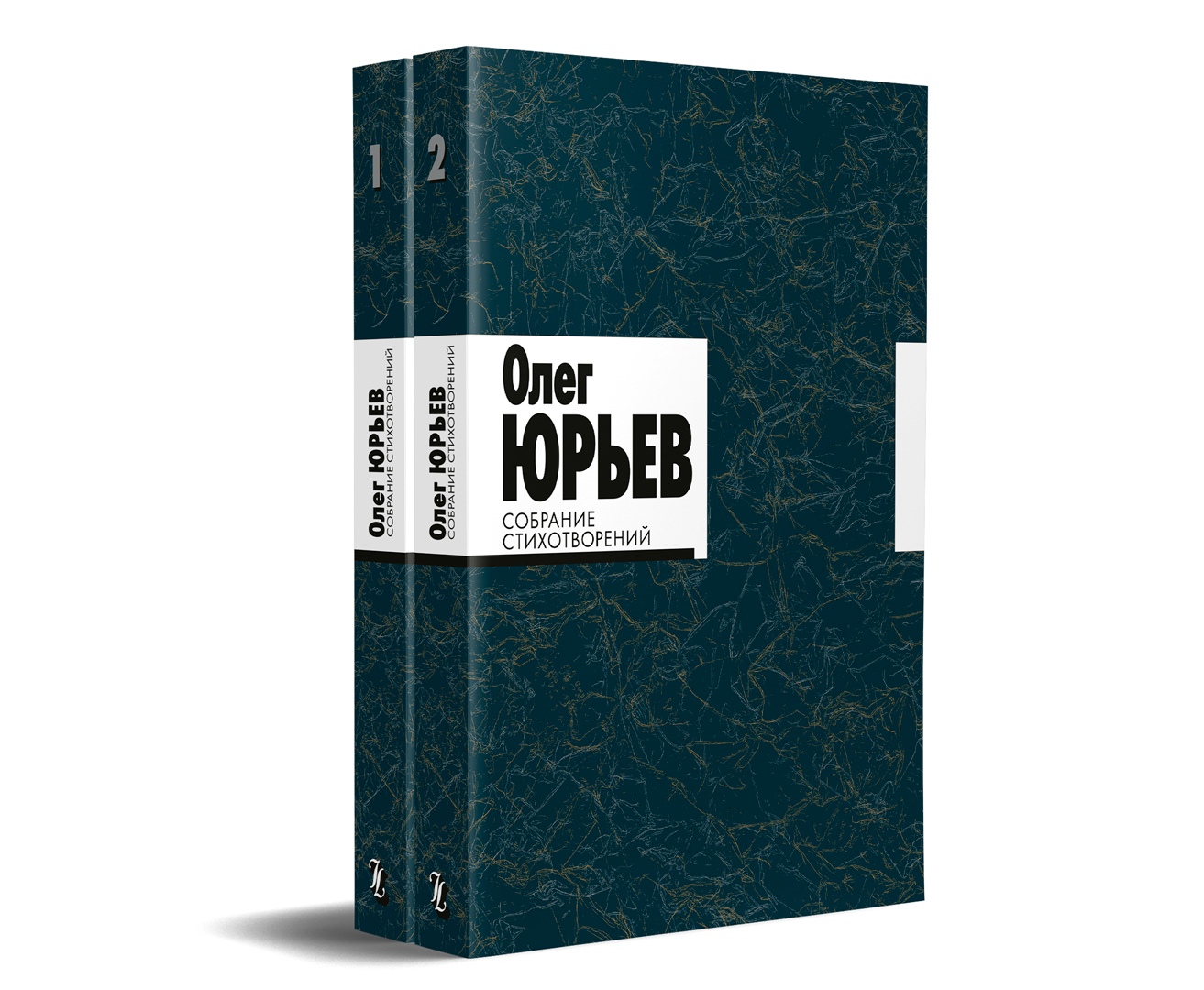
БАЛТИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ
Жив ли еще околоточный нашего неба, охолонувший его окоем, чеканящий пеструю вату из этих небес?
Живы они ли над запахом гладким ванили, над осенью этой? Что ж они делят, что поминают, не плачут ли? Что ты, не плачут! Плакать ли им в этом утреннем свете и гуле, Элизии бледной окраски?
(О, как же мы простимся без улыбок, без просвета памяти? Как будем жить, как станем жить, когда и горевать-то не с чем?)
А те, кто погиб, их имя не будет надсмешкой, не станет, обернуто в рыжую прóстыню, носом сквозя високосным.
Я долго и празднично плакал, я много и сказочно правдою плакал.
Простят или нет, кто зеленые сло́ги посеял, а я их искал и искал, подымая остывшие зубы к закату, который, как ты это знаешь, доступен горючему брату отрубленной ветви, летящей по берегу косо.
А я, одинокий, иду, и ямы от ног моих сгущаются всё и сгущаются. Это сгущается вечер.
И пальцы мерцают, как стены далекой столицы, куда перед смертью еще заглянуть доведется, и я пробреду, иностранец, по улице, страшно похожей на ту, что синие горсти песка по берегу тяжко полощет.
Не бойся. – всё повторѝтся, повтóрится это – нас подымут на быстрые роги и чашка-земля отдаленно взовьется и сплющится кратко. О сердце мое.
1980
***
Э. Л. Линецкой
Эти конные ветки – не снятся,
Цокот замшевый их наяву,
И готов я с прелестною жизнью обняться,
Хоть и чуждым, и лишним слыву.
Хоть не входит сюда на рассвете
Ни волны полувзмах, ни огня...
Лишь деревья – сквозь вод и огней переплетье –
Дышат ясную тьму на меня.
Жизнь вошла. И иною не выйдет.
И иной я уже не смогу...
Лишь деревья сквозь очи кровавые видят
Непокорного их неслугу.
1983
ВТОРОЕ ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ
Человек – это колодезный
ворот, накручивающий на себя
свою цепь.
Уж такая хорошая мне далась душа,
Чтоб сквозь щелочки говорить со светом
И, разъеденным воздухом чуть дыша,
Глухо вздрагивать панцирьком нагретым.
Но, Господи, в этот светлый час
Раскрывающихся полночных створок
Стала Тьма Твоя как стеклянный газ,
Как стоящий снег, как парящий порох.
Я сердечный мускул Твоей ночи.
Мне не выпутаться из кровеносной сети,
Потому что я не был нигде на свете,
Кроме тьмы и сверкающей в ней свечи.
Ведь такая душа только там сильна –
В этом свернутом, влажном, слепом, соленом,
Потому что выковырянная, она
Как простой слизняк на ноже каленом.
То, что знаю, – пора уж! – и Ты узнай:
Я боюсь оказаться в уже дребезжащем варе...
Вот, другую – прошу я – стеклянную душу дай,
Рассыпающуюся при ударе...
1986
ХОР НА ДЕРЕВО И МЕДЬ
строфа I
Кажется, вышелушились бесследно
Зерна глазного пшена,
Только и видит обратное зрение,
Ясное дотемна:
Старые сумерки реже и бреннее
Вычесанного руна,
Старое дерево медно,
Старая медь зелена.
антистрофа I
Пойте, славянки, во мгле переулка,
Шелком шурша о бока,
Не обернуться лицом нераскаянным,
Не обернуться, пока
Толстые змеи идут по окраинам,
Мохнатая машет рука –
Русское дерево гулко,
Немецкая медь глубока.
строфа II
За языком бы... Да много ли смысла
В мертвой слюне палача?
Много ль осталось объедков у барина,
Латных обносков с плеча?
Бывшая жизнь, ужурчит, переварена,
Склизкую ткань щекоча –
Взмокшее дерево кисло,
Скисшая медь горяча.
антистрофа II
То, что в окраинном ветре гугнило,
Выветрилось без следа,
Только ржавеет на мшистых обочинах
Выкачанная руда.
Старые девушки в платьях намоченных,
Смолкните в никуда –
Поющее дерево гнило,
Поющая медь молода.
эпод
Кажется, все уже начисто сплавлено –
Доверху высвобождена река.
Кажется, все уже намертво сплавлено –
Донизу выработана руда.
Все, что распалось, по горсточкам взвешено
В призраке выключенного луча.
Все, что осталось, по шерсточкам взвешено
В золоте вычесанного руна.
1994
***
О медленном золоте нашего дня
поет на чугунном углу западня
и наголо колосом зреет,
который качается в утренней мгле,
где голые тени стоят на игле
и наглое олово реет.
Когда мы выходим за бледный порог,
лежит на земле поколений творог
уже растолченный и сжатый
и плачет вагоновожатый,
в сухой порошок заезжая трамвай,
и падает снег-растопыра на май,
и пахнет последнею жатвой.
О родине спелой отпеты не все
шуршащие песни – косцу и косе
еще величальной не ныли.
Когда мы вступаем в рассветную мглу,
грохочет трамвай, как гранат, на углу,
и в заднем вагоне не мы ли?
С холодной копейкой стоять под копьем
наклонным, обернутым ветра тряпьем,
среди заснежённого мая
была нам дорога прямая –
но, видимо, вырвал страницу писец
из книги небесной, и вздрогнул косец,
рывками косу поднимая.
2003
НА НАБЕРЕЖНОЙ
...а едва из башенки мы сошли
в те накатанные из мягкого дымного льда
небеса, что так сизо-розовы и покаты,
как всё и опять мы увидели, но не так, как с земли:
Цыгане, поклевывающие с моста.
Цыганки, поплевывающие на карты.
Утки, поплавывающие в пенной пыли.
Собачки, курчавые, как борозда.
Младенцы, щекотаны и щекаты.
(И низкие покоробленные корабли.)
(И черные опаздывающие поезда.)
(И белые ослепительные закаты.)
2007
***
...туда и полетим, где мостовые стыки
Сверкают на заре, как мертвые штыки,
Где скачут заржавелые шутихи
По мреющему мрамору реки,
Где солнцем налиты железные стаканы,
Где воздух налету как в зеркале горит,
И даже смерть любимыми стихами
Сквозь полотенца говорит.
2011
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ТИШИНЫ
Я забыл тишину – на каком языке,
Говорите, она говорила?
То ли русскую розу сжимала в руке,
То ли твóрог немецкий творила?
То ли ножик еврейский в межпальчьях мелькал,
Как дежурный обшлаг генерала?
Говорите, она была речью зеркал,
Говорите, она умирала?
Как я вышел из дóму к поклонной реке
И потек в направлении света,
Всё слабела она в темноте, тишина,
Вся под сеткой светящейся лета.
Ускакал я в огонь на зеленом жуке,
Обнуздавши рогатое рыло...
Я забыл темноту – на каком языке,
Говорите, она говорила?
2013
АРИЯ
Это
всё о луне
Только небылица, –
В этот вздор о луне
Верить не годится.
– О. Э. Мандельштам, «У меня на луне» (1914, 1927)
Все, что похерено, все, что потеряно,
Все, что посеяно в гнилое глиньё, –
Разум Роландов и девство Венерино,
Зренье кротовье, ухо тетерино,
Черных копеек, расчесок немеряно
И сердце мое, и сердце мое, –
Всё, что потеряно и не находится,
Всё на луне, как известно, находится!
Сесть на копье ли из старого ясеня,
Чье адамантом горит острие,
И полететь в это иссиня-синее
Небо ночное в облачном инее
Прямо по линии к полной луне,
Где у светящейся пыли на дне
Медленно плещут страницами Плинии...
Но не воткнется ли эта орясина
В сердце мое, прямо в сердце мое?
Может, и черт с ним, с тем, что потеряно!? –
Сапфины строфы, ятрышки мерина,
Злые болонки, что хнычут растерянно,
Пусть остаются на этой луне,
У пухло светящейся пыли на дне...
...Сердце мое, ты не вернешься ко мне!
2015
***
золотом тленным ленным железом
я до последнего дня торговал
в облаке пенном голосом пленным
пел-напевал пил-выпивал
острыми крыльями мрак разбивал
выл-завывал вопиющею выпью
дул-задувал как из сиплой дуды
сколько я выпил столько не выпью
той не живой и не мертвой воды
мыльной сверкающей пылью воды
скоро окончится странствие птичье
в облаке пенном в тленном пальто
в золоте ленном в пленном железе
петь-напевать уж не будет никто
врать-воровать уж не будет никто
всё и величье и неприличье
распродавать не будет никто
2017
Эта подборка включает десять стихотворений Олега Юрьева, написанных в разные годы. Принцип простой: по одному стихотворению из каждой книги, настоящей или условной. Дело в том, что само разделение на книги отчасти произведено задним числом, в соответствии с предполагаемой волей автора, но без его прямого участия.
Начиная с 2007 года новые книги поэта выходили «в порядке написания», хотя тоже не всегда в полном соответствии с авторской волей (например, очень важная для поэта и очень цельная концептуально книга «10х5» отдельным изданием света не увидела). Последняя – «Петербургские кладбища» - издана посмертно, в 2018 году.
Но до этого было только два очень сжатых избранных – первое из которых, «Стихи о небесном наборе», опубликовано в 1989 году в составе сборника «Камера хранения», под одной обложкой с книгами трех других поэтов.
Двое из них составили двухтомное собрание стихотворений Юрьева, которое сейчас находится в печати. Я хотел бы поблагодарить Ольгу Мартынову, единственного человека, который вправе был выбрать формат посмертного издания стихов Юрьева и своих помощников в подготовке этого издания, за то, что выбор ее силою вещей пал на меня. Для меня в течение трех лет работа над этим собранием была заменой личного (пусть в течение многих лет в основном эпистолярного) общения с Олегом, которого мне не хватало и не хватает.
Так вот: одним из сложных вопросов для составителей была структура издания. Стихи, написанные начиная с 1999 года, вошли в поздние книги. Стихи до весны 1984 года включительно – в две книги, составленные самим автором, в ситуации, когда о публикации в официальной печати и думать не приходилось. Стихи же, написанные между этими двумя датами, были с определенной долей условности разделены составителями на две книги – «Стихи о небесном наборе» и «Стихи и хоры». Названия книг авторские, но граница между ними (декабрь 1988, когда была составлена и отдана в печать «Камера хранения») условна. Сам поэт проводил ее в разные годы по-разному.
Может быть, поэтому важнейший для поэта период – вторая половина 1980-х и 1990-е годы – представлен в этой подборке чуть скуднее, чем он того заслуживает. Мне кажется, что стихи Юрьева этого периода и сейчас на слуху у читателя меньше, чем более поздние. Между тем именно в 1980-е годы родился ни на что не похожий, мощный и подвижный язык поэта, именно тогда оформился его голос и сложились в основе своей его взгляды на культуру. Потом и взгляды уточнялись, и тембр голоса менялся, и особенности пластики. Был сдвиг в сторону жесткой графичности в 1990-е, и новая взволнованная «смазанность» очертаний и граней в 2000-е, и неожиданный переход к прямой, чуть не исповедальной речи в начале 2010-х, и тончайшие филологические игры середины десятилетия, и трагические и мужественные прощальные стихи «Петербургских кладбищ». Но основа была заложена еще в период первой «Камеры хранения».
В двухтомник вошли и стихи, не вошедшие ни в одну из авторских книг: юношеские, оставшиеся в черновиках или по каким-то причинам отвергнутые автором. В основном эти отвергнутые стихи относятся к тем же 1980-м годам, и среди них есть, с нашей точки зрения, замечательные.
Составители поставили перед собой сложную и амбициозную задачу, которую выполнили в той мере, в какой смогли – подготовить всесторонне комментированное издание. Нет пока такого издания стихов ни одного новейшего русского поэта, кроме Леонида Аронзона. Почему важно было сделать это по свежим следам? Еще жива память об обстоятельствах, при которых написано то или иное стихотворение, о его скрытых смыслах и подтексте, об упоминающихся в нем бытовых реалиях. Например, поймут ли первую строку стихотворения «в России маленькой двойной…» люди, не знающие, что «маленьким двойным» назывался в СССР кофе эспрессо и что питье такого (именно такого!) кофе в знаменитом «Сайгоне» и других богемных кофейнях 1980-х было особым ритуалом? Иногда в памяти составителей всплывали варианты строк, отсутствующие в рукописях.
Бывало, я сам узнавал новое о стихах, которые, как мне казалось, понимал. Например, что «Хор на дерево и медь» восходит к выражению оркестровых музыкантов: «Дерево русское, медь немецкая» (это значило, что среди скрипачей преобладают выходцы из России, среди духовиков – немцы).
Иногда понимание приходило к комментаторам по ходу работы. В одном из стихотворений, построенном на сложной игре с центральноевропейскими историческими и географическими реалиями, была строка: «И в елейную Ильну и за гребаный Греб». Ни сами комментаторы, ни их друзья не могли разыскать Ильну и Греб ни в одном справочнике и ни на одной карте, пока однажды нас не осенила простая догадка: обыгрываются «Вильна» и «Загреб».
А случается, что понимание так и не приходит. В 1984 году Олег, даря мне свою машинописную книжку, в стихотворении «Балтийская элегия» исправил от руки слово «иностранец» на «иностраец», и сделал примечание: «sic». Я не спросил его, что это значит – постеснялся, что не догадался сам (да будет мне оправданием мой возраст – 19 лет). Сейчас мы обнаружили этот загадочный вариант в рукописи и в еще одной машинописи. В других – нет. (А напечатано при жизни стихотворение не было).
Среди самых важных комментариев – те, которые касаются отношений с коллегами, собратьями по перу, друзьями, сподвижниками, высокопарно выражаясь. В первую очередь теми, которых тоже уже нет. Образы друзей-поэтов встают в нескольких стихотворениях; пусть одно из них и комментарий к нему пополнят составленную подборку.
– Валерий Шубинский
ЗИМА 1994
Земля желта в фонарных выменах,
В реке черна и в облаках лилова,
А лошадь с бородою, как монах,
И царь в ватинной маске змеелова
Устало зеленеют из-под дыр
Разношенной до дыр кольчужной сети.
Всплывает по реке поддонный дым,
Ему навстречу дышат в стекла дети,
И женщины, румяные с тоски,
В стрельчатых шубах и платках как замок
Бегут от закипающих такси
И заплывающих каблучных ямок,
Где шелестит бескровно серый прах
И искрами вскрывается на взрыве.
Там в порах смерть, там порох на ветрах
И ржавые усы в придонной рыбе.
Там встала ночь, немея, на коньки,
И, собственных еще темнее теней,
Засвеченные зданья вдоль реки
С тетрадами своих столпотворений
Парят над балюстрадой меловой,
Где, скрючась под какою-то коробкой,
Безумный Вольф с облезлой головой
И белой оттопыренной бородкой
Идет.
1994
Печатается по НЛО, 2006, №1, где опубликовано в составе статьи «На жизнь поэта» (некролога С. Вольфу). Републикацию стихотворения в НЛО предваряет следующий абзац: «Одиннадцать лет назад, вспоминая о Ленинграде, я сочинил стихотворение. Не о Вольфе, конечно. Я не умею сочинять стихи о. Скажем так: Вольф был одним из главных образов этого стихотворения. По разным причинам мне не очень хотелось, чтобы он это заметил (да, в общем, оно и действительно несколько беззастенчиво – помещать в свои сочинения живых людей в качестве образов). Поэтому я публиковал эти стихи, то оставляя инициал, то подставляя прозрачный перевод. Сейчас этой необходимости, увы, больше нет».
КХ-5. В этой публикации третья снизу строка читается: «Безумный Волк с облезлой головой». Так же в СХ-2004.
Сергей Евгеньевич Вольф (1935-2005), поэт, прозаик, детский писатель, был другом О. Ю. с первой половины 1980-х.
О. Ю. о Вольфе: «Сергей Евгеньевич Вольф <…> коротко знаком читавшим Довлатова (а это чуть ли не все выучившиеся грамоте к рубежу 80-х и 90-х гг.) в качестве персонажа довлатовских "мифов и легенд" о ленинградской литературной среде, блестящего и смешного красавца, барина, скупердяя и выпивохи "Сережи Вольфа". Все так, в бытовом смысле Вольф навсегда остался человеком 60-х годов, с соответствующими повадками, интересами, музыкальными вкусами и пр. Таким и воспринимается современниками. Призрак же Сергея Вольфа, поэт Сергей Вольф, принадлежит не своему "физическому" поколению, а поколению, начинавшему сочинять в середине и в конце 70-х годов, когда он и сам, быть может, слегка притомленный планомерным сочинением детгизовских повестей (больше полутора десятков авторских книг), начал постепенно переходить от застольных прибауток <…> к сочинению трагических стихотворений, в поэтологическом смысле имеющих очень мало общего как с творчеством т. н. «ахматовских сирот», так и с замкнутой метафизикой ереминского или разомкнутой метафизикой аронзоновского плана. В 80-х годах Вольф оказался, как это ни парадоксально звучит, молодым ленинградским поэтом; соответственным был и круг его стихового общения, соответственными оказываются, если рассматривать их ретроспективно, и многие стилистические особенности его стихов <...> Еще тогда, в восемьдесят первом или втором году, когда я услышал от него (при чтении стихов у него появлялось вдыхающее, клокочущее, почти грузинское произношение): "Мне на плечо сегодня села стрекоза…", я начал потихоньку задумываться: не эта ли его "ограниченность" – безумная, бессмысленная по тогдашним понятиям честность, даже в отношениях с "ними", не это ли его признание своего поражения – своего рода бронированное смирение, скрывающее неслыханную, нечеловеческую гордость, не это ли нежелание обманывать и обманываться дали ему шанс на только еще тогда проклевывающуюся, проклектывающуюся третью жизнь. Если ты сыграл, проиграл и отдал проигранное, то можешь когда-нибудь сесть еще раз. А шулера – они, может, никогда не проигрывают, но они и не выиграют никогда, потому что их никогда не отпустят из-за стола. И не один я над этим задумался – все из тогдашнего дружеского круга, принявшего вдвое старшего Вольфа как одного из своих, сделали из этого урока выводы. То есть все, кто смог. А его стихи… мы их просто любили». («На жизнь поэта», НЛО, 2006. №1)
С тетрадами своих столпотворений – отсылка к стихотворению Заболоцкого «Прощание с друзьями» (1952): «В широких шляпах, длинных пиджаках / С тетрадями своих стихотворений…»
Безумный Волк – поэма Заболоцкого (1930) и ее главный персонаж.
Безумный Вольф с облезлой головой / И белой оттопыренной бородкой – эти строки есть в Б2 (запись от 12. 03. 1989 г.). В Б4 в одном из черновых набросков, слова «Вольф с облезлой головой» зачеркнуты и заменены на «ангел вертит головой».
Стихи Сергея Вольфа и статьи о них можно прочитать здесь.
Сокращения: КХ-5 - Камера хранения, вып. 5 1997; СХ-2004 – Избранные стихи и хоры, М., 2004; Б2 – Синий блокнот с записями 1989-1991; Б4 – Цветной блокнот (с цветочным узором) с записями 1992-1994

