Аня Кузнецова. Могила первой феминистки
Могила первой феминистки
Готографическая повесть, биографическая мистерия
Больше всего на свете Мэри не любила писать. Она НЕНАВИДЕЛА книги. Буквы отвращали ее, она плавилась от каждого слова, как восковая лошадка. Литература пахла трупами, она и была трупом, гниющая хранительница архивов, вечный отец-библиотекарь, мертвый дух чтения. Она не хотела рождаться, тем более убивать свою мать, тем более — главную феминистку Англии, авторку Священного Писания для размножения шлюх [1].
***
Когда баронета сожгли, Мэри раскопала золу, отыскала обугленное сердце и завернула в «Маскарад Анархии». Оно было хрустящим: окальцевалось от болезни или спеклось в огне; может, соль Лигурийского моря въелась в сердце покойника. Вдова ликовала: больше никаких могил, кошмаров о пустых колыбельках, тусовок с Байроном. Лорд Байрон, луддит и распутник, соблазнил сестру и бросил с малышкой — за это он мучился в лихорадке, пока не умер. Мэри не простила его, она никому ничего не прощала.
Она бежала в замок Ады, статный только с виду. Стены облепили трутовики, отовсюду лезла плесень, пахли летучие мыши. Кости валялись влажные, словно вылизали собаки. Как и Мэри, хозяйку выворачивало, когда говорили о стихах или Байроне: мать с детства привила Аде ненависть к поэзии, а Байрон был ее отец.
Ада, Августа, дочь Анны, леди Байрон, графиня Лавлейс;
в детстве — истеричка и ипохондрица, отныне — Королева Машин.
А. В сути своей, мы ткем одно и то же, закрепляя отречение [2]
М. Что с твоей маткой?
А. Я неспешно иду, но не в улиточной раковине, а внутри молекулярной лаборатории [3]
М. ὑστέρα отмирает
А. Убивает меня
М. Вынашивает мертвых младенцев. Я могу родить или написать книгу, но получаются только покойни:цы и бастарды [4]
А. Почему монстр Франкенштейна убивает?
М. Женщина-ангел и женщина-монстр должны умереть. Трупы не воскрешают, особенно по материнской линии
А. Про тебя ходят слухи. Говорят: ее пророчества страшнее Сивиллы. Говорят, ты не женщина
М. И как всякой женщине и монстру, нам отказано в истории. Изничтожить ее — лучшая месть
Мебель, изрубленная ударами птичьих клювов, помет на бархате, ржавые шестеренки, скопища железа по углам. В центре всего — Аналитическая Машина, Первый Компьютер, плетущий алгебраический узор из жаккардовых перфокарт.
М. Что умеет твой монстр?
А. Швыряться словами, как пчелы расплодами: горгулья, суккуб, химера, чума…
У Ады было лицо с двойным дном: магическая трикстерка, коллекционерка иллюзий. В судьбах она разбиралась лучше психоаналитиков и звездочетов. Ей были подвластны математика, инженерия, масляный шёлк, чертежи счетных машин на столе премьер-министра Англии, проволока и натальные карты европейской интеллигенции. Ей оставалось несколько месяцев, ее имя уже вписалось в историю. Одно не разрешилось: кто прятался в теле монстра?
Они сидели на плите, которую Ада заказала каменщику для своих похорон, и всматривались в полумесяц Лемана. Из колоды выпал перевернутый пагад. «Я вовсе не похожа на тебя. Тебя закопают с Байроном. Я хочу вернутся туда, где родилась — к ее могиле».
***
Всё всегда начиналось с женщины, то есть это всегда были женщины: храмы над канализациями, трафареты богов, родившиеся из неловкого положения прустовского бедра. Мэри, неумелая полиаморка, убитая собственной плацентой, покрытая двумя метрами земли и придавленная влажным гранитом. Мэри никогда не умирала; она притворялась руиной и ждала, когда ее обнаружат. Как и все сироты, Мэри боялась: мать бросила ее. Или хуже: она — монстр, погубивший роженицу и отмщенный детскими смертями. Монстричество передается по женской линии; писательство, родовое проклятье, имя матери, ад.
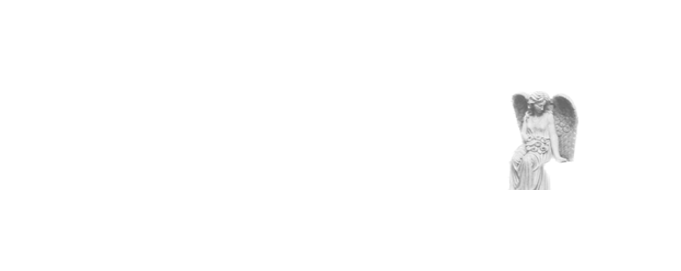
Часть 1
Why I am made thus I cannot tell;
and, till I can form some idea of the whole of my existence,
I must be content to weep and dance like a child
— long for a toy, and be tired of it as soon as I get it
M. Wollstonecraft
Протест — miscarriage побоев; случается всюду, тогда — в Лондоне, в Ист-Энде, в трущобах ирландских ткачей. Пьяный отец шатался по дому, играя в «тайного гитлера»: проиграет т:а, что попадется перв:ой. В языческую ночь малышка Мэри отдала все свои куклы сестрам и легла у двери — охранять сон матери.
Что такое побои на самом деле? Отвечай, высекая искры из собственных костей, будто хочешь согреться. Говори спокойно, оближи каждую букву, но без аффекта, как лучшая подруга бога, святая Луитгарда, заебаная поэт:ка.
i
Их было трое: Мэри, Эверина, Элиза. Никто в точности не знает, как выглядели их руки, отмывающие отцовский сюртук от блевоты, какого цвета были нитки, купленные, чтобы латать дыры в платьях. Известно только, что еще в детстве каждая из сестер запрятала в себе тайну и всегда носила ее с собой.
Однажды они украли у старьевщика портулан. Весь день ходили заговорщицами и раскрыли его только ночью, когда уснул последний петух. Пять морей затопили острова и материки, Европа раздробилась и проросла средневековыми замками, Англия расширилась как ядовитая рыба, в Атлантическом океане выросли змеи и цирковые шатры. Элиза, самая младшая, опустила палец на Италию, окрашенную в черные и красные ромбы, и сказала, что собирается стать Арлекиной. Эверина, средняя, оттолкнула сестру и указала на перевернутый корабль: «Я вырасту в китолова; оберну бедра канатом и всегда буду ходить босиком по палубе, раздавая матросам приказы, а по вечерам — пить ром и играть в преферанс». Мэри сказала, что все это можно делать и здесь, в Англии, не мучаясь морской болезнью, не путаясь с пиратами. Эверина облила портулан маслом и подожгла.
Изгиб девичьей ладони, густое масло, серные искры под пальцами, податливость бумаги. Первыми задымились европейские фьорды. Догорало Северное море.
Напрасно Элиза утешала Мэри, сочиняя ей судьбу. Старшая сестра осталась без будущего раньше, чем загноилась ее матка. Она знала это наверняка: когда она родилась, мать поднесла ее ведьме-повитухе, но та была немой и лишь покачала головой. Мэри запоминала всё до конца, память никогда не подводила ее, она боялась упустить даже секунду и начала вести дневники. Исписанные тетради копились в детской, сестры строили из них пирамиды и домики для кукол, а когда дневники перестали помещаться, Мэри сложила их в сундуки и закопала у дома, отметив место саженцем герани.
***
Родители девочек быстро состарились: игры наскучили, отец застрелился, мать заперлась в семейном склепе и перебирала кости, пока не отравилась трупным ядом. Выждав, когда уляжется скорбь и осядет могильная земля, сестры поставили родителям гранитное надгробие, сели в повозки и уехали так далеко, как только могли.
Элиза вышла замуж за португальского короля и родила ему инфанта. Когда она заболела, доктора заперли ее в комнате с желтыми обоями и велели лежать. Иногда позволялось подойти к окну, сосчитать всех малиновок в саду. Ночью Элиза разорвала обои и пустилась в бега. Никто не искал ее, король устроил пышные похороны, выдержал трехдневный траур и призвал к себе фаворитку.
Эверина открыла в себе дар: она стала ваятельницей. Ночи она просиживала в мастерской, высекая из камня женские лица, прикрытые мраморной вуалью. Ее скульптуры покупали только вдовцы и скорбящие матери. Каждую неделю приходили могильщики, оборачивали скульптуры фланелью и увозили на кладбище. Эверина не знала, как выглядят ее работы среди надгробий, обвивает ли их плющ, оставляет ли дождь подтеки на камне. Она не любила кладбища и всегда обходила их стороной.
Мэри блестела как алтарь: открывала школы в коммунах, учила языки и всегда пахла загнанным зверем. Она завела женатого любовника и на этом не остановилась, назвав себя писательницей, смутив брезгливых англичан. Она была по-козерожьи уперливая и никогда не писала на солнце, для этого были долгие ночи, она говорила: бессонница речи. Зато за день не проронила ни слова, так и ходила молча, доведя до истерики торговцев на главной площади.
Мэри виделась с любовником между прочим, от скуки. Если свидание выпадало на утро, они писали друг другу записки — так и общались. Один раз Мэри нацарапала: «Я построила треш-дворец: черная плесень твоей жене, отравленный плющ — тебе, для меня — крошка-мантикора». «Безумная», — глоссолалил любовник. Он рисовал сонные параличи, разрушенный Карфаген и жутко оскорбился, когда Мэри предложила тройной союз: три — несчастливое число всех полиаморо:ок, липкое, как сырое мясо или одинокий опарыш. Лондон сузился до размеров спальни — под одеялом бродили вурдалаки, путались в телах; робкая клоунада, вымученный роман. Мэри не выдержала — продала все книги, разорила королевские конюшни и сбежала во Францию.
ii
Парижское видение: вязальщицы на галерке Национального конвента, мойры у гильотин оплакивают шитье. Олимпия, бисексуалка и авторка «Декларации прав женщины и гражданки», бросилась на палача.
КАК И ВСЯКАЯ НАШЕГО РОДА СТУПАЮ НА ЭШАФОТ.
ГДЕ МОЕ ПРАВО ВЗОЙТИ НА ТРИБУНУ?
Мэри и Олимпия потерялись в женщинах Французской революции, в пепле катамомб, костях оссуарий. Они кричали: ХЛЕБА! НА ВЕРСАЛЬ! Ночами укрывались в мансарде, читали эпитафии, занимались любовью. Приговоренная к казни, размыкая липкие пальцы в животе, Олимпия шептала: «Порок, жжешься хуже власяницы; кончать в тебя также утомительно, как смешивать масло с водой».
Якобинцы схватили ее ночью, терзали каленым железом и кипящим воском; Олимпия плевалась им в лица, плевки попадали в глазницы и около. Они злились, они ненавидели лесбиянок, они вымарали с лозунга «человечество», влепили «братство», строили новые гильотины, рыли ямы, плодили мертвецов.
Мэри прошла все кладбища Парижа. Она познакомилась с уличными крысами и с рыбаками, те трудились не покладая рук, отмывая Сену от крови.
Утерянный дневник Мэри Уолстонкрафт
Запись от 13 ноября, 1793 год
Дорогой дневник!
Отрубленных голов больше, чем говорящих, пары сменилась тысячами. В яму на кладбище Мадлен свалили обезглавленные трупы.
- Шарлотта Корде, отказалась пить за короля и убила Марата
- Манона Жанна Ролан, в ее некрологе сожалели о неслучившемся материнстве
- Жанна Дюбарри, аполитичная любовница монарха
- Филипп Эгалите, champagne socialist
- Жак-Рене Эбер, левак
- 22 жардониста
Олимпии здесь нет.
Запись от 15 ноября, 1793 год
Дорогой дневник!
Я нашла Оливию.
Ее тело в негашенной извести, звенит по ночам, как эолова арфа. Моя эгалите-принцесса умерла — лежит вся, точно собрана внутрь. Я разбросала тела, вытащила ее из ямы; тогда застонали архангельские крылья, по-библейски выверенные демоны. Это не варфоломеевское учение, а что-то совсем противоположное… Жаль я не голем или молчаливая соучастница, не умею вовремя заткнуться: стоит мне оказаться среди могил, я сразу же становлюсь болтливой, ну и циркачка!
***
Оплакивая возлюбленную, Мэри вернулась в Англию с «Защитой прав женщин». В то время она часто вспомнила своих сестер, но рассказывала о них немногим. Только дважды растравливала раны. Сначала передознулась опиумом. Затем вымочила платье под дождем и бросилась в Темзу. Рыбаки приняли ее за большого леща и выловили сетями, так и спасли.
Мэри лелеяла утопию, а вокруг была только литература, отвратительная литература, мужчины во фраках, терьеры на коленях в парадных гостиных, табачный дым и опять книги СТИХИ УБЛЮДКИ. В сути своей они были неплохи, как вещи или значения. Но их авторы хуже всего: стоит одному открыть рот, рука дергается, тянется к воде с валуном наперевес. И всё же она заглядывала в салоны — читать визитерам вслух. Письмо было как жизнь: в муке корежишь слова, слабеешь, клянешься никогда не трогать бумагу, подходишь к самой границе и снова возвращаешься.
iii
Как и все анархисты, Уильям был добряком. У него была странная голова и мысли, Мэри думалось, безбожник. Когда он вылез из-под стола на светском приеме, Мэри брыкнула ногой, испачкала фрак. Это было странное сцепление, в котором сквозила не злоба, а хи-хи. Они обменялись черновиками и адресами. Ночью, оставшись одна, Мэри открыла тетради и нашла записку: «Остерегайтесь жандармов и королей. Один раз они вздернули меня на виселице».
Мэри и Уильям встречались в Кенсингтонском саду по воскресеньям. Он боялся ее, правда, только поначалу. Вот пример: когда он спросил про Французскую революцию, она долго смеялась, а потом разревелась и распугала всех ворон в округе.
Влюбляясь, Мэри выписывала в амбарную книгу уроки, преподнесенные померкшими созвездиями. Перебирая семейные тайны, вылавливая застрявших в аорте вязких любов:ниц, она выкладывала на чашу умеренности по чуть-чуть, по камню на каждую: справа память, слева — желание. Время не унималось, оно торопило ее, сверяя шорохи с движением ветра, обтачивая лезвие. Мэри обманула Время или, во всяком случае, поверила в обман: когда Время просыпалось, она уже сидела на месте, дописывала новую главу, или меняла краску в чернильнице, или перекраивала рукописи. Когда Время засыпало, Мэри бросала письмо по ветру и брела в темноту. Ей верилось, что существуют два больших мира и ими можно жонглировать — один в воздухе, другой в руке. Она поклялась справиться, лавировать, как старушка-лодочница.
Первая ночь случилась в начале января, когда католики сжигают рождественские елки, а православные казнят самого жирного гуся. Окно в спальне Уильяма выходило на заброшенный дом, мышьяковый узор на обоях торчал из разрушенных стен, кривые деревья скрутились под фонарями, сироты духовных приютов распевали кэрол, выпрашивая милостыню у прохожих. В самом ветре прятался ужас Рождества, счастье было наполовину. Прежде, чем снять нижнюю юбку, Мэри сказала: «Сегодня ко мне приходили три духа. Пьяный старик с простреленным легким и родимым пятном на лице был моим прошлым. Беременная козлица — настоящим. Еще была девочка с черной вуалью, она сидела позади остальных и копалась в могильной земле».
Утром живот Мэри стал твердый, как скорлупа грецкого ореха. Спустя пять месяцев она уже не могла бросаться в жандармов самой мелкой галькой, в глазах темнело, руки стачивались в угли. Живот рос быстрее, чем портниха распарывала и кроила платья. Чтобы накормить дочь, Мэри ела четырнадцать раз в день, первый и последний приходились на позднюю ночь. Служанка набирала картофельное пюре и кисель в шприцы и по очереди вводила спящей Мэри в глотку. Утром малышка брыкалась, упираясь пяткой в живот, и Мэри щекотала ее. Она хотела дать ей свою фамилию и пришла к седому барристеру. «Делайте как знаете, ребенок будет бастардом», — были его слова.
Сновидение №1.
Невеста в Шотландии с лопатой, выгребает из камина золу. В золе — куски обугленного мяса, свиные головы в крови, будто только отрублены. Она их сжигает, разводит огонь, только головы не горят, смотрят на нее
и смеются: o-ink, o-ink,
oink, oink, oink, oink, oink, oink,
oink oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink.
Сновидения №2, 4, 16, 256.
Предметы и звери: осколки водяных часов, хромые агнцы, камни, спрятанные под языком, тушеная капуста. Все сновидения заканчиваются одинаково: кипят черные лужи.
***
Перед схватками Мэри в последний раз видела пузыри. Хлынул мазут, отошли черные воды.
Малышка родилась в конце августа. Она вылезал из вагины, сжимая в кулачке измятую пуповину. Плацента осталась гнить в утробе. Через два дня Мэри умерла.
Перед тем, как лечь в могилу, Мэри поклялась над колыбелькой будущей писательницы: Remember, I shall be with you on your wedding-night.
Часть 2
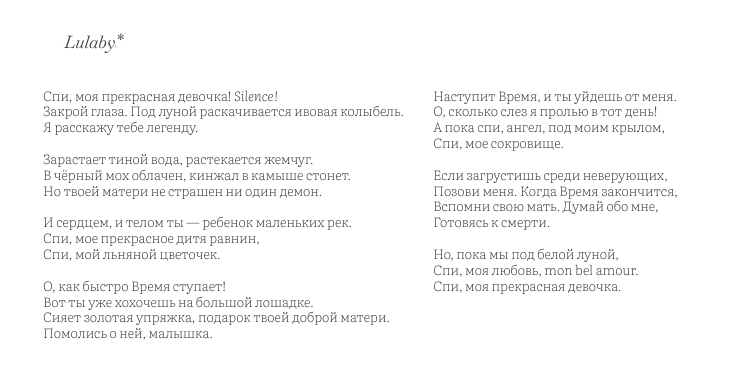
i
I should have wept to die; now it is my only consolation
M. Shelly
Англия была Другой. Королева умерла, ее никогда не было, в Ганноверской династии лев сражался с единорогом, герб заменил флаги, грязь прятали под коврами. Никто не понимал, что происходит, все пропускали дождь сквозь пальцы и забыли о закате, близости переворота. Ада уже родилась и строила машины, но Мэри держалась на поверхности Времени, то есть подставляла пальцы под гальванический элемент, училась воскрешать трупы. Мечтала ли она воскресить свою мать? Никто не знает, она сама не знала, что лучше:
мать-монстр,
мать-призрак
или труп в земле святого Панкратия?
***
Мэри училась азбуке по надгробной плите, копируя буквы и расставляя их в случайном порядке. Там же, на могиле, она узнала, почему люди боятся смерти, но поняла не до конца — мокрая земля пахла лучше раскаленной брусчатки, и даже любовник не мог объяснить, для чего держаться жизни. Отец выучил ее писать, разбираться в истории и мыслить анархию; ей было любопытно, хотя и безразлично. Ghost stories — вот куда она ходила, как на церковную службу. Надевала фату из паутины, прятала в юбках винную бутылку и шла к черному памятнику, находя его, как и прежде, священным и неподвижным.
Могила матери мнилась ей водоворотом и фейерверком. Вбирая живой мир, обгладывая каждую надломанную кость, она выплевывала наружу первозданной, но дрогнувшей: так бывает, когда мясо теленка становится ростбифом, эскалопом. Такое это было место: подходило для письма надежнее, чем отцовский секретер. Мэри укрывалась в многолетних папоротниках, усохших фиалках, пробивала локтем настоявшийся дерн; все прочее было за Временем. Прежде буквы, слова, прописи, после — поэзы, не успевшие отрастить хвосты, неумелые романы, скрывавшие что-то важнее ремесла и таланта. Все они — от буквы до большой формы — дымились ужасом и раскаянием, но не как СВЕРХ-жизнь, а как обыденность — так по утрам пастух выпивает сцеженное молоко, неспешно, будто само действие неотделимо от зверя или реальности. Мэри писала о зловещих духах, пожирающих детей в утробах и колыбельках при полной луне, о вампирах-буржуа, что сосут кровь из оживших трупов крестьян, о демонах, запертых в деревянных куклах… Все это она читала вслух, но тихо, чтобы услышала только мамочка и указала, где исправить, что убрать, клише, ошибка языка, пошлость, перебор.
За могилой следовала иная жизнь, по которой блуждал отец, не находя себе места. Горе толкнуло его к браку — невесту, как положилось, звали Мэри. Делить имя покойницы на двоих невыносимо, женщина клялась оставить девочку без ужина, когда находила в доме крошки могильной земли. Месть малышки — ей было почти десять — заключалась в следующем: в подвалах и сараях она отыскивала крестовиков и сенокосцев и относила в кровать мачехе, прятала под одеяло, а чтобы они дождались ночи, убаюкивала паучьей колыбельной. Когда пришло Время, Мэри выучилась ловить ужей и веретениц; они били оливковыми хвостами по ладоням, ловко выкручивались, но быстро смирялись и сонливо скользили по ладоням.
В шестнадцать Мэри узнала кое-что получше змей, во всяком случае, так ей думалось; так думалось каждой в шестнадцать, быть может, думается и сейчас. Ее душа, похороненная во дворе приходской церкви, не искала намеренности, потому встреча вывернулась случайно — сначала баронет возник в Шотландии, затем в доме отца. Если все мужчины были собаками, то Перси походил на хортую борзую: его жилистый ум двигался быстрыми, длинными прыжками, а сердце прибилось к смиренным вольнодумцам. Он следовал за бунтом и сам был бунтовщиком, но ни разу не доводил дело до конца: женившись в юности на дочери трактирщика, чтобы досадить отцу, Перси оставил ее с годовалой малышкой.
Мэри полюбила баронета за халат цвета лягушачьей спинки, политические памфлеты и дружбу с Озерной школой. Признание состоялось на кладбище, где мать из образа памяти воплотилась в костях. Мэри исполнила обещанное: пока беспредельно смелая рука стягивала с дочери шуршащие юбки, она пиналась в гробу, пыталась выкарабкаться наружу, но от дождей земля затвердела, как бетон. На следующее утро они бежали во Францию; на смену Революции пришла война, ее настигло запоздалое послание: дочь трактирщика бросилась в реку и стала утопленницей, на этот раз всё получилось.
Перси не носил черное, траур прошел мимо, зная о собственной неуместности. Но Мэри настояла. Свадьбу сыграли в склепе. На венчание пришли двое: сводная сестра и ее любовник, лорд Байрон. Мертвых было больше, чем живых, они вели себя вежливо, помнили о страхе плоти и устроили пляски смерти уже после того, как гости покинули церемонию. Обмен кольцами пришелся на зарождающуюся луну, она приблизилась к лицам и светила так ясно, что Мэри отступилась, раздробив серый кусок кварца.
***
Когда Мэри сбежала с баронетом, Уильям закрылся в чулане. Соседи упрекали его за тишину, за молчание, повисшие в доме; они взывали к той свирепости и к тому горю, с которыми писались воспоминания о его умершей жене, но не могли ничего отыскать — сердце анархиста высохло, теперь там поселились красные жуки-солдатики, такой был у них дом.
ii
Европа похожа на растянувшуюся в вечности торговую площадь, которой заправляет ловкая повариха. В одной кастрюле у нее кипят рыбные головы, срезанные с брюхатой трески, в другой — варится пивной суп. В сырной пещере дозревает пармезан и рокфор, а на чугунной сковороде шипит разбавленная карамель, прослойка голландских вафель. Мэри желала попробовать все, но что попадало в рот, выходило наружу, пережеванное, залитое желчью, как мясная подлива.
Или вот еще: горные реки, утес, сдерживающий разрывы волн, острова в ивняке, убаюкивающее журчание моря. За два года Мэри объехала всю Европу, только искры французского юга оказались не лучше плоскогорий родной Англии. Север всплывал в памяти разъедающей язвой — так в забвении мы лелеем боль. Медовый месяц горчил, приторная, бесполезная сладость, куда лучше облизывать ледники до разлома глыб, трéска, снежного исхода. Движение замедлялось письмом, то есть это была подготовка к письму, собирательство слов: завидев подточенный камень или ощипанную куриную тушку на рынке, Мэри опускалась на брусчатку (ее только проложили в Европе) и бралась за буквенные этюды, пока Перси пил горький, как бедность, эль.
Бродяжьи псы узнавали их и устраивали суд черепков. Делалось это так: в сумерки каждая собака обгладывала осколок глиняный вазы и бросала его в мешок. Утром городовой опускал туда руку, все копался и перебирал, и когда на ладони выступала капля крови, вытаскивал первый попавшийся осколок. Осколок подкладывался под дверь Перси и Мэри: в какой бы стране они не были, в каком бы городе, трактире не остановились, каждое утро на коврике лежал кусок застывший глины с собачьим прикусом.
Медные, бронзовые и золотые монеты текли, как течет пиво из глиняной трещины, медленно и настойчиво. Баронет промотал деньги отца, деньги поэзии, Мэри продала жемчуг и волосы. Разлуки, раздоры, скандалы — такое случалось, но стоило им выгрести из животов бесформенный поток гнева, мир возвращался обратно. В одно из таких примирений живот Мэри припух ребенком, как если выпить кувшин воды за раз. Камни катились по лестнице, это Смерть вылезла из вулкановой пещеры и направлялась проведать еще не родившихся послуш:ниц. Как лукавая богиня, она была красива до изнеможения, хитра и выдавала знание за глупость. Она умела ждать, у нее было все Время этого мира.
Притча об умерших младенцах
Нечеловеческая чистота кукол — невинность всех детей. Мэри носила пятерых и родила четверых, не сразу, а по очереди: два мальчика, две девочки. Выжил только один, остальные сделались ангелами, не выучились речи, разумели только по-матерински, гулили, бились головами от плача и агукали, у кажд:ой был свой язык.
***
Младеница №1. Клара
Мэри тогда еще ничего не знала: не разбиралась в пеленках и колыбельках, не умела сцеживать молоко из груди, а девочка уже вопила громче хора болотных сирен, перекрикивала утреннюю петушиную стаю. Хотя у нее было два глаза, матери казалось все семь, она почувствовала еще при родах; взяла девочку на руки и назвала ее семиглазие смерти.
Младеница №2. Имя неизвестно
Была ли она на самом деле, мы не знаем. Знаем, что если она была, то непременно бы девочкой.
Младенец №3. Уильям
Как и все хорошенькие мальчики, он родился в январе и договорился с Богом стать самым тихим ребенком, тише, чем рождественский снег. Так и вышло: в ночи Мэри проснулась от очередного кошмара и спустилась к кроватке кормить грудью; малыш спал так тихо, что никто в мире живых не мог:ла отвести этот сон. Смерть показалась только утром, мальчик умер в конвульсиях, задохнулся, или сердце остановилось. Еще говорят — синдром младенческой смерти, пока не уверуют.
Младенец №4. Перси (или Флоренс)
Он жил дольше всех, даже пережил свою мать, но так и остался младенцем — разделил судьбу уснувших навеки сиблингов. Он стал шерифом, позировал для карикатур и любил яхты.
Младенец №5. Выкидыш
Повесил:ась на пуповине и задохнул:ась в чреве.
***
И умирание порою не бывает внезапным, ко всему готовишься, привыкаешь. Маленькие деревянные гробы, неглубокие могилы — свидетельство живет до первых признаков разложения.
iii
Небо замораживало воду и метало огни, это Женева говорила молодоженам: Grüezi! Далекий вулкан изверг все тепло земли, каждый месяц вилла Диодати покрывалась то снегом, то круглым льдом. Рыбы женевского озера приспособились к конькам и лыжам, желтые закаты пророчили успех пейзажистам. Год выдался без лета.
На вилле собрались пятеро. Лорд Байрон, бегущий от инцестуозного скандала, позвал всех в гости: баронета, его жену, врача-кровопускателя и беременную любовницу. Днем они напивались и играли в покер на деньги; лучше всех блефовал поэт. Когда монеты закончились, появилась новая игра: ночью собирались в гостиной, зажигали восковые свечи, до каких могли дотянуться, и по очереди читали фантасмагории. Байрон заставил кажд:ую проводить день за письмом мучительных историй, а по вечерам читать вслух. Мучительность все восприняли, как умели. Поэты описывали романтическое предчувствие ужаса, врач зациклился на крови, а Мэри повернулась к прошлому и выдавливала из себя по странице в день.
В одну из ночей, посвященных письму, ей явилась колыбелька мертвых детей, все в чепчиках, как маленькие английские аристократы, гулят, но просят не молока, а электрического удара, сгустка энергии, дыхание утраченной жизни. Колыбелька выпячивает пузо, дети кидаются в бездну, деревянные перекладины трещат, ломается дно. Из чрева кровати — скрежет ногтей, женщина в черном процарапывается наружу, вот-вот вылезет… Она свежа, словно вечность лежала в торфе, ничуть не разложилась, она собирает детей, усаживает на колени и убаюкивает, но голос не тянется, как у погребальных плакательниц, а искрит, как расцарапанный кварц.
***
Сумерки, луна, ведущая по кругу из заката в ночь. Лорд Байрон согнал всех вниз, в гостиную набились гости. Заходя внутрь, кажд:ая ударял:ась головой о подвесной канделябр, чем приводил:а в восторг собак, игравших на пальметском ковре. Мэри пришла раньше других и забралась в кресло, следила за всеми, оставаясь невидимой. Она сидела, свесив ноги, чулки топорщились, а когда Перси просил читать, вытащила из кармана смятые пергаментные листы и запела, как два церковных хора.
… я видел больные глаза монстра тело его вздулось под газовым светом и куски плоти ссохлись труп матери распластался его саван окутал могильные черви скользили по складкам черного хлопка…
***
Ее история вышла из мертвых лягушек, отрезанных собачьих голов. Умелые доктора в грязных лабораториях тянули к гниющему нерву провода, железные нити, проворачивали ручку реактора, пуская ток. Электрический заряд порождал судороги, части животного тела бились о деревянные столы; конвульсии не прекращались после затишья молний. Мэри вглядывалась в мысленные эксперименты, ожидая, когда вместе с током в лягушачью лапку залетит душа или войдет жизнь, но подергивания заканчивались, лягушки возвращались к гниению.
iv
Через четыре года баронет утонул. Перед смертью ему виделись дети и двойники, они до последнего шептали — siete soddisfatto — и исчезли, когда развеялся туман над заливом.
Эпилог
My beloved Monster,
Если ты, как и все, думаешь, что я бросила тебя, напичкав презерением и злобой, то ты не лучше самых глупых критиков. Вот тебе мой секрет: только вылепливая мертвеца, можно вылепить женщину. Наделяя тебя протестом, я протестовала сама: смотрела, как ты корчился в одиночестве, убивая любимых на пути — ведь малыш Уильям был и твоим братом, милый Анри — твоим другом. Мы больше, чем эта глупая книга; к тому же, не было никакого смысла создавать тебя по образу моему и подобию. Ты явился сам, в первый раз еще до моего рождения, и потом, когда стали умирать малыши, один за другим. Твое лицо всплывало за спиной повитухи, когда я тужилась, пытаясь вытащить из себя очередной труп, ты усмехался, как друг, только ты мог меня понять.
Теперь, когда умерли все, остались только мы и женщины. Я увижу их завтра и так скучаю, что каждую минуту представляю, как они ходят по церкви с кусками окровавленного мяса. Это подношения Деве Марии, она спряталась за алтарем, не чтит закон божий. Нам самое место в церкви, вместе с иисусовыми невестами. Завтра на заре приходи туда, где все началось, сам увидишь.
***Лунный голос сестры звучит средь призраков ночи*** [6]
Сад неземного страха раскинулся там, где раньше хоронили ведьм, сжигали суккубов. В него опустились Ада и Мэри, держась за руки, взывая к сестрам. Не гусеницы становятся бабочками, а черви; одна уже вытащила крыло из земли, значит, будет дождь.
Дергаясь, двигалась процессия воскрешения, облаченные в черное ступали они по земле, отбрасывая комья грязи, проделывая дыры в мертвецах. Неровный дождь соединялся с небом, оставляя подтеки на лицах; в них не было скорби, отчаяния, у них были лунные голоса, как зеркало в тумане грянули толпы женщин. Они шли, державшись за руки, обнимаясь, они молились и ждали пришествия матери, и не было тьмы, светлое было небо, его гром раздробил, и мел посыпался из глаз, и пошли кровавые слезы Марии.
Могила растряслась, земля выпучилась и разродилась ящерицами и змеями; они ползали по траурным ангелам, слизывая пыль с разложившейся плоти. Могила растряслась, дрожала крышка гроба, гремел костяной засов, обтачивая трещины. Все звери мира примкнули к ней, они отправились за шествием, тащили за собой грозоотметчик; когда лента исписывалась, они ее меняли и отправлялись дальше, они шли целый век, останавливаясь, починивая свою машину. Сменялись поколения женщин, девочки подрастали в невест, отрыгивались от тела, и гнев их был гневом обманутого демона.
На шестое утро они проснулись в последний раз. Раскопали каждую могилу, вытащили кости и старательно перебирали их, словно мыли младенцев; над горкой черепов пролетела немая птица, длинные кости опускались в яму, там теперь ров. Говорят, в том месте теперь ведьмины кольца, мухоморы растут как луна, по кругу.
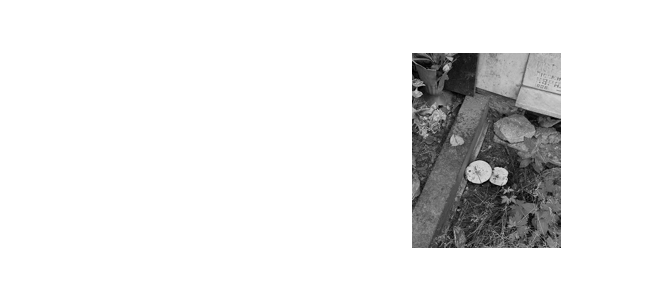
[1] «Mary Wollstonecraft», Ralph Wardle
[2] The Future Looms: Weaving Women and Cybernetics, Sadie Plant (Перевод Л.Каревой)
[3] Там же
[4] The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert and Susan Gubar
[5] Lulaby является свободным переводом «Berceuse cosaque» М. Цветаевой. Оригинальный текст — «Казачья колыбельная» М. Лермонтова.
[6] Переложение строки из «Призрачного сумрака» Г. Тракля

