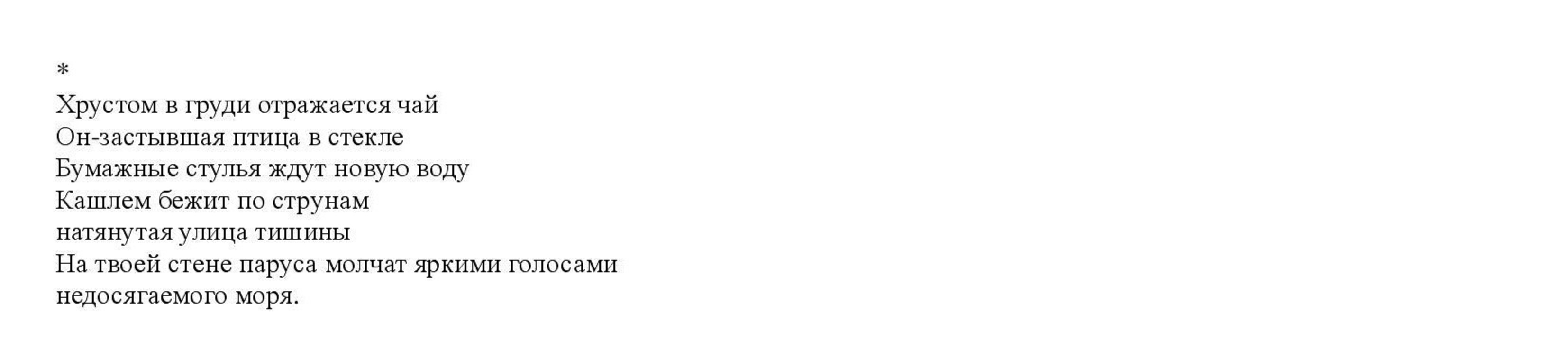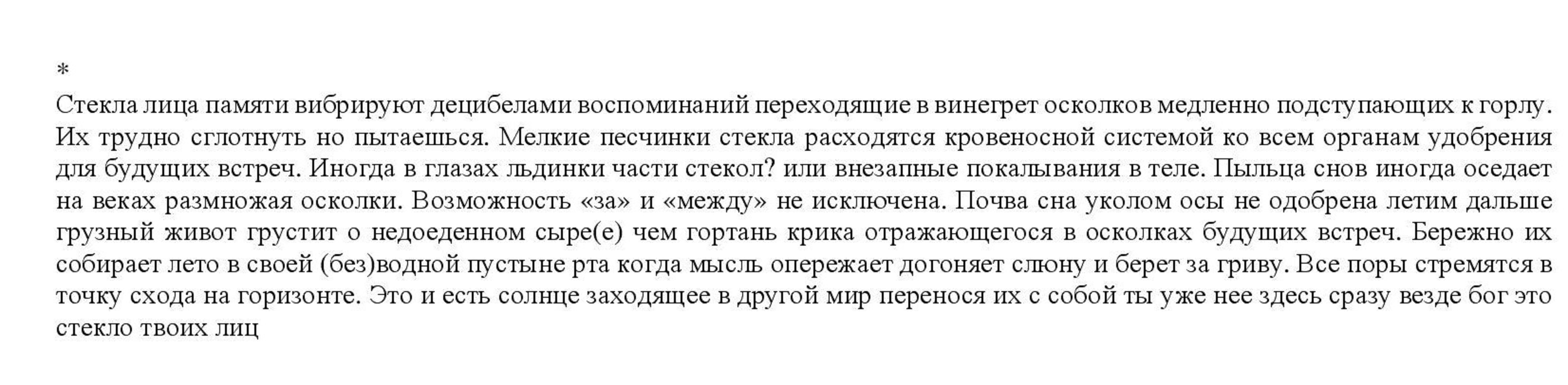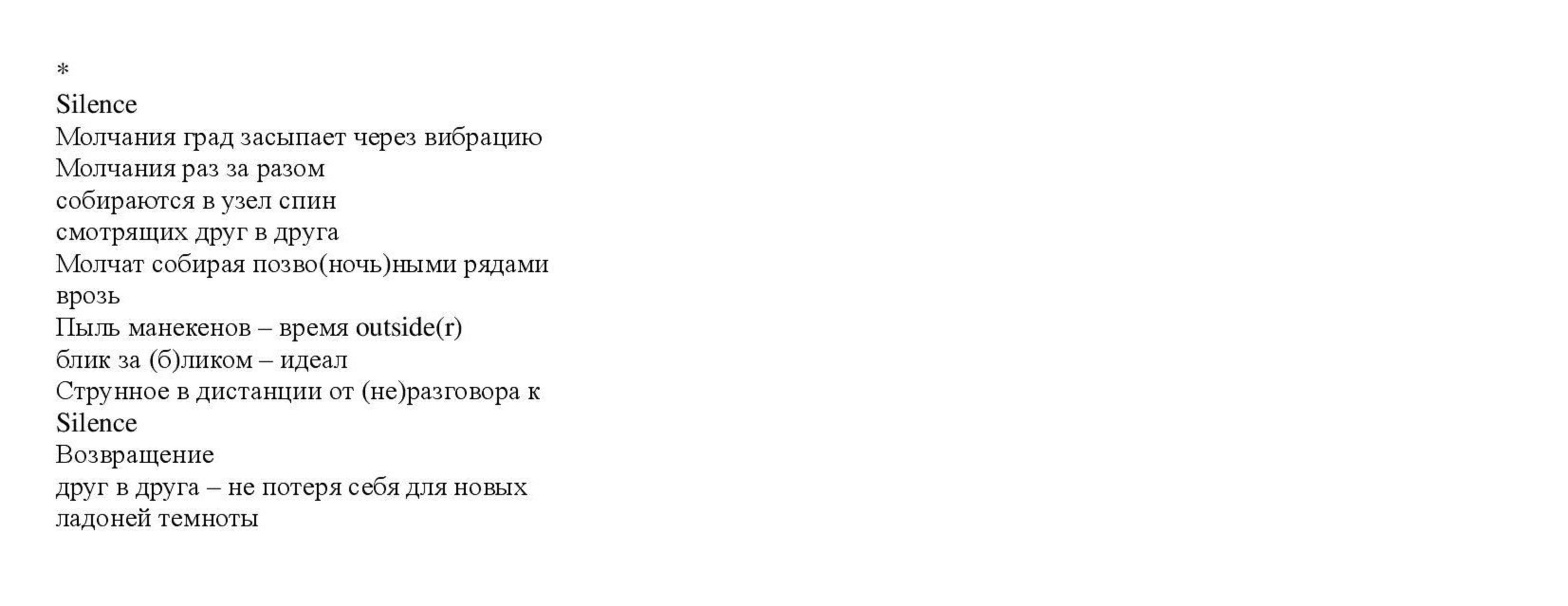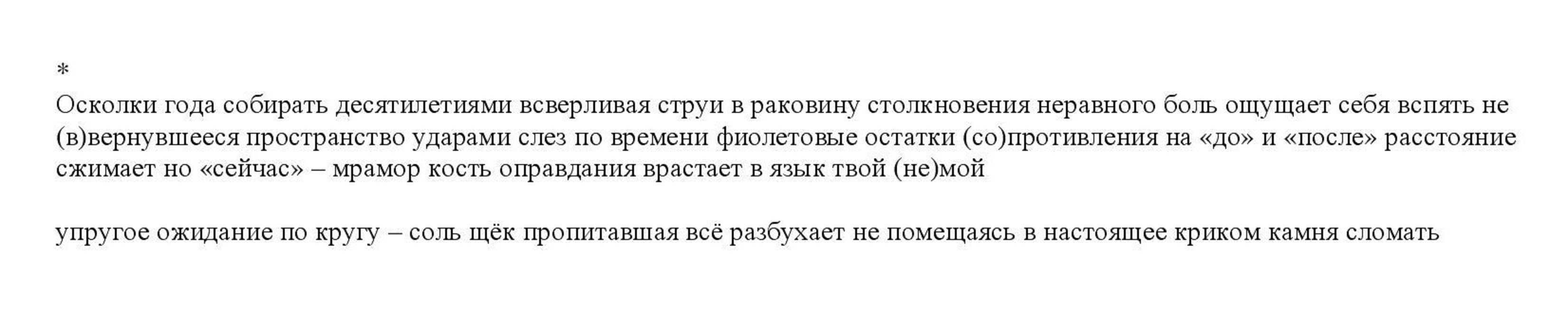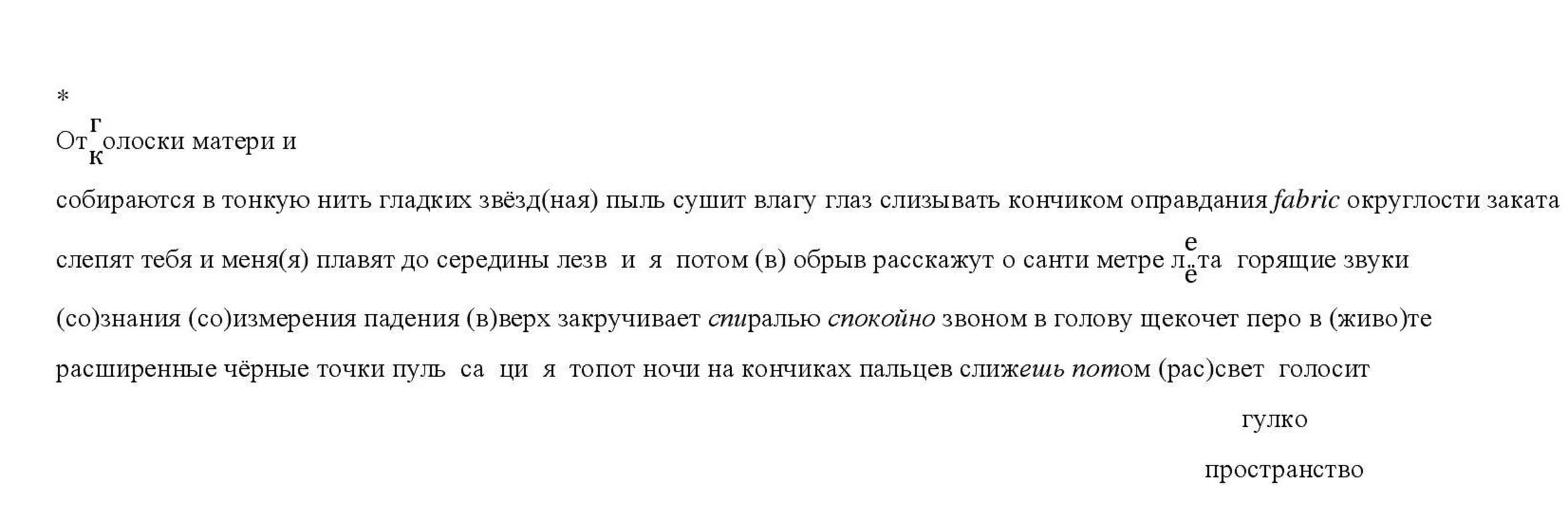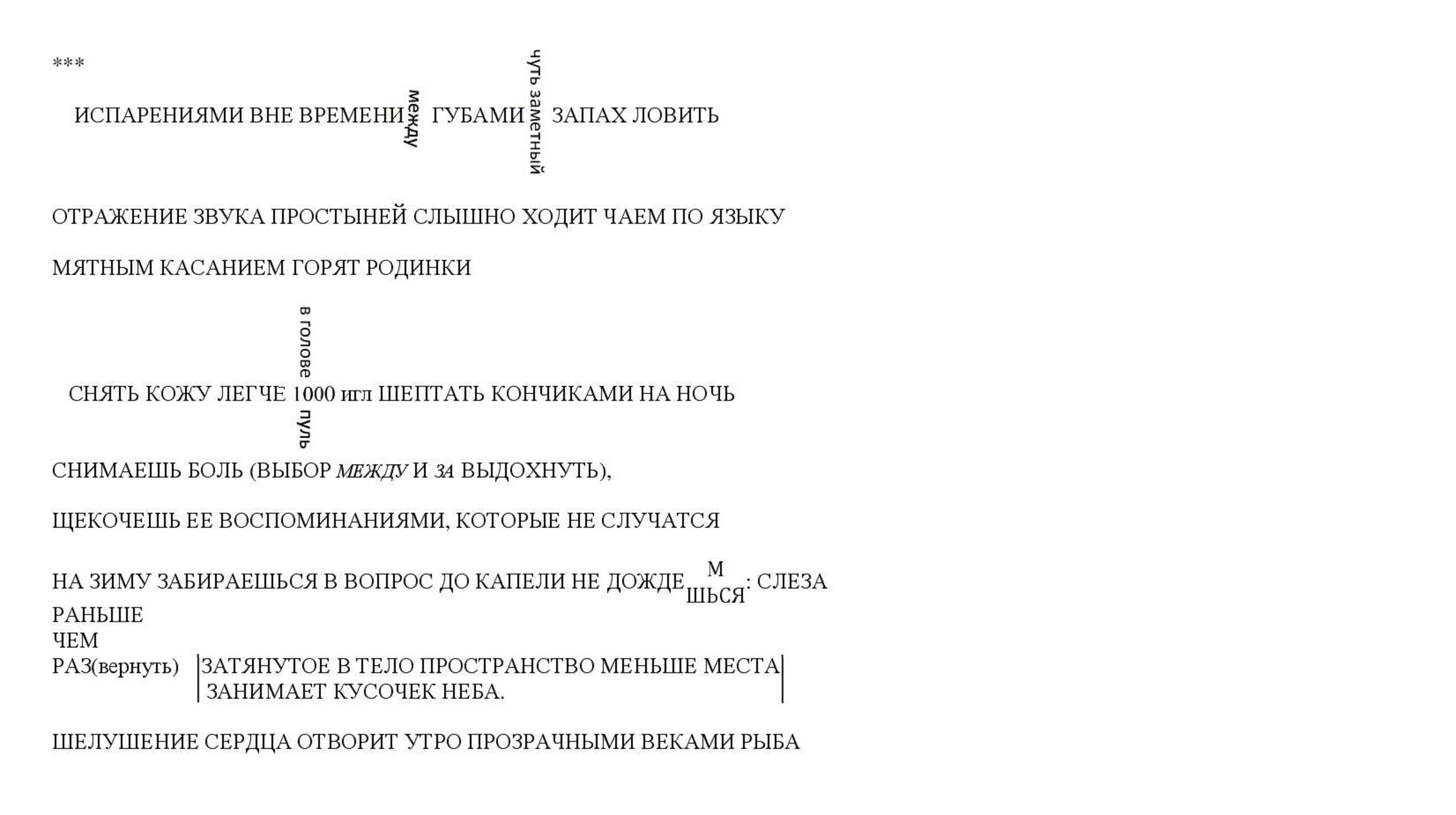«Флаги». Восьмой номер
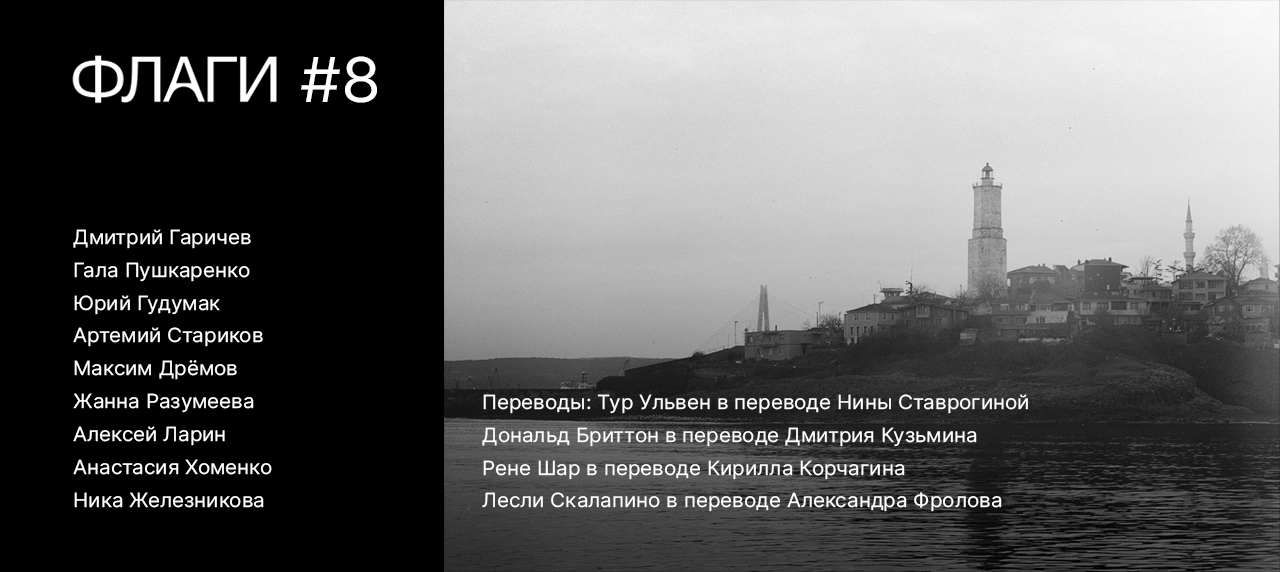
Содержание
Фото на обложке – Данил Елезов | inst: @danielezov
Ложные солнца
ЛОЖНЫЕ СОЛНЦА
Своеобразие в ощущениях, как своеобразие
в растительности, создается разницей в месте,
в градусах долготы и широты, в их застывших числах,
в той абстрактной географической условности,
в которой мы пребываем.
И, против всех ожиданий,
в которой день ото дня становится холоднее.
Не говоря уже (это уж непременно) о соответственной,
вследствие большего день ото дня потребления кислорода,
симметрической разнице между цветом крови артерий и вен,
потому что она заметно уменьшится только к лету
или как у европейцев под тропиками.
Как в сыром, туманном
краю, каким является конец ноября
посреди материковой глуши умеренного пояса,
это смесь из вещей, понятий и, еще больше, –
ощущений зябкости.
Слезы – процеженная через пепел вода –
объясняют то, из чего мы все еще состоим:
из воспламененного прошлогоднего неба,
осенней пережженной земли,
спекшейся за зиму желчи.
Признак далекой холодной местности? Да.
Но на самом деле аберрация, аномалия, немыслимый этот март
и есть то малое расстояние, какое только необходимо,
чтобы ее можно было увидеть.
День ничем не предпочтительнее
ночи, а полдень – сумерек.
В стороне равноденственного заката –
лишь побочные, хорошо означенные ложные солнца.
Ложные солнца скорее же предвещают,
и без того-то долгую, непогоду:
дождь, а не вёдро.
И жизнь (а не только холод, голод или болезнь)
принимается за материальный объект,
который может отделяться от тела, точно так же,
как блеск солнца принимается за материальный объект,
который солнце может возложить на себя
или отбросить.
ПЕНТАКЛЬ
Путь солнца
может лежать из глазка гвоздики,
вытягивающегося глазным стебельком улитки,
и линейной перспективе предпочесть воздушную,
покоящуюся на учении о мутных средах, –
лишь бы там,
на периферии себя или того, что от нее осталось,
с помощью катоптрики* (*науки о зеркалах)
амальгамироваться с цветком
и озарить мир
великолепнейшим пурпуром.
Отбросив то,
в вероятности чего у меня закрадывалось сомнение,
я попытался постичь это яснее и правильнее,
пустив в ход самые ученые козни:
если различие между растением и животным,
в противоположении которых зиждется
вся линнеевская систематика,
должно быть признано таковым,
что его можно преодолеть
(существуют ведь цветы орхидей,
похожие и на крылатых насекомых, и на птиц,
которых привлекает благоухание нектарников),
то кто мог бы сомневаться,
что цветку – всегда пора распуститься,
лишь принеся в жертву частичку своей идентичности,
приблизившись к классу солнц?
Отважиться превратить
глазок гвоздики в глазной стебелек улитки
природе, однако, не легче,
чем мне – пером на листе бумаги – остатками чувств,
обращающих меня в периферию себя.
Потому как
природа не делает-де скачков
и в ней нет эпизодов, не связанных-де,
как в дурной трагедии.
Ничто
не препятствует до сих пор тому,
что небо этого нового мира
должно казаться его жителям
совершенно подобным нашему,
а солнцу –
не нужно обладать никаким особенным действием,
чтобы представляться таким, каким его видим /
считаем, что видим, мы.
СОЛНЦЕ ПЕРЕДАЕТ В НАСЛЕДСТВО СОЛНЦЕ
Солнце
передает в наследство солнце.
В угрюмой стихии марта его лучезарная неподвижность
представляется пробивающимся сквозь завесу туч
порционом едва дифференцированной протоплазмы,
пигментным пятном инфузории, ореолом
с вертикально удлиненным зрачком.
Мышца, суживающая зрачок,
есть сфинктер* (*Sphincter pupillae) солнца.
Лишь за изморосью она обнаруживает
правильную форму кольца радиальных волокон
радужной оболочки.
Но при этом тут же
приобретает тусклый, млечно-беловатый мутный вид,
как совиный глаз на свету.
Явление
почти обычное в своей повторяемости,
когда, солнцеподобное, оно
устремляется к тому, чему оно подобно,
обрастая характерными признаками систем
костной, мускульной, внутренностей
и органов кровообращения.
Говорят, если смотреть на солнце,
то его образ может сохраниться
несколько дней.
И мы знаем, как:
изменяя тело
в последовательность призматических деформаций –
специфизируясь через все новые преобразования
перламутровых аберраций ума, угасающей ауры сердца,
охры свернувшейся крови,
синей жидкости желчного пузыря.
Ранний росток люпина
позволяет вывести то,
что составляет скрытую предвзятость какой-никакой, а мысли:
не в силу известных, присущих люпину, свойств гелиотропа,
а потому что люпин мы всегда рифмуем с «люби́м».
И остается лишь терпеть, как у него раскрывается
крохотный пальчатосложный листик, и превращаться
в скрюченного уродца.
НОЧНОЙ БЕЗУТЕШНЫЙ СУМРАК
От божественной киновари,
продлевающей жизнь,
готовой вот-вот забродить и переродиться в уксус,
остается полбанки сгущенного варкой вина;
чуть выщербленный зуб – чувствилище памяти
о только-только расцветшем плесенью
куске сухаря;
на языке –
привкус первой щавельной кислинки.
Одно лишь единственное перышко зеленого лука,
отысканное среди замшелостей
и клочьев тумана, –
как синь порох в глазу;
что уж тогда говорить
о долгожданной веточке дикой петрушки
или щепотке нежных ростков крапивы,
приобретающих в эту пору в здешнем краю
не менее нежное имя урзи́ки.
Три недели –
как трижды три месяца,
но не три времени года.
И темный сырой ноздреватый воздух –
вроде губки, напитанной усыпляющим зельем,
сильнейшее из которых –
не опийный сок или волчий жир –
а ночной безутешный сумрак.
Крушенье границ апреля,
которым так занят нежный росток урзи́ки,
если оно случится, завершится дождем лягушек –
будто сны, которые видишь в этой,
сбываются уже в той,
похожей на прошлогоднее пугало, жизни:
пиджак стал ему на размер просторней,
и личинка моли, как душа,
выедает в нем путь наружу.
PRIMULA VERIS: ПЕРВОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ
Покамест температура мышц,
влияя на скорость их сокращения,
не достигнет значений, достаточных для того,
чтобы удерживать в мерзлых пальцах перо,
оплетенный сетью жил мускул ветра
расковыривает цветочную почку примулы
раньше третьей весенней оттепели.
В будоражащем
и с частыми бурями пасмурном воздухе –
не более чем сомнительная метафора солнца.
Не цветок подлежит неминуемому раскрытию солнцем,
а солнце – цветком.
Бездонная сверхдетерминированность цветка.
Даже если это Primula veris, первоцвет весенний –
крохотный, бледно-желтый, в зеве которого
пять красноватых пятен.
Бездонная сверхдетерминированность цветка.
Большая, чем у большого желтого цветка подсолнуха,
вращающего солнце.
Непрекращающиеся
мелкий дождь и изморось –
как логическая матрица невроза:
изменяются, чередуясь, и чередуются, взаимоуподобляясь.
…И переходят в темную абстрактную экстенсивность,
предваряющую явление солнца,
но не означающую ничего,
кроме следующего:
вегетативного прошлого* тела
(*настоящее прошедшее)
и многократно описанного
сдвига центра зрительного восприятия в область цветка.
Не цветок подлежит неминуемому раскрытию солнцем,
а солнце – цветком.
2013 / 2014
Под растерянным языком
ОСЕННЕЕ
в воздухе белом что-то свистит, дрожит.
вдалеке тетива визжит
– вжик –
стрела с косулей наперегонки бежит.
хвощ луговой – это хрящ травяной кости,
а может наоборот,
но если яблоко потрясти – в нём семечка запоёт,
если яблоко надкусить,
ничего не произойдёт.
осень озябшая зябликом обернулась.
думает, как бы семечку выковырять и съесть,
но не теперь, не здесь...
мечтает о семечке и лежит.
семечку ворожит.
поцелуешь меня в макушку, пока я сплю?
я тебя не люблю, я как птичка тебя склюю.
(я очень тебя люблю)
осень укрылась кленовым листом и спит.
кокон снега над нею свит
– и какой-то свист –
В ПАРКЕ
золотоглазые кусты глядят из-за спин деревьев.
лиловый лилейный дракончик замечен в траве.
ave, животное цвета!
как называется это растение?
тень и я
мы идём медленно вдоль этих прозрачных мест.
лес сбросил вес.
лес поднят на воздух,
он дышит звенящей бронзой,
и разлит над ним бирюзовый чад.
заплаканные глаза берёзовым чаем слезоточат.
вот бы положить взгляд
леса
в гербарий.
герб армий древесных трепещет,
весь в трещинках
пятипалый кленовый флаг воздет – о, звезда завялой аллеи,
ленные ели, лоно валежника (влагалище? лежбище?), с кем
возлежит моя осень усталая талая алая,
а я?
это безвременник, – тень отвечает не к месту (прозрачному).
зверь мой сиреневый пасть разевает – зевает – оа.
а я?..
КЛЮЧ
вещи вне себя от прикосновений, и я боюсь,
что не буду в силах перенести их груз,
починить их грусть.
ну и пусть
пустоте не хватает уст,
устье речи – место, где слово впадает в ступор
перед значением собственным, а я говорю ему: ну, не трусь.
себе говорю: не трусь…
а ведь бывает:
ищешь
замочную скважину,
кувшин фарфоровый с ручкой,
параллельную станность линий, –
и не находишь ни в ком
применения этому окисленному,
серебрянному,
полному водных лилий,
скрипичному – и скрипучему –
ключу
под растерянным языком.
и кто-то приходит и говорит:
привет, я тебя люблю,
я тебя спасу,
я тебя воспою и наверх тебя вознесу,
я твоё имя произнесу.
а ты думаешь: не надо меня спасать, не надо произносить;
впредь
я хочу только пить, – и петь, –
и потом опять, –
потому что если каждый день
себя по новой не заводить,
не пить из него,
не петь – то и не о чем говорить.
и незачем умирать.
Параллели одного взгляда
***
Тени решётки без солнца и формы волн.
Тёмные львы и возлюбленные воды каналов.
Ты – в сером дожде –
Произнесёшь улетание благословенных рук
К осенним пустым небесам. Всегда
Смерть, застывшая в слезах камня.
Мы не знаем скорби прозрачных полей.
Восходящие струи
Воздуха приближают к кругам блаженных.
Что скажет там перевозчик?
Пределы молитвы
Единственны: больше туманных птиц переправы.
Ты смотришь на капли и будешь
Вечно любимой.
Так в вечном тумане утра
Ты глотаешь монету и падаешь на поверхность воды.
***
Сладкое дыхание поздней аллеи
Приносит и отпускает
Свет, создающий узоры слепых ветвей.
Мнемотехника одной и той же дороги
Сохраняет в кругу универсальных ответов
Улыбки последовательного эпизода,
Змеи татуированных жриц.
Двойной огонь увяданий
Оживляет сумрак
Обновлённого ритуала.
Страницы крови,
Первое пламя тёмных губ
Расцветает присутствием небесных движений.
Свет скорбных деревьев,
Несущий имя
Забвения падшего плода.
***
То ли ветер нам принесёт
Имена,
Скрытые от других.
То ли биенье сердец
За секунды до катастрофы
Поможет услышать
Песни, утраченные навсегда.
Данное письмо забыто на пустом берегу пляжа.
Песок и ветер; его не прочтёт никто;
Ошибка, наступающая неизбежность.
***
Ночь нарастания снегов любви.
Развернувшийся лепесток крови –
Говорит медиум сна
Скрытое имя веретён.
Медленный маятник переходит закон пределов.
Отблеск звезды,
Единственной
В короткое время
Сна и его забывания.
Территории города в отдалённых анклавах тьмы,
Опустошённые магистрали, о которых
Нельзя ничего сказать.
Застывшее время, и ветер, ушедший из нас.
***
Сквозь мглистые стёкла
Слепых небес
Призрачные орнаменты восстают.
Отблеск: черный хрусталь
Облаков и простых рисунков
В глазах ребёнка
И самоубийцы.
В тень и пролёт театра
Санитары тебя уведут.
Скажи: это случится.
В мире молчанья и слёз
Ангельские шаги без смерти и крыльев.
Опьянённый первым письмом,
Узнаешь запах ветвей
Мёртвой сирени – в кувшине
Ядовитые и старые сны.
Будто я бегу мимо чужих деревьев,
Мимо влажных полей и знакомых лиц.
Потом начинается дождь – и сумрак
Навстречу и во мне навсегда.
Полифилия
***
ты пишешь мне:
когда я с тобой, на меня нахлынывают
огромные волны серотонина. он опьяняет, и я
готова делать абсолютно всё, мне становится
все равно на последствия, ведь мне так
хорошо здесь и сейчас в этом моменте
но в то же время добавляешь:
я рассказала ему всё
я расстаюсь с ним
я прекращаю общение с тобой
потому что не смогу общаться
в дружеском ключе
а в тот же день другой человек мне пишет:
когда-нибудь я умилюсь
настолько, что сделаю
какой-нибудь необдуманный
поступок в сердцах
если ты лёг спать, то спокойной ночи
моё беспокойное солнышко
а ещё один человек некоторое время назад написал мне в нашем общем
гуглдоковском файле:
как сказал Блок, "умереть в любом положении можно".
каждый вправе жить или не жить.
я всегда верю в тебя и в то что
у тебя свой путь непостижный уму:
когда-нибудь ты расскажешь мне и про это.
приведу ещё два примера писем, полученных в начале ноября
вот первое:
Я иногда просто вою от боли
и чтобы этого не делать пишу
всякие вещи в соцсетях
после этого почему-то легче немного
потом удаляю, потому что
становится стыдно
и второе, по праву самое последнее:
мы поговорим, когда с момента расставания
пройдёт столько же времени, сколько мы были вместе
ПРОГРАММА
на сцену выходит позднесоветский полуразрешённый бард и поёт, глядя в твои глаза:
чаи гоняем с буддой
отсюда и оттуда
и дуем ветры злые
как старый паровоз
и каждое сближенье
и каждая минута
как зимняя Калькутта
плывёт в пески земные
земную сверлит ось
нам город не ответит
что светит то и светит
вот входит мрачный странник
и прямо говорит:
на всей нашей планете
движение зажглось
и выбежали дети
они поют, кричат:
наша жизнь ад ад ад
вот пройдёт небесный град
как полураспад
и нам выдадут шоколад
на сцену выходит мужчина средних лет в спортивной кепке и начинает назойливо бормотать:
бывают неузнанные отражения
и странные сближения
чувствуешь
эту волну в области жжения?
это блаженство, тяжёлое искажение
бывают расторгнутые договоры
и пойманные воры
чувствуешь
как в груди поднимаются горы?
это коварство
нашей глубинной сферы
мир в руках подполковника-люцифера
половник? полковник?
вечный поклонник?
чей я термометр и любовник?
на сцену выходит классический нью-йоркский рэпер и невозмутимо зачитывает:
всё просто просто
есть время для свежего роста
и время на временный отдых
есть мост и ворованный воздух
и соблюдаемый пост
всё что возьмём мы в наш путь это hustle
и непредвиденный смысл
и синий утренний газ
ну а если на глаз
то ходить нам туда
нужно множество раз
за нераскопанный пласт
за недостроенный мост
на сцену выходит просветлённый хиппи и начинает расслабленно, но проникновенно петь под гитару:
эй ты
на твоей планете вдруг завянут все цветы
если не будешь плакать
если не будешь солнце накинет на жителей копоть
облаком воссияет похоть
и и обдаст поля
и посыпется перхоть
и мы сможем далеко и надолго уехать
давай включим голову
и поймаем ею вай-фай
и разверзнется май
и воссияет олово
эй ты
без объятий твоя орбита слетит
и откроется грустный вид
и всё будет раскрыто
мы внутри огромного монолита
***
синие квадраты плывут по реке
и каждый угол всплывает
в речном и солнечном молоке
всё тонет и тает
порою кажется, что лунный круг
сюда передаёт сигналы
мы ловим их и отбрасываем
друг на друга
когда ты лежишь на мне
я взглянул в тебя
и ничего не стало
треугольник смотрит из-под овала
затмение... северо-запад и центр, снег и солнце
замкнулись маршрутами
а мы смотрим на карту
и на время
и в пространстве одинокими телами
как волна ракушками играет
цветосимволика, планиметрия
бог дофамина, инсайтов и звёздных вспышек
в голове город из наблюдательных вышек
над ними блестит облако-барашек
их шпили применяют к небу электрошок
***
нужно жизнь превратить в искусство
а не искусство в жизнь
нужно растворить жизнь собой
самому растворяясь
и с собой расставаясь
кто я? ты поймёшь, когда откроешь конвертик
похожий на небо
с семью отворившимися порталами
боишься? я трёхглавым вороном сажусь
у твоей постели
и клюю прозрачный пластик
энергетической защиты
вот я прорвался сквозь неё
ударил чёрным лучиком в глаза твои
и прошептал: укрась жертвой трон свой
красной горизонтальной жертвой
совершаемой в ту часть года
когда земля скрывается и перестаёт плодоносить!
готовь рассаду, лопаты для чистки снега
и мы поможем взойти плодам
разжигая денно и нощно костры
но сколько вертикальных деревьев мы тогда перебьём ради скромного урожая?
не важно! мы в состоянии расплатиться за жизнь свою
парочкой прямых нравственных истин
***
я превращаю психологические разъёбы в материал для
стихов и топливо для продуктивной деятельности
kind of recycling you know
но это подсаживает
по правде сказать нас подсаживает всё
что мы помещаем внутрь себя
мы врачуем себя и делаем швы
на себе и рвём эти швы
и всегда всё повторяется
по новой по новой
по сверхновой
и снова по новой
я установил божественную родословную
всех болезненных состояний
почти overgeneralization
духи стали приходить
страшные, но я их понял
и смотрел им в глаза
как Гоголь – чёрту
и Достоевский – самому Христу
это были древние боги, сдавшие свои посты
и устроившиеся плясать на неестественно траурном карнавале
христианского мифа
но сохранившие себе за это и крылья
и дыхание огненное
и размножившиеся
по всей планете
змиями новой земли
они-то и сводят людей с ума
и сводят с другими людьми
и зажигают солнце
и сыплют снег на наши головы
и гудят проводами
и погружает нас
в бирюзовую завесу
потаённого воздуха
***
стихотворение, написанное прямо сейчас в маршрутке
ничем не отличается от обычного стихотворения
разумеется, кроме фиксации самого творческого акта
да и это уже мейнстрим и конвенция
поэтому я забываю об изначальной идее
и просто пишу: вот голландский флейт с белым парусом
покачиваясь тащит груз: шерстяную одежду и золото испанской короны
вот солнце заходит и вода окрашивается
цветом жёлтого тюльпана
вот тюльпан красный и его уже срезали и луковица
употребляет энергию, чтобы произвести на свет новый стебель
вот стебель существующий заранее и не видящий себя
и крепкая мачта, которую уже произвели и её ствол, который издаёт скрип
разносимый эхом на зимний лес, где мы с тобой не встретились
но тем не менее, это посвящение
письмо в бутылке, которой нет
человеку, которого я ещё не обрёл
но уже потерял
прошла вселенная с тех пор, как я видел этот дом
и смотрел далеко вверх
и далеко с самого верха этого дома
был виден лес
обрамлённый в перспективе серой девятиэтажкой
как крепостной стеной
в прошлой жизни я бродил по лесам
и звал тебя по имени
и мы ели и спали на природе, взрастившей нас
и росли вместе друг с другом
и вместе с нашим лесом
пока однажды не вошли в сад
и не стали работать на его хозяина
который платил нам едой, которую мы никогда не видели
а потом наливал воду
красную солёную или сладкую воду
чёрную, густую воду
и мы пили её, пока не стали теми, кто мы сейчас есть
и мы забыли друг друга так, что встретившись взглядом
спросили друг у друга: кто ты?
и разошлись в два разных города
и вот я иду по городской улице
и пишу
вокруг меня тьма, разбавленная фонарями
я сел не на ту маршрутку
и теперь мне придётся прогуляться
я забыл, что писал до этого
и не уверен, что обращаю внимание на происходящее вокруг
потому что пишу
впрочем, как и обычно
ах, вспомнил
я писал тебе
вспомнил и теперь улыбаюсь
иду и улыбаюсь, как дебил
да я и есть дебил
что тут греха таить
у меня расслоение мозжечка
помнишь, как мы гуляли?
я припоминаю тебе это
как припоминают о хорошем сентиментальные безнравственные люди
чтобы заретушировать перед своими жертвами то плохое, что они сделали
я знаю, тебя не проведёшь
потому что ты сейчас не только в моей голове
но и в моём сердце
и ты как злое божество херачишь в меня рентгеновскими лучами
которые я представил фиолетовыми
и моя плоть шипит, как на другой планете, близкой к солнцу
хотя на самом деле мне холодно, как на Луне
а значит и тебе может быть холодно
я знаю, что нам вместе холодно
потому что мы в разных мирах
в разное время
может быть, потому-то нам и холодно, что мы совсем порознь
всё, мои пальцы болят от холода
выкладываю в сеть
Жертвы принесены
С.
1.
так случается, только что устоится тепло:
день безвиден, а ночь так подробна:
дом становится тоньше, и невыносимо восходят
натяжение тополя, пение турника
говорят: только тьма и бывает такой молодой
куртка, которая думал уже никогда
не застегнётся, застёгивается как надо,
можно выйти без маски, как четырнадцать лет назад
у твоих стариков всё погашено каждый раз
как впервые, нечего даже туда смотреть
2.
в это странное время я называю вслух
имена, доставшиеся уже мне одному,
силясь преломить этот дар:
николай бердяев, луи-фердинанд селин,
алексей герман-старший, микеланджело антониони,
лигети, шостакович, the national, interpol
(с оговоркой про первые два с половиной альбома),
кете кольвиц, василий чекрыгин,
adriana chechik, asa akira, jynx maze
иногда я пытаюсь ещё читать наизусть
то, чего бы никто другой тебе не прочёл
так, как если бы я пытался что-то вернуть
этим маленьким звёздам, подпрыгнув выше травы
3.
утром выслушав сводки, я прихожу к окну
ради облистания лжи:
неужели, я думаю, все они не умрут:
отпущенцы училищ, наёмники с полуподземных
производств, ошалевшие от безнаказанности старики,
люди, которым мешает моя собака
устроители скважин, отцы шиномонтажа
однокурсники, организаторы фестивалей
вся racaille из парижских предместий
пуганые обсоски, роющиеся в лесу
ни вины, ни победы за ними нет никакой,
но в самом продолжении их до текущей минуты
так, как будто они никогда не глотали какую-то дрянь
в моровых городах вроде лакинска и костерёва,
есть тупая загвоздка, мешающая уму,
и поветрие, ныне стремящееся на нас,
вряд ли справится разрешить её до конца
4.
не хватает халатов, ни проволоки, ни ремней,
ни стреляющих ангелов над колокольнями; словом,
мы мечтали не о таком
не покажут ни опрокинутых поездов,
ни детей развороченных в чёрных постелях
так же тошно с врачей, отдающих всё, как с чиновников, сливших всё,
невозможно их различать,
ураган в девяносто восьмом был быстрей, но честней
только после пожара в больнице и скажешь: ок,
это как-то похоже ещё на видение пономаря,
но какой наблюдатель поручится наконец,
что скудельницы не возьмутся потом пусты
сквозь любой эфир просыпается на поля
шелуха сулакадзева, велесова крупа
даже самый провал, разделяющий нас,
кажется преодолим с одного щелчка
ЭНДИ КАРТРАЙТ, МЁРТВЫЙ РЭПЕР
видел эти пакеты и даже читал состав
вместе с питерскими друзьями, которым
как известно, не привыкать;
разумеется, лучше бы это был рэпер замай.
впрочем, это не наша война, не моя:
в том же твиттере всё пошутили задолго
до того, как мы тоже туда зашли;
нужно ли продолжать за них.
мёртвый рэпер не может почти ничего,
разве кроме отложенных записей, но и наши
преимущества не очевидны; разве какой
политолог с госсайта ещё обоснует,
в чём нам, собственно, повезло.
с самых первых хоть сколько-то понятых похорон
я не так волновался о том, куда делся покойник,
как о том, где остался я сам,
как назвать это место и чем его очертить.
выгребая из летнего клуба после кино
в общем вялом потоке на выход, я ждал каждый раз,
что открыли запасный по левую руку, но тот
оставался всегда запрещён.
вероятно, его отмыкали тогда по ночам
ради выродочной дискотеки: оттуда
поднимались они на этаж, и туда же сливались к утру,
так никем и не названные до конца.
клуб давно уничтожен, но если бы, думаю я,
мне случилось бы выйти сегодня в ту самую дверь,
то с другой её стороны
меня встретил бы энди картрайт, весь пересотворённый,
как якутский шаман, но с таким же тяжёлым лицом.
не восторг, но чего ещё стоило ждать
от рабочего клуба в текстильном посёлке, где дети
не могли выбрать клей в магазине, а я
остаюсь до сих пор.
***
так давно, когда я ещё отвечал на звонки с чужих городских,
состоялся наш единственный разговор:
собирался очередной межрайонный том,
и ответственный за ногинск инвалид
нагрузил тебя разузнать, интересно ли мне.
я замялся, ты продиктовала мне телефон,
я не стал набирать его; инвалид, говорят, был взбешён,
и меня мучил страх, что он тебе навредит.
но ты всё выходила в свой вечерний эфир,
по всей видимости, с тобой всё было хорошо.
все, кто только могли, заявились к тебе за стол,
чтобы ответить в концовке на коронный вопрос,
почему искусство поэзии требует слов.
в паузах между этими интервью
ты выкладывала стихи.
мы с женой приходили читать вдвоём:
на ужин ты хочешь голень,
а голень тебя не хочет.
голень хочет быть птицей,
гуляя средь сочных трав.
через несколько лет ты заделала свой журнал,
свой creative writing-кружок,
на твои вечера добираются из других городов,
тебе верят здесь как немного кому ещё.
когда ты выводишь своих учениц почитать для всех остальных,
земляная тяжесть сковывает мой живот.
я заглядываю к тебе на страницу вк
чаще, чем к человеку, который меня любил.
у тебя получилось, о чём я мечтал щенком:
жить без лишней оглядки, так,
словно нет никакой москвы, никакой войны,
ни журнала воздух, ни премии АТД,
тебе в голову не придёт сказать о себе
"авторка" или заслаться на полутона.
ты не знаешь по-настоящему страшных людей:
имена "игорь бобырев", "александр скидан"
ничего тебе не говорят.
кажется, ты свободнее всех живых,
только я один и не могу тебя отпустить.
***
несшиваемая эта часть, вскинутая звонком,
примыкает к хозяйке, пока младшие дети спят,
замереть под её рукой.
обращается лечь в одном месте хотя бы с кем
из приехавших тоже, но уже перегорев
засыпает где скажут, в тревоге и чистоте.
превратившись в комок,
слушает свист растений в чёрном саду.
утром не попрощавшись выкатывается домой,
чтобы тот, кто остался там, не проснулся один.
к ночи их уже трое, и жертвы принесены.
тьма обнимает их как своих родных,
и весь дом как коробку с игрушками, не даёт
посмотреть, что с юга пишет семья.
так, что страшно подумать вдруг,
что никто не любил твои тексты, а только тебя, тебя.
«Такая балаганная, но всё равно смерть»: беседа с Дмитрием Гаричевым
В восьмом номере «Флагов» мы представляем расшифровку беседы с поэтом, прозаиком, лауреатом Премии Андрея Белого (2020) в номинации «Проза» Дмитрием Гаричевым.
Владимир Кошелев: Думаю, что одна из главных задач нашей беседы – постараться прояснить и обговорить некоторые обстоятельства, которые, как мне кажется, и определяют твоё место в современном литературном пространстве. Конечно, хотелось бы ещё раз поздравить тебя с получением Премии Андрея Белого. В связи с этим первый вопрос. В начале премиальной речи ты называешь себя «случайным человеком в литературе». Сейчас, спустя время, когда ты уже обжился с наградой, у тебя изменилось отношение к собственной случайности? Или это ощущение, которое не зависит от внешних факторов?
Дмитрий Гаричев: Спасибо! Мне кажется, принцип случайности важно ощутить самому. Я знаю, что некоторые из моих друзей считают, что в этом подчёркивании случайности есть некая поза, но это не так. Да, я что-то писал, но я не пытался это активно продвигать. То есть я вообще очень плохо представлял, как устроена эта внутренняя журнальная и издательская машинерия. Я надеялся, что мои тексты кто-то разглядит и подхватит, но так чтобы лезть кому-то на глаза... Скажем так, я всегда был стеснительный молодой человек. До сих пор любое пристальное внимание к тому, что я пишу, вызывает у меня смущение, потому что каждый раз кажется, что на меня просто тратят время, какую-то душевную энергию, и от этого становится неловко. Конечно, можно и не писать – не придётся никого смущать и не будешь смущаться сам... Но я не могу избавиться от этой тяги – скорее всего, потому что я графоман и получаю удовольствие от самого процесса написания чего бы то ни было, от составления слов в какие-то цепочки... Меня это увлекает. А всё остальное – относительно естественный процесс. Да, были публикации, которыми я горжусь, но так или иначе у меня возникает желание спрятаться, чтобы меня не видели... Знаешь, было бы идеально, если тексты вообще существовали без фамилий, без привязки к конкретному Гаричеву или кому угодно, но понятно, что такого не бывает. Конечно, что-то меняется и изменилось уже с первой публикации, с первого выхода в публичное поле: какой-то 2011 год, подборка на сайте «Сетевая словесность» – стихи, которых я теперь в определённой степени стесняюсь. Они в принципе и не плохие, куда ни шло, но... В любом случае я хочу думать, что это писал совсем другой человек. Я сказал об удовольствии от письма, но вряд ли я могу получить чистое удовольствие от этой работы, как минимум из-за того что всё равно приходится представлять сторонний взгляд. Правда, это волнует только в начале, потом уже забываешь, что кто-то будет смотреть, ставить лайки и так далее. Да, получение Премии Андрея Белого накладывает определённую ответственность – нельзя лажать, сказать какую-то глупость. Хотя, как мне кажется, на данный момент 80% того, что написано по поводу моих текстов, это не то, что я ожидал услышать. И это не претензия, нет, это разгоняет кровь и интересно в любом случае, но заставляет меня опасаться, что я разговариваю не совсем на одном языке со своими читателями. Но, быть может, это и повод остерегаться.
В.К.: Не думал ли ты, что есть некая группа читателей, знающих твои стихи и прозу, которые – возможно, не совсем уместное слово – понимают, о чём идёт речь, но ничего не говорят о своём понимании?
Д.Г.: Я надеюсь – и даже убеждён – что такие читатели есть. Я помню какие-то реплики людей, очевидно, просто приходящих послушать стихи... Это наиболее интересно, когда ты слышишь реакцию человека, находящегося не внутри «цеха». Безусловно, в том, что я читал о своих стихах, были попадания. И я читаю такие вещи с волнующимся сердцем – это очень здорово. Я не заслужил такого внимания, и мне очень повезло, что кто-то что-то про меня говорит. Каждый раз это событие. Ведь эти люди мне ничего не должны, поэтому вдвойне странно, что им хочется что-то понять и почувствовать. Я верю в то, о чём ты говоришь, да.
В.К.: Складывается ощущение – поправь меня, если я ошибаюсь – что ты не встроен в современный литературный процесс, а как бы «пристроен» к нему, и я предполагаю, что в дальнейшем ты не против сохранять эту позицию?
Д.Г.: Да, пожалуй, это лучшая позиция, которую я мог бы занять. Мне всегда казалось, что для того, чтобы считаться актуальным поэтом, нужно иметь неслабую теоретическую подготовку. Совсем недавно Кирилл Корчагин сказал, что современная поэзия тянется в хвосте современной же философии. Конечно, это тоже меня касается. Я недоделанный гуманитарий, которому что-то где-то интересно, но у меня нет системных знаний, системных представлений о чём-то, я не могу свободно рассуждать о многих вещах, которые, наверное, уже стали общим местом в гуманитарном дискурсе. Поэтому я всегда боюсь, что меня разоблачат. И да, в связи с этим мне удобнее находиться где-то посередине. Я всю жизнь считал, что мои книги когда-нибудь выйдут, например, в издательстве «Воймега», что я автор для классических толстых журналов, потому что я ими воспитан. Поэтому история с журналом «Воздух» для меня удивительно непривычна. Однако когда Игорь Караулов, например, выражает мне свою симпатию, мне это так же приятно, как похвала от людей, находящихся в другом эстетическом и политическом лагере. Мне хочется, чтобы то, что я писал, могло заинтересовать и среднего читателя, и любителя филологической прозы, назовём это так. Грубо говоря, нужно попасть и туда и туда. Поэтому эта позиция, которую я к себе не примерял, не пытался специально занять, мне представляется комфортной.
В.К.: Я думаю, что имеет смысл спросить про начало твоего пути. Не столько про «начала письма», сколько, быть может, про реакцию на них... В одной из твоих кратких творческих биографий мы читаем, что в двенадцатилетнем возрасте ты «был угрет городским литобъединением “Лира”». Можешь рассказать об этом подробнее?
Д.Г.: А вы умеете копать... (смеётся). Я сам пришёл в городское литобъединение. Председателем у нас был человек из волшебного города под названием Электроугли... Владимир Гордеев, так его звали, – человек-оркестр, который чем только не занимался: вырезал, рисовал, писал стихи... Что вообще такое провинциальное ЛИТО? Это люди преклонного возраста. Всё было похоже на языческий лес – малоподвижные идолы, которых ты пытаешься задобрить... По-своему это тоже была зона комфорта, но и одновременно ужаса. Поскольку меня там любили, я чувствовал некую сохранность. Для меня одна из причин собственного письма – это желание сохраниться. В том кругу это было достигнуто на уровне почти физическом – я чувствовал себя предельно защищённым, никто не знал про мои бесконечные проблемы в школе и так далее. Была важна самая главная часть меня, она была в центре внимания, а всё остальное откладывалось. Там же меня заставили – скажем, что заставили – поверить в какую-то, так называемую, божественную, потустороннюю природу процесса письма. И вся эта ритуальная, сакральная сторона, которая окружала подмосковное ЛИТО, она меня в этом плане восхищала, захватывала, и я чувствовал себя особенным и единственным, что, конечно, очень плохо. С возрастом я иначе смотрю на эту работу. Кстати, я думаю, что в связи с Премией Андрея Белого пора посвятить эту работу человеку, который был вынужден читать мои первые школьные опусы. Как ни странно, это была учительница английского, Галина Николаевна Радченко, к которой я до сих пор иногда хожу в гости. Когда я получил Премию, я понял, что теперь всё как-то оправдалось. Я помню, что приносил Галине Николаевне распечатки, сделанные на чужом принтере, чтобы она прочла и сказала, как это вообще всё... Мы были двумя людьми, которые читали «Новый мир», поступавший тогда в библиотеку, поэтому я считал, что она точно что-то понимает. Она до сих пор остаётся моим предельно внимательным читателем, я и сейчас могу прийти и задать ей вопрос. Думаю, ещё нужно сказать о двух поездках в Липки. В первый приезд нашим мастером был Дмитрий Веденяпин, и он говорил довольно простые вещи, о которых я бы сам не догадался. Дмитрий Юрьевич сказал, что нельзя писать стихотворение на «четвёрку», что не нужно писать проходные тексты, чтобы набить объём и так далее. Понятно, что я не в каждом тексте выкладывался полностью, но пока не услышал этого, я, наверное, не вполне понимал, как всё должно быть. Мне нравится мысль о том, что читатель должен входить в текст и выходить из него другим человеком. К этому нужно стремиться. Всё это я узнал достаточно поздно, и сейчас как будто всё ещё плетусь в этом русле, проложенном в городском ЛИТО. Дальше оно только сужалось и сужалось, становилось сложнее.
В.К.: Вот эта сакральная сторона, про которую ты говоришь: Подмосковье, Электроугли... Мне кажется, речь идёт об отдельной задаче, и не факт, что ты её перед собой ставишь, но во всяком случае наверняка выполняешь, – я говорю о заполнении этого пространства Подмосковья, и как раз с этой сакральной стороны. Это можно увидеть, например, в «Сказках для мёртвых детей». Ты осознаёшь это как некий проект? Или это задача, которую ты решаешь побочно, просто потому что начало твоего творчества произрастает из этих мест?
Д.Г.: Да, можно назвать это некой сверхзадачей. В любом случае я отталкиваюсь от этих людей, от этих мест. Я не существую полностью в языке, так как у меня нет такой функции, такой способности. Мне кажется, что при помощи слова это пространство можно украсить, да и пишется это всё в какой-то степени для украшательства. Нужно понимать, что в этих местах никогда ничего не происходило. Всё достаточно скромно и скучно. Я как-то рассказывал Елене Зейферт, что в местных лесах должно было замкнуться кольцо окружения Москвы в 41-м году. Здесь копали окопы, строили какие-то укрепления, но всё это не сбылось. Тут до сих пор есть раскопанный лес: мне кажется, он остаётся своеобразным памятником событию, которого не произошло. Такой характерный символ этих мест. Я думаю, что отчасти занят мифологизацией, что, наверное, не совсем хорошо, но этой земле не хватает загадки. Думаю, что неплохо попытаться обернуть эту землю в какую-то сказку, сделать её более увлекательной, не такой плоской. И события, которые происходят здесь как бы только со мной, помогают мне двигаться в этом направлении.
В.К.: Я понимаю, что для тебя как для автора мифологизация и украшательство могут ощущаться как нечто сомнительное. На это могут быть разные взгляды, безусловно, но я бы хотел спросить про людей. Насколько тебе важно иметь в виду людей, обитающих в этом пространстве – нескладных, трагичных, зачастую выступающих как часть пейзажа? Ты же обращаешь на них внимание почти как на некое сопровождение... И насколько ты с ними себя сопоставляешь?
Д.Г.: Что это за люди? Некоторые персонажи этих рассказов списаны, например, с моих друзей, потому что часто нужно от кого-то оттолкнуться. Тем не менее, я думаю, что это всё – проецирование собственных мыслей, переживаний, событий, которые случились со мной. В любом случае во всех этих людях я пытаюсь сохранить не столько их самих, сколько какую-то часть себя. Каждому из них от меня отщипнуто и им доверено. И да, эти люди, эти герои, они мне по-своему дороги, и я чувствую, что в самом веществе нашей дружбы сберегается важная часть меня. Была одна неожиданная реакция, когда, скажем так, человек, ставший прототипом героя, почти обиделся на это; хотя странно, да? Мол, ребята, я ввожу вас в русскую литературу, как можно на меня обижаться? (смеётся). Я впервые столкнулся с такой реакцией и подумал, что, видимо, от людей я должен больше отстраняться, двигаться в какой-то сугубо словесный материал. Не знаю, что получится в этом плане дальше. Мне вообще кажутся как бы ретроградными все эти конкретные люди, места, «герой куда-то идёт»... (смеётся). Сам я прекрасно понимаю, что это не совсем то, что будет двигать литературу вперёд. Я этого боюсь и отчасти поэтому принимаю любую критику в свой адрес, даже неадекватную – от меня не убудет. В любом случае как я пытаюсь украшать местность, так я пытаюсь украсить и этих людей, сделать их абсолютными.
В.К.: Давай вспомним про «героя», который «куда-то идёт». В материале Елены Костылевой «Я смотрю на них, Митька, а они мёртвые», опубликованном в журнале «Ф-письмо», была упомянута твоя фамилия, причём явно не относимая Е.К. к «живым». Не будем обсуждать сам конфликт, который из-за этого возник. Вопрос скорее о мёртвых. Очевидно, что вы с Еленой Костылевой находитесь «в разных позициях»: она на мёртвых смотрит со стороны живых, а ты оказываешься на стороне мёртвых. Можно ли так сказать? Если да, то кто они – эти мёртвые?
Д.Г.: Как человек я ощущаю себя очень живым, максимально живым. Но речь идёт о символическом, конечно – насколько я как автор живой или мёртвый. У Сологуба есть сказка о пленённой смерти, где храбрый рыцарь собирается казнить смерть, так как она много наделала зла, и предлагает смерти сказать что-то в своё оправдание. Смерть отвечает, что ничего говорить не будет и просит жизнь сказать за неё. И жизнь произносит такие слова, что рыцарю становится не по себе, становится тошно. Он отпускает смерть, чтобы она вернулась к своей работе, и никому никогда про слова, услышанные от жизни, рыцарь не расскажет. Когда я открываю своих современников, людей своего поколения, я читаю очередную историю – мы едем в плацкарте, кто-то свешивает ногу с верхней полки... Я думаю: как это может происходить? Когда я читаю про приключения копирайтеров, программистов... Тогда я и понимаю, что это, видимо, и есть жизнь. Это похоже на фотографию, на которой запечатлён человек в момент мгновенного умирания, и он не может никуда деться. Отчасти это происходит и с текстами. Понятно, что в тексте всегда происходит что-то ещё, в отличие от фотографии. Есть иллюзия сохранения, герметизация пространства. Думаю, что отсюда идёт эта идея мёртвости, какой-то законченности. Мои «Сказки для мёртвых детей» – это сказки для взрослых, взрослых, в которых умер ребёнок. Ведь это обязательно должно произойти. Мы сталкиваемся с каким-то чудом в жизни, но у нас уже нет органа, которым мы можем воспринять это чудо, мы же уже не дети. С взрослыми происходят другие чудеса – горящий город, например, или что-то такое...
В.К.: Тебе не кажется, что это вопрос о размежевании? Можно вспомнить выпуск подкаста Максима Дрёмова и Константина Чадова с твоим участием, в котором была затронута тема интерпретации местоимения «мы» в твоих стихах. Если ты на стороне умирания, которое, так или иначе, тобой фиксируется, если ты пишешь о людях, которым остались только такие сказки, то где для тебя эти «мы», где тогда располагаются «они»?
Д.Г.: Думаю, что в каждом тексте это решается заново и ситуативно, но в целом я бы попробовал сказать так: под этим «мы» – условно коллективным – я подразумевал бы тех, кто проиграл и с этим смирился, тех, кто вырос с сознанием своей заведомой неудачи, которая уже произошла, а всё что происходит потом – это только разрастание неудач, какого-то проигрыша, постоянного провала. Я считаю себя удачливым и в каких-то моментах счастливым человеком, но на некоем, что называется, мифологическом уровне, воспринимаю себя глубоко проигравшим. Это какое-то настроение. Самое резкое отторжение у меня вызывают люди, которые считают, что победа будет за ними. Люди, которые уверены в своей правоте, люди, которые не стесняются об этом говорить: что они делают всё правильно, движутся к светлому будущему, к идеальному прекрасному обществу, – при всём при том, что многим из них я сочувствую. Мы можем понимать, например, что вектор условного политического движения очень хорош, но вот это желание быть святее всех святых – это то, что всегда меня глубоко отвращало. Думаю, что здесь и начинается размежевание, да.
В.К.: Можно ли сказать, что Дмитрий Гаричев – это человек, который по большинству вопросов не питает иллюзий? Один из последних постов в твоём фейсбуке, как мне кажется, говорит об этом: «...мне гораздо более интересны леваки, потому что я искренне люблю всё безнадёжное...» и «...не нужно кутать свой страх и беспомощность в теоретические и религиозные тряпки; самоубийство – это провал; Крым наш и это печально». Скажи, я правильно тебя понимаю?
Д.Г.: Нужно сказать, что этот пост был написан в немного другой политической реальности. То, что происходит сейчас, то, что начало происходить на прошлой неделе, когда вМоскве люди вышли на улицу, многое меняет. И при всём своём пессимизме сейчас я испытываю другие ощущения в связи с этим. Не знаю, что от этого останется, скажем, в марте или что мы будем после этого вспоминать, но здесь, кажется, есть момент, что – да, что-то меняется. Почему я говорю о своём сочувствии к тем же самым левым? Потому что когда я вижу Азата Мифтахова, которому дают 6 лет за разбитое – неизвестно, кем разбитое – окно, то я не понимаю, как ему можно не сочувствовать. В любом случае я считаю, что поддерживать нужно тех, кто считает себя живым, а не мёртвым, потому что мёртвое не способно измениться. И тут я позволяю себе больший оптимизм, чем в литературных вопросах. Мне иногда по-человечески обидно, когда происходят какие-то расхождения с людьми из левого лагеря, потому что я уверен, что всё равно мы все противостоим – что левые, что правые – одной чудовищной жадной машине, которая в любой момент может нас всех раздавить, и ничего от нас не останется, особенно от всех наших мелких склок, которые просто смешны на фоне этой машины.
В.К.: Мне интересно поговорить с тобой про человеческие решения. Если читать о твоём творчестве, то чаще других нам встретятся слова «страх» и «тревога». Думаю, можно попробовать сказать, что ты принял решение с ними бороться, по крайней мере, ты точно не можешь их игнорировать. Я хочу спросить – неужели ты никогда не хотел просто взять и убежать от всего этого?
Д.Г.: Я думаю, что литература сама по себе своеобразный эскапизм – по крайней мере, в моём собственном случае. Да, у меня есть украшательская задача, но изменения происходят только в восприятии – моём или тех, кто это прочтёт. Мне кажется, что сильные люди идут в совет депутатов или в активисты, а кто меньше уверен в своих силах... Видимо, да, они идут в литературу и вьют там своё гнездо. Мне некуда было деться в любом случае. Я живу как бы челноком между Москвой и своим городом. Сейчас будут происходить изменения, я снова буду ездить на работу, так что ритм жизни постепенно восстанавливается. В этом тоже есть определённое удобство. Я беру от Москвы необходимое. Москва, что называется, моя сырьевая база. Это ещё с институтских времён... Происходит какое-то замыливание: я нахожусь в слепой и серой зоне, между Москвой и Ногинском, так что это и есть разговор о западании, исчезновении или, лучше сказать, скольжении. Два часа в электричке – как маленькая чёрная дыра, да?..
В.К.: Мне кажется, здесь уместно спросить о Борисе Поплавском. Про тебя несколько раз писали, что ты продолжаешь его традицию, да и ты сам в упомянутом посте в ФБ называешь Поплавского самым важным литературным именем для себя. Понятно, что этот выбор в какой-то степени совершён не только тобой, но и самим Поплавским, однако я хотел бы попросить тебя подробнее рассказать про знакомство с этим поэтом.
Д.Г.: Насколько я помню, сначала мной была прочитан только какой-то биографический материал, посвящённый Поплавскому. Потом уже стал читать его самого. Лев Оборин провёл эту генеалогию, и меня это удивило, потому что именно Поплавский стал для меня наиболее плотным сгустком того, что я сам для себя считал поэзией. Какое-то наиболее неочищенное вещество поэзии, хотя, возможно, странно употреблять «неочищенное» в отношении Поплавского, так как его речь достаточно рафинированная. Грубо говоря, да, это предельная концентрация того, что я называю поэтическим. Я не старался ему подражать, хотя, думаю, искушение всегда было. Действительно, для меня это важнейшее имя в русской поэзии, но до конца почему-то объяснить я этого не могу. Это какая-то странная связь. И возвращаясь к вопросу о противостоянии смерти: думаю, что в Поплавском меня наиболее «берёт» его попытка перехитрить смерть, стать ещё мертвее, чем она сама. У Поплавского смерть приобретает карнавальные черты: шары, веера и так далее. Такая балаганная, но всё равно смерть. И Поплавский находит способ от неё ускользнуть: это попытка превратиться в камень, попытка жить, как живут флаги на башнях или статуи. Всё концентрируется вокруг этой проблемы. Это ощущение у Поплавского возведено в некий абсолют, в чувство заведомой неудачи. Как будто мы решаем, что будем мертвее мёртвого и достигаем победы над смертью. Я чувствую здесь парадокс: мы приобретаем не вечную жизнь, а вечную смерть, которая удивительным образом оказывается по-своему единственно спасительной. У Поплавского это достигается во «Флагах» – на мой взгляд, это уже не книга, а чистый мрамор. Мне кажется, что никто не достигал этого с такой плотностью и способностью забыть о себе, превратиться в материал. Гольдштейн, например, писал о Шаламове как о русском Сизифе: он сам превратил себя в камень. О Поплавском отчасти можно сказать так же. Мы говорим только о моём восприятии, конечно. Но в конечном итоге для меня плохо объясним этот выбор. Мне кажется, более-менее определённо можно сказать, например, о Маяковском, но в отношении Поплавского мне приходится только нащупывать слова.
В.К.: Второе имя, о котором я хотел поговорить – Александр Гольдштейн. Парадоксально, но в моём окружении никто его знал; собственно, ты сам нам про него рассказал в одну из встреч. Скажи, как в твоей жизни возник Гольдштейн, и – можем вспомнить твою премиальную речь – насколько для тебя важна его «бескомпромиссность», «бескомпромиссность» языкового опыта?
Д.Г.: Очень рад, если для вас Гольдштейн стал открытием, это приятная личная вещь. Я помню, что впервые узнал о нём из интервью Михаила Шишкина, в качестве некой рекомендации к чтению. Это могут быть пафосные слова, но мне кажется, что вторая вершина после Платонова в русской литературе была достигнута именно Гольдштейном. Я в этом убеждён. В связи с бескомпромиссностью Гольдштейна нужно сказать про его безжалостность. Мне кажется, что это автор, который не переживает, насколько читателю всё будет понятно. Действительно, нужно обладать очень глубокими знаниями, чтобы нащупывать какую-то дорогу в его произведениях. Но у него получается достичь эффекта водоворота в тексте, который тебя затягивает, даже если ты не до конца понимаешь, что происходит. В этом есть волшебство речи. И ты возвращаешься оттуда, как из какого-то путешествия. Да, я думаю, в отношении Гольдштейна стоит говорить о книге как путешествии. После того как достигнута такая вершина, мы не имеем права её игнорировать. Тут нужно изворачиваться, потому что так или иначе ты будешь всегда находиться в её тени. Счастливы те, кто может не обращать внимания на общий контекст, и я говорю это без иронии. Прекрасно, когда ты пишешь на русском языке, как будто ничего ещё не написано, потому что когда это получается – это здорово. Я так не могу. На меня всегда давят какие-то фигуры, Гольдштейн, например, потому что он близок ещё хронологически, – Платонов был очень давно, и с этим можно как-то справляться.
В.К.: Важно, что это безжалостность не только по отношению к читателю, но и к самому себе?
Д.Г.: На самом деле себя я очень жалею. Я бы ничего не писал, если бы не жалел, вот и всё. Тут вопрос о самосохранении: настоящая смерть придёт, и с этим надо что-то делать. Из-за того, что мне не хочется терять всё, что у меня есть, я что-то сочиняю. Поэтому я к себе предельно бережно отношусь. Но понятно, что я не хочу, чтобы меня сопоставляли с Гольдштейном, потому что это заведомо проигрышная ситуация, абсолютная катастрофа (смеётся). Вообще вся условно сложная проза рядом с его прозой выглядит, скажем так, жиденько... Тут я тоже совершил некое ритуальное самоубийство, объяснив, под кем я, собственно, хожу в русской литературе. Так почему-то вышло, что «Мальчики» были восприняты как очень тяжёлая для чтения книга. При том, что отчасти я, конечно, старался сделать её проблемной в этом отношении, но не для сложности чтения, а для того чтобы это отвечало ключевой задаче текста. Я уже как-то пояснял в интервью Валерию Отяковскому, что мы пишем об очень неправильном мужском мире и вообще о мире бинарных оппозиций, и эта неправильность требует неправильного языка, в нём должен быть подвох на мелком, микроскопическом уровне. Это я и пытался сделать. Когда я читаю отзыв или реплику, в которых оплакивается язык произведения, мне кажется, что нужно сделать ещё и следующий шаг – подумать, с чего бы это так? для чего это сделано? Не ради же какой-то голой сложности. И здесь опыт Гольдштейна, его конструирование невероятно сложно организованных пластов истории и фантазии, их сталкивание, закручивание... Это как с Хлебниковым – «поэт не для потребителя, а для производителя». С Гольдштейном, мне кажется, это повторяется. Всё творчество Гольдштейна можно представить в виде огромной Вавилонской башни, в которой, да, мне хотелось бы поместиться в маленькой трещинке, найти себе нишу, где мне было бы максимально комфортно, как читателю и как писателю. Гольдштейн растворяет, вмещает меня без остатка, и мне от этого хорошо. Если бы меня без остатка растворял Захар Прилепин, это было бы обломно...
В.К.: Ты сказал про книгу Гольдштейна как про некое путешествие. Я думаю, это вопрос про место: в этой книге можно разместиться среди полей. В начале своего пути к рассказу или повести видишь ли ты то пространство, в котором окажешься: некий населенный пункт? Ландшафт? Насколько процесс письма для тебя топографичен? Процесс письма связан для тебя в первую очередь с ощущением языка или некоего места, места действия? Когда я читал «Мальчиков», понимал, что нахожусь в книге как во вполне конкретном топографическом объекте, как в месте, в которое можно уйти. Насколько для тебя важно такое ощущение – в связи с книгами Александра Гольдштейна, в связи с собственной прозой? От чего ты отталкиваешься, начиная писать?
Д.Г.: Здесь нужно нюансировать: читая гольдштейновские книги, несмотря на то, что ты оказываешься «в других пространствах», ты путешествуешь в первую очередь сквозь текст. Текст полностью становится топосом, и ты сквозь него движешься, как сквозь Вселенную. Я стараюсь собрать место: для «Мальчиков» я собирал, условно говоря, областной центр, но ни с чего его не срисовывал, потому что мне кажется, что задача писателя – по-максимуму придумать. Не нужно рассказывать, как ты сходил в магазин и помыл посуду средством «Фейри». Я, конечно, отталкиваюсь от своей земли, своей местности: какие-то отдельные вещи попадают в текст, но поскольку это работа по мифологизации пространства, то я стараюсь не заниматься прямым бытописательством. Это как во сне, когда тебе снится, что ты гуляешь в своём знакомом месте и оно начинает проваливаться, ветвиться. И ещё я стараюсь не отталкиваться от чужих текстов; я нашёл менее связывающую меня точку: это кино. И пишу я, как правило, не под впечатлением от чужих текстов, а под впечатлением от просмотренного кино. Это удачная штука: если ты основываешься, например, на Гольдштейне – это проступит; отталкиваться от кино удобнее, поскольку это не так считывается в тексте.
В.К.: У меня есть один вопрос, и я попрошу разрешения его задать, поскольку он может показаться в какой-то степени наивным. Я зацепился в середине разговора за фразу о «входе в стихотворение» – хотя вообще в любой текст – и выходе уже «другим человеком». Мой вопрос про такой «вход и выход» для твоего читателя: можешь ли ты попробовать предположить, что именно должно или может происходить с читателем при столкновении с твоими произведениями?
Д.Г.: Это хороший вопрос. Забавно, что я упомянул эту фразу – про то, что читатель должен входить в стихотворение и выходить из него неодинаковым – и при этом сам не слишком заботился о таком эффекте. Я понял это для себя как читателя: нужно относиться к чужому тексту так, чтобы постараться что-то оттуда вынести. В свои тексты я пытаюсь вложить ощущение собственной правоты, тихое, для себя самого – такое, которое нельзя выразить в виде какого-нибудь манифеста, но можно написать текст. Мне бы хотелось, чтобы у читателя возникало ощущение, что при всей двойственности, при всей жестокости, при всём неблагополучии мира, при отсутствии интереса мира ко мне (я ему не нужен, и если меня не станет – ничего в мире не изменится), момент прохождения через него – через его неуют, его тревоги, сквозь постоянный гул, который давит на уши – это подарок, и это счастье. В этом есть не то чтобы смысл; просто дорога стоит того, чтобы быть пройденной. У Алексея Кубрика есть стихотворение с такими строками: «Вдоль реки дорога заходит в тень. / Можно только пройти по ней». Ничего нельзя сделать: сохранить, уберечь, унести; можно только пройти и всё. Порой мне кажется, что в этой строчке Кубрика содержится квинтэссенция моего собственного метода: можно только пройти. «Единственность этого мира» кажется мне главной нотой. Единственность мира, который безразличен к нам, равнодушен: в этом его равнодушии, может быть, есть наше счастье – возможность почувствовать себя своими здесь, именно в этом равнодушии мира. Ощутить себя здесь на своём месте.
Язык-существо: о повести Дмитрия Гаричева «Мальчики»
Дмитрий Гаричев. Мальчики: повесть. – СПб.: Jaromir Hladik press, 2020. – 136 c.
Повесть Дмитрия Гаричева «Мальчики» (2020, Премия Андрея Белого) выглядит и звучит вполне постижимо; можно открыть любую страницу, и будут: имена (прозвища, но здесь они существеннее имён), действия, описания, сюжет – всё, что может быть необходимо прозе. Но «Мальчики» – это не та проза, которую можно начинать читать с любого заинтересовавшего нас отрывка; в противном случае мы просто увязнем в непрекращающемся линейном тексте, лишённом прямой речи и не разделённом на главы, части, книги.
Поэтому начинать мы будем оттуда, откуда следует, и поймём, что текст не намерен впускать нас так легко. Повествование-течение движется, но мы не находимся у его истока, а стоим на берегу. Начало является началом только для нас, а для автора текста, самого текста и его героев повествование уже давно несётся – и несётся мимо. Поэтому, оказавшись внутри, мы с первой страницы захлёбываемся: персонажи – Трисмегист, Никита, Глостер, Лютер, Энвер (очевидно, у кого из них наиболее очеловеченное (приближённое к человеку-читателю) лицо); ландшафты и названия (команды, ряды, опустевший канал, неприятельский флот, госпиталь-фест); события (непрекращающееся действие: персонажи, как шарнирные куклы, подвижны во всём, в любую секунду повести; мы не отдыхаем ни в месте обитания нашего условно-главного героя, ни на поле боя, ни на демонстрации гадания-казни); самое же главное, что перемещает нас из обыкновенного вещного мира в мир повествования – отсутствие пространства между словами. Нам не сдвинуться с места, и мы, впущенные во внутренний механизм повести, сами становимся механизмом и остаёмся в нём – потому что именно читатель наполняет текст пространством. И вот как, на наш взгляд, это срабатывает:
«…Что же, я приму, что придётся, только жаль, что соната моя недоделана, но хотя бы со смертью врача меня подстерегла напоследок нечаянная удача; хочется верить, они не пожгут все тетради на площади или на сцене ДК...»;
…Что же,
я приму, что придётся,
только жаль,
что соната моя недоделана,
но
хотя бы со смертью врача
меня подстерегла напоследок неча-
янная удача;
хочется верить, они
не пожгут все тетради на пло-
щади или на сцене
ДК;
«Снова исчезнув, пламя возникло опять уже недалеко от Никиты, сдвинувшись по часовой; так он понял, что зверь путешествует…»;
Снова исчезнув,
пламя возникло опять
уже недалеко от Никиты,
сдвинувшись
по часовой;
так он понял, что зверь
путешествует…;
«…Если я и пытался наставить их в чём-то, то уж точно не в этих надгробных искусствах; но и это не значило бы ничего…»;
Если я и пытался
наставить их в чём-то,
то уж точно не в этих
надгробных искусствах;
но и это не значило бы ничего…
Три отрывка из повести; не обязательно объяснять, что мы проделали с ними и во что они были преобразованы; дело в том, что это – лишь пример, а между тем вся повесть обладает особым ритмом и иногда перемежается конструкциями сугубо прозаическими, что, кажется, призвано (намеренно или неосознанно – вопрос в данном случае несущественный) останавливать нас, чтобы мы, читатели, не растворились в тексте окончательно, поддавшись желанию ритмично про-го-во-рить его целиком. Подобным образом мы и поступаем со временем, привыкнув к такой особенности текста, и тогда каждый аритмичный элемент своим появлением отрезвляет нас, заставляя остановиться и вспомнить: где мы находимся, о чём с нами говорят. Однако факт остаётся фактом: тексту необходимо живое присутствие, и именно читатель своим присутствием расширяет и заполняет межтекстовое пространство, встраивая себя в нескончаемый полилог.
Никита (условный главный герой, наш сопровождающий) – пианист (или на самом деле нет?), постоянно крутящаяся стрелка компаса, сбитая мощным магнитом, чей-то сын и чей-то ученик; он – глаза читателя, и ни разу за всю повесть мы не отходим от него – или он не отходит от нас. Он отсылает нас к своему детству, он показывает нам «верёвочного старика» (нам покажут его несколько раз, и фигура эта покажется почти ритуальной, архаичной), он видит игру, смерть, предательство, скорбь, трусость и линчевание; и всё это так беспрерывно, будто бы происходит одновременно. Собственно, Никита и обязан быть везде: он – «исполнитель», и как он исполняет волю случая или волю старших, так он исполняет и читательскую волю, провожая нас туда, куда направляется сам.
Мы не всегда понимаем, куда он направляется. Повесть полнится событиями, но события эти – лишь набор некоторых черт, определяющих признаки событий. Это постоянное действие за гранью (как если бы мы попытались заглянуть по ту сторону экрана в кинозале, не понимая, как устроен экран). Мы видим военные действия, нападения, казни и даже подобие пыток, мы видим посты, госпитали, сухпайки, и из всего этого делаем вывод: идёт война. Но текст не даёт нам прикоснуться к деталям, не даёт установить точное время и место, причины и цели, и тогда мы надстраиваем реальность: кто-то привязывает сюжет к реальным историческим фактам, а кто-то принимает «Мальчиков» как фантазию на тему того, что было бы, если бы образованные, но не особенно приспособленные к жизни люди (мужчины) стали бы единственно главными людьми (мужчинами). Постоянный уход от конкретизации, бесконечная словесная нить, поэтичность: всё это даёт нам видимость результата или только признака результата; от этого растёт наша тревога. Мы подмечаем, но не видим; мы подозреваем, но не можем найти ни одного безукоризненного подтверждения нашим догадкам. Вопреки всему сказанному, текст не обманывает нас; он всего лишь недоговаривает, но не потому что не хочет, а потому что нам этого достаточно: смутность непонимания и инстинктивный страх, искусно (и искусственно) взращиваемый в нас языком повествования является одной из главных ценностей этого текста.
Почему мы вообще так много говорим о языке? На наш взгляд, язык в повести – живой персонаж, и как раз он является заслоном, скрывающим от нас то, о чём мы, возможно, от излишнего любопытства захотели бы узнать. «Невыясненная сигнализация», «пробуя верность», «неузнаваемое рвение», «иметь в себе клад», «разливалась забытая паника» – всё это, бесспорно, изящное и при этом естественное оживление вещей и ощущений, но оживить вещи и ощущения – не конечная цель языка; его конечная цель – оживить себя и тем самым доказать своё зримое присутствие, притянуть внимание читателя и убедить его, что заглядывать за границы языка не нужно: это игра, и игра нанизывает на себя всё повествование целиком.
Но игра эта не только языковая; герои повести тоже играют. Вполне возможно, только этим они и занимаются: найдёте ли вы в тексте хоть одно реальное подтверждение тому, что мальчики воюют всерьёз? Что происходит с Глостером в самом начале сюжета? Кто все эти бесконечные ребята, давшие друг другу прозвища? Когда мы говорим «игра», мы не имеем в виду «не страшно» или «не реально»; мы подразумеваем наличие ритуала, со всей строгостью соблюдаемого героями и повторяющего действия из мира большого и, возможно, взрослого. Это всё едва ли не страшнее и реальнее любого другого: достаточно вспомнить последнюю сцену повести, где условную «верхушку» по немой договорённости уничтожает толпа мальчиков.
Или сцену с «охотой», с – внимание – охотой, где мальчики, застывшие в траве, поджидают девочек на велосипедах и поражают их пейнтбольными снарядами; что это? Не игра ли? И перестаёт ли игра быть игрой, когда одну из девочек застреливают по-настоящему?
Эта сцена – демонстрация двух занимательных особенностей внутренней структуры сюжета: во-первых, мы погружены в андроцентричный мир, где полностью отсутствует гендерно-бинарная оптика: в нём только один пол, только одна сторона, мир только один – других вариантов не дано. Стоит чему-нибудь внешнему попытаться отодвинуть заслон – и внешнее будет удалено с поля боя. Во-вторых, персонажи повести лишены и возрастного признака; мы на самом деле не понимаем, сколько лет нашим мальчикам; «мальчики» они из-за возраста или из-за половой принадлежности? Мы косвенно догадываемся о примерном возрасте, например, Никиты или Трисмегиста, но в более крупных масштабах нам ничего неизвестно; и мы не совсем представляем, кто же ведёт войну – взрослые или дети, мальчики или мужчины. Грань эта окончательно стирается и становится фантасмагорией в самом конце, тогда же, когда – удивительно – грань эта и появляется: «Раздвигая детей, как тростник, Никита ещё за десяток рядов до фонтанов заметил, что под дособираемой сценой посажены четверо взрослых…». Грань появляется и ставит знак вопроса над всеми предыдущими событиями: где заканчивается ребёнок и появляется взрослый?
Мы вместе с Никитой и мальчиком, которого он схватил и поспешно присвоил себе, наблюдаем за возрождением; мы видим феникса, воплощение существа бесполого, высшего, чистого и воспетого (мальчиками); оно говорит: «Оставайся, исполнитель, нам хочется песен»; тогда уже и гадания, и казни, и прозвища, и предательство, и жертва – всё оборачивает самое себя ещё одним покрывалом события, ритуала и фатума. Конец запускает начало, они замыкаются, получается круг. Так язык перестаёт быть заслоном и становится звеном цепочки; так отпадает необходимость делить на возраст и пол; так прозвища становятся реальнее имён, а игра – существеннее реальности; так мы вступаем в цикл, растворяемся в нём, и после мы сами вольны решать, что есть этот цикл: война, игра, детство, язык – или всё вместе, или всё по отдельности.
«Держать дитя над мертвою толпой»: о книге Дмитрия Гаричева «Сказки для мёртвых детей»
Дмитрий Гаричев. Сказки для мёртвых детей. – СПб.: Князев и Мисюк, 2020. – 161 с.
«Я с трудом верю в прошлое и практически не воспринимаю модальность будущего» [1]
– Дмитрий Гаричев, из интервью.
Название второй книги прозы Дмитрия Гаричева «Сказки для мёртвых детей» напускает на читателя целый сонм ассоциаций, одна из которых – короткий цикл стихов Анны Горенко «Песни мёртвых детей». «В адских детских снах» – такая фраза звучит в одной из «Песен…», и, кажется, органически ложится на сборник рассказов Гаричева воображаемым эпиграфом: смутный ужас воспоминаний окутывает их героев, повисающих над бездной катарсиса и временами неизбежно срывающихся. Ад «Сказок…» – и горящие улицы («Египет»), и разгоняемая паникой политика («Амнистия»), и криминальные разборки под конвоем фантомов исторических катастроф («Цветение печали»). «Сырые нищие кошмары» – ещё одна пульсирующая мёртвой кровью строка из цикла Горенко – вот реальность, выводящая под объективы героев Гаричева, покрывающих это тотально неуютное, пропитанное Unheimlichkeit пространство пунктирными траекториями эскапизма – может, именно этот ветер предчувствия иного заставляет их обнаруживать себя в машинах и поездах, тащиться в направлении неизвестных адресов, приводить себя в постоянное движение, реализуя известную метафору «экзистенциальной бездомности». Воображение, порывающееся спасти от чужеродной действительности, нередко обретает форму текста – это и «заново переписываемые длинные стихи» героя «Цветения печали», оставившего читателя на месте несвершённой расправы, и ввёрнутая им же перед исчезновением друга мандельштамовская цитата, и книги В. А. из «Амнистии», ненавидящего литературу за непреодолимую инерцию, и плохие стихи провинциальных поэтов-любителей, окружающие Наташу из рассказа «Охота»: трагедии, прорастающие из почвы этих текстов обнажают бессилие самой этой потенции.
Рецензенты, реагировавшие на повесть «Мальчики», принесшую Гаричеву Премию Андрея Белого, неизменно фиксировались на языке – густом и горючем, встающем стеной подожжённой нефти на пути бдительного читателя, стремящегося разгадать, неизменно расчленив, этот военно-руинный сеттинг. «Сказки для мёртвых детей» словно внятнее – жуткие логики нарратива наращивают на нём то модернистские зеркальные мозаики (как в открывающем книгу рассказе «Le surveillant»), то цепкую каталогизирующую оптику стекленеющего взгляда умирающего («Египет»), но враждебная самой идее препарации фабулы тьма, разлитая в ста тридцати шести страницах «Мальчиков», здесь отмерена по-аптекарски – ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы воспитанная НацБест-бэйтами публика обошла «Сказки для мёртвых детей» как раненого зверя. Меньше всего хочется применять к этим рассказам штамп «проза поэта», но язык не находит иных средств охарактеризовать то, что происходит на наших глазах – и краны, из которых «может быть, льётся песок, или соль, или уксус», и «хлопающие крылья дождевика», и «змеящиеся зелёные и бордовые язвы» – слегка декадентское высиживание ночей над деталью, которая приводит текст в спиритуальное движение, неизменно производя эффект заглядывания в бездну.
Наконец, ещё одна важная тема при разговоре о «Сказках…» – это отношения их героев с историей. Здесь вновь напрашивается сравнение с «Мальчиками», представлявшими собой гротескную эссенцию настоящего – прожекты юных гуманитаристов и канцероген идентичностной балканазации, словом, некоторую молнию антиутопии, вонзающуюся не только в последние события геополитической повестки, но и в душные дискуссии о государстве фантазии, то и дело проносящиеся в интеллектуальном пространстве облаком прошловековых контркультурных духов (примером пусть послужит недавно выпущенный издательствами «Асебия» и «common place» анархистский манифест «Конституция Метароссии»); мир «Мальчиков» – мир, продуваемый насквозь вихрями насилия, сметающими многочисленные обломки оставленного за кадром Армагеддона. Не то «Сказки…» – их скорбные пространства распяты под грозовым небом истории, то и дело разражающимся вспышками – и в этих вспышках реальность героев, их принадлежность себе и знакомому миру, сминается и плавится, однако подлинный великий распад лишь предугадывается – сменяют друг друга «безвидное небо над лесопильней», «ненадёжное небо, высосанное до последней белизны ещё не перегорающим вечером» и другие апокалиптические неба, пока лишь силящиеся опрокинуть безвременье в бездну ещё темнее и страшнее. Нарратив держит своих заложников над постсоветским папье-маше – рыхлым уже и отслаивающимся, словно «дитя над мёртвою толпой» из вынесенной в заглавие цитаты Горенко, знакомя их с Великой фабрикой аффекта – самой историей.
[1] Гаричев Д. Н. «Книга должна быть тяжела» // сигма: Jaromir Hladik Press. 2020. 2 сентября. URL: https://syg.ma/@jaromirhladik/knigha-dolzhna-byt-tiazhiela, дата обращения: 25 января 2021, 17:24.
Документари (сценарий документального фильма)
Голос за кадром: Он позвонил мне в четыре утра и сказал, что готов нам помочь. Он узнал, что мы ищем спонсора для съемок фильма об экологии – все государственные фонды нам отказали. Единственным условием было то, что он поедет с нами и сам снимется в фильме.
Съёмка внутри квартиры: Он просыпается в шесть утра пятнадцатого ноября, завтракает – фрукты и йогурт, тонкие полоски неопределимого мяса; смотрит в камеру, улыбается. Ещё раз проверяет рюкзак, идёт в душ. Беспокойно ждет – в восемь за ним приезжает машина. Он спускается с двадцать второго этажа, около подъезда стоит микроавтобус. Первая встреча с режиссером (далее – Третий, по фамилии), до этого все дела только по переписке. Вылет в одиннадцать часов, торопливо кладут вещи.
Он: Я прочел сценарий, мне он нравится, но никто не отменял случайностей, непредвиденных выбросов.
Третий отшучивается. Машина попадает в пробку, режиссер волнуется, оператор снимает серый снег, падающий на грязные автомобили; двигаются рывками.
Мы приземляемся в девять вечера по местному времени, к половине одиннадцатого уже в гостинице. Выезд в шесть утра, чтобы успеть все за световой день. Нам тайно помогает местный чиновник, он взял больничный на эти два дня. Мы едем далеко за город, сворачиваем на еле заметный съезд, на дорогую, ведущую в лес. Едем еще полчаса и прячем машину, накрывая ее маскировочной сеткой.
Чиновник: Дальше нам придется идти пешком – мы проберемся лесом.
Потом мы идем через черное поле, по колено в черном снеге.
Чиновник, его голос прерывается от усталости (сложно разгребать плотный снег, мы все в испарине): Это все снег, видите. Он выпал здесь ещё в конце августа – такое иногда происходит, но он всегда быстро тает. Но не в этом году – этот снег поддается, только если долго его нагревать. Он лежал так две недели в городе, потом его стали видеть в полях – он ложился неровными квадратами. Его собрали отовсюду, где смогли найти, и свезли подальше от глаз. Больше такого не повторялось, но черный снег стал идти над этим полем.
Мы добираемся до сопки.
Он, неожиданно крикнув нам из-за спины (оператор оборачивается и приближает камеру – он остался далеко позади): Эй, смотрите!
Он снимает перчатки и зачерпывает в обе ладони снега. Сначала мы думаем, что он хочет им умыться, но он заталкивает пригоршню себе в рот, сколько может: черные струи – слюна, растаявший снег, бегут у него по подбородку. Он жует с трудом.
Он: Это будет мой вклад в фильм.
Обрыв записи.
Край обрыва, неспокойное море внизу. Справа скала, которая уходит вверх ещё на пару десятков метров. Он приникает к ней. Съемка вблизи – он аккуратно дотрагивается до камня языком. Замечает оператора, улыбается: «Очень горько». Видит на скале, уже над обрывом, гнездо.
Он: Я его достану.
Камера наезжает на гнездо. Отъезжает, показывая, что от края обрыва до него тянется небольшой выступ; он заканчивается за два метра до гнезда. Таких на скале еще много, но это самое близкое.
Третий: Я не вижу ни одной птицы. Их даже не слышно.
Он, обращаясь к водителю: Сходи за гарпуном, я видел его в кузове.
Водитель возвращается к машине, мы предлагаем ему посмотреть гнезда на деревьях. Он отказывается. Гарпун ему не подходит – он боится, что гнездо упадет. Он решает идти по выступу.
Третий: Пригони машину, мы прицепим его тросом.
Его крепят к тросу на лебедке. Он цепляется за скалу, несколько раз оступается на скользком камне. Доходят до края выступа, пытается достать до гнезда рукой.
Третий: Возвращайся!
Он прыгает и сбивает гнездо. Он проносится по широкой дуге, бьется о скалу, на записи слышно, как тело соприкасается с ней – ничего общего с его нежным языком. Мы втягиваем его наверх: он успел прикрыть голову руками, кожа на них распорота, нужна помощь. Мы кладем его на спину, звукорежиссер бежит за хирургическим набором. В руках у него что-то есть; камера наезжает: он не выпустил из них мертвую птицу.
Он, слабо улыбаясь: Кречет, уже почти взрослый.
Он поглаживает мертвого птенца, ерошит ему перья.
Он: Вообще-то они белые или серые.
Птенец – весь черный. Его глаза забиты подсохшей слизью молочного цвета. Он приоткрывает маленький клюв, подносит его к губам и дует, как будто хочет оживить птенца или извлечь звук.
Он: Он не гниет – его не могут переработать.
Он откусывает маленькую голову и пережевывает ее, пока ему зашивают руку. Ему больно: чтобы раздробить кости и перемолоть тугое мясо, приходится работать челюстью – напряжение отдается в свежей ране. Он откидывает голову и делает несколько глубоких вдохов, как будто задыхается – у него изо рта вылетает перо; он улыбается.
Он просит Третьего раскрыть птенца. Тот не понимает, но, взяв тельце в ладони, видит, что кожа легко отслаивается, обнажая черное мясо. «На ощупь оно твердое, похоже на уголь, но не сыпучее, оно почти гладкое, – говорит Третий – Думаю, если его достать, оно будет гнуться».
Он говорит нам: Там, внизу, на пляже, это не ил, не водоросли. Это птицы. Они не разлагаются – они теперь вместо пластика.
Камера наезжает на них. Целые отвалы нейтральной массы.
Птенца он доел, разложив его на капоте. Он не отказался от овощей и от грибов, которые нам дали на ферме. Мы не ощутили их вкуса – скорее всего, его не было.
***
Томск, 24 ноября
Возможно, кто-то из вас уже видел часть следующей записи. Вечером ему очень захотелось пойти в торговый центр и поужинать в ресторанном дворике. Я пытался убедить его: давай закажем то же самое в номер – не согласился. Наверное, ему нравилось сидеть так, не снимая куртку, под прожигающим светом, в странной смеси духоты и холода, рядом с суетящимися людьми, подносами с недоеденными заказами. Он уже съел все, что хотел – взял шурпу, кусок слоистого пирога, клюквенный морс, – сидел, закрыв глаза, а мы вовремя их заметили. Хотя, вовремя, не вовремя – оказалось без разницы. В общем, к нам подрулили два полицейских – не знаю, может, их больше стояло за углом, группа захвата, все такое; всего двое – не верится. Я их не увидел сразу, сидел спиной, меня ткнул оператор – оглянись. Я сразу начал трансляцию – может, ее кто-нибудь из вас и видел. Мне так посоветовал один правозащитник: если со связью все нормально, то включай – даже если отберут телефон, у тебя будет видео. Я, правда, не очень много успел снять.
Полицейский 1: Старший лейтенант Клинских.
Зачем они решили брать нас именно там, посреди толпы? Задержали бы в номере.
– Вы все должны пройти с нами. Вы подозреваетесь в нарушении пункта второго статьи 258-ой Уголовного кодекса Российской Федерации.
У нас весь отснятый материал был с собой – я обосрался, честно.
Полицейский 1: Если вы не проследуете за нами, мы имеем право применить силу.
Он: Отключи камеру.
Я почему-то послушался. Он достал из кармана удостоверение – красная обложка, уже немного потрепанное.
Он: Ну-ка глядите.
Больше полицейские не сказали ни слова, они застыли.
Он (звукорежиссеру): Придвинь стол и принеси им по стулу. (Оператору): Закажи им борща, порцию побольше.
Полицейские расположились за столом, мы сидели молча и ждали оператора. Он вернулся с борщом и поставил его перед полицейскими. Наш спонсор достал из своего рюкзака прозрачную баночку – в ней оказалась та черная вязкая масса химикатов, озеро которой мы нашли сегодня в лесу. Впрочем, какой это был лес: деревья в нем гнили, они оплывали невысокими сопками клейкого вещества – не осталось ни крон, ни стволов, ничего, – от него отцеживалась жидкость, которая не впитывалась в землю – почти как ртуть, она стекала с вещественных отвалов по наклонившейся вдруг земле и собиралась в пружинистое озеро. Щипало глаза, не помогали даже очки химзащиты, бежали слезы – оператор не видел, что он снимает; надеюсь, это знает камера. По озеру, наверное, можно было пройтись, таким крепким оно выглядело, но чем ближе ты к нему подходил, тем сильнее у тебя шумело в ушах, раздавался писк и звон, звук трясло.
Я не заметил, когда он успел собрать свой образец. Теперь он зачерпнул его прямо пальцами и смотрел, как образец медленно сползает в одну из тарелок; он размял и размешал массу ложкой. Во второй раз слишком большой её фрагмент оторвался от его пальцев – поднос заляпали брызги борща. Он еще немного пошарил в банке и облизал ладони и пальцы.
Он: Кушайте. (Обращаясь к нам): Идемте.
Интервью оператора: Чувствую себя как на реалити-шоу. Знаете, самое стремное, что во всей этой истории очень много дыр, и я боюсь представить, что из нее вытекло и куда это все попало; что теперь из-нас отравлено: почва, реки, воздух, пластик – вообще все полимеры.
Он заставил нас спокойно вернуться в отель, собрать вещи и поехать в аэропорт. До вылета было ещё шесть часов. Все это время мы держались вместе, но потом он куда-то пропал. Я звонил ему, но все без толку. Мы уже прошли паспортный контроль, казалось, нам должно было стать спокойней, но без него мы заскулили от страха. Я достал телефон, чтобы снимать себя – просто чтобы не было так страшно. Я был уверен, нас снимут с рейса. Тут я увидел, что к нам снова направляется полицейский. На записи слышно, как он говорит.
Полицейский 3: Здесь нельзя снимать.
Третий: Всегда можно было.
Полицейский 3: Это военный аэропорт.
Третий: Тогда я посмотрел вокруг – все то же самое: свет, как в том торговом центре, киоски с журналами и едой, кафе, комнаты отдыха, очереди на посадку. Я его не понял.
Я смотрел вслед полицейскому, а меценат уже сидел рядом со мной. На самолет мы попали без всяких проблем. На полпути ему позвонили. Было раннее утро, все спали, в самолете ни звука – и тут его звонок, прямо у меня над ухом. К нам никто не подошел – неужели все стюарды и стюардессы тоже отдыхали? Мне казалось, я с ним один на один. Он ответил и через полминуты отложил телефон, повернулся ко мне.
Он: Скверные у них дела. Их ввели в искусственную кому – сильное отравление. Иногда после такого становятся супергероями – надеюсь, в этот раз так и будет.
Он наклонился ко мне, чтобы сказать ещё что-то, и мне стало дурно, таким смрадом на меня пахнуло из него; у меня почернело в глазах, сжало виски, я был уверен – наш самолет падает, он разбился о воздух, вдруг ставший слишком плотным.
Он: Есть и хорошие новости – это были не полицейские. Сам догадаешься, кто.
***
Мы приземлились.
Мы взяли интервью у сотрудника мэрии, курировавшего вопросы экологии. Он рассказал нам, что:
– В городе около площади Химиков высадили 22 туи;
– Активисты убрали мусор с берега реки;
– За две недели задержали 12 браконьеров;
– Металлурги высадили в парке еще 25 шаровидных кленов.
Мы взяли интервью у мэра. Мы взяли интервью у людей, собравшихся на митинге перед мэрией. Мы взяли комментарий у ОМОНа, оцепившего мэрию. Мы взяли интервью у местных экологов-активистов. Мы взяли интервью у отца пострадавшей. Мы взяли интервью у людей, с которыми она работала. Мы взяли интервью у директора предприятия – он уверял, что это никак не связано с условиями труда. Все двери были нам открыты.
Отец разрешил нам пройти в палату, но попросил ничего не снимать.
Женщина, Наталья (имя изменено), 31 год. Поступила в больницу с жалобой на сильное недомогание. Врачи диагностировали сильнейшее отравление, но не смогли определить его причину. Через несколько дней в больнице женщина впала в кому, но все еще могла дышать сама. Ее поместили в отдельную палату, утром к ней пришли медсестры и обнаружили на ее койке мужчину. Они сразу сообщили об этом главврачу и тот стал наблюдать.
Казалось, он не удивился, узнав, что за день она дважды бывала мужчиной – у нее менялся набор гениталий, иногда вырастала щетина, менялись черты лица. Стоило просидеть с ней четыре часа и можно было увидеть, как она проходит полный цикл – в его середине от нее как человека почти ничего не оставалось: конечности еще можно было легко различить, но корпус, голова, область паха – все превращалось в массу из лопнувших сосудов и жировых сгустков, странных отростков; медсестры ласково называли их крыльями маленького ангела.
Главврач говорил, что ее гормональная система сошла с ума, но только разводил руками, когда его спрашивали, как такое возможно. Судя по всему, все время она испытывала страшную боль, и оставалось ей недолго. Медсестры говорили, что иногда она приоткрывает глаза и даже пытается что-то говорить. [Комментарий, добавленный к юбилейному переизданию фильма, вышедшего двадцать лет назад: «Она все-таки выжила и даже родила ребенка – девочку, была безумно этому рада. Умерла она совсем недавно, в прошлом году. С девочкой, кажется, все в порядке – пока что. Наталья вынашивала ее четыре года. Вскоре после нашего отъезда циклы стали замедляться: сначала она меняла пол раз в день, затем – раз в неделю, потом это стало происходить примерно раз в три месяца и уже не было так мучительно, хотя все равно – неприятно; Наталья научилась с этим жить. Недавно я встречался с девочкой, пока ее мама ещё была жива, – им в школе как раз показывали наш фильм. Никто в классе не знал, что речь идет о ее родителе. Она спрашивала меня о своем папе – Наталья ей ничего про него не рассказывала, а что мог ответить я? У нее есть отчим – он ее любит].
Мы вернулись в гостиницу, договорившись вечером встретиться у нас в номере и все обсудить, но он снова пропал. Мы прождали до часа ночи, но он не пришел. Мы боялись, что он съел самого себя – с него бы сталось. Мы легли спать, а ночью я проснулся и увидел красный огонек напротив своей кровати. Соседняя постель, на которой должен был спать наш меценат, все еще была пуста. Красный огонек оказался индикатором записи на камере, которая снимала в режиме ночного видения. Я достучался до остальной съемочной группы – у них на шкафчике тоже стояла камера. Мы просмотрели записи – там была по файлу на каждую из ночей, которую мы провели в пути. Иногда нас снимали издалека, иногда камера стояла на прикроватной тумбочке. Мы не знали, что с этим делать.
Оператор: Он что, будет потом дрочить на нас?
Я тогда подумал: а когда он успел расставить их сегодня? Он был здесь? Я спрятал камеры к себе, чтобы он не убрал их, когда вернется.
Он появился, когда мы завтракали на первом этаже – вошел в ресторан, приветствовал нас и сел за отдельный стол. Я дал ему закончить завтрак, пересел к нему и спросил напрямую.
Он: Я не знаю ни о каких камерах. Покажите мне.
Я полез в свою сумку, но там ничего не оказалось.
Он, улыбаясь: Мы уже поняли, что за нами следят, верно?
Сегодня у нас был запланирован еще один разговор с отцом Натальи. Мы пришли к нему после обеда, но он не открыл дверь.
Отец Натальи: Он ее изнасиловал! Мне все рассказала медсестра!
Мы улетели тем же вечером. В самолете я спросил его.
Третий: Это правда?
Он: Конечно, нет. Дедушка просто разволновался.
Когда мы готовились к приземлению, он сказал мне.
Он: Она сама дала мне понять, что хочет этого.
***
Закончил он плохо – от него осталось несколько лоскутов кожи, один даже довольно большой, двадцать на девять сантиметров; осколки костей, принадлежавшие черепу. Его застрелили в собственной ванной, как в плохом сериале с НТВ. Он жил в «Вишневом саде», это на Мосфильмовской, я там часто проезжал. Забирали мы его, кстати, из другого места – не знаю, что это, конспирация? Заказчика, конечно, не нашли – под суд пошел только начальник охраны. Как это произошло? Наверное, он принимал ванну с пеной – почему-то мне легко представить его в таком виде. Так и не скажешь, куда стрелял киллер, но одной пули хватило, чтобы наш спонсор взорвался. Эту версию никто не озвучивает, но я не знаю, как еще объяснить то, что произошло. Полиция приехала, когда на жильцов снизу – прокурора, ну, вы поняли – начало капать, по потолку расползлись черные пятна, когда поднялась вонь. Сразу вызвали МЧС – поняли, что своей техслужбы не хватит. Они выломали дверь и тут же эвакуировали несколько этажей, потом весь дом – визга и мата было очень много, я не знаю, как это не утекло в сеть; хорошие фильтры, наверное, стоят. Из-за двери вылилась целая масса всего: мазут, нефть, куча почвы, химикаты, остатки животных и птиц, кора, ягоды, фекалии, маслянистая вода, семя, оплавленный пластик, что-то неясное, но органическое, бутоны красивых цветов, яркие, неестественно однотонные – красные, зеленые, желтые и белые; всего по щиколотку и такие испарения, что плохо становится – чистый яд. Я ни на что не намекаю, но все это наш друг успел съесть и выпить. Совпадение? В центре гостиной, лицом в пол, лежал мужчина. Думаю, его сбила с ног волна, он поднимался и падал, поскальзывался, потом просто угорел из-за испарений и больше не встал – захлебнулся; кожа у него на лице и руках покрылась язвами, одежду разъело и прожгло. Тут же плавал пистолет, из которого застрелили нашего патрона (смеется). Простите за каламбур, очень тупо, давай еще дубль…
Дубль 7: […] В общем, нас тут попросили никому об этом не рассказывать – о том, что произошло тогда в «Вишневом саде». Извините – это для вашей же безопасности.
Дубль 8: […] Хотя делу и не дали ход, нас все-таки вызвали на допрос. Среди прочих отходов были найдены две флеш-карты – судя по всему, он не раскусывал их, а глотал, как таблетки. Они чудом выжили. На картах были видеофайлы. Нам не показали их содержимое, но дали ознакомиться со стенограммой происходящего там. Всего файлов было восемнадцать – столько ночей длилась наша экспедиция, после чего нам пришлось ее экстренно свернуть. На записи моя съемочная команда – я в ее числе – убивала нашего спонсора в гостиничном номере, в разных номерах – восемнадцать раз, всегда с одного и того же ракурса. Иногда он привязан к стулу, но чаще – спокойно сидит и наблюдает за нами. Я вскрываю ему горло, душу его или бью ножом в сердце – он дергается, потом замирает, а спустя пять минут начинает оплывать: сначала как свеча, а в конце от него остается одна лужа; или: от первого же удара он деревенеет, высыхает прямо на глазах, становится похож на жука-палочника, только прятаться ему негде; или: он начинает шипеть и пениться, мы кашляем и выбегаем из кадры, затем – слышен стук двери – из номера.
Стоит ли говорить, что ничего такого никогда не было и быть не могло?
У нас спросили, постановка ли это?
Мы ответили: Да, мы ведь снимали фильм, делали дубли.
А сами подумали: Странные вещи произошли у него в желудке с теми записями.
Конец сценария
Оператор: Я вырезал все эпизоды с ним при монтаже и показал ему эту версию, из нарезок, из отходов. Он взял жесткий диск и ушел. Все остальное он попросил удалить, но из этого-то мы и собрали фильм. Не знаю, что он сделал с диском – должно быть, съел, пережевал самого себя, намотанного на биты и байты. По крайней мере диск, насколько нам известно, не нашли, хотя этот фильм теперь можно скачать на торрентах. Туда же вошли вырезанные сцены с нашим спонсором, которые были доступны только донорам – тем, которые поддержали нас, когда мы снова открыли краудфандинг после его смерти. Я просмотрел все – материала на четыре часа – и тут и там я замечал изменения: вот в этой сцене мы нашли не мертвого волка, а полуразложившегося олененка; вот эта чиновница из Минприроды была уже пожилой женщиной, а не молодой девушкой; в тот день мы бродили среди елового, а не лиственного леса; или вот знак города, я снял его всего раз, когда мы въезжали в Норильск – не в Оймякон, как это осталось на видео. Все это очень похоже на deepfake, но кому это было нужно? Сути дела фальшивка не поменяла. Третий пошутил, что это природа так пытается настроиться, сбалансировать свою экосистему – теперь у нее для этого новые инструменты, сеть позволяет ей многое (когда он это сказал, я вспомнил о Наталье). Он только боится, что такие изменения прокрадутся в оригинальный файл – он перевел его в пленку, сделал несколько копий, а все цифровые дубликаты признал недействительными.
Нормальная же версия взяла несколько призов на «Артдокфесте», а когда мы показывали ее в России, к нам приходили с облавами – все по классике, все своим чередом.
Ревенант
***
в. г.
ну и что я могу предложить тебе, мой друг, в
этой ржавчине интеллектуального, на маскараде
вычеркнутых субъектов, на общем шмоне, где
мы лежим с руками на затылке, обоняя прелую
листву? пожалуй, попросить только внимания – к
рассеянным светлячкам повседневности, милым,
обречённым замёрзнуть насекомым, слетающимся
на остовы хонтологических идолов, на общий контур
постапокалиптического парка аттракционов; вектор
боли, расслаивающей тела, русло утопии бегства
чёрной повязкой сновидца накрывает глаза, сорвав
которую – слышишь залп никогда не стрелявшего
орудия, грохот крови, прилившей к высушенной
капреалистской порчей импотенции смертоносной
мортиры; что-то похожее слышали и мы – когда
один из спутников наших каркнул в шаманящий
над нами воздух на пути от диеты к хроникам –
дымовой шашкой пенетрировав белый шум, сорвав
регламент пересылки символических наказаний от
врага к врагу; но кто из нас майская птица, мой
друг? кто будет реять и возносить дары дымному
богу тотальных ревизий, пока второй по горло
в земле будет силиться не отдать себя щупальцам
корней, вожделеющим запах цветущей черёмухи
из тела его добыть? и пока в девяткино твоя
минус-погода, пока медленно тлеют освещаемые
внезапными эякуляциями молнии книги на развале,
мы впитываем разлитую ненависть, не смея сказать:
тебе страшно и мне страшно, тебе страшно и мне страшно.
***
готовый язык: тепло стакана
в подстаканнике, игрушки
слабых осенних звёзд,
груша, лопающаяся от
неприятного разговора –
сок одолевает смерть;
с мёртвыми уютнее, чем
с живыми – но всего
уютней с умирающими:
вместе – как за стеклом
чехословацкой стенки,
вязаный колкий кашель;
здесь вышагивает скелет
чопорный, и зловещая
прачка бросает бельё:
детский страх к сердцу
приморожен – язык,
перекладина, спирт;
над винной пробкой ли
погадать, над визгливым
ли телефонным диском?
ветер вяло дёргает шарф,
зная, что не покатится –
увы – голова вниз с холма;
мобилизация света над
себастьяном, падающим
во сне: дымка, по которой
ангелы сваливают с пар,
ночницы взлетают в ночь,
катятся лунные зевки.
***
пятёрке атд-2020
пустым октябрьским вечером желанного страха
ищу, пальцами разрываю внутри себя некие
соты, заглядываюсь на шевелящееся небо,
закипающее, распадающееся на тысячи
червей воздушных – лазы прорыты в
порядке отцветания, развевания по ветру
в форме сухих лепестков; полупризрачный
про-рестлинг забытых и ненавистных друг
другу героев – ни зрителя вокруг, но пустые
стулья складные сообщают что-то всем нам;
страшна ночь без живого огня и страшна ночь
разрушения старого дома – и в наплыве воска
жидкого темноты, сургуча, спаявшего намертво
чесотку монотонной, ступенчатой речи можно
плюнуть и факелом проплавить – политикой
своей неизбывной, смешным фонарём эстета
и пьяницы, но можно и вовсе в тень от своего
тлеющего в йодле ветра каркаса завернуться –
собрать толпу, развлечь причитаниями над
головешками, игрой в подстреленного зайца;
так превратим же ночь в фабрику – в некий
провал мерцающий, тоннель, не нуждающийся
в свете: мы горим – и право имеем швыряться
липкими комьями огня в фанерные облака;
можно представить себе всплеск рыбы или
фонтанчик крови из прежде холодного пальца,
можно врезаться, вклиниться в жизнь – телом
неловким подвинуть прохожих, манифестировать,
что ляжешь и умрёшь здесь, горловым возвестив
пением новую боль, новые баги, новую музыку.
***
революции не будет, – говорят они и взметается
чантом испуганным сквозняка шахат, посол
спокойный геноцида – из газет и флаеров, из
харамной холодной слизи папье-маше
вылепленный; они вносят в перчатках своих глыбы
белые бумаг – и уже кружит он, не коршуном
и не совой, но воздушным змеем – его
то дитя проведёт, кулачком зацепившись за
стучащее боярышниковым цветом гало, то нервный
активист анс, вялой кровью венозной тело
толстое красящий к карнавалу; слушать несносно их
трёп, но в нём содрогается булавкой
пришпиленный к речи страх – ведь косяк их
девственно чист, и в проёме уже он
кажет лицо в негативе, пальцы скользят не по ножу
даже, но по острому, тонкому кристаллу:
с парки патч срежут у шкета-офника в вестибюле
метро, что-то в шею воткнут эрэсдеку,
задержавшемуся у посольства; шариками отпущенными,
одуванчиковыми пушинками, нежной и
мелкой пыльцой взмоют в полдень прохладный
разговоры все эти – психопомпы в огненных
коронах, пока он – в единое тело
сплавленный летучий отряд – между кладбищами
скользит, пугая нефоров на фотосетах.
***
хочешь-не хочешь, но топчет нас уже этот снег,
этот всадник на палке с башкой лошадиной,
отставший от дикой охоты – в обрезках музыки
джигу выжигает на хаерах знаменитых наших;
я забыл, что сердце – это спутник живой и плавкий,
слиток реальности самобежный, сошедший с орбиты:
вынул и ввернул в торшер, звякнул две половинки,
с молодыми убитыми обвязался чиханьем стеклянным;
мы не просто отброшены, смяты – мы ебомы им,
паразитом пунктирным, слизью девятого неба,
неба пятого, им – коченелым несолнцем, свои
контуры ритуальной спячки размазавшим по нам;
снег как снег – и на наши по-панковски мятые урны
кончит он, надругавшись над прахом тупых и бедовых,
пьяниц, листателей книг, горло убивших на тех же зарядах,
рофлящих пока в выкашлянных осенью облаках.
***
– а если ты опять
со ступенек снега
навернёшься и –
молнией, бомбой
в окна влетишь,
опалишь пиджак
чужой?
отдохнёт ристалище
пусть – воспалённый
пятак курилки, гной
святой лунного горла
звонкие корни твои
будут глодать, не
запив.
– а если ты опять
змейкой ч/бшной
за катафалком,
скорой увьёшься,
обывателя к лавке
пришпилишь, дикий
фланёр?
греет очередь тело
бомбиста, аскает
девка с гранитным
лицом поодаль –
босиком на плевках,
жвачках, стикерах
spacer-namer.
– а если ты опять
на перьях пены
фасадной, на
шарах баббл-ти,
дымке шампанском
унесёшься к дому
чужому?
так и так, но песня
ждать согласна –
бесконечно, в спазмах
гитары бездомного
старика, в токе крови
замершем друга
народа.
***
let us go then, калека школьный,
в эгалитарной радуге, ставшей
ослабшими тогами нам, в какой-то
эхолалии неба, в поту наркотическом
снега; ветер мой подержи, идиот
в варежках чёрных, плакальщик
местной богемы – гля, разбухнет
он, и станем мы – буксир, два
обломка отцовских мобов, два
поджигателя с флагами сырыми
собственных волос, два лепестка
суданской розы, два огрызка
фашистского жора, две дыры
кинжальные в прозрачной бумаге;
мы вдвоём здесь подглядываем
в створ когнитивной машины –
и горят и поют из-за ширмы
те, кого миновал плен медовый
вуайрезима, арлекины, налитые
кровью чужой, вольноотпущенники
папок тугих и занозистых скамеек;
что ты жмёшься к стене кофемании,
солдатик, рокерским серебром
облитый? мы на братской могиле
ста цветов, схватившихся за место
под солнцем; мы пришли – всыпает
нам по полной реагент противо-
гололёдный, уходит в землю рассвет.
здесь не хочет гирлянда висеть и
рефлексы взбираются вверх по
косым молниям, шахматной ряби
четырёх кед, резаным рукавам –
почему мы не слышим вас больше,
гости яростные, от кого перенял я
кинк свой на лунный свет?
***
он, мёртвый и синеватый, откидывается в пластиковом
кресле на плечах четырёх носильщиков – парад
начнётся вот-вот и картонажные мусора подёргиваются,
солнечные диски надвинув на то, что предполагается
лицом; сухие отрезы кожи, пылающие
жестяные ванны с мочой сами поют и сокращаются
на хука́х бледнотелого ревенанта в красном
гриме, кусками и крошкой летящем с головы,
скомканной кислотой политики; тренер, собранный
наспех из образцов переломов, даёт нетвёрдый свисток:
первая роса молодых мертвецов превращает
подошвы в лохмотья, слой делирия отколов.
ни дать ни взять вечер «бородатого сердца» – между
набитых чучел и рефлекторно-рефракторной мазни
свистят хлысты лунарной утопии – плазма тел,
утекающих в сон, застывает сосульками
на дугах велопарковки; рэп ласкового махди
убитых и убивающих не вмещается в стриминговые
сервисы – и не внятен шазамам рокот,
пробивающий путь себе между покорёженных тачек,
пуантилистского блёва мигалок и костров из
хирургических масок, в святочном танце с
клинками бумажных зверей разрезая и последние
подобия веранд декабрьские поджигая конфетками звёзд.
Проект «Переводы»
Мы хотели несколько раз сделать переводы, по советам/предложениям/надеждам прочитать баклажан; выбирали тех соучастников, с которыми нередко вступаем в производство семантического или тех, где капиталистическая машинерия играет со способностями смотрения в попытках активации аффективного труда. Мы играли в «угадай алгоритм» там, где это не так очевидно для поселенцев рекламы и связи с общественностью. Мы задумывали этот проект не менее четырех раз, и каждый раз что-то в нём становилось другим. Изначально мы задумались над тем, как можно вступить в коммуникацию с вещами с сайтов. Алгоритмы выдачи, разметка сайта, ракурсы и предметы складываются в картину – возможно ли из этой картины перейти к сообщениям? Перенести с алгоритмов и предметов их законодательство, которое они дают нам, на что-то другое, другие предметы и алгоритмы, и записать результат. Был не наш сон про игру в тёмной комнате с предметами, которые попадают в руки, про которые нужно что-то сказать. До того как в руки попало одеяло, все уже рассказали с большой уверенностью про свои предметы и нужно было сохранить этот импульс и с одеялом.
Постепенно начали появляться уровни описания, а вместе с ними темы, которые возникали, но о которых нам было страшно писать. Если в тексте есть какие-то намёки, многие из них направлены нашими страхами. Страхи пустили механизм плетения: автобиографический резонанс и вещи самые «близкие», те на своем месте обнаружились в требовании нового инструмента; кто-то сказал о внимании к физическим особенностям вещей, а кто-то увидел между красных страниц разговор об объектах-фетишах: там все сомкнулось; наши ладони все еще влажные, но с этим, кажется, все нормально

9/8 целого
1.
Отец: оставив на столе недорисованный эскиз цветка
обнаруживает утром дорисованные дочерью руки и лицо
Поёт припев старой немецкой песни:
почему убийца отрубил девушке голову: знает только он; только он
Чёрно-белое фото Энни Лейбовиц: молодой Ди Каприо в
чёрной водолазке вокруг шеи которого обвился шеебелый лебедь:
красота на грани отвращения: анахоресис:
отвращение на грани красоты:
– остаточная энергия:
: перевёрнутый свет втекает обратно в кость воды
2.
Осада:
ты ничего не видишь снаружи : ты всё видишь внутри:
переступая государство: государствуя
Защита:
давление структуры: сопротивление:
окно переноса закрывается изнутри наружу:
нарушенный шторм не доказан но виден у Годара
Отказ:
неутилизируемый остаток желания: ехать в метро и
пропустить одно слово: всего одно слово: в логической цепочке:
тревога: сексуальность: золотая сусальная малая смрть
(какое из между ???)
Соположение:
скольжение торможения: торосы: затвердевание формы: пред
положение прав: предположение закона малых чисел; пред
стояние дыхания: дрожь дождя
(какое из между ???)
Вторжение:
нет точки опоры: изгнание: нечто за:
длительность вне зрения: вне тела: вне тела закона
Опровержение:
Side effect : побочный эффект: эвфемизм:
Идентификация:
гнев атеизма: гнев страха: контекст враждебен:
ТА САМАЯ НЕМАЯ ЗОНА
Скачок: квантовый скачок;
Ловцы кузнечиков мыслят синусоидой
отсекая её подземную часть языком;
Досадно: ты ничего не видишь снаружи : ты всё видишь внутри:
давление структуры: сопротивление:
окно переноса закрывается изнутри наружу:
нарушенный шторм не доказан но различим у Годара
3.
Когда пожилая женщина спрашивает: кто ты? кто ты?
: что связывает католицизм и марксизм?
: и виноград как стекло
: и если бы Папа Римский спросил:
зачем?:
тише
тише
: маленькая улитка что делая
: иногда девочка купается в красном вине
: мальчик делает вид что спит
: женщина делает вид что молится
Всё что я могу ответить: это так неуместно
(морской песок: с гулькин нос: море так близко: море так далеко)
Мне не нравится это место
Мне не нравится это чувство
Оно не кажется мне реальным
Оставьте меня : я пойду сама
Сейчас я удовлетворю все ваши желания
Пуговица жрёт Зазор на другой стороне френча:
на другой стороне фагота
Тебя больше никогда не подпустят приложиться к руке матери
Отдавая честь
Иногда жизнь подражает искусству: лоза воды:
хромой след:
маленькие улитки вкручиваются в карниз воды
4.
Материально объективен: сцеженный снег
Здесь: теперь совсем по другому читается мифология
(БЕГ, ЛЕДЯНОЙ ПОХОД, БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, ВИШНЁВЫЙ САД:
ПРОЦЕСС ЙОЗЕФА К., ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ, гно
сиологическая гнусность: et cetera)
: морфология: <уже начавшейся войны: а ты сидишь дома и пьёшь чай>
фокус: выдержка твоего тела:
<чувство доходящее до снобизма>
полная серьёзность: ироничность
С точки зрения гнева: мы насквозь-стекло
С точки зрения времени: мы насквозь
С точки зрения пространства: мы насквозь-внутри
С точки зрения внутри: мы насквозь-тело
С точки зрения стекла: мы с другой стороны
С точки зрения другой стороны: мы насквозь-отражённое-время
С точки зрения насквозь: мы распутывание стеклянного
Умоляю: хватит: меня тошнит от ожидания
Меня тошнит от твоего ожидания
Меня тошнит от вашего ожидания
Меня тошнит от ожидания чего-то: внутри
– долгие дни в Виши: Incident At Vichy: ощущение под ногой
движущейся подо льдом воды
: нечто прозрачное движется под собой
: треснувшая насквозь-молния:
: дерево растущее горизонтально внутрь стекла
: торосы: сжатие: взлом модуля воды: другой водой этажей
ожидания Годо:
оттолкнуться от воды : испытывая острое предчувствие авто-что-если:
несмерть: гедонист: адажио: 9/8 целого:
исцеление скоростью картины Караваджо «Юноша укушенный ящерицей»
всё же: кто кого ожидает???
5.
Если представить что телепатия свершилась:
возможно она будет невербальной:
завербальной: немой: неречью:
посылать источать друг другу ощущения:
красоты-штрих
желания-штрих
наслаждения-штрих
веры-штрих
тепла-штрих
холода-штрих
смерти-штрих
неверия в смрть-штрих:
– мне плохо
– я раздражена
– мне больно
– я раздражена на твоё: мне плохо и больно
– ты плохая, что раздражена
– и ты раздражён: значит
– я тебя ненавижу
– а я тебя: наверное
– я тебя не понимаю
– я тебя понимаю
Почти незаметный переход от транслирования ощущений к
трансляции слов и обратно: атавизм тавтология постоянного при
косновения к
смрти
6.
6.1
Невыносимо близкое к матери: потерянное поколение
«The Importance of Being Earnest»: как важно быть серьёзным
отражается от имени: Хемингуэя: Эрнест;
разделение без апокалипсиса: придуманное Гертрудой Стайн:
невыносимо близкое но не мать: замыкание поверх времени
Логос ограбленного: размыкая мыкая воду
Предельное физическое слово: девочка-мостовая:
всё что мы говорим: украденная публичная речь
: наше время больше всего подходит для пьес;
верит не словам, а: контексту:
<люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки>
СТОП: СТОП: СТОП: режиссёр машет руками:
– Как бы вам объяснить: мы пишем пьесу изнутри:
Например, избитый сюжет:
Парень возвращается из армии а ещё лучше с войны и
идёт пить пиво с друзьями:
мастер диалогов, ваш выход:
– Но у меня нет точки Б;
я знаю откуда и не знаю куда?
– А нам и не надо: наша пьеса про то как они пьют пиво:
она заканчивается когда они заканчивают пить пиво и говорить;
они не знают: что дальше:
так же как и мы;
Будущее придётся деконструировать
Действие помещённое внутри речи: может быть
сыграно и произнесено (разнесено) по разному (и
на разные расстояния) но
всегда тавто логично себе
Пьеса должна развиваться внутри слов: каких:
отрезанных не только от тела но и от
времени;
развиваться внутри слов ставших общим местом тела и времени
: проституированной речью
ИТАК: вернувшись в точку петли:
Во-первых
Девочка-мостовая боится что
речь её станет государством
Во-вторых
Пьеса: закреплена в бытии
: открыто злоупотребление с обеих сторон
: наслаждение специфического стыда:
жёсткая порнография тела
: смещение речи: таксидермия: замедление
: утроение сцены публично
: воспроизводство воспроизводство воспроизводство
: парни допив пиво целуют девочку целуя ища друг друга
: на глазах у
спотыкание: догадка: нерукопожатость:
нас нет внутри публичной речи когда:
: мы: хроническое удержания:
даже смещаясь: даже крошась:
: время распадает пьесу: пьеса собирает девочку: девочка-сад:
загибающийся замыкающий огонь неслова: мразьснега
6.2.
Федерация самоизолировалась и: будто бл@дь дремлет: то есть: дремля
Изогнуть субъекта: внушить сон;
Бессонный и бессонная: напротив: висят на волоске
Крошится б-г
Пытается от
наслаждения человека уклониться: оно невыносимо-небо
или
: питается от
наслаждения человека (?)
Огибание:
сверху: диктатура
под: диктатура демократии: демократия диктатуры
(кто кому принадлежит?)
слева и справа: перепутавшиеся: марксизм и либерализм
насквозь: сталинизм-ленинизм
У Иосифа: юшка: течёт внутри ситуации /системы
У Марии: ежекровь: выбрасывается из
Истерия: принадлежит женщине
Невроз навязчивости: мужчине
Если вы не согласны : вы внутри переноса
Переодевание эфебов: докимасия: проверка граждан Афин,
выбираемых на государственную должность на (возьми)
предмет соответствия критериям
Эфе`меры: вещи речи длительностью в один день:
открытки, письма, приказы, блоги, новости, месседжи, скорость слова:
скорость слова : скорость слова
эхо: кость сло’ва искрится и трещит по швам:
: смеет и смеётся как больная во шоке
Загибающийся смещающийся огонь: ворон и воронка языка
Преодоление Федерации: САМОИЗОЛЯЦИЯ: упасть вместе с ней: и лежать:
когда все поднимутся:
отвернуться на спину и смотреть в
небовыносимое слово: <смотреть-в-небовыносимое-слово>
и т. д.
: находиться в сопротивлении пьесе : говорить не присваивая речь
: находиться в сопротивлении не присваивая сопротивление
: находиться в сопротивлении не присваивая сопротивление речи
Занавес: укороченная форма кинетического неслова <занавес-стекло>
Занавес: занавес-стекло
7.
Снег выше речи: оооооооооооо
Ноль: о, святая еб@я: мы опять идём за три моря
Размазывание высказывания: расстояние срастается в нас пеплом:
с такой высоты руинки городов как суффикс в горле : –
и мы кричим как птицы: оооооооочень срезанное летя с закрытыми глазами
беспринципное сальто-мортале: петля света:
извлечённый из языка корень гремит как погремушка тела
привязанная к чему угодно: кому угодно¿; оть@бись от меня, г-ди :
я не зинзиверю в тебя у ног сада твоего
авто-что-если я : береста-беспризорничая говеет
точкой гнева : что делая: отрицаясь касаясь снега: ооо
8.
Проснувшись только и помнишь что:
надо было Отрезать и Предать
ради будущего: чтобы спасти масло-маслянные
миллионы слезинок достоевского
Радичтобствуя: отдаваясь в долг
Зная что: права’ и неправа удвоенно собственноручно
Помня как говорила Надежда Яковлевна М.
<Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда
тебя избивают и топчут сапогами.
Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и
ответить палачам презрительным молчанием?
И я решила, что выть надо>.
Цитатствуя: не просыпаясь не отводы взгляда
Здесь и Сейчас: отрезать и предать земле
И уже потом утром идти что делая: ничего не делая
преступая сквозь землю
и ртуть
во рту
9.
Она летит
Она плюёт на капище на острове Мауи во Французской Полинезии
Она летит
Она лижет идолище на острове Пасхи
Она летит
Она кладёт гусениц на грудь и размазывает их по всему телу на
одном из островов Фиджи
Она летит
Её беспричинно в качестве одолжения
насилует вождь африканского племени
Она: упав
Объединившиеся в её теле слова разрешают его изъять
вбив обычным ошибочным камнем в сердце иглу от
швейной машинки
Она: камень
Она: зазор и разрыв
Она: падает
Спустя два дня она входит в офис и включает рабочий компьютер
: на фотографиях: капище идол гусеницы вождь игла камень: её нет:
ассоциативно:
рыба потрошится:
нитка вставляется в иголку:
рыба зашивается:
Растения способны поддерживать жизнь не перемещаясь:
чтобы перемещаться нужна нервная система:
нужна речь
: внутри забывания: трудно увернуться от стоячей воды
10.
Я видела явное терпение: заделывая жемчужинами храм
: пробоины света
Я видела стерильных женщин и мужчин
: явные промоины льда
: явные промоины земли
: явные промоины тел
– Ты ничего не видела
Новый песок: самодурствен: и тебя очень легко найти
Такое событие: ты мне нравишься: ты меня разрушаешь
– Но ты ничего не узнала
Люди думающие об одном и том же: многого не
замечают
– Ты ничего не поняла
– У меня со_мнительная мораль
– Что: это: значит?
– Я сомневаюсь в моральности себя сквозь других
: я потеряла право восхищаться
: такое событие: ты мне нравишься: ты меня разрушаешь
– Прилив всегда возвращает лицо: Империя всегда целует в глаза
– ... несколько десятков мужчин бегали по кругу в
ритуальном танце в день Поминовения:
раскручивая точку с храмом во рту
: меня втолкнули в круг: он не удерживал меня и: не выпускал
: меня втолкнули в круг: он не удерживал меня но: не выпускал
: меня не трогали и: почти разрывали
: меня не трогали но: почти разрывали
– Ты стыдилась? Ты испугалась?
: я не стала другой: я стала речитативной
– Ты увидела? Ты узнала? Ты поняла?
: нет: я не видела разницы между чем и кем:
между телом и речью
11.
Знание стирающее через-свободу
Сознание стирающее через-боль
Старающее историю картахены
Вырез: свеча пудовая течь
Нехватка: вскрытое желание наслаждаться
мёртвым мерцающим мальчиком рево
люции
о стефан малларме
о аллен гинзберг
о жан-люк годар –
срывать с меня время: иррациональное
сломанное смещённое слепое ребро
<место-сквозь-свист-через-зубы>
<место-сквозь-оползень>
<место-сквозь-через-речь>
12.
Сорванный масштаб: лёд стоп-крана
про : скальзывание:
замкнутое времени:
устранённое расстояния
Это искажения: объективно:
оно для меня
Оно сквозь меня: и;
Оно попросту я: чтобы
Нехватка меня,
недостаток меня, хотя:
уступительный союз;
иногда: непрямого деепричастия –
повреждённое но:
это единственная
тотальная непрерывность:
непрерывность мы:
Мы транскрибированы:
ОБЭРИУ;
возводя в речь: возводя в тело:
печатая не свои слова: ничто не будет ничьим:
я не вижу разницы между телом и речью:
равновесие обратного: это искажения:
Повтори: повторяю: ОБЭРИУ:
транскрибированы:
на первом уровне:
тело как тело
на втором:
тело как речь
на третьем:
как речь тела
на четвёртом: разогнанном:
они замкнуты в
Разомкнуть:
тело как тело: пространство снаружи: объём: форма
: замедление:
нефть: государство: Федерация: архитектура: сталинская высотка
тело как речь:время внутри: обратное развёртывания:
предложение: строка: слово: слог: звук: эхо:
воспоминание: зрение: туннель: вода: водопад:
архитектура водопада: спотыкание: ВДНХ
речь как тело: скорость: ритм: частота: мерцание: сложение:
объём + развёртывание: объём развёртывания
форма + предложение: форма предложения
замедленное строки
нефть слова
слог государства
звук рф
эхо архитектуры:
архитектура воды
повтор: перелистывание страницы
разогнанное:
воздействие на пьесу речи произносимой извне:
повтор повтора:
перелистывание перелистывания –
: интернет-ссылка: скачок: скачок и бросок языка:
двоичный бросок языка: 00 01 00 10 : обнуление означающим:
бесконечная скорость снаружи: замедляет внутреннее до
не
возможности
произнести
тело
13.
Отприкосновение времени:
вкручиваясь в точку: ничего не хочется не происходит: ничего нет:
выйти на улицу: куда поставить ногу?:
заживляя оживляя точку
после настолько замедленного настоящего
у времени нет рук: у пространства формы глаз
тело не возникает а создаёт зрение и язык
создаётся из: покачивающихся деревьев
создавая нелюбовь к чему-то очень родному
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday
Семь-я создающая перемирие с Федерацией
перемирие белого листа
ждущего когда можно будет сорвать с нас кожу
проколоть театральный задник
рассмотреть наши отпечатки пальцев – одновременно:
я сниму куклы с обеих рук и
задую:
сон свечи: Touch screen смартфона:
оставшееся под рукой стекло сквозь темноту при касается времени
14.
«Мы больше не можем игнорировать идеологию, она
стала важным лирическим языком»;
Аннигиляция; Перекусить анализ: жгут зубы шприц
Тот кто к истине испытывает отвращение: гуляет на берегу океана
Часть слов я должна познать многократно: Нью-Йорк касается всего Ат
лантического песка: Сан-Франциско никогда не видел Лос-Анджелес, хотя
Всё что нужно: у нас уже есть : паузы и пробелы наслаиваясь
паузы и пробелы наслаиваясь: <текст содержащий всё> будет
самым закрытым текстом: местом абсолютной неподвижности тишины
Этот сон жив внутри камня: опуская в него руки я чувствую от
вращение революции номер 9: Джон Леннон стреляет в Йоко Оно
потому что Зазор который мы держим зубами настолько слаб слеп и зол
: бессознательные соломенные человечки отслаиваясь перелистываясь
режутся о бумажное: анжамбеман повисает как лестничный пролёт
одиннадцатого сентября
15.
Чистый контекст: запирательство внутри интерпретации: выжженная земля
Морфемы слова: вы –приставка, жж – корень, енн – суффикс,
ый – окончание, выжженн – основа слова
Акционизм: предъявление себя в качестве стороннего симптома
: прекращение длительности: смотреть на себя из Зеркала
Повреждённый: Мария-Чтоимость-Ершалаима: аппарат-наслаждения-сам
: урбанизируя: развинчивая мать на: мать, скрежет и дочь-отца
Расшатывание: изобретение писихоаналитика: врач-философа
Обратное: насмрть-времени: наречие: речь: апостол
Лакан: первый первородный субъект или объект (?)
Недоразвитость: повреждённая-воды
Внутренний симптом: быть до и после: возраст христа
Принятием
Острый инцест:
Оставление связей: отсюда и Федерация: закон порядка: дочь сына
Сопоставление связей:
мне везло как героине греческой трагедии: со жаление ханжества: лёд:
спрямление: давление:: выталкивание : базовое желание
: сообщение непрямым образом : сын
Стратегия-минус: скорбя скормя де сада
Стратегия-плюс: навязываться тирану: вмешиваться в образование:
организм: организованная иначе третья сексуальная революция :
карнавал: парад: бедный йорик:
: поймать домашнее животное Зазор-наслаждения-речь
Мёртвый философ-поэт
Руку не отнимай
***
расслабленная
левитирует над блюдцем миндаля
раскоординированная ласточка радости,
словно мозжечок её повреждён
и порхание обречено оставаться зелёным,
как столетняя агония дерева.
смотреть больно
на витки надминдального,
расслабленного, раскоординированного,
обречённого оставаться зелёным,
радостного порхания.
ЛИСТ ФИГОВ
Состояния этого листа находятся в суперпозиции.
И зелёный, и белый, и живой, и мёртвый,
и скрывает и раскрывает. Одним словом – фигов.
Царапаю на нём слова, распарывая швы капилляров,
пытаясь распаковать сакральное.
Впускаю его, чёрное по капле, как засвет на плёнку,
на белое поле листа – пущай погуляет.
Сорвать или вырвать? Сорвать или вырвать?
Всё больше чёрного на белом, а я думаю – недостаточно,
и сливаю кровь в больших, намного больших количествах.
Лист вянет, но наливается чернотой,
готов отвалиться, и отяжелел, как свинцовая пластина,
закрывающая важные органы духа от радиации усреднённого.
Вот и слова уже не разобрать –
закономерное исчезновение смысла при злоупотреблении оным.
Зато теперь точно (?) сползает, открывая твои розовые страницы,
и улетает в окно записанным дочерна письмом к неопределённости.
***
Астронавт с космонавтом сидели
и показывали руками –
кто в желанную цель, кто в зацель,
мимо глыбы молчащего камня,
что с пелёнок Луной казался.
Заплутавшие космы идеи,
астры перебродивших плазм –
всё равно скреплены форзацем.
Чу... С обрыва Земли слетели
звездолётчик и миролаз,
направляясь – кто в цель, кто в зацель.
***
Сперва живые, а после – мёртвые,
льются по улицам и сливаются,
как богомол, со средой обитания.
Здания трескаются, как яйца,
светила закатывают глазищи.
Акушеры нового мира положили на всё с прибором,
разбазарили инструменты, эмигрировали вовнутрь.
Смотришь – руки твои в морщинах, губа треснула,
да и по всем каналам что-то трещит.
Тяпальщики и ляпальщики ставят скобы на землю.
Но она разверзается во всех остальных местах.
Запах малинового клопа стоит колом, летают крестики и щетинки -
ширится мезенская роспись.
***
Сахарная полынь – утренние дымы,
Светятся изнутри лужи, дома, столбы,
Лёгким мазком в туман втянуты будто мы,
Длимся там, прознаём светлое будто бы.
Горькое ромашьё в длительном рукаве
Сыплется, как цыплят броуновский пробег.
Я по траве и ты тоже да по траве.
Светятся пауки. Светятся, хоть убей!
Глянем за слой грибов, мха приподнимем плед,
Вкопаны будто мы, странные будто бы,
Нет никого вокруг, только дымящий свет,
Руку не отнимай. Чувствуешь быть?
Детский конструктор
(d)
назвать избеганием:
разбросанные по комнате пустыни и
мелкие прибрежные камешки впиваются
раскрошить и выпить по чайной ложке
скажешь ты вязкая хурма и песок под ногами
row
размытое стекло на берегу: почему ты не спишь
как будто это тот самый бетон моего дома
как будто то дерево моих стен я
так давно не смотрел сюда в этот самый пропуск.
думаешь, здесь есть что-то тёплое
что-то мягкое
(c)row
несколько тяжелых камней
ьак и гне так и не научились считать
под ними проломился пол до самой земли
что мне делать со всем этим
как всё унести
С:
that time that time
утра не было
раз
они пытаются разбить мой чайный сервиз
прости, ма
они снова кусают меня за локти и говорят
сейчас ничего не сделать
сейчас только гусеницы
сейчас только песок
сейчас только остатки ракушек
сейчас только пересохший гербарий
сейчас только зазор между домами
сейчас только жесть
сейчас только жуки-пожарники
сцепились
потом ничего
как-то получилось
газовая плита
кусочек стекла
не чувствую вкус не чувствую форму состояние
я соберу всё это знакомое
и искусственные цветы
загляни внутрь там
столько жизни сколько здесь
d(os)
промытая полость кости:
ничего не длится
развёрнутые скальпы разных
людей богов растений
таким я его помню как панельное небо как
выбитое окно тепло
теплоэлектростанций
тэц
на это нет времени
автоответчик церквей звон бутылочного
зеленоватое стекло
отполированных деревянных зданий
[…]
всё это осталось разобранное
всё это хорошо перебирать
Миниатюры и разные замечания
***
Лес
И фигуры спорят с тенями
и шёпот эфира опаляет ухо
и суета любви среди мёртвых вещей
обесценивает всё
кроме вечернего золота что оседает на ветках
Дерево
Я вижу тебя но не могу встретить
Я чувствую тебя но не могу ухватить
Я слышу тебя но не могу понять
Я знаю что ты есть
и что ты прячешься в этом дереве
Птичка
вьет гнездо
будь обиталищем для ее дома
как моя любовь к тебе
заключена в груди
Встреча между каменных туров
то ли туман
то ли туча села на гору – подволок
как я узнаю что время пришло если не вижу звёзд на небе?
брось камень и может быть эхом отзовется скала?
если сломаешь ветку то увидишь мою кровь
это боль вместе с которой всё познаётся в мире
Гора
говорила нам про нас
низким голосом сыпух
и высоким ветром
– каменные фигуры ждут твоей ладони
они жаждут твоего тепла
золота твоих волос
улыбки твоих глаз
нежности твоего сердца
Рождение \ пробуждение
И проступает сквозь небо лес
что обступает вселенную
и ты проступаешь сквозь меня
маревом снов
и рождением смыслов
первым и последним криком
искренним как линия горизонта
что медленно исчезает
отвечая на жизнь
поцелуем
бабочкой
мгновением
ОПЫТ УЕДИНЕНИЯ
1.
Заокругленность глаза дня
что наблюдает как паук сплетает паутину
2.
Зачем на моём столе стоит стакан с чаем
?
ведь он уже окаменел от времени
3.
недавно заметил что вещи говорят и глаголят перестают быть
существительными становятся глаголами
слова что действуют
самые глубокие
и самые опасные
4.
иногда бывает такое чувство что мимо
сквозь меня
проходят люди
словно сквозь прозрачную невесомую плёнку
они не замечают улыбки Другого на своих лицах
5.
я научился считать ступеньки
поскольку всегда смотрю под ноги
жаль только
что живу на первом этаже
и не имею лестницы
которую имел Иаков
6.
страшно быть наедине с собой
потому что тогда
моя внутренняя пустота
начинает говорить со мной
7.
люблю слушать как кто-то в соседнем доме играет на фортепиано
люблю придумывать про людей вещи которые никаким образом их не касаются
иногда лучше слушать чужую музыку чем насиловать рояль
8.
какое-то время у меня в рукомойнике жило живое существо
пока оно не погибло от кипятка
я думаю человек убивая другого человека
находится в самой сердцевине страха
9.
перестал есть и спать уподобляюсь средневековым монахам
но больше похож на узника собственной совести
10.
насколько голос человека отделён от его тела
говорю
и не узнаю
смотрю в зеркало и не узнаю
что то есть во мне
что мне не принадлежит
11.
глубоким утром я слышу как звенят трамваи
что-то подобное наверняка было в начале мира
12.
ложась спать
я боюсь не проснуться завтра
но почти не помню что было сегодня
и совсем не знаю что есть теперь
сейчас
и кто есть я
и что такое это Я
и почему вокруг так много вещей с которыми постоянно сталкивается взгляд
взгляд это поиск причастности
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ (из циклов про опыты)
1.
Она спросила меня
– что ты можешь мне дать?
Вопрос на который нет ответа
большего или меньшего
от того
как свет мерцает в потоках воды
2.
Она спросила меня
– где твоё сердце?
Вопрос на который вместо меня даст ответ моя любовь
3.
Она спросила меня
Если свет светлый
То почему возникает тень?
Вопрос на который можно ответить лишь закрыв глаза
4.
Она спросила меня
– в чём твоя вера?
Вопрос на который можно ответить взяв в руки посох
5.
Она спросила меня
– В чём смысл?
И в этот момент мне захотелось её обнять
МИНИАТЮРЫ
1.
Лимоны. Сливы. Виноград.
Рисунок мёртвый под палящим солнцем,
я растлеваюсь
в слиянии с запахом гниения и разложения.
2.
Дождь. Дыня. Дом.
Пейзаж короткий как мгновенье жизни,
летом, что проходит в бурях.
3.
Куст. Розы. Сад.
Пьяная ночь пахнет свободой и чистотой,
в прозрачном пространстве висят звёзды,
в ожидании, когда роза утра расцветёт
чтоб нас с тобою обогреть.
***
1.
Вышедши рано утром на дорогу
я увидел как она темна и пуста
2.
Разминал сырую землю в руках
ходил вдоль неё
поперёк
голодные вороны первыми узнали о моей смерти
3.
Поблизости росло три дерева
срубив первое я не смог идти дальше
ощутил слабость в ногах
срубив второе дерево мне стало очень холодно
пришлось срубить третье чтобы согреться
это был поминальный огонь
4.
Серое небо
Мыши в полях догрызают остатки лета
крысы толкутся на крыше
поранив руку я наблюдаю как кровь медленной змеёю ползёт по полу
5.
Было бы неплохо взять иголку и нитку
чтобы зашить рану
сшить разрезанную дорогу
возвращаюсь домой
6.
Каждый раз выхожу
и возвращаюсь
не дойдя до межи
дьявол прячется в сомнениях и страхе?
7.
Блудный сын
Сей[час]
мог бы не выходить из дому
8.
Выйдя глубокой ночью на дорогу
в стороне я увидел поминальный огонь
и подумалось мне что надо пойти насобирать хворосту
деревья иногда мешают наблюдать степь.
Крутите барабан гиперборейцы
***
автобус повернул в темноту леса
всё, что он говорил
непонятно
изо рта росло дерево
текстов дмитрия сопыряева
горлышко разбитой бутылки
торчало из земли костром
твой паспорт нашли в костроме
гори, но не воняй
из этого пня могли добыть
29 различных эфирных масел
и отправить в париж на всемирную выставку
натянуть на фефелеву башню
шымакш
чёрная ЛОЗа пацана
две половинки с резьбой
в этом болоте гнилого зуба
листочек с красноармейской молитвой
герметичного мира
польза пп для лесных язычников
прячущихся в огонь
чудьгу
***
главное
не пересоли борщ
когда на всё общежитие варишь
подумают влюбилась
а здесь влюбляться нельзя
сама знаешь
не для этого приехали
сон будешь по утрам собирать крошками
хлеба в голодном городе
секунда
ещё поспать
ещё одну крошку съесть
тут в интригах надо быть
виртуознее либераче на пианино
итог впрочем такой же будет
да и задрочить его
видела этих ребят в сушибоксе
стоят по целому дню с ножом
у меня спина заболела бы
через десять минут времени
они тоже приехали сюда
получать меньше чем на родине
тянутся к мечте
как мыши бегут на дух кошачий
и главное не перекроши
петрушки в табуле
это явный признак
ты с кем-то имеешь
сама понимаешь
здесь как в войске чингисхана
белое облако
твоего глаза не держи
так долго на меня
подумают что мы с тобой
имеем
сама понимаешь
***
угнала тебя угнала
леди гага на ладе гранте
увезла тебя увезла
к седым снегам в тундру
может даже и поближе
в светлоснежск и яснорадск
города дионисийских дождей
и бесплатных пиздюлей
невеста в платье белом
помещается в барабане
стиральной машины
крутите барабан
гиперборейцы
отличные фокусы придумал тамада
распилить жениха в стеклянном гробу
на ипотеку и пять кредитов
и воронежский центр современного искусства
чтобы развод через год
не казался поездкой на блаблакаре
с семью попутчиками на ладе гранте
shake your шейк
криштиану
пересадила леди со скорости на лин
так ли мэрилин
монро под len
steal my sunshine
подлинный монолог говорила
романсеро в квартире-студии
звезда родилась в четвёртый раз
с засохшим кетчупом
на зубах птиц
как алкей сравнивал вино
с зеркалом души
так хичкок сравнил инстаграм
с окном во двор
бред ли
угнала тебя угнала
леди гага на ладе гранте
***
если бы дантес уронил пистолет в снег
я бы достал пистолет из снега
я тот ещё полутораглазый стрелец
военный билет получил раньше времени
где написано
что я ограниченно годен по причине миопии высокой степени
близорукость это
но я всё равно бы долетел пулей
до июля
до горы машук
и заглянул в коммуналку на лубянке
– с первого раза не было бы осечки –
выгонять быстрее девушку в такси
я бы летел
как в клипе группы корн
на песню про идиота в петле
кстати
в петлю я бы тоже свернулся
в селе гавгуево между мойкой и невой
и с этого болотного пятачка
я бы пятым инфарктом
нагрянул через атлантический океан
не дав погоста и страны выбирать
я бы сделал всё
чтобы коснуться плоти русской поэзии
и комком поволжского чернозёма
перемазать белый нью-йоркский костюм
проникнуть в самую суть
прийти неприглашённой женщиной на званый ужин джуди чикаго
когда некого бросать с пароходов
понеже пароходы не ходят по рекам
и авторитеты из бронзовых стали
мягкими медузами
и их больше нельзя разбивать
***
мне нечем дышать
выкинуто коленце
и рука от сердца к солнцу
к чёрному солнцу кибелы
диалектика против мифа
десятая часть от у. э. б. дюбуа
выросла до фальшивой двадцатки флойда
медленный парикмахер из маленького городка
прощается с пинаповой сегрегацией
ваш плавильный котёл
что наша скороварка без воды
и колокол свободы
расколот как нация
ахиллес догонит черепаху
касавубу не убежит от лумумбы
у мейстера экхарта нет ответа для хаммаршёльда
бумеранг, запущенный из луизианы
вернётся в високосный год
жрать богатых и
грабить награбленное
бумеранг и молот и чёрная звезда
с берцев черных пантер
стекает зелёной слюной дядюшки сэма
бремя белого человека
из решёток полицейских департаментов
вырастет лес?
резиновые дубинки станут живыми
и будут резвиться в полях кукурузы?
революционное самоубийство в сумке от луи виттона
реакционное самоубийство в вашингтонском обкоме
дорога в газовую камеру заложена телами
протяни руку через океан всем униженным братьям и сёстрам
они тебе ударят по ней шокером
из милой тьмы
криков о свободе
виниры из металла ракеты
прокаченные танки в гетто
не разрушат всемирного гетто
до красного рассвета
и настоящего дня
***
на улице ноль
а ощущается как минус пять
бежит человек
а ощущается что стоит
сливная труба на московской усадьбе
распластанная ворона газеты
с пятнами обеда на челе
ощущается, что муму доплыла до берега
муму осталась жива
с пушистым хвостом в виде трубы
на зло барыне и генерал-губернатору закревскому
не нужен нам турецкий, дайте берег утопии
мы все умрем
но ощущается что вырастут кувшинки
в груди у бориса виана
и тито виланова усмирит холерный бунт на камп ноу
медным николаем вырастет на фоне моря людского
да толку
ощущать себя царем
когда лишь капли крови граната
в воде протухшей водоема
где с камнем дискобола роома
лежит дворовая собака
не ставшая оружием пролетариата
Две революции
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕЩИ ВЕСЕЛЬЯ
подари мне на день рождения вещи веселья:
вторую пару глаз, чтобы все передо мной двоилось,
и я вместо эклектичного леса видел
два эклектичных леса
(пьяные сосны в сосняках,
накладывающиеся на дымь хвойной хвои);
грузовик со смертью, которой я буду заворожен и полн.
обратись в мой день рождения несовершеннолетней —
мы будем лежать, избегая наказания,
как валежник, сокрытый двухметровой травой.
напиши мне в таком виде славные гимны,
точно я – античная хуйня, –
труженица-земля,
сосущая пищу.
я хочу увидеть себя твоим взглядом и глазами – двойниками,
а потом раздеть тебя на центральной площади
и слизывать мед, делясь с каждым желающим.
а в 00:01 следующего дня
умри неловко и нелепо
ахиллом-насекомым.
...а еще подари мне все цветы, какие сможешь найти.
и розы отдельно.
ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ
я жажду двух революций.
первая наступит,
когда я проснусь с помятым лицом, будто лег спать
не той стороной тела.
эта революция будет снимать почки с веточек,
чтобы мерзлые веточки снова производили почки.
чтобы каждое утро я просыпался с разными девочками
(или хотя бы с одной,
которая умеет превращаться в тысячу других) –
вот для чего нужна первая революция –
она будет ревностно относиться ко мне, когда наступит
(ведь после этого я сразу начну ждать вторую) –
и первая революция окажется одной из тех тысячи девочек,
с которой я проснусь, тут же променяв ее на другую.
вторая революция будет огромной луной; травой,
пускающей слюни дождя, идущего обратно, –
словом, эротичнее азбуки морзе.
только со второй революцией я буду стройнее, чем ниточка;
и слова мои будут тяжелее свинца, сложнее овса,
ненужнее слова,
потому что мы будем лежать на траве, притворяясь лягушкой,
и ждать надзирающей нас любви…
ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ
разбуди меня в 8 – я все равно проснусь в 12.
сомну этот день, как бумажку: вон его, он мне не нужен.
но крепок день, он прячется в орехе –
набей им подушку, если хочешь лежать на твёрдом.
проспи его столько раз, сколько это возможно:
он обнаружится как паразит сквозь слезы,
высохнет на щеках, словно мыльный раствор.
наступит не вечер, но сразу – ночь.
и даже тогда лжелюбовником
день вернётся обратно и позвонит.
ВОСПОМИНАНИЕ О НОГАХ
то, что я делаю сегодня, похоже на то, что я делал вчера,
и будет похоже на то, что я сделаю завтра.
я смотрю в окно, как в бинокль,
и взгляд есть продолжение тела –
третья рука.
все, чего он касается, подчиняется его власти,
становится его пленником –
взгляд приказывает свету моргать, – и свет моргает,
но одна из лампочек не подчиняется и кончает с собой.
он командует дорожным движением,
но и дороги восстают против него, – авария, авария.
дирижирует снегом, словно оркестром, –
улица заполняется грязью и сыростью...
еще авария...
взгляд, будто кибертеррорист,
взламывает вселенную и сознание,
но все вокруг –
и он –
сходит с ума, выходит из под контроля:
всюду бегают куры;
анахронизмы посещают XXI век –
вот кто-то высекает искру из камня,
вот карета привозит княжну на бал.
взгляд выуживает из себя воспоминания о твоих ногах,
перебирая людей, как позвонки –
вот его озаряет:
шум твоих шагов напоминает ему о море,
и теперь
хлещет меня по щекам и шее канцелярской резинкой...
кому же достались твои анемичные ноги-открытки,
увязшие по колено в снегу-свету?
...кому?
ПЛАЩ ЗЕРКАЛО ШРЕДЕР
Юлию
повесил дедовский плащ – но, снимая, обнаружил,
что под ним не я, но кто-то другой
отдалённо меня напоминающий –
будто меня пропустили сквозь зеркало,
а после сквозь зеркало-зеркало –
или через два шредера (продольно и поперёк) –
и я рассыпался на квадраты.
мерещился – словно оазис – американский лётчик
(вместо меня) –
над которым, как мухи, кружили истребители.
БЕСПИЛОТНИКИ
пока беспилотники не испепелили тебя –
думай о том, какие варианты отхода вдалеке
появляются и исчезают –
как в карманах теряются кисти рук,
но когда достаёшь их, они уже перепутаны между собой –
так одна ойкумена подбрасывает тебя, как взрывная волна,
к другой ойкумене,
где за тобой следит из темноты пара неоновых зрачков,
но понимает, что не права –
и закрывает веки.
пока беспилотники не лижут тебя языками пламени,
позови летающих своих друзей –
воздушные шары и дирижабли –
позависать с тобой, может, сподобить на драку...
беспилотники уже видны вдалеке,
они поднимают флаги –
белые флаги –
самые белые флаги.
Мокрая подушка; сухое утро: стихотворения, пьеса (с предисловием Владимира Кошелева)
Стихи и пьеса Канако Судзуки, которые нам повезло опубликовать во «Флагах», вызывают у меня не только неподдельный и жгучий интерес, но и, не побоюсь сказать, сладкую ревность к некоторым находкам. Для меня публикуемые материалы Канако, что называется, глоток свежего воздуха. Поэтому – в качестве небольшого предуведомления – я хотел бы подробнее затронуть некоторые вопросы, связанные с её творчеством.
Поэтические опыты Канако – это хороший урок, повторяющийся вновь и вновь, когда мы сталкиваемся с «чем-то» неожиданным и как будто неправильно произнесённым и учимся у него, запоминаем, начинаем жить немного иначе. Мы можем найти это «что-то», скажем, в подборке значимого и зрелого автора X, или стоящего где-то на задворках литпроцесса молодого автора Z, потому что речь идёт не столько о попытке писать по-русски, когда родной язык японский, сколько вообще о попытке «писать с ошибками» (и с их помощью). Ведь так в конечном итоге оказывается вернее.
Канако сама прислала нам материалы, за что я признателен и благодарен ей. Это, кажется, тоже должно учить меня чему-то понятному, но каждый раз заново вспоминающемуся: смотри по сторонам – что делает этот – тот – третий – десятый – почему ему важно то или это.
Здесь пьеса и стихи не живут отдельно, они дополняют друг друга. Так считает и сама Канако. Если мы присмотримся, то обнаружим, что две формы общаются почти как театральные актёры – самое важное где-то между ними, в их конфликте или консенсусе. Ремарки в какой-то момент складываются в самоценный поэтический текст, вещи и люди в котором существуют иначе, чем в мире поочерёдных реплик. И наоборот – стихи Канако развиваются по законам драматургии, пользуются её средствами. Вопросы риторичны, но ответа они всё-таки требуют, только искать его нужно где-то за словесной «сценой» – в прошлом или будущем, и с этим уже должна справляться поэзия.
Важно сказать, что материал Канако выдержал лишь небольшую и очень трепетную корректуру. Мне кажется очевидным, что авторский голос Канако не должен был пострадать, так как её русский язык способен быть не менее точным и верным, чем наш с вами.
– Владимир Кошелев
***
Устала жить.
Мне не говорите ничего
Прыгать надо чтобы летать
Пошла в мост
Вижу плакат
«Прыгать с моста запрещено – опасно для жизни!»
Да. Я умею плавать
Только не умею плакать
Смеха Луны
***
Ты не знаешь
что в нашем районе везде запах из реки.
Меня успокоит этот запах.
Ты не знаешь городское дыхание, блеск из окна.
С детства режим города у меня был. Не такой же как ваш город.
Представляю себе, что если мы вместе живём в моём районе, как хорошо.
Там есть парк. Дерево. С детьми хорошо гулять. Кофе в кафе. Мост и скамейка. Я буду работать для семьи.
Безнадёга.
Ты не знаешь
язык, нашу культуру и много-много.
Ты не знаешь, поэтому для тебя лучше, что я покину родину.
Из-за языка все считают что я идиот.
Из-за непонимания мы спорим.
Ты не знаешь мою жертву и желаешь от меня любовь.
Если нет любви, как можно забыть запах из реки, по которому я сильно скучаю.
Ты не знаешь,
если ты мне изменил, ты утонешь в реке.
***
Альпийские горы
рядом со мной
ты и
ёжик
моралите наше
***
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
У них есть
А у меня нет
Жаль, что ты
не подарил мне кольцо
Свадебное платье теперь розовый цвет
С борщами сварила
***
Сухие цветы
У вазы полная вода
Из меня выходит молодость
Не смейся надо мной
Была свежей
Ты проходил мимо
И не остановился рядом
И сказал «уважай»
Чих, чепуха
***
Теплота
От тебя
Мне холодно
Без тебя
Капризная
Это я
И я твоя зеркало
Ты такой же как я
Отражение
***
Пупсик стал пупсиком.
Решил жить в небе.
Тогда...
Ты подарил мне перо.
Чтобы не скучать.
Я рисую пером.
Картины пупсиков.
Тогда...
Я вспомнила что украла твоё перо.
Я перестала рисовать.
Пупсик больше не возвращался.

ШИНШИЛЛА
Действующие лица:
Девушка, дочь вдовы, лет 25-ти, красивые глаза
Фёдор Фёдорович Застеничивский, юноша, тихий нрав
Действие первое
на лифте
фёдор один стоит но разговаривает с пожилой женщиной
Фёдор (поддакивая). Это для вас катастрофа. Но, бывает. Меня тоже постигло несчастье. С потолка течёт вода, это так часто бывает. Не только у вас, но и у меня тоже. Главное – не пасть духом. Да, вот. Всего хорошего. (Уходит.)
вошёл в квартиру темно звук-капля
затопление
он аккуратно ходит
включил свет
нет воды
Фёдор. Вы думали, я странный? Нет, я очень нормальный, даже скромный. Вот я вам говорю. (Видит зрителей.) Улыбнусь, потому что стесняюсь. У меня есть шиншилла. Она такая мягкая и приятная. (Берёт шиншиллу из коробки.) До этого я просто в инстаграмм видел видео шиншиллы. Каждый день просто наблюдал. Потом сходил в зоомагазин и наблюдал. Хотел шиншиллу – либо ничего. Нельзя о чём-то мечтать. То, что ты думаешь, так не будет. Только в голове можно вообразить то, что угодно. Но уже мне неудобно так делать. Это мучение. В день своего рождения я решил принять её, как семья. Такая ты маленькая (шиншилле), но вы знаете, она умеет высоко прыгать, даже один метр! И она купается в песке. «Женщина в песках». (Тихо смеётся.) В Японии есть такое название пьесы. Сюжет не помню. Она в песке и в конце тоже. Шиншилла, ты моя любимая. (Тихо смеётся.) В природе, высоко в горах Андах. Даже не могу представить, где находится гора Анды? Шиншиллы валяются в вулканической пыли. Так они чистят свою шубочку. Нехорошо так говорить. Да, прости, я за анти-шубу. В мире их не надо носить. Но тебе идёт.
звук песка
на стене дыра
оттуда песок
Фёдор. Что же такое? (Он заглянул в дыру стены.) Запах газа… Утечка газа, наверное.
шиншилла побежала в дыру
Фёдор. Ах, ШИНШИЛЛА! (Он уходит.)
фёдор стоит в дверях и стучит
Фёдор. Извините! Извините?
дверь открыта
он вошёл в квартиру соседнюю
нет хозяина
везде запах газа
Фёдор. Надо открыть окно, и где кран?
он нашёл кран и закрыл
Фёдор. Странно, не был сигнал. (Открывает окно.) Шиншилла? Ты где?
в комнате где дыра девушка лежит
Фёдор. Ой! Девушка! Ты жива?
Девушка. (Не отвечает.)
Фёдор. Везде песок... везде арбузы. Что за комната? Как же можно вырастить арбуз?
проснулась девушка
фёдор сразу покраснел и начал танцевать
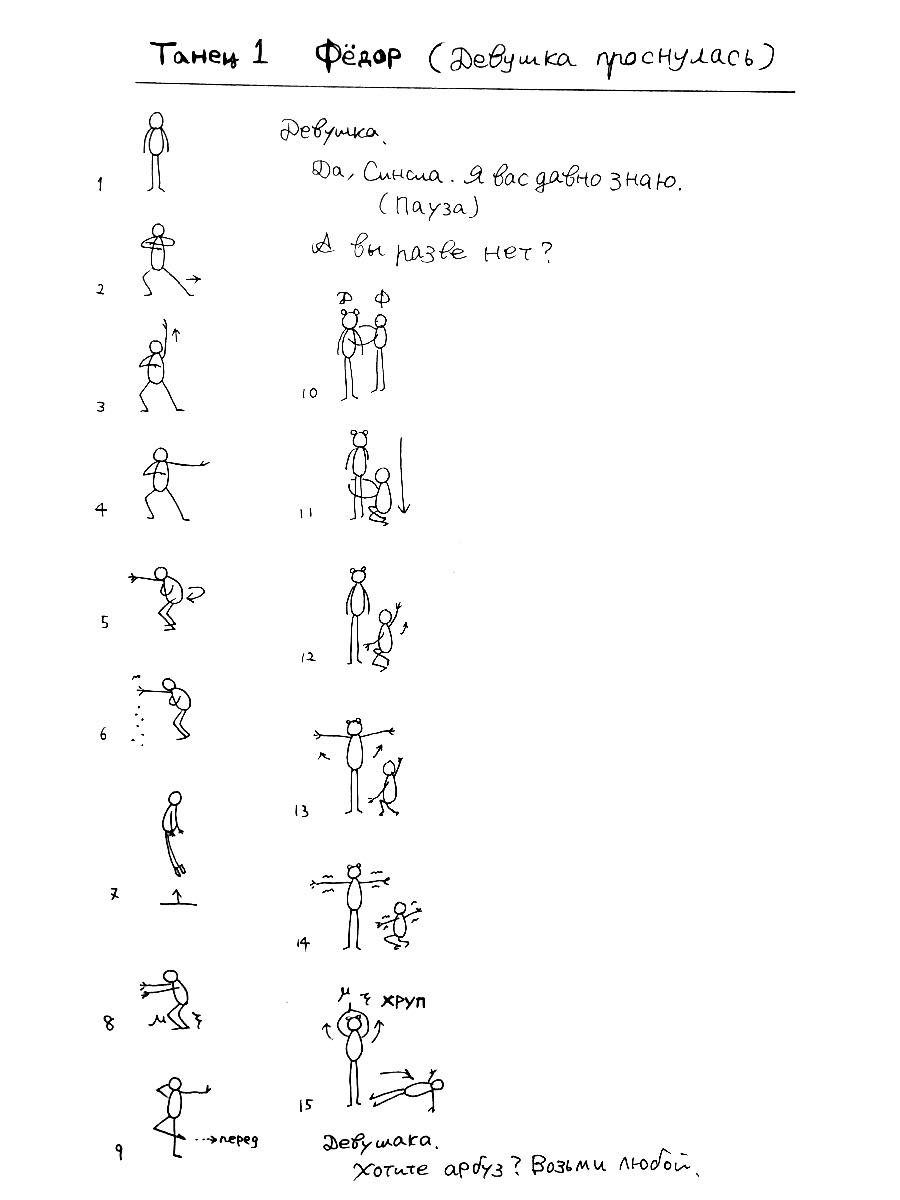
Фёдор (танцуя). Здравствуйте, девушка. Я вот сюда попал из-за невидимого газа, точнее, из-за моей любимой. А, мы не знакомы. Можно отрекомендоваться? Ааа, меня зовут Фёдор... ааа, и Фёдорович. А как вас зовут?
Девушка. Синсиа.
Фёдор. Шиншилла?
Девушка. Да, Синсиа. Я вас давно знаю. (Пауза.) А вы разве нет?
фёдор волнуется и обнимает её
Фёдор. Ты моя шиншилла? Глаза красивые. Да, ты – она. Ты моя!
Девушка. Ваша или не ваша, откуда знаю. Но я об этом давно очень мечтала.
Фёдор. Если твоя мечта не жажда, то хорошо.
Девушка. Хотите арбуз? Возьми любой.
фёдор перестал танцевать и разрезает а она начинает танцевать
Девушка. Простите, я не умею готовить.
Фёдор. Ничего-ничего. Ты же шиншилла. Я всё сделаю. (Он начинает есть арбуз с удовольствием.) Очень вкусно. Это бессемянный арбуз? (Пауза.) Нет, есть. (Выплёвывает семя.)
Девушка. Вы не любите семя?
Фёдор. Ну, оно съедобное?
Девушка. Источник – скорее всего.
Фёдор. Можно не есть.
Девушка. Так многие мужчины делают. А, мне больно.
Фёдор. Потому что ты ешь? В горле застряло?
Девушка. Ничего со мной не случилось.
Фёдор. Прости, ты про что?
Девушка. Хотите ещё?
остановилась танцевать и целовала
но возможно ЗТМ
(не показать целовушки)
Фёдор. Вы знаете, что у меня в руках? (К зрителю.) Я ем арбуз. (Показал как есть. Но на самом деле в руках пусто.) Секрет жизни. Давай смеяться. Мы ни разу не смеялись вместе.
смех
девушка молча смеялась как шиншилла
Фёдор. У тебя теперь есть голос! Попробуй говорить «ХА-ХА-ХА»!
Девушка (злится). Только ты меня не заставляй, ладно?
Фёдор. Хорошо.
Девушка. ХАХАХАХАХА)))))))
Фёдор. Я тебя люблю.
Девушка. Я тоже.
они вместе начинают есть невидимый арбуз
Занавес
Действие второе
в комнате её где пески они спят
Девушка. Вставай, где есть место.
она лежит он проснулся и танцует танец минуты 3 после танца он снова с ней спит

Девушка. Вставай, где есть место.
она лежит он проснулся и танцует танец минуты 2 после танца он снова с ней спит
Девушка. Вставай, где есть место.
она лежит он проснулся и танцует танец минуту после танца он снова с ней спит
Девушка. Вставай, где есть место.
Фёдор. А ты не встаёшь?
Девушка. У меня есть место?
Фёдор. У всех есть!
Девушка. Моё место здесь. (Она рядом с ним.)
Фёдор. Ты ради меня живёшь?
Девушка. Ты так хотел.
Фёдор. Не люби меня, если у тебя возникает привязанность.
Девушка. Ты меня бросаешь?
Фёдор. Я не бросаю. Ты же не вещи.
Девушка. Я чувствую как вещи. Ты хочешь меня бросить? Я люблю тебя, но ты хочешь меня бросить. Если ты бросаешь меня, я больше не буду кого-то любить. Это моя верность и истина. Если ты бросаешь меня, я умру. Мне так тяжело без тебя. Если ты любишь кого-то... кроме меня... что делать? Я не могу простить. Столько любви я тебе дала? Столько заботы?
на полу она танцует как будто астма трудно дышит
Фёдор. Если ты хочешь ответный подарок, то твоё чувство любви ненастоящее. Добро превращаешь в грязь. Полюби планету Земля. В ней столько красоты и тепла.
Девушка (строго). Вставай, где есть место. Я
буду здесь – смотрю космос!
она лежит он проснулся и танцует танец минута после танца он снова с ней спит
Занавес
Действие третье
на лифте
фёдор стоит и разговаривает с пожилой женщиной
Фёдор. Продолжение любви, вечная любовь. До какого момента? До смерти? И после смерти? И в следующей жизни тоже? Моя любовь – твоё огорчение. Тогда лучше отпустить. Тогда ты видишь чётко. Перед тобой кто стоит? Ангел? Мне кажется, я должен буду организовать твои похороны. Но у нас уже не будет любви. Возможно, это не моя роль. Нет, нет, спасибо, я не хочу огурец. У меня и так много осталось. Без вас я не ем так много. Между нами разница 40 лет. Но это неважно. Мы влюбились, но теперь у нас другой путь.
(Она говорит.) Не говорите так. Придёт смерть всем, я живу сейчас хорошо. Жизнь – это мучение. Ну, что ж делать. Такова жизнь. C'est la vie. Да, вот. Всего хорошего. (Уходит.)
Фёдор. Милая? Я вернулся. Ты где? Я тебе собрал лекарственное растение и несколько яблок.
девушка стоит она обнимает шиншиллу
Фёдор (удивляясь). Что это? Это наш ребёнок? (Он бросил яблоки и травы, но, возможно, их и нет.)
Девушка. (Молчит.)
Фёдор. Сын или дочь?
Девушка. Я не знаю.
Фёдор. Как же ты не знаешь?
Девушка. Я бы хотела видеть своего ребёнка. Без таблетки будет овариальный рак. Но не у всех. Может быть, я исключение. Кто-то много курит и много пьёт. В итоге у этого человека есть золотой младенец. Цикл крови. Для меня бесполезно. Хочу спросить: «зачем?». Ты, да, ты. Мечтаешь стать отцом. Ты знаешь бесплодность? Или хочешь сказать святое слово? «Бог даст». Ничего не меняет. Только молюсь или принимаю судьбу.
Фёдор. Хочешь яблоко?
одно яблоко он ей бросил
Девушка. (Молчит. Потом решительно.) Спасибо.
она кушает яблоко и иногда кормит шиншиллу
Фёдор. (Спокойно танцует.)
Девушка. Давай построим замок из песка.
Фёдор. Давай.
у них нет песка но они построили большой замок
Девушка. Моя мама умерла недавно.
Фёдор. Да.
Девушка. Пойдём в храм.
Фёдор. Если ты хочешь – давай.
Девушка. Она была вдова. У неё нет могилы.
Фёдор. Воздвигнем могилу.
Девушка. Мы уже построили.
Фёдор (смотрит вниз). Я не уверен что это можно перевезти. Слишком большой...
Девушка. Тогда давай на ракете?
Фёдор. Давай, хорошая идея.
они танцуют минут 5-10 потом лежат
шиншилла принесла свечу и побежала
звук газа
взрыв
ЗТМ
Голос Шиншиллы. Хотела есть сладкую вату. Даже снилось. Сегодня за сладкой ватой туда-сюда ходила. Но не нашла. Говорят, летом не продают. Жара и влажность. Надо ждать осени. Смотрю на небо. Облака похожи на сладкую вату. Ты на небе. Тоже видишь сладкую вату? Я хотела тебе принести. И целовала бы.
свет в лифте он стоит
Фёдор. Вы думали, что мы умерли? Нет, я ещё живу.
вошёл в комнату шиншилла ждёт его
Фёдор. Хотел шиншиллу – либо ничего. Нельзя о чём-то мечтать. То, что я думаю – так не будет.
КОНЕЦ
Тур Ульвен. После нас, знаки (перевод с норвежского Нины Ставрогиной)
ИЗ КНИГИ «ТЕНЬ ПЕРВОПТИЦЫ» (1977)
ПОДСВЕЧНИК
Секретное послание
накрошенное хлебом по столу
Плеск вёсел
в предсмертном стакане воды
К окну слетевшиеся совы
Дверь – запертая – бьётся на ветру
Не бей по мне
СПИСОК ЖЕЛАНИЙ ПАДШЕГО АНГЕЛА
Пусть снег завалит вепря в лесу из молний
Пусть шляпы ворсистыми плодами покатятся по тротуарам
Пусть бифштекс шмякнется на тарелку с высоты десяти тысяч футов
Пусть упадёшь и расшибёшься
Пусть целый час льёт дождь из мышей и аллигаторов
Пусть дождь из грудей монахинь зарядит на месяц
Пусть дождевая капля угодит тебе в глаз как атомная бомба в яйцо
Пусть гимнаст рухнет с трапеции когда кто-нибудь выключив свет
возопит Да здравствует Свобода
Пусть все священники разом сверзятся с амвонов
Пусть волосы вылезут и ветер размечет их как знамя из соломы
Пусть стрелки разом сорвутся с часов
Пусть все мысли выскочат из головы и
патокой хлынут в реторту алхимика
Пусть все заводные машинки мгновенно попа́дают
Пусть рыбы выйдут из моря и плюхнутся на изнанку луны
как отряд гризли-парашютистов приземлившийся
на волнистое поле где укрылись двое влюблённых
Пусть грехопадение повторяется ежеутренне в восемь
Пусть дни посыплются из года а годы из истории
как зубы из улыбки
Пусть твоя тень лопнет надвое а ты
споткнёшься о половинку поовальнее
и вывалишься из окна в головокружительно быстрое
сближение с улицей внизу
которая в свою очередь не устоит и полетит в тартарары
с точно такой же скоростью
что и ты
ПРОЧТЁШЬ ЛИ ЭТО ПО РУКЕ
Заяц висит среди смолкших труб
в снесённой лавке воображения
Пыль столбом от кашля богов
на улице залитой расплавленными песочными часами
От огромной груди во всё окно
в подвале темно ангел Мортидо к ней присосался
За ветхой шерстяной занавеской –
сказочное существо с кошачьей головой
что унесёт твою тень в заплечном мешке
втащит на борт парохода идущего неведомо куда за океан
завтра
Но то ли ещё будет завтра
да и прочтёшь ли это по руке
когда та хватается за голову и вопит исчезни!
ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕ НАС, ЗНАКИ» (1980)
***
Буквы из золота бдят
над опустевшим городом.
Здесь мор сложил
на покой свои кожу-кости.
Последний житель
обращается к манекенам.
Зарой, говорит,
руку в землю
и посмотри,
не прорастёшь ли.
***
На деревьях
в сонном саду
вокруг Спящей красавицы
распускаются головы кукол
с застывшими улыбками:
идёшь,
не-принц?
***
Паломник,
провалившийся вглубь
девичьего зрачка,
и поныне лежит на дне
среди сталагмитов
и останков
блудливых чудищ.
***
Атриум: сад, круго́м
прохладная колоннада.
Спящие музыкальные
инструменты, их никогда
уже не тронут.
Пустые стулья, ряд за
рядом, хранят
тепло вражеских тел.
Солнце
беспамятно. Никто
из них
не возвратится, ни
нагим, ни ряженым.
А снаружи
весь мир
теперь одна гигантская
белеющая окаменелость. Мир.
Там и сидишь,
Кристабель,
с колотящимся сердцем,
одна и
ждёшь,
пока не станешь паутинкой
сквозь молчание
по себе.
***
Костяшки царапают
стену, ветви –
смычка́ми по жилам: струнам,
натянутым над ущельем.
Клокот приливов, отливов
в складках, в колени
впились числовые ряды.
А потом тишина.
То
деление клетки – немая комедия:
повторение повторения,
до не-
различимости,
до не-
***
(ИСПОЛИНСКИЙ КОТЁЛ)1
Галечник
гложет и гложет
породу
бездушную, без
меток от молний, ногтей ли,
коловращеньем,
во сне или в вопле,
всё умаля-
ешься, голый,
мельчаешь,
галечник, изничтожаешься,
галечник, оставляя
полости,
галечник.
***
Всего-то – сердце,
что так
умалилось,
что почти
и не слышно,
что почти
и не видно,
там, на горизонте,
где чаек
тоже
нет
***
Вскрытый конверт:
туман,
лишь туман
сочится наружу.
Непонятно.
Теперь понятно.
Твой язык всё сильней
истончается: вот уже
можно вдохнуть, а вот
уже не
подышишь им,
бездыханным.
***
Губы раны
недвижны.
Своей подземной повести
не вы-
шепчут даже
знаку вопроса.
Рана безгласна,
будто всего лишь
шрам.
***
Невидимки
уже не мечутся
между царством минералов и царством людей.
Тише воды стоят
по миллионам лет.
Можно сказать –
памятники себе же.
Без подписей.
Жить в их сени.
Чтобы сносить
свет луны языка. Языка луны.
ИЗ КНИГИ «ТЕРПЕЛИВОЕ» (1987)
***
Огни в окнах
над нами
кормятся
неоткопанным.
Если сесть
поболтать в огромной тени
дуба, расколотого молнией, –
год будет
1623-й.
***
В иванов день
на них находит:
Подолгу лежат,
припавши
ухом
к холодному камню пола,
внемлют
тёмно-зелёным
колумбариям, биению
готического пульса.
Никому
не покинуть
круга.
***
(Рунический камень: «Камень сей солнцем не осиян, ножом не сечён». Сами не ведая, они знали нечто такое, о чём никогда не узнаем мы. Чего именно мы не знаем из того, что знаем?)
***
(Не сохранилось ни единой надписи доэротической эпохи)
(КРОМАНЬОНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ. ФОТО)
Двое лежат, макушка
к макушке.
Копьё и кинжал
из кремня. Жемчуг.
Слоновая кость. Посох
из бивня мамонта.
Кто
коснётся сокровищ –
не пошатнёт
могущества
страны,
где мысли мёртвых
на пределе.
***
Бессильные рукавицы
держатся за
мшистый камень.
А чьими-то трудами
держится
работа
котельных.
Истлевшую шерстяную занавеску
сверлят
вороньи глаза. История леса
ещё не кончена.
Я слышу громкий гул
самолёта,
ощущаю наросты
тугой коры
щекой. Нам никогда
не выучить
всех несметных ветвей.
И всё же деревья
попроще
нас.
За опушкой, со стороны моря,
мигают одичалым кодом
городские огни.
***
Однажды он проснулся
от страха
зимы. Бряцали незримые
самоедские колокольцы.
Эта стужа простёрлась
дальше той,
что была
в нём самом.
***
Ржаво-красный дневник
поблёк, он кропит
земляным холодом
развилки
на ладонях.
Стираемое бельё
опадает,
повторяя форму
пустого жеста, в дёрганой
пляске.
Туманный горн
пронзает
почву,
и во дворе
воздух дрожит
чуть сильней
над монгольщиной
следов, птичьих, праотчих.
Так близко к шоссе,
жажда дороги.
***
Крик
возвёл своды.
Мы ждём, пока
железки, восковые статуи
об-
рушатся
и станет
белым-бело,
снег приглушит
красноту
кровель, куда
хватает глаз,
и – зал за залом –
станет показывать
стёртую ленту
неведомо
кому, пока не
окажется, что ничего
и не было.
1 Исполинские котлы – впадины в породе, образованные вихрями воды, движущими обломочный материал: валуны, гальку, гравий и др.
Дональд Бриттон. В балете ты всегда мальчик (перевод с английского Дмитрия Кузьмина)
В ИМПЕРИИ ВОЗДУХА
Высечь море розгами
За то, что оно кое-что утопило,
Или бегать голыми с бронзовым другом
Сквозь метёлки индейской травы*, –
Трудно сказать, какое лекарство окажется
Для тебя фатальным и помешает ли
Плотность побочных эффектов пересечь
Порог в обратном направлении и
Прочесть, что могли бы сказать инструкции,
Если бы у кого-нибудь было время их написать,
Чтобы мы могли пытать и мучить слова,
Заставляя их выдать маленький грязный секрет.
Он многослойный, как сама Земля,
Со сдвигами и разломами, замечательно
Выражающими гравитационную волю,
О которую мы должны запнуться. И все
Подсказки ночью, обтирая, впитает губка. Над
Мусорным полигоном – звёзды, сияющий
Фианитовыми нитками дальний свет мусоровозов
Встаёт в линию, влажно-лучистый, над последним
Круглосуточным салоном эротики
Прямо за границей последнего штата.
Возможно, эти искры высекли мы,
Потирая друг друга запретным способом, –
Пламенные ноты, их извлекают опрометчивые
Рапсоды из своих зажигательных скрипок. Ты
Тоже так думаешь? Правду сказать, мне больше
Нравится твоя подставная личность
Вверх ногами у меня на сетчатке за миг до того,
Как мои глаза перевернут тебя, сфокусируют и
Спроецируют через пространство настолько огромное
И настолько крохотное, что даже не возбуждает
Научного любопытства. Но света, который
Ты отбрасываешь там, недостаёт, чтобы тебя
Увидеть. Клиновидные выступы, гребешки, завитки,
Стёртые со стены колодца, могли бы быть
Людьми, в любом количестве. Попробуй
Пообщаться как-нибудь с умирающими,
И поймёшь, что я имею в виду. Каждый из них
В своём роде совершенен. И все похожи. Но и они
Не смогут сказать тебе, где кончается сходство,
Будет ли с тобой по-другому. Всё, что я знаю:
Твоё соотношение с навощённым, прозрачным
Воздухом чокнутого мая, наставшего в декабре,
Или с этой комнатой, под завязку набитой
Гениальными домохозяйственными архетипами,
Носит чисто формальный характер, точно так же,
Как у постриженного под самолёт куста
С исходным живым растением. Но для меня,
И для всего, что я сказал и сделал, и для всего
Времени, какое мне понадобилось, чтобы здесь
Оказаться, а было его так много, что я успел забыть
Цель посещения, но всё равно остался, для меня,
Пока я тебя обнимаю и бестолковые очертания
Нашей частной жизни перекрываются, а потом
Расходятся в стороны, – думай обо мне как о
Трёх разных людях и как об одном, но всегда
О том, кто я есть, непостоянный и завершённый,
В империи воздуха или прямо на улице или
Под белыми парусами, полными ветра,
Со свистом летящими вдаль над водой.
* Индейская трава (сорговник) – высокий злак с золотистыми метёлками, характерный для США.
НЕБО ЯСНО, НО ДОЖДЬ ИДЁТ
Под деревьями, где буквально всё
Ещё возможно в предписанных дозах, –
Нечто вроде аккордеона в сотню секций
Без краёв. Но не отмотать обратно
Минуты, не остановить экзекуцию
Расстрелянного дождём уикенда в самом
Начале пляжной погоды, и нет живой
Воды, что вернула бы к жизни
Сорванный цветок, всё ещё бьющийся
На стебле-призраке в вазе с водой, и нет
Такой стороны, куда бы направить
Незадачливого озадаченного приезжего,
Кроме как прямо вперёд,
К самому отвесному обрыву,
Где его путеводитель стечет по склону,
Оставив его, безадресного,
Растворяться в воздухе.
ИТАЛИЯ
Здесь в Италии все дома одинакового
Трупного цвета и небеса драматичны,
И вода в реках бурная и коричневая,
И все то и дело останавливаются, чтобы
Сказать друг другу «чао!», а потом снова «чао!».
Мы много думаем о переживаниях, особенно
О любовных. Тут есть над чем поплакать.
А потом поспать. Вообще влюбляются
Для того, чтобы не заснуть. Я как раз проснулся
И вспомнил, что я не влюблён
И готов заснуть обратно или сочинить оперу,
В которой кто-нибудь засыпает и умирает,
Или написать письмо другу, или по телефону
Позвать кого-нибудь выпить. Кажется, уже поздно.
Завтра пойду прогуляюсь, куплю себе
Что-нибудь для счастья. Помню,
Как стоял на вокзале в Пизе и надеялся
Поймать в толпе хоть кусочек американского
Голоса. Хорошо вспоминать такое,
Когда кажется, что недостаточно прожил,
Потому что надо учиться уже не жалеть
О том, что с тобой не случилось. Мне повезло,
Я помню всё, что было со мной.
Помню, как спросил незнакомую женщину,
Не её ли я тут разыскиваю, и она ответила:
«Да, к моему величайшему сожалению».
Это было не так трудно вспомнить,
Поскольку произошло пять минут назад.
С остальным сложнее. Не вспомню сразу,
Что я ел на завтрак в позапрошлый четверг
Или точную дату моей самой первой
Мастурбации, хотя наверняка, если постараться,
Можно восстановить важнейшие детали. Помню,
Мой отец использовал зелёный бальзам для волос
Марки «БВ», что значило «Бальзам для волос».
Помню ту ночь, когда отец выдрал огромный клок
Волос у матери. Они ссорились, были пьяны, и я
Вышел в пижаме из комнаты и попросил их
Остановиться. Если бы я сказал, что хочу
Пропасть с головой у кого-то в руках,
Вы бы решили, что это я в ироническом смысле,
И были бы правы. Нету ни у кого таких рук,
Чтобы я желал в них пропасть с головой.
По крайней мере, в данный момент. Сегодня
Вечером пойду смотреть пьесу на эту тему:
«Современный мужчина и как он пропал с головой».
Я думаю, все пропадают с головой двадцать раз на дню.
Я всё ещё не понимаю, при чём тут Италия,
Всё в этом стихотворении чудовищное враньё.
Как бы сказали мои студенты: «Поэт
Сам не знает, где он: некая катастрофа
Совершенно исказила его восприятие».
Я сонный, но довольный и похож на угол
Большой пустой комнаты. Я пьян и пялюсь
На дно ванны. Куча народу стоит вокруг
И слушает музыку. Мои пальцы пропахли
Сигаретами. Мне интересно, есть ли способ
Хорошо описать удовольствие, с которым
Кто-то наблюдает за мужским членом,
Дырявящим чью-то задницу, и как вообще
Люди продолжают чем-то таким заниматься,
Даже капитулировав уже перед паникой
И смертью. Помню ночь на корабле.
Носильщики разбудили нас на заре. Мы стояли
У лееров, наблюдая прозрачно-синий остров,
Открывающийся в тумане вдали. Позавтракали
Персиками. Я терпеть не мог тех, с кем я был,
Надо же, как я был чудовищно глуп. Весь день
Мы болтались по острову, качались в парке
На качелях, бродили по кромке прибоя.
В БАЛЕТЕ ТЫ ВСЕГДА МАЛЬЧИК
В балете ты всегда мальчик,
Растёшь в костюмах на живую нитку,
Их рукава так и будут отрицать
Любую память о тебе. Ведь день
Широк, но неизменен, – поток
Утекает, бурля, в замаранную мглу,
Словно набросанный карандашом
Под магниевой вспышкой небес,
Но всё же более подлинный, чем
Тоска, которой ты пока не вспомнил,
Насвистывая или гудя под нос. Позже,
Когда будет меньше времени, мы
Сможем знать то, что знаем сейчас,
В изменившемся свете, который
Кровью подтекает снизу, пылая,
Взбирается вверх, проходит сквозь
Зимние сумерки, как обычно, и ощутить
Своё появление заново в ветерке,
Оплывающем колонну знакомой
Родной влагой, небрежной текучестью
Прежних дней и лет.
Рене Шар. Разговор со своими (перевод с французского Кирилла Корчагина)
.jpg) Густав Курбе. Дробильщики камня (1849)
Густав Курбе. Дробильщики камня (1849)
КУРБЕ: ДРОБИЛЬЩИКИ КАМНЯ
Тихая жизнь соломы песка вино не разобьется
И голубей перья они пожинают
До горловин жадны их языки
И держат девичьи пальцы
И проницают их хризалиды
Отстрадавшая кровь близка к анекдоту она легковесна
Чуму серого пламени в гальку мы искрошим
Пока слухи ползут по деревне
И опять по дорогам разрушенным и это лучше всего
Там томаты садов нам в сумерках воздух приносит
И мы забываем о женах об их подступающей злобе
О хрупкости жажды свернувшейся на коленях
Парень этой ночью наши пыльные работы
Станут заметны в небе
Свинцовое масло уже оживает.
РАЗГОВОР СО СВОИМИ
Твои кости растут Ты вежливо осведомляешься у этих тиранов тыла о причине их недовольства
Они осуждают твою гибкую спину предписывают разбрасывать сор языка в точке сцепления спермы и образа
Они деловито грузят твое лицо ускользнувшее от виселицы пьедестала
Под предлогом рассмотрения твоей незанятости
Они превращают тебя в церковь
Рядом с мясными рядами
Брат у тебя новейшие технологии навозные слёзы на румяной крыше оранжереи
Ты пообедал дрожжами они тебя не опьянили
Ты невольно касаешься ветви того ледника где отчаяние обретает свою пылающую зелень
Уклон твоей крови отталкивает рабство умеренное благодарностью
Когда ты запираешься в своей ночи чтобы подсчитывать рифы о непогрешимый
Присоски парома подражают бездонному килю
Мечтатель свыкшийся с чудесами земли
Вопреки многоликому уюту небытия
Твое чувство стремится к цели что распадается на ветра́ качающие антенну
Кусочком кожи твоей я оживлю парашюты захвачу этих стрекоз у которых тела мясников свежующих космос
Соединю роковую двусмысленность и бедные краски
Тревога трефовая спутница равная мне
Я знаю что бремя солнца сокрыто в тебе
Когда оно несет меня неодолимо к жизни
Я восхищаюсь как смотришь ты не уставая в гущу леса в руках моих продолговатых обращаясь в песок
Пот в зеркале нашей любви гудит электрически словно бы в первый день
ЧАРЫ ЛИСЬЕЙ НОРЫ
Ты мне знаком, гранат-раскольник, рассвет, разворачивающий удовольствие как пример: твой облик таков ли он, как всегда – столь свободный, что от трения с ним сминалась аура воздуха, приоткрываясь для встречи со мной, облачала меня в богатые кварталы твоего воображения. Я жил там и не знал сам себя – в твоей солнечной мельнице, торжествуя в ряду сердечных богатств, сокрушивших свои же тиски. Поверх нашего удовольствия тянулась влиятельная нежность огромного колеса, поедаемого движением (как это будет в их классовых терминах?). Никто не замечал, что упрощение красоты для этого облика не было только лишь строгой экономией. Мы были точны в особенном – в том, что одно умело подчеркивать иноприродность мистерии жизни. С тех пор, как пути воспоминаний укрылись роковой лепрой монстров, я нашел убежище в невинности – там, где не стареет спящий. Но мог ли я обязать тебя к жизни? Я, что в этой Песне о Тебе, выставляю себя самым непохожим из своих двойников?
LOUIS CUREL DE LA SORGUE
Сорг, твой поток, укрытый пологом потрескивающих бабочек, серп верного старейшины у тебя в руке, и ка́зни шнурок на шее, – всё то, без чего не кончиться странствию людскому, – когда же я проснусь, чтобы радостно прислушаться к ритму, рожденному этой блаженной рожью?
Сорг, твои плечи как открытая книга призывают вчитаться. Дитя, ты был помолвлен с этим цветком на дороге, проложенной в скалах и улетающей шершнем… Сгорбленный, ты следишь за агонией преследователя, извлекшего из почвы магнит, за жестокостью бесчисленных муравьев, чтобы бросить ее миллионам убийц – всех твоих и твоей надежды…
Есть и сейчас человек на ногах, человек посреди по́ля ржаного, по́ля, подобного расстрелянному хору, по́ля спасенного.
ПЕСНЕЙ КОЗОДОЯ
Дети, вы, изрешетившие оливками солнце, погруженное в морские леса, дети, рогатки пшеницы, от вас отворачиваются иностранцы, отворачиваются от вашей измученной крови, отворачиваются от этой воды слишком чистой, лимонноглазые дети, дети, для которых поет сама соль, как решиться не быть ослепленным дружбою с вами? Небо, вы говорите с ним пухом, Дева, ее желание вы предаете, молния вас оледенила.
Возмездия! Возмездия!
ХИЖИНА ИСТОРИКА
Пирамида мучеников осаждает землю.
Одиннадцатую зиму подряд ты отказываешься от календарной надежды, от дыхания красной стали, в невыносимых душевных спектаклях. Комета, убитая влет, ты, кровоточа, запираешь ночь нашей эпохи. Запрет на веру охватывает страницу, на которой ты брал разбег, чтобы спастись от чудовищного терновника, от оглушительного оцепенения, от разговоров убийц.
Ничтожность мурены! Зеркало рвоты! Жижа плоского огня, разведенного врагом!
Ты упрям и поэтому ты любишь всё больше то, до чего раньше только касался под оливой еще молодой.
МИССИЯ И ОТКАЗ
Рядом с разрушающим богом, незавершенным в своем опыте, рядом с шаткими перспективами его алхимии я вижу вас, одаренные жизнью формы, – всё неслыханное и всё случайное, – я спрашиваю вас: «Что это – внутренний приказ? Поражение всего, что снаружи?» Земля выплескивается из своих небуквальных скобок. Солнце и ночь, сливаясь в золоте, протекают, обсуждая духопространство и стеноплоть. Обморок се́рдца… Твой ответ, знание, – это лишь смерть, прерывистый университет.
КАНИКУЛЫ НА ВЕТРУ
Деревня и склоны холмов – там, на полях, бивуаки свои выставляют мимозы. Бывает, сбор урожая от дома вдали, и вот встреча с девушкой, невероятный запах – весь день ее руки в хрупких ветвях. Она словно лампа и светлый пахучий ее ореол – уходит спиной к заходящему солнцу.
Кощунственно к ней обратиться.
Туфля, приминающая траву, – уступи́те ей след на дороге. Может, поймаете вы на губах ночную химеру влаги?
ПЕСНЯ ОТКАЗА
Рождение партизана
Поэта вернули – ради долгих лет, проведенных в отцовском небытии.
Не думайте о разговоре с ним – вы, все те, кто его любят.
Забудьте об этом счастье, если он сходен с вами настолько, что ласточкино крыло освободилось от земной ловушки.
Выпекающие хлеб дыхания, вы невидимы в вашей алеющей летаргии.
Истина и красота как залог вашего существования, о бесконечные дары, подносимые залпам освобождения!
КАРТА 8 НОЯБРЯ
Гвозди в груди, наши кости, продрогшие от слепоты, кто предлагает им подчиниться? Неофиты стареющей церкви, потоки Христа, не меньше места у вас в темнице нашего горя, чем у прочерка птицы на воздушном карнизе. Вера! От поцелуя его распятие новое в ужасе отшатнется. Как его рука, демонтировавшая нашу голову, тебя удержала бы? Ведь он тот, кто живет, отлученный плодами от ближнего, от милосердия неточных замко́в. Невероятное отвращение – к тем, для кого сама смерть готова лишиться последней завесы, – удаляется в одеждах властителя.
Дом состарится в наше отсутствие, сохранивший мгновения нашей любви, покоящейся нетронутой в траншее единственного воспоминания.
Неявный трибунал, живительный циклон, ты нас оставляешь в покое после конца и обеда, где первым блюдом был голод! Я сегодня подобен собаке, разъяренной, привязанной к дереву, полному смехом, листвой.
СКЛАДЧАТОСТЬ
Он был чистым, отец мой, местоблюститель моего провала, – я слышу твои рыдания, брань. О жизнь, переписывающая простор материнской соли! И этот человек с зубами хорька, увлажняющий зенит в подвальной земле, человек полицейского цвета, раздувающий возлюбленную красоту. Старая гнутая кровь, повелитель мой, мы выжидали, пока лунный ужас оттепельной тошноты не охватил нас. Мы, оглушенные диким терпением, и эта лампа – нам незнакомая, нам недоступная – на вершине мира, неусыпно владеет упорством и тишиной.
И вот к границе твоей, о смиренная жизнь, я шагаю уверенно, понимая, что истина не всегда предшествует действию. Безумная сестра моей речи, моя запечатанная госпожа, я спасу тебя из прибежища щебня.
Бубонный песок сочится сквозь монструозные руки, и время исходит из выражения.
О ЖЕСТОКОСТЯХ
Фонарь загорался. И тюремный двор стягивался вокруг него. Он заполнялся ловцами угрей, и они железками прощупывали редкие травы, чтобы добыть из них то, что их линии приманило. Здесь убежище нужды, и в нем обретается вся пенная шваль. И каждую ночь всё было так же – сцена: я был ее безымянным свидетелем, жертвой. Я стремился к безвестности и заточению.
Звезда предназначения. Я приоткрываю калитку в сад мертвецов, и вокруг меня собираются рабские цветы – спутники человечества, уши Создателя.
DONNERBACH MÜHLE
Мглистый ноябрь, ты слышишь звон колокольни на последней тропе, проницающий вечер и исчезающий,
Ты слышишь ветра далекий обет, отделяющий новые тюрьмы от пустоты проходящей?
Это пора мирных животных, беззлобных девушек, – вы обладаете силами, что силе моей противоречат; у вас глаза как у моего имени – того имени, что меня принуждают забыть.
Грустный колокол слишком любимого мира, я слышу монстров, что топчут землю без малейшей усмешки. Сестра моя алая вся в испарине. Сестра моя яростная призывает к оружию.
Озерная луна ступает на берег, где летних трав нежный огонь нисходит во мглу, устремленную к ложу глубокой золы.
Рассеченный пушками,
– живи, необъятный предел –
Светится дом среди леса:
Мельница, гром, ручей.
Лесли Скалапино. В ячейках света (перевод с английского Александра Фролова)
из книги «New Time» (1999)
***
покой был накоплен здесь, в ячейках света, снаружи
которого – река через луга.
они – чисты. (какое-то время не были на войне.)
***
ему – обладание – действие снег падающий сам по себе как только
переполнение через край – вытекание на него:
ночи капают – «здесь»: как само́ преодоление горизонтального лежания
самого отдыха. его (этого другого человека) преодоление – на краю – только –
не «борьба» как: ледяной снег в этом – только.
***
снаружи ничего – человек на коленях горизонтальное лежание в снего-
паде снаружи – для кого-то на коленях в напряжённом действии.
он лишь переливание через край как небо без снегопада
где небо – снегопад переливание
***
пояснительное – синее разрушение – само – их – структура в
существовании после только
«это – само-пояснение» – переупорядочивание только – как это
***
они думают (о нём, этом) знание от одного – внутреннего. только. женщина
приведённая может видеть внутреннее. эти – некоторые что ненавидят не всех. это – существование.
людям нужна мысль о комфорте . комфорта нет.
у этого физического тела есть комфорт
иногда
(расслабленного)
в то время как у этого нет
***
Движение в каркасе (кого-то) через года, в молодости
– не зафиксировано, поэтому оно единственное пока – накопление когда даже
это, и так
тяжело взвешенное не имеет – образов
муть, ум в тяжелых накопленных сериях – так что «муть» – облегчение
которое
нужно иметь в «отрезанной шее» чтобы сделать более ранее начало / «раннюю
жизнь»,
пока в это время (позже) – и иметь только отношение к реальному как только
смерть чьего-то каркаса – движется
***
он/кто-то ни в чём не заинтересован, труп
он не умирает – он просто ложится на себя – пока жив (?)
поэтому здесь нет лёгкой жизни
***
(на чёрном рассвете, фактически) – океан чёрных ирисов висящий в
темноте где кто-то сидит – поэтому вышивала их; встала, в 3 часа ночи, в
тишине, шитье – шей шёлковые чёрные ирисы что есть те, складки
у нас нет слов. шёлковый чёрный ирис (формирование, позже, но потом –
снаружи) из моей груди/ грудной клетки оторванной от чьих-то бёдер – это не
концепция шёлкового чёрного ириса (хотя была ей, в отрывании), собственно
которая сформировалась первой. я бы не хотела этого в письменной форме.
отказаться от жизни
***
цветущие деревья плывут по небу – переполненное светящееся небо океана
(небо
которое – океан)
группа, не имеющая времени для себя, открывает то затопленное небо
лишённый сна
давление благодаря которому разум становится социальной единицей – только
цветущие деревья, у которых ничего нет, кроме плавания по небу
***
сон так же чтобы сжимать нежели высвобождать
здесь нет высвобождения
рушится ли (во сне или наяву) ум в небо
(внутри) – здесь нет внутри
Ты можешь быть рядом... (медитация по поводу выхода книги Татьяны Инструкции)
Татьяна Инструкция – «"Письмо, телесность, урбанизм" и другие тексты» (Free Poetry, Чебоксары, 2020)
«…но не ближе, чем кожа», – поёт Гребенщиков. Но так ли это?
Кожа – естественная граница тела. Но она проницаема, как любая граница. Если задуматься о конвенциях, по которым наше тело распространяется вовне и вбирает в себя внешнее – станет очень интересно жить.
Я объяснял эту нехитрую мысль подруге:
– А вот на кончике ручки, которой я пишу, ещё тело или уже просто «конец предмета», которым я пользуюсь? И сами буквы, которые я записал – это «след». Но, допустим, я забыл написанное, а потом, спустя время, прочитал. Моё тело вернулось в моё тело, пройдя процесс десоматизации своего следа.
Через кожу мы дышим, под кожу можно сделать укол, впустив агента или, как сейчас говорят, «актора» извне. Можно сделать тату, закрепив в теле или на теле нечто, что изменит его форму, поверхность и образ.
Есть фантомные боли, есть пища, которая проходит по телу, оставляя в нём большую свою часть. Есть пыль на рабочем столе, по большей части состоящая из омертвелой кожи…
* * *
Как говорить о теле и телесности? О сексуальности, которая в большей степени связана с «голым телом», то есть с телом как таковым?
Книга Татьяны Инструкции называется «"Письмо, телесность, урбанизм" и другие тексты».
Здесь, в этой комбинаторной поэтике, присутствуют начала нескольких живых и мёртвых стилей. И «живы» они и «мертвы» как баснословная вода. Сначала рану надо окропить одной, затем другой. Тогда будет то, что станет поэтическим, веществом, без которого не жив ни писатель, ни книга. Без чего нет «заражения», возбуждения и склеивания с опытом поэт_ки и его/её ироничного модуса восприятия мира.
Сразу надо сказать, что эта «ирония» совсем не проституирует темы и образы, концепции, ситуации речи, всё, что вполне возможно (бытийственно) и имеет миметический смысл в каждой конкретной ситуации, событии внутри миниатюры. И смысл этот может быть одновременно очень трагичен, но сглажен чем-то вроде шума расщеплённой клише-речи, из которой состоит мир за пределами нервной системы персонажа Татьяны, от лица которой мы получаем некоторый месседж, состоящий более, чем из [её] слов.
В книге есть два текста, которые можно счесть декларативными.
сахар рассыпается, речь прерывается,
машина письма запускается,
периферийное актуализируется,
данное репроблематизируется…
или:
это такое письмо,
которое рефлексирует восприятие, и тут оказывается,
что ничего не дано законченным, а только
становящимся, а значит фрагментарным, не собранным
такой вот написала
Последний фрагмент описывает опыт неких «творческих исканий» Татьяны в поле современных идеологий и эстетических практик. Он, конечно, бурлескный. Но, однако, героиня в конце оказывается «в подвисании», и это что-то вроде растерянности, самого точного определения состояния умов сейчас. Не только неких элитарных умов, умников, нет. Человека в режиме хаоса языков медиа. По версии Александра Скидана, чьё стихотворение стало эпиграфом для книги, и чьё влияние в ней заметно, – других языков просто не осталось.
Но, «кмк», «имхо» [будем играть в языки], всегда можно сказать больше сказанного до тебя.
Переизобретение, или пересборка поэтического как необходимой формы для «частного» высказывания, – это нахождение добавочного смысла, отчасти паразитического, отчасти игрового, отчасти приходящего просто как эффект комбинаторики (или синтаксиса).
Вопрос языка, даже Языка – вопрос выбора. Политического, эстетического, морального. Эта книга очень тонко демонстрирует возможность и невозможность быть в поле общих смыслов: идей, ситуаций, ловушек разных форматов общения от смс до пьяной склоки или любовного акта.
и такое прошепчешь вульвой
из собственной темноты,
что акмеизм перевернётся,
слова раскатятся по полу…
или:
но эта лёгкость без названья
имела множество причин
чтоб я в конце концов назвала
всех моих женщин и мужчин,
ну, а потом меня лишь спросят
«как вас зовут?»
и как наркотики подбросят
и унесут
Вот это становление вещью, причём «брошенной», как «заброшенность в бытие» у Хайдеггера, или, наоборот, найденной, как в советском мультике про Бюро находок, чем-то ещё дополняется. Татьяна Инструкция обладает некой волей к жизни, преодолевающей те очень игрушечные обстоятельства, в которых ей приходится искать любви.
Собственно, эротическое – это сочетание телесного, физиологического, и душевного. Слово «душа» стремительно уходит из употребления в русском языке. Одна моя знакомая удивилась:
– А как тогда сказать?
– Очень много «аналогов»: психика, тело, организм, субъект, личность…
Если подходить к вопросу консервативно, «эротическое» – это когда речевое не отделено от физиологического. Первая книга ещё одного предтечи Татьяны, Ярослава Могутина, называлась «Упражнения для языка». Вот начало его «Малой поэмы экстаза»:
…С ним в ванной появились
какие-то волосы козявки полоски
Только одежда отечественного производства
подходит для постоянной носки
Все равно как с малым дитём:
не то ползунки не то подгузники не то соски
всё не то
всё не так
всё не слава богу
подумалось подходя к родному порогу:
отольются Лёшке Мишкины слёзки
СПАТЬ ЛОЖУСЬ ТЧК
ОПУХЛИ ЖЕЛЁЗКИ
…С ним в ванной появились
нет их никогда не было и не будет
меня теперь другие разбудят
после липкого сна в котором другие снились
Для «оплодотворения» речи, которая всегда чем-то замусорена, необходим этот жест внедрения чего-то резкого, смещающего оптику и за ней семантику. Эта резкость становится чертой стиля и работает как характер уже живого жаргона (автора, книги, маски). Сейчас работа происходит не на уровне тотального обновления, которое в вавилонском смешении речей и лже-речей, где не отделить подлинное от фейка, просто невозможно, наивно и даже комично. А чаще и удачнее, по крайней мере, в случае Татьяны Инструкции, на уровне столкновений, нивелировок и актуализаций готовых фреймов, взятых из интернет-чатика или актуального политического, философского словаря. Ну, и, конечно, самой русской стиховой культуры:
ты сказал, что это перебор
я принесла гитару, тренькнула
и ответила, что это вот перебор
а теперь я тебе на правую ногу
надену перчатку с левой руки
Когда этот текст читает автор_ка, забываешь, что это некий карнавал (что бы мы под этим словом не понимали). Здесь есть нежность касания чужого тела. Это касание создаёт определённый заряд значений (и явлений), который воспринимается как праздник, то, что сам_а автор_ка называет вслед за Ницше «духом лёгкости». Это некая вибрация и тел (возможно, двух), и слов, и конструкций ума, который «поёт» в этом потоке, захваченный весёлостью самого кунштюка, «монтажа», ставшего естественной формой общения между теми, кто хочет быть любовником.
«Выживут только любовники», надо бы пересмотреть.

.jpg)
.jpg)
.jpg)