«Флаги». Восемнадцатый номер

Содержание
Фото на обложке — Вика Адутова | vika-adutova.com
Осе Берг. Орбита сильной телесной деформации (из книги «Тёмная материя»). Перевод со шведского Надежды Воиновой и Андрея Сен-Сенькова
Появление на русском языке «Тёмной материи» шведской поэтессы Осе Берг в переводе Надежды Воиновой и Андрея Сен-Сенькова в издательстве SOYAPRESS позволяет познакомиться с необычной для русскоязычной поэзии линией поэтической суггестии и китчевых столкновений. Художественный мир, насыщенный телесными и ландшафтными трансформациями, пугает и притягивает одновременно. Кажется, что и тревожность, перманентно присутствующая в мире Берг и выступающая в ней одним из физических законов, пригодится, к тому же, изменчивой пластике современной русскоязычной литературы.
ПЕСНЬ ВОДОРОДА
Водород клокочет песней
сбросит панцирь плоть улитки,
Иво вытянет всю память
ракушка меня сокроет
Водород восходит песней
из скорлупки плоть сосут
Иво вытащит контакты
ракушка щитом укроет
Натиски, частиц напевы,
скорлупу ничто заполнит
Я стою, застыв в пространстве,
телом в тени растворившись
Слышишь, схлопнутся соборы
бороздя руками вакуум
эта песнь, утратив близость
слепо в раковине скачет
Я — одна в своей скорлупке
выдавив из тела глобус
и останки в храме эха
брошенную, рвут меня
Тайна стала жертвой казни
Дай побыть одной в тиши мне
НАСТРОИТЬ ЗАЙЦА
Жди зайца
неси зайца
неси зайца вниз к светлым голоса водам
Заглуши зайца
приглуши зайца
войди в зайца над лопнувшей уха землёй
Расслабь зайца
раздери зайца
погрузи зайца в холодные воды глаза
ОРБИТА СИЛЬНОЙ ТЕЛЕСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Я повредила —
появилось повреждение обороту часов
Стекло пробивается в день
выбивается из шестерёнки и болит
возможно в колене, в скелете
В звуке было резко слышно
перелом телесной деформации
сильной — разболтать спину,
сильной — в неправильном скелете
Это так сильно — освободить
орбиту и равновесие концентрации
Здесь система
линии вдоль суток
где след подрагиваний воли
Ужас языка слова
Это можно услышать в ужасе языка слова:
язык холодней смерти
Я теперь не закреплена и опасно
вишу, не способна говориться
Должна телом несмотря на кривизну
Оно хочет исторгнуть слезопад
за мозгом лица
язык холоднее
смерти
Сейчас нет места для опоры
Нет петли для опоры
скелет обознобливается
но поверхности с шипами
держи кататонию
Каждые сутки прокладываются колеи
для ног глаз скелета
воздух пробивает жёлоб
чтобы мозг лица мог там проплыть
Но если я хромаю
уменьшаюсь в росте
деформация коленного сустава и боль
глаз может оказаться ниже
своего уровня путеводного света
Вполовину призрачно-тонкое дыхание
освинцевание запрещевания
не та шестеренка в заторе положения
и кривизна сохраняет
диск тела, скорость
Смертельная опасность провизориума
Веет поверхностями
сквозь тело
жёсткий порядок мест скелета
стирает осанку
Строгость дворца скелета
Всё мало
Я своё сломала
Сантилитр разбитости трещины составляет ширину реальности мира
НА КРАЮ МЕЖДУ ПЛАСТАМИ ТОГО, КАК ВСЁ УСТРОЕНО
Именно в этот день, именно при этом свете я могу видеть, как слои воздуха, слои водорода и гелия перекрывают — вплетаются — ломают друг друга.
Каков состав воздуха именно в этот период времени, когда всё разворачивается? Изменит ли он постепенно характер, выдернет ли ленты света из их направления, рассоединится или сдержится?
Как устроена такая погода? Эта лёгкая дымка, полосы целлюлозы, излучение?
Как тёмные сланцевые дробильни перемалывают слои под коркой?
Как железо лязгает о голубой гранит?
В каких формациях движутся клинья, журавли?
Какой тип влажности, какой состав почвы?
Насколько кожа не пропускает окружающую массу? Насколько широки, насколько вязки поры? Пропускают ли они, и что?
Как преломляет здесь свет?
Насколько мёртв этот чёрный камень?
Как встречу я взгляд другой материал-машины?
Там и здесь проходят границы между различными способами бытия жизненной формой. Я со своим силуэтом: без того, чтобы стать деревом, я смею отдыхать здесь под деревом. Это бесконечное доверие к стыкам, краям, точкам пересечения и лояльности объектов. С нескончаемой верой в силуэты, в то, что ремни, разрезы и стежки удерживают вещи на своих местах.
От верности к материи.
Именно при этом освещении. В этом, на данный момент актуальном пейзаже.
НЕ-МАТЕРИЯ
Материя жива.
Материя — чистое зло.
Материя компактна, резистентна.
И здесь нет места компромиссу.
Но мы.
Быкоголовый род мы-Осе.
Хватаем ген, на гене скачем сквозь лет размытые не(вз)годы.
Уродство мир опустошает.
Взрываем ген:
уродство — сила
Материя — чистое зло,
уродство — чистая воля
противоволя — Не-материя?
Спираль соборы лабиринты
И чёрной раковины шахта из тьмы материи
Там глубоко в подводном слухе ум заострив
о хрупкие частоты
Стою, протягиваю трубку
к легчайшим облакам эфира нет там, увы, того, кто мог бы принять мой голос
О, Захрис, Иво, Александр — смотрите же, как вырываюсь теперь из раковины чёрной, останется лишь плоть улитки лежать здесь брошена бледна
вглубь чёрной раковины тихо вплыву одна
и буду парить одна во мне в чёрной раковине, Осе
Анн Йедерлунд. Ты знаешь кому (из книги «Скоро изойду я в лето»). Перевод со шведского Надежды Воиновой
ТЫ ЗНАЕШЬ КОМУ
I
Детство чтоб от бледности поблекнуть
Долго замирала как в покое
Белый гроб листвою сладко пахнет
Анемоны сладостью наелись
Детство чтоб от бледности померкнуть
Колокольцы зреют языками
Колокольцы, как же их оставить
Сладкий запах из открытых пор щеки
Кружева так красят голову ребенка,
В бледности покой обрящет сладость
Дух земли за теми следует, кто ищет
Так написано: от нежности до сласти.
За цветы меня опять забудешь
В голове твоей мои венки опустишь
Слишком рано расцвели цветочки
Лишь в одном созрел кроваво-красно
Придешь ли с головой моей процветшей
Годы мне не принесёшь в ответ
Скоро изойду я в лето
Ты так пахнешь с этими цветами
Мякотью разрезанной в сиянье
Тихо пробегают дни за днями
Высоки, как времена в грядущем
Ведь любовь всего превыше, кроме правды
Люблю тебя я белых агнцев
Как лист ещё полоску обнажает.
Тёмного и старомодного ребёнка с завитками
В гроб глубокий опустили
Но он снов проступил водой прозрачной
Каплями на нежном горле.
Глухо ухают над головой удары
Хоть вернулись но уже не к ней
Глазами прохладными словно бутоны
Открытыми в тонкой щели листа
Из водной кроны капли тяжкие роняешь
На бледные руки покровы водопадом
Не можешь умертвить ты мертвых листьев
В раскрытой чашечке цветка пустынным летом
Сияют грубо под ночным сияньем
Дыша во влажных чашах анемоны
Недвижен и покоен рот девичий
Или пристёгнут к мощному стеблю
Девичий рот дарил мужчинам птичьи сласти
Несущие глубокой щели след
II
К белой розе клонится тяжёлая грудь. Чёрные луче-жемчужины и есть лучи. Мёртвыми и недоступными кольцами. Роза видит эти кольца в своем лоне. Или как грудолепестки сгущаются во тьме. Словно во внутренних лепестках. Ведь пудра переносится на метку, скрытую лепестками.
Сумрак сада пахнет собственной сладостью. Тёплые тяжёлые пионы. Шпорники побледнели и хотят укутаться в горячее стекло. Или в нежно-шёлковые руки, подарок рыцаря. Там таинственные благоухающие пестики. Безнадёжно и с тоскою выращенные в этой суровой красоте. Как герань и чуждые гвоздики. И гиацинты с летучим секретом божественных желез.
Из леса выходит дочь за ней отец. Воздух тяжек и пахнет красными мраморными лепестками. Или лучезарными райскими птицами и простенькими маргаритками. Отец слеп и зачарован. Глаза мерцают колдовским сияньем. У него светлая жилистая почти протянутая рука с секретом птичьих желез. Отец брюхат или плачет. Когда дочь ведёт его под колючие заросли роз. Где уродливые траурницы сидят с распростёртыми и покорными крыльями. Дочь тоже слепа, но пробирается наощупь. На грудо-плечах блестят мощные раны. Выклеванные лазоревым вороном. Или другими птицами с длинными полосатыми гузками.
Из шеи вырастает белая и красивая лебедь с мертвой головой. А из-под туловища торчат шелковистые конечности. Или блестящие перламутровые листья. У нее сильный и навязчивый черепичный рот. Который открывается над крапчатой шеей. Грубый Господь засовывает ей в рот свой грубый господний стебель. Ручей так прекрасен, что его поток подобен глоткáм изумруда. Она простая лебедь-роза. С черепично-красными материнскими листьями размером с имбирь. О, эти материнские листья. Которые прорастают в серебряную чашу под мягкой черепицей.
В каждом цветке обитает другой цветок. Скорбное украшение со слабым запахом. Непонятно мягкое в тёмном золоте. В каждом цветке еще можно различить оставленный узор. Парные крылья с тонкими как волосинка божественными сосудами. Детские глаза в тонкой ткани. Где вечерняя заря опускает свой розовый плащ. Сосульки пересекают стебли. Высокие липкие стебли. Под крайней плотью сердца. Всё бессмысленно. Фанфары звенят в усталой ткани груди. Медленно позвякивая как стекло пальцев. Роза так прекрасна, что её листья подобны фанфарам.
В поле осеннее солнце упало в ясные мёртвые цвета. И земля тоже упала к червям. Лебедь вывели в поле и запахали в чёрную землю. Чёрно-гортанная медвяная птица. Лучезарное сердце с райским ртом. От голода она всё глубже дышала. Перья впахали в поле. И посеяли лебедь её же уродливыми белыми семенами. Она пахла как мёртвые. Но восстала как желанная. Гортанный покой с круглыми прекрасными глазами. Над сияющим вóротом земли. Сложившимся в цветок.
Возле открытого рта растут листья сухими гроздьями. Крупные тёмно-краснеющие листья камфоры. Высушенные для тебя внутри умершей. Тщательно выбранные мотивы. Опиаты с девственными глазами. Очищенные мало помалу. Пока только они у тебя внутри не вытекут. Ты не можешь открыть их чаши. Но внутренность бутонов вытекает, образуя миниатюрные бутоны. Маленькое тёмно-зелёное тазовое дно. В глубине уродливых гор. Где твоё мёртвое каменное сердце нависает над открытой бухтой. Как заброшенная точка с красным сердцем вослед.
Йени Тюнедаль. Здесь есть мир (перевод со шведского Петра Кочеткова, Надежды Воиновой)
CASUS BELLI
защитить чтобы предотвратить пережить
защитить чтобы защитить: предотвратить пережить наказать
защитить: сохранить/соединить
физические и вербальные увечья
увечащее/обвиняющее/дорогое
помешать чтобы помешать / защитить / дорогое
мое / дорогие / ближайшие / близидущие
наследник как вылечить / щит
наказать / излечить
излечить чтоб обле’гчить сокрыть
скрыть чтобы вылечить защитить облечь робких
чтоб помешать / ограничить / сдержать
излечить: улучшить чтобы сберечь умягчить
спеленатые тени / пеленатые камни
пеленатые тугие глотки как дети
[ЗДЕСЬ ЕСТЬ МИР]
Здесь есть мир
Сперва я не чувствую
Затем оно продолжает
Вот поле
Вот неизбывное сердце
Солнце что светит
Вот это его обязанность
Внутри большой боли
Один одной матери
Вот недопонимание
Где должно было быть важнейшее
В ее голове
Это случалось и раньше
Живые мертвые или мертвые живые или
Кто-то с их же руками
Дождь серебра приходит на поле
Я иду увидеть своими глазами
Ждать до чего-то
Все происходит затем что
Здесь нету деревьев
Здесь нет облегчения
Я не хочу знать кто и зачем
Рассмеялась как счастливейшее дитя
Беспокойство и это беспокойство это пробуждает
Дрожащая тень дрожит
Что-то рвет чье-то сердце на части
Мое сердце
Убыточная любовь рвет нечто на части
Ты стоишь вместе с дверью за дверью
Забытое еще есть в забывании
Люди связаны вместе
Совместная тишина самодостаточность безнадежность
Может нам быть вечно брошенными среди отчаяния
Может все той же смерти быть снова
ЗАЩИТИТЬ ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕЖИТЬ
Ребенок пугающе схож с своей матерью
и их непринужденная манера дотрагиваться друг до друга
тянется сквозь время и пространство
как деревья сквозь ветки
свет сквозь глаза
их сетки вокруг них
как кровь
Белый каток
океан чтобы защищать
холодноватый серый день в январе
память скрывающая другую
одно из всех ощущений — доверие
удлинение волос
периоды тишины
устойчивая эгоистичная любовь
Крытый снегом складный легкий снегопад покрывающий
неиссякаемый свет то самое
имя для тех малых ран
один из нескольких способов руководить боль
кто-то здесь кто нас сменит
море чтобы разбитым не быть
Щели наполненные водой плотью и кровью
наше свое всё этот воздух
незаменяемость незаменимый
вплоть до последнего
что собирается быть затемнен
и все более легкий легкий снег плотный плотный
плотнеет как мрак как созвездия
белеет в мертвых снегах
Мертвые мухи белая легкая ткань
живые мухи белая легкая ткань
всецело насквозь пеленой затененное небо
затянутое немыми телами немые
во’ды без берегов горенье без дров
поддающийся тяжесть все более ранний мрак
падающие встающие частые
Твоя манера описывать закат как кровь
всякая манера описывать закат как свет
рябь слов и после них
Черные ветки на деревьях без листьев
как белый уносится в серый уносимые облака
нейтральный участок нейтральность камней
Вырастание тел неизбежно
были так же длинны невозвратные без защиты
в границах достаточны сдержанные как звери
Поля укрывают страх
что бы ни было сказано что бы ни означало
неотличимо как дети — внешне непредумышленно —
их убегающие и этот: где теперь они буйствующие / в кучках
Слово война это лишь промежуток теперь
экраны и разные способы выбрать но пребывают руинами также и образы
отчаивающиеся мужчины — отцы семейств — что не могут добраться
куда-либо
незащищаемое
я задаюсь кому это принадлежит
Белые роения разбитые руки или лампы
отсутствие матерей мертвые розы несчетные массы выбитые из строя
совместный красный тела что нас учат
права и трава доступ и недостаток прикосновение и крик
светящийся взлет летящие освещающие нуждающаяся в защите светобоязнь
Вот своего рода сновидение в реальности
избегание или согласие
закат его все золотое
начало м. б. сквозь туман горит позолоченный свет
как во сне и правдиво мы уходим все дальше прочь
Их лица теперь это лишь преизбыток
тип времени что не идет вспять себя самого или вечности
я составляю само поле зрения и границу
слово я возвращается множество раз
но время проходит быстрее треск, береза, сгибает
ты уходишь вблизи
Небо выглядит так будто держится больше не сверху а снизу
то же поле сейчас что вчера белый не сдерживающий себя
опустошающие птицы и просторы
легче заснуть в столь ранее время года
больше нельзя понять наши правила
их обязательства
Поле длится как боль внутренне разные способы взаимодействия с деньгами
с языком гражданское насилие снег холодная пыль как напоминание
отсутствие страница двигает свет справа находятся люди
дремлющий снег безразлично кто умерли уже мертвые
потому укрытые — приглушенные — ждут
ЗАЩИТИТЬ: СОХРАНИТЬ / СОЕДИНИТЬ
Это случалось и раньше
как мрак закрыты зрачки
на их лицах число
идет к затемнению
Месть невозможна
невозможно понять что то люди
или их близкие
Пыль на лице
белый не сдерживающий себя
утренний утра холодный влажный захват
сперва я не чувствую
затем оно продолжает
Это их наша ответственность защита / галька / долг
что нечто «есть ребенок» «в буквальном значении брошенный»
отличия суть следствия что первоначально эта ответственность их
лица мертвых / неразделимое / беззаботное
переводы Петра Кочеткова
***
Ты с дверью стоишь за дверью
Забытое осталось в забвенье
Люди друг другу братья
Друг другу спокойствие независимость отсутствие надежды
Может всегда нас
надо бросать промеж отчаяния
Может та же самая смерть должна повторяться
перевод Надежды Воиновой
ФИЗИЧЕСКИЕ И ВЕРБАЛЬНЫЕ УВЕЧЬЯ
Что остается быть
внутри сомнения нигде
вне сомнения ничто
перевод Петра Кочеткова
Август Стриндберг. У конца дня (перевод со шведского Аси Хвойницкой)
КАРТИНЫ УЛИЦ
Пустынная улица в предрассветных сумерках
Ползет, растягивается вдаль,
Идет на ощупь сквозь кварталы.
Режет, пересекает участки и переулки…
Вдалеке, вдоль другой части города
Она поднимается, взлетает по склону.
А там висят облака:
Заканчивается земля, начинаются небеса.
Ряды домов, серо-коричневые дороги,
Рейки, желоба, перила, балконы,
Пекарские крендельки, кисточки бакалей;
Плоские камни тротуаров — поля страницы,
Фонари столпившись
Огородили дорогу железным забором.
Сама же дорога — изношенный пыльный
Палас, разложенный для чистки.
В серо-коричневых стенах спят
Люди, выжидающие темной судьбы.
За воротами ждут Норны,
Чтобы с новым днем возобновить
Жуткие игры с человеческой жизнью.
Теперь, в отдалении, на темечке холма
Выскакивает голова, она двигается,
а две руки обхватывают трость.
Как в мираже она поднимается,
И мужчина, что метет улицу,
Виден на вершине с головой в облаках.
Метла вздымает пыль —
Земля и небо встречаются в облаках.
Переулок темен в осеннем вечере,
Окна домов приоткрыты;
Осенние мысли задушили комнаты,
Вздохи тоски по уходящему лету,
Беспокойство от приближающейся зимы,
Неопределенность грядущей судьбы,
Тревога жмет человеческую грудь…
Дома дышат, воздух в переулке
Стоит так туманно будто наполнен болями.
Но там внизу в устье переулка
Видно течение, и шаланды на якорях
Сушат паруса от прошедшего дневного дождя.
А вдалеке, на другом берегу
Зеленеет маленький островок.
На самых высоких вершинах крон
Тонущее солнце вложило золото в зелень,
А там вдалеке, еще выше
Синеют очертания города,
Там солнце, там светятся лачуги,
Там морской воздух, там реют флаги,
Выше всего — купольная башня церкви,
Увенчанный земным шаром в яркую позолоту,
Глобус, земля сияет как солнце,
Шлет сверкающие лучи вовне — — —
А на шаре стоит крест!
Темен склон и темен дом —
Темней всего же их подвал —
Подземельный, никаких ходов —
Глотка подвала — это и дверь и окно-
А внизу в темноте,
Жужжит динамо,
И искры летят от колеса;
Черное и ужасное, тайком
Мелет оно свет на всю округу.
У КОНЦА ДНЯ
Высоко под крышей
Я живу
У ласточек и голубей,
Где кровля дрожит от ветра. — — — .
Вдалеке на озере вижу я лодки
И чаек на землю сошедших;
Я б туда,
Если б были крылья, конечно.
*
Там вдалеке встает солнце;
Я это знаю!
Прямо поверх синих лесов
Что отпрянут у моря на востоке. — — — .
Издали слышу я голоса
Что шепчут песни гумна…
И плачу я
Вспоминая о севшей на мель надежде.
*
Там вдалеке синий лес
У моря,
Там прошла моя юность, давным давно
Там у свежих заливов. — — — .
Славьтесь мечтательные очаги,
И друзья что ушли?
Похоронено
Лучшее — жизнь забрала!
*
Я не хочу туда смотреть.
Не туда!
Я втягиваюсь обратно в шезлонг,
Откуда вижу только облака. — — — .
Как жар в углях костра,
В закатных облаках!
Сюда!
Тут тоже ждут конца дня!
София Камилл. в смешении белое видится в чёрном (перевод со шведского Надежды Воиновой, комментарий Ивана Фурманова)
Помню, что узнал о стихах Софии Камилл в 2019 году (именно о стихах, потому что мы ни тогда, ни дальше не были знакомы лично) — для меня в том длинном списке Премии Драгомощенко не открылось текстов, кажется, стремительнее и яснее. Настолько скоро они стали частью моего скромного пантеона из священных ориентиров и всего того, что я до сих пор называю поэтическим.
В декабре 2021 года рассказывал дедушке по скайпу о смерти Софии. Помню, мы говорили о безвременности — и обо всём, о чём принято говорить в таких случаях, находясь по эту сторону (между жизнью и смертью) и по ту сторону (между родством и не-родством, знакомством и не-знакомством, близостью и не-близостью).
Через полтора месяца деда не стало, и общих (общепринятых) слов о чьей-либо смерти у меня не осталось — всё обострилось и оказалось вдруг слишком личным.
Человек, создавая что-то, напрягает пространство вокруг себя, наделяет его смыслами. С его смертью пространство расслабляется и вздыхает. Но это расслабление и этот вздох обостряют творчество других — тех, кто знал этого человека, или тех, кто знал о том, что этот человек создавал. И напряженность, получается, никогда не перестает.
Такой образ приснился мне во время подготовки публикации стихотворений Софии Камилл, собранных и переведенных со шведского её матерью, Надеждой Воиновой. Мне радостно думать, что напряженность пространства, созданная однажды кристальными словами Софии, всё ещё не перестает.
— Иван Фурманов
***
Я по ночам
тебя хотела бы качать
я по ночам
тебя б хотела поливать
ты по ночам
надеюсь, хорошо растёшь
после восьми стаканов молока, которые вливаю в твою пустую земляную дыру
Я по ночам
тебя хотела бы баюкать
пока ты не уснёшь
Я по ночам
тебя хотела б перебрать и залатать и выгрызть из тебя все сорняки
и по ночам
ты не читай
а вместо этого ешь досыта
фонемы,
которыми тебя я удобрю́
обёртывая в одеяло
но хватит ли нам знаков?
если мало
я снова удобрением полью
***
Ещё зародышем дыша,
я верила, что мир —
разумная душа
теперь же ковыляя
ногами в трещинах
деревья крою
обрастая в хлам
и ценности мои
не стоят и гроша
***
Всё, что стекает —
утекает
и маркет превратится в маркер
заметки обретут отметки
родовое древо начнёт напоминать о корнях,
жирный запах пота в воздухе
***
Ты должен отнестись ко мне серьёзно
И выслушать внимательно
то что я белым
Выбила по чёрному
(Так актуальность темы выбивается на цвете кожи)
Так что навостри-ка белы круглы ушки
И запиши:
Что земли не ползут по телу как лишай
Что тела не стоит читать как карты
Что нильс и акка из кебникайзе никогда не одолеют мой песочный шторм
из перхоти сухой
Где их единственная влага — твой пот —
И их чудовищная жажда заодно
Ты возвращаешься ко мне
поскольку я
плод тираний
бесплодность и грозовая туча
Но также потому
что ночь начнётся
с обыденного ритуала
Ртов зубов
целующих другие зубы
Сгорающих во тьме
***
Пускай же городок
тот будет бел и невысок
как блин и лист бумаги
пусть каждый дом другому составит рифму
пусть сказки шведские текут
по вечерам из душных окон и подсвечников полузажжённых.
пусть стихотворенье будет
красно и чёрно
чтобы птиц пугать
и самолеты из бумаги
как божьи коровки
свешивающие тельца с краёв листка
ПЕСНЯ
парни всё хотели
без борьбы
женщина недвижна
от судьбы
как же ей ответить
успокой
видишь, тело голо
крик и боль
её укрой
в покой
в свой пыл
веди
за борт
корабль
в порт
в теле дыры
рот
согнёт
под лёд
в огонь
кричать
твою мать
цвет рос
тонул
в дали
в пыли
и в крик
в песок
уходит
стыд
песнь в цель
летит
научит нас
наш мир
забыть постель
окрепнув
глядь
на ноги
встать
тянись вперёд
ущерб найдёт
держа власы
весны весы
без ран
надень
один
ты победил
***
в смешении белое видится в чёрном
вольт прогорает
в осторожном сиянии ламп
смутно блуждает под снегом
под его чудесным паденьем
по зарослям в лесу скакать
и нос в кабак любой совать
желая
излить насилие
что стильно
машет нам из-под…
пока чудесно снег идёт
и следа круг
в дорожный крюк
от медленного света
в пыли
в лесу
окутав ночь
качаясь под водою
детишек подморозит в лёд
пока чудесно снег идёт
Тарьей Весос. Из книги «Родники» (Kjeldene) (перевод с норвежского Александра Панова)
ТАРЬЕЙ ВЕСОС И ЕГО ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ
Тарьей Весос (1897-1970) — норвежский писатель, поэт и драматург. Он завоевал несколько национальных и международных литературных премий, выдвигался на Нобелевскую премию по литературе и получил признание во многих странах мира (книги его переведены, по меньшей мере, на 28 языков). Писал он на новонорвежском языке («нюношке»), менее распространённом в литературной традиции Норвегии, чем букмол [1]. Именно работы, написанные в прозе, принесли автору наибольшую известность. Российским читателям он известен по романам «Великая игра», «Птицы», «Ледяной замок», а также нескольким рассказам [2].
Куда менее известен за пределами Скандинавии Весос-поэт. В России его знают лишь немногие исследователи и любители скандинавской литературы. Несколько лучше обстоят дела в англоязычном мире, Германии, Хорватии, Грузии и других странах, жители которых могут прочесть его стихи на своих родных языках. Тарьея Весоса трудно назвать плодотворным поэтом: за свою жизнь он издал более двадцати романов и всего пять поэтических сборников (его шестая книга «Жизнь у потока» была опубликована посмертно).
Весос начал писать стихи ещё в юности, однако долгое время поэзия оставалась для него «увлечением», к которому он обращался лишь эпизодически. Настоящий поэтический дебют автора состоялся в 49 лет, когда увидел свет сборник стихов «Родники» (Kjeldene). На тот момент автор уже прочно утвердился в норвежской литературе как романист, новеллист, драматург, объездил многие европейские страны. Большая часть стихов в ней написана в рифмометрической форме, традиционной для того времени. В ней присутствуют песенные и балладные мотивы («Песня», «Лошадь»), чувствуется влияние символизма («Тёмные корабли прибывают»). Читатели, знакомые с прозой Весоса, увидят параллель между балладой «Лошадь» и сюжетом романа «Великая игра», один из эпизодов которого — забой старого крестьянского коня, много лет служившего в хозяйстве верой и правдой.
Сельский уклад сыграл важную роль в становлении личности писателя: будучи старшим сыном в семье зажиточных крестьян, в течение многих поколений обитавшей в поместье Весос, он отказывается продолжать дело отца, избрав путь литератора. При этом хутор Мидтбё, где в 1934 г. Весос со своей женой Халлдис Мурен поселился и прожил до самой смерти, находился совсем неподалёку от семейной фермы. Также Тарьей Весос — единственный писатель, отказавшийся от предложения властей переехать в поместье «Грот» (Grotten), расположенном уединенном уголке Дворцового парка в Осло (существует традиция, по которой наиболее влиятельный литератор получает эту резиденцию в знак признания своих заслуг). Жена писателя Халлдис Мурен Весос вспоминает: «Возможно, хотя он никогда не говорил об этом, в минуты самокопания он испытывал тяжёлое чувство вины [за то, что повернулся спиной к своим родителям]. Тем не менее, думаю, он был твёрдо уверен в том, что сделал правильный выбор» [3]. По мнению Халлдис Мурен именно поэтому Тарьей Весос так много писал о лошадях — неотъемлемой части своей юности. Помимо романа «Великая игра», одна из крупнейших прозаических работ Весоса так и называется — «Кони вороные» (норв. Dei svarte hestane; Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1928). И вряд ли является случайностью, что именно лошадь является лирическому герою одноимённого стихотворения (тоже крестьянину, ставшему писателем) и задаёт «безмолвный вопрос»: «Что ты делаешь здесь?».
В своих последующих работах Тарьей Весос ориентируется на свободную манеру стихосложения. Литературный критик Сверре Лингстад объясняет это тем, что поэт был «очевидно, разочарован в своих юношеских попытках создания традиционных стихов и обрёл собственный голос лишь после знакомства с шведско-финскими модернистами, в особенности Эдит Сёдергран» [4]. Тот факт, что стихи Сёдергран оказали на Весоса огромное влияние, сомнений не вызывает, поскольку сам поэт писал об этом в своих мемуарах. Однако переход от традиционной рифмометрической манеры к свободному стиху является тенденцией если не общенорвежской, то, по крайней мере, заметной для национальной литературы — в своё время этот «переход» совершили такие классики, как Улав Хауге, Гунвор Хофму и многие другие. Потому утверждение о том, что Весос разочаровался в своих способностях писать в рифму, может вызывать сомнения. На мой взгляд, те немногочисленные рифмометрические стихи Весоса, написанные в более поздние периоды, свидетельствуют об обратном. Скорее, предпочтение свободному стиху было продиктовано потребностью в «модернизации» и эксперименту со словом, — о необходимости таких экспериментов сам Тарьей Весос говорил неоднократно [5].
СНЕГ И ЕЛЬНИК
Слово о доме —
снег и ельник
наш дом.
Это с первого мига
родное,
прежде чем кто-то сказал:
«Вот снег и ельник» —
Живут они в нас —
и с той самой поры
навсегда-превсегда.
Средь тёмных деревьев
сугробы в метр глубиной
— для нас!
Это в наше дыхание влилось.
Навсегда-превсегда,
пусть не видит никто,
снег и ельник с тобой и мной.
Да, заснеженный склон,
и деревьев орда,
где мы стали,
и до горизонта, —
взглянем туда.
Есть обет в нас
вернуться домой.
Воротиться,
уйти туда,
ветви склонить,
и почувствовать сполох внутри:
каково это — снова быть дома.
Навсегда-превсегда,
пока не угаснут огни
наших сердец неприбрежных.
ЛОПАТА
Меня, лопаты —
не пугайся.
Ведь всяк, кто видел свет, —
склонится.
Жильё я строю
под покровом трав.
Пусть сталь легко
вгрызётся в землю.
Не бойся
моего мерцания.
Нам с тобой
вовек идти вдвоём.
Отдыхай, —
твоя каморка
вдрызг рванёт!
коль ты достоин.
Будет жить вовек
святое имя.
СНЕГ В ЛИЦО
Сыплет, сыплет небес суматоха,
только тьма укроет от всех.
И ни крика вокруг, ни вздоха
лишь, незримый, падает снег.
И украдкой, в вечернюю пору
топал парень тропою ничьей,
с сельских игрищ, по косогору,
прочь от жадных девичьх очей.
Льном укрыта мечта желанная, —
не посмел коснуться рукой.
Но в глазах была искра странная
райской вестью, отнявшей покой.
А метель по щеке струится.
Нега в ночь нагая идёт.
Хлещет ласково звёздная вица.
На горячем лице тает лёд.
СОКРЫТОЕ ДЕРЕВО
С порывом ветерка
попало семечко в след чужака,
и там — возьми да оживи
великим деревом любви.
Вечернее тепло
побегам свежих сил дало.
Коль птицы в крону залетят,
не сыщут путь назад.
Вот к ветру зов летит,
но ветер здесь, он слеп и скрыт.
Ночную песнь льёт
круговорот.
В СЕРДЕЧНЫХ МАСТЕРСКИХ
Огромно
потребление света в сердечных мастерских.
Вот сердце матери
готово и идёт на место.
Темно
в сердечных мастерских,
когда их оснащают
те, чьё ремесло — война.
Бесконечно
терпение в сердечных мастерских.
Надежда
на новый мир — жива.
ТЁМНЫЕ КОРАБЛИ ПРИБЫВАЮТ
В удушливой ночи они парят,
как корабли средь облачного моря.
Приходят с юга, в трюмах пряча ад,
в часы, когда все спят, не зная горя.
Как караван, груженный тяжело,
ползут они — косматы и суровы.
Там, в тёмных трюмах затаилось зло.
— Больных, недобрых снов прочны оковы.
Всё как тогда — дремавшая весна
встревожена неистовой стремниной.
Ты снова видишь сквозь завесу сна
и чувствуешь, как страх ползёт лавиной.
И в комнате твоей, где воздух спёрт,
дыханье перебьёт горячий вихрь.
Располосует небо тёмный борт —
и ты вовек не скроешься от них.
ЛОШАДЬ
Жарким и долгим был день, но вот и ночная пора,
всё погружается в темень и тишь до утра.
Дочка целует его: «Доброй ночи, отец!»
Шлёпает в спальню — в прохладу перин, наконец.
Он не уходит — он снова застыл у стола.
Книги, бумага, чернила и перья — дела.
Тёплым и нежным был тот поцелуй на щеке,
но позабылся — вспорхнул и пропал вдалеке.
Снова работа. Пускай себе время идёт.
Вдруг посмотрел он в окно, и прошиб его пот.
Темень ночная — в работе помощник хороший.
— Но за окном появилось лицо: лошадь!
Лошадь. Лицо её глинисто-серо, огромно,
лезет из мрака, в глазищах черно и бездонно.
Лошадь застыла, собою заполнив окно.
И просыпается то, что забылось давно.
Да! Лошадь серая — видит он всё, как тогда.
Вот проплывает былых тяжких дней череда.
Выстрел на заднем дворе, гулкий оводов рой.
Скрючены ноги её. Замер отец, сам не свой.
Там, где она появлялась, работа кипела.
В зной, по сугробам, сквозь ливень — привычное дело.
Детские руки сжимали вожжу круглый год:
тянут неловко, а лошадь — бредёт и бредёт.
Лошадь вернулась, и снова встаёт за окном
что-то простое и целое, спавшее в нём.
Здесь не до смеха — он чует недобрую весть.
Замер безмолвный вопрос: что ты делаешь здесь?
Чем же ты занят за этим столом? Ты готов
встретиться с прежним ребёнком, восставшим из снов?
И прорывалось через бумагу, слова,
то, что всегда было частью его существа.
Что он ответит? Всё в слух обратилось и ждёт.
Лошадь всё смотрит, страх чёрной тучей ползёт.
Мир его детства, что был так огромен и мил,
снова вернулся, вплотную к нему подступил.
Встреча с прекраснейшим миром: «Отец, доброй ночи!»
Вновь ощутил на щеке губы крохотной дочки.
Благословенная, дремлет она, излучая тепло.
Пусть себе лошадь глядит сквозь ночное стекло.
[1] Существует два официальных варианта норвежского языка — букмол (bokmål) — «книжная речь» и нюношк (nynorsk) — «новонорвежский».
[2] Необходимо, по меньшей мере, перечислить переводчиков, благодаря которым мы можем прочесть прозу Весоса на русском языке: Л. Горлина, В. Берков, Т. Доброницкая, И. Бочкарёва, О. Вронская, А. Афиногенова, И. Смиренская, Н. Киямова, М. Макарова, И. Разумовская, С. Самострелова.
[3] Vesaas, H.M. I Midtbøs bakkar: minne frå eit samliv / Halldis Moren Vesaas. — Oslo: Aschehoug. — 1997. — S. 25.
[4] Lyngstad, S., Hanson, H. P. Two Reviews of Tarjei Vesaas's Through Naked Branches: Selected Poems of Tarjei Vesaas / Sverre Lyngstad, Harold P. Hanson // Translation Review. — 2001. — vol. 61, issue 1. — P. 85.
[5] Следует оговориться, что сам по себе верлибр не является результатом развития рифмометрического стиха или экспериментов с ним — это древняя поэтическая форма, возникшая до появления рифмометрических стихов. При этом обращение к верлибрам стало тенденцией в норвежской поэзии XX в. Эта тенденция является подтверждением тезиса о том, что прогресса в искусстве нет и говоря «модернизм», «модернизация», мы имеем в виду лишь сочетание признаков, характерных для культуры данного общества в данный период времени. См. Витковский Е.В. Русское зазеркалье / Е.В. Витковский // Век перевода.
© 1946 Gyldendal Norsk forlag.
Тове Дитлевсен. Слова, одетые в форму (перевод с датского Глафиры Солдатовой)
СЛОВА, ОДЕТЫЕ В ФОРМУ
Пролог 1948
Не у всех форм
есть сверкающие пуговицы,
знаки различия
и послушные глаза
над строгим воротничком.
Множество слов,
знакомых тебе,
сладких, как конфеты,
вертятся на языке,
одетые в невидимую форму,
собранные на конвейере
и готовые к войне.
Скажи «ОТЕЧЕСТВО»,
и губы сомкнутся,
спина выпрямится,
руки сожмутся в кулаки
и сердце забьется, —
но незнакомец
в ту же секунду
поднимает взгляд
к тому же небу,
ты призываешь свидетеля
всему, что ты любишь,
и шепчешь все те же
волшебные слова
на другом языке,
а его темноглазые дети,
усмехаясь, стреляют
из игрушечных ружей
по кусочкам картона,
точь-в-точь твои.
Скажи «ЧЕСТЬ»,
и одежда викинга,
древнего воина,
слетит с твоих губ,
как замерзшее дыхание,
и заставит твою жену
и ее подруг
попробовать это слово на вкус
и смутно понять,
что здесь есть что-то,
чему повседневные
требования должны уступить,
что-то, что поднимает ввысь
и расширяет дух,
как печальный кадр
в кинотеатре —
а где-то женщина
с пустыми глазами
и усталыми руками,
пришивает блестящую пуговицу
к новой, колючей военной форме.
Скажи «БОГ»,
и твой взор станет
нагим и благочестивым, как
побеленные стены церкви;
священник с мягкими,
колдовскими руками
молится словами,
старыми и тяжелыми,
как расшитые серебром свадебные перины,
всемогущему Создателю
земли, неба
и всех семи вод,
защитнику
слабых, больных
и грешных душ
В ЭТОЙ СТРАНЕ.
И красное кольцо бежит
по твоим мыслям,
как аккуратные линии —
по крошечным странам
на карте, которая висела
на тусклой стене
в школе твоего детства.
Слова перемещаются
вместе, как войска,
по твоему миру
и делают его маленьким.
Его едва можно спасти,
как осажденный город,
ты думаешь, что это оборона.
Нечто зовется ВОСТОК.
Ты видишь кроваво-красную
волну безумия,
смывающую твой убранный
дом с лица земли,
срывающую скатерть со стола
и крадущую тяжелые серебряные подсвечники,
с которыми связаны
праздничные воспоминания.
Ты видишь своих друзей
и любимого человека,
раздробленных волной,
ревущий художник
живет вдребезги,
чтобы спасти род,
который может появиться только
убивая, —
но на твою полку
сыплется пыль,
легкая и мягкая,
как песок в песочных часах —
на Горького и Достоевского.
ЗАПАД — ты смотришь на
плывущие облака,
улыбаешься и думаешь
о Статуе Свободы,
а за ней — страна,
о которой ты мечтал,
пока еще у тебя
хватало храбрости мечтать,
страна свободы,
страна счастья,
где газетчик
может стать сенатором,
а продавщица —
голливудской звездой:
в техниколорной
Стране чудес,
где все солдаты
жуют жвачку,
атомные бомбы,
которые спасут мир,
спрятаны в карманах
их бравой формы.
Но где-то есть человек,
вспотевший, загнанный,
с трудом дышащий,
как несчастное животное,
он слышит шаги
бравых янки
и закрывает испуганные глаза,
когда они свирепо проносятся мимо.
Чернокожий брат Америки,
как ты мог позволить
жалеть себя,
когда ты был достаточно молод,
чтобы читать Уолта Уитмена
и любить правосудие.
Тишина мчится
по лбу планеты —
горстка серьезных человек
вращают огромный глобус,
стоя на танцплощадке;
толстый палец отпечатывается
в месте, которым отмечен твой мир,
и в приступе удушья
ты подносишь руку к сердцу.
«ВОЙНА», — стонешь ты,
и в твой дом
врывается клиньями
птичья миграция
черных роковых мыслей —
невидимые двери открываются,
станок печатает
свежие газеты.
Твой крик звучит эхом,
как барабаны в джунглях:
«ВОЙНА», — шепчет человек
и опускает глаза,
парализованный страхом
и верой в судьбу,
а испуганные мужчины,
как обычно, бродят
по оружейным заводам
с контейнерами для еды под мышкой
и торчащими из карманов
фляжками и сигаретами.
И никто не говорит,
что именно ТЫ
(кто не хочет войны)
делаешь ее возможной
и создаешь ее
силой слов,
которые ты унаследовал и любишь
несчастной страстью,
хотя они мягкие,
как детские воздушные шары
утром понедельника.
Брось их прочь,
слова, одетые в форму,
невидимый авангард войны,
готовящий наш разум к смерти,
оглушающий зверя
прежде чем убить его.
Смотри, как дети играют рядом с тобой,
со спокойными глазами
и незаконченными движениями —
жизнь, созданная тобой,
защищенная тобой,
освященная своим развитием.
Скажи «ЧЕЛОВЕК»,
и нет ни Востока, ни Запада,
ни добра, ни зла,
ни передаваемой тайны —
только дети, играющие
среди руин,
и женщина, развешивающая
белье,
и смех юной девушки,
и волны, плещущиеся
к чужим берегам,
и старики,
которых ты видишь каждый день
в парке Эрстед,
со спокойными лицами,
обращенными к солнцу —
Их нельзя объединить
в группы, нации
или идеи —
есть просто люди
с удивительным стремлением друг к другу,
к дружбе, и любви,
и мирной жизни,
им есть куда расти.
Только человек — это мир,
его начало и его смысл,
его катастрофа и его добродетель,
его зло и его боль.
Человек не сражается со своим братом,
и никакая форма не сможет заключить нас
в свою твердую броню
в день, когда мы увидим,
что ненавидим таких же людей, как мы,
так и они ненавидят нас,
бессмысленно,
потому что им больно.
Из книги «Женский нрав» (Kvindesind), 1955
Датские поэты в переводе Анастасии Строкиной
Тове Мейер
БОЛОТО
Дорожки к тебе протянулись,
как темные ветви на дереве одиночества.
Холода все длятся, и время нас гладит
по заснеженным волосам —
а когда-то солнечным светом сияли
болотные сомкнутые глаза.
И теперь твой взор под стеклянным льдом,
но перелетные птицы, сорвавшись с пригретых мест,
летят по небесному океану
и, делая остановки в пути,
отдыхают на ледяных, на твоих белоснежных веках.
Так прощанье становится встречей,
и кружится юный свет на ветру,
танцует в твоей холодной,
в тинистой темноте.
Но в кроне яблони дикой не молкнет, не гаснет
мелодия робкой серебряной флейты —
это синица играет о том,
что грядут весенние ливни.
Но сладкий прогорклый дым стелется
по уснувшим садам,
где мужчины и женщины,
облаченные в черное,
на алтарь грядущей весны
приносят в жертву хрупкие зимние ветви.
Дети поют, убегая в туман,
растворяясь в нем,
как сияние радуг.
С новой силой забьется в твоем замершем теле
большое чуткое сердце,
и распахнешься ты миру,
и будешь ты упиваться — все еще в тишине, в темноте —
первородным словом,
сокрытым под ласковым дерном смерти,
но вслушайся: подземные родники и черви
уже пробудились.
Взгляни на легкие облачка листвы
за моими плечами,
на огненное древо заката,
что полыхает за твоей мрачной
линией горизонта.
На моих ресницах — нежная меланхолия сумерек.
Хальфдан Расмуссен
Я НЕ БОЮСЬ
Я не боюсь убийц и палачей,
Ни пыток, ни расправы, ни вражды,
Ни метких ружей,
Ни ночных теней,
Ни тех ночей,
Когда угаснет свет больной звезды,
Но нет страшнее ничего, нигде —
Слепого безразличия к беде.
Бенни Андресен
ВРЕМЯ
В нашем доме — двенадцать разных часов,
а времени все равно не хватает.
Вот идешь ты на кухню за шоколадным коктейлем
для худого сынишки,
приносишь — а он уже вырос.
Какой там ему шоколад…
он жаждет пива, девушек, революцию.
Цени свое время, пока еще время есть
Вот дочка приходит домой из школы
и — бегом во двор — играть в классики,
а, возвращаясь под вечер,
просит посидеть с ее малышом,
пока они с мужем будут в театре,
и пока они смотрят спектакль,
их ребенок — не без проблем —
переходит в последний класс.
Цени свое время, пока еще время есть
Вот жена просит тебя: «Сфотографируй!»
И стоит она молодая у фонтана в сиянии брызг,
на шее — нарядный цыганский платок.
Но едва успеваешь ты распечатать фото,
как она объявляет, что
на днях оформляет пенсию.
Так вот тихо и нежно пробуждается в ней вдова.
И ты хочешь прожить свое время по полной,
но все время оно ускользает —
куда же? Да и было ли это время?
Или ты слишком много времени
тратил на беспокойство о времени?
Но о времени
нужно думать вовремя
и на время его отпускать,
забывать о времени
а когда придет час, —
позвонить домой и услышать:
«Набранный вами номер
765-4321
не обслуживается»
Ингер Кристенсен
ЗИМА
Зима в этом году чего-то ждет.
Пляж будто замер,
и все едино, и все в этом году едины —
льдины и крылья станут чем-то одним,
и переменится мир:
лодка услышит свои земные шаги на снегу,
война услышит свои сражения на снегу,
женщина услышит время свое на снегу —
час рождения в оцепенении льда
зима пришла надолго —
в дома и города
в леса и облака
на горы и в долины
во взрослые страхи
в детские мирные радости
зима в этом году чего-то ждет
мы все становимся единым целым:
руки оцепенели,
я слышу, как плачут дети,
как дом мой скользит по снегу
вместе с огромным миром,
как крик одного становится общим криком;
лодка моего сердца бьется и бьется об лед,
а на дне этой лодки тихо шуршат ракушки.
Если вдруг я оледенею,
если вдруг и ты, дитя мое, превратишься в лед,
мой огромный лес оживет этим летом,
мой огромный страх оживет;
если и ты, моя жизнь, покроешься льдом,
я сделаюсь коршуном:
лед и крылья, и ничего больше,
и стану клевать свою печень,
свою живую жизнь
пробуждать к вечности.
Эта зима в нас надолго.
Нина Малиновски
***
Может, два поезда,
что летят навстречу друг другу
по одной колее,
все-таки не столкнутся;
может, однажды бездомный
после долгих скитаний
найдет, наконец,
бриллиант
в мусорном баке;
раньше ли, позже,
может, охотник
и сам станет добычей,
и пока на колени
он будет медленно падать,
олень совершит прыжок —
свой самый красивый прыжок;
может быть, двое людей,
которые много лет,
не зная того,
в невидимом зеркале
отражали друг друга,
встретятся, преодолев пространство;
может, тот славный парень
все-таки не умрет;
а косточка абрикоса,
брошенная на берег,
когда-нибудь прорастет
и станет деревом;
может, свиная ушастая голова
с обиженным,
вздернутым к небу взглядом,
висящая в лавке старого мясника,
соединится однажды с телом
(а прямо сейчас тушу без головы увозят на рынок —
туда, на окраину города);
может быть,
ничего еще не случилось —
Хенрик Нордбрандт
ОБРАЩЕНИЕ К САНТЕХНИКАМ
«Страдание». Я всегда это слово произносил,
как если бы говорил
о забитой на кухне раковине.
А сейчас вот в осеннем свете
жир на тарелках напоминает
вчерашний размазанный макияж,
и из памяти вылетело: как они называются —
эти парни, которые чинят раковины.
А когда, наконец, вспоминаю: сан-тех-ник,
он говорит, что придет часа через два — не раньше,
и приходит на два часа позже.
Вот и вечер уже — ну а что:
никто никогда не отменит закат,
провожу сантехника и потащусь
в кино —
один-одинешенек, на фильм, о котором забуду
тысячу раз к тому времени, как на кухне
снова забьется сифон;
после фильма домой — куда же еще?
И лягу в кровать и долго уснуть не смогу,
вспоминая сотни и сотни слов,
которые неправильно понимал,
вспоминая сотни и сотни дел, что пошли не так,
вспоминая тех, кто меня забыл,
кто не захотел остаться со мной.
Может, это и есть —
то, что зовется «страданием».
Ларс Эмиль Фодер
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДУБ
Старый дуб как-то раз наведался в бар
и заказал на все — проливного дождя.
— К сожалению, дождь закончился, — сказал ему официант. —
Но, может, вы захотите лесное шведское озеро
с молодой парочкой,
ныряющей голышом?
— Хмм.., — задумалось дерево. — А любят они друг друга?
— Сложно понять, — официант внимательно глянул на обнаженных. —
Девушка, полагаю, да. А он…
Просто хотел бы забыть прошлые отношения.
Ему все еще больно.
— Ладно, сойдет. Но к этому озеру
лунного света побольше бы.
— А что насчет сладкого? Может,
добавим ложечку соловьиных мелодий?
— Отлично! Но проверьте, чтоб соловей был с юга Ютландии —
только такой вдохновляет на страсть,
а этот зануда с Лолланна
погонит их по домам —
чтобы пораньше легли
и встали ни свет ни заря.
Кристин Свава Томасдоттир. Штормовое предупреждение (перевод с исландского Викти Вдовиной)
ПОХОЛОДАНИЕ В МАРТЕ
шторм разражается будто удар кулаком
летние шины буксуют на льду
и юнцы в барах топят надежды одетые в шортики
вчера на деревьях замерз бутон
сегодня мы отомстим за свои печали
здесь в тени мы сражались со своим же рассудком
но время этой жестокой борьбы подходит к концу
товарищи! разыщите же флаг революции на партах студсоветов
и сшейте тогда себе смирительные рубахи, которыми вы уже были преданы
соберите оружие
которое ждут в подвалах
и зовите партизан
которые дурачатся в школьных пьесах
доставайте раненых холодом молодых коммунистов
из клеток рационального мышления
отправьте в метеобюро мину из писем
сначала возьмем сто первый потом возьмем Берлин
когда это не длинная ó — ó непослушная
мы шагнем в следующую действительность
вчера на деревьях замерз бутон
сегодня все и ничто будет отомщено
ИГРИСТОЕ В ВУЛЬВЕ
Мы пьем игристое в Вульве
и записываем это на счет компании
мы расслабляемся!
мы заказываем домино
берем немного
сыра
берем
шоколад
берем конфеты с корицей и нутеллу
я припрячу игристое и сахар в бачке
унитаза
девочки, у меня есть тайная фантазия:
слизать целую банку арахисового масла с напряженного
трицепса Спортакуса
и проткнуть его очищенной морковкой
девочки рано или поздно
такой образ жизни нас доведет
давайте попросим скидку
давайте вспомним наших праматерей
игристое и хлебные пироги
упс слишком много майонеза
пирог шатается норовит упасть
и как мы можем списать гостеприимство?
хватит суеты
хватит нервотрепки
растения были политы сегодня
дети разбужены
дети уложены спать
давайте попросим скидку
все начнется заново только завтра
женщинам принадлежит один процент мирового богатства
мы включаем в него
игристое и корицу
женский декаданс
самый лучший и самый вязкий
давайте возьмем больше игристого
игристого в Вульве
мы любим этот хлам, этот пластик
душный и жаркий костюм крокодила из полиэстера
мигающие рождественские огни и искусственные цветы
мы любим мир вещей
эти старые видеокассеты
шоколадные батончики острицы и мокрый асфальт
мы любим это изобилие
любим эту цивилизацию и ее примитивные импульсы
наши помыслы ск(о)ромны
мы надеемся, что мир будет уничтожен летящими искрами из адаптера
О современной исландской поэзии
Высказывание о том, что Исландия — одна из самых литературоцентричных европейских стран, уже давно стало общим местом в кругах ценителей мировой поэзии, — однако оно, в целом, соответствует действительности. Мощная плодотворная литературная традиция не прерывалась на Синем острове в течение многих столетий. В стране очень большой процент населения в той или иной степени занимается сочинением стихов; среди издающихся есть представители практически всех поколений и всех степеней известности.
Исландская поэзия XXI века — та часть современной исландской литературы, которая в самую последнюю очередь доходит до зарубежных читателей, — однако для самих исландцев это важнейшая составляющая отечественной словесности. Подробное описание творчества даже хотя бы самых значимых фигур в современной исландской поэзии потребовало бы много места, так что здесь придётся ограничиться общей картиной.
От древнего периода (X–XIII вв.) исландская поэзия последующих веков унаследовала обширный пласт высокопоэтической лексики, а также такое важное структурообразующее средство, как аллитерация: начальные согласные звуки в смежных строках (и в некоторых поэтических формах — также и на фиксированных местах внутри строк) непременно должны совпадать. Аллитерация может сочетаться с рифмой (внутренней или конечной). Формы и размеры, характерные для континентальной европейской литературной традиции, были введены в исландскую поэзию лишь в XIX веке. Здесь уместно назвать одно из самых важных для истории исландской культуры имён: Йоунас Хатльгримссон (1807–1845) — поэт, который обогатил исландский язык большим количеством неологизмов, а также ввёл в исландскую поэзию новые зарубежные формы (первые исландские терцины, первый исландский сонет) и реанимировал старые (в частности, некоторые эддические размеры).
Современные исландские авторы не забывают наследие своих предшественников, но нередко обращаются с ним весьма своеобразно. (Как — мы увидим чуть позже).
Тому, кто полистает книги на полке с изданиями современных поэтов (в библиотеке или крупном книжном магазине), бросится в глаза характерная особенность: в абсолютном большинстве случаев о сложных твёрдых стихотворных формах (столь памятных ценителям древней поэзии) речи не идёт. Самые обычные формы стихосложения в Исландии XXI века (как, впрочем, и в «братских» скандинавских странах на континенте) — верлибр и стихотворение в прозе (и переходные формы между ними).
Предпочтение свободной и экспериментальной формы в современной поэзии — наследие модернизма ХХ века.
Если историки датируют начало ХХ века (как культурно-исторического периода) в Исландии 1918 годом (дата получения Исландией автономии от Королевства Дании, в состав которого она до того входила в течение многих веков), то в исландскую поэзию новая эпоха пришла гораздо позже. Периода, аналогичного общеевропейскому «рубежу веков», в исландской литературе не было [1], а расцвет поэтического модернизма в ней приходится на годы после Второй мировой войны.
За первым поколением исландских поэтов-модернистов закрепилось необычное название — «atómskáld», т.е. «атомные поэты» или «поэты-атомщики». Оно обязано своим происхождением роману Халльдоура Кильяна Лакснесса «Атомная станция» (1948), где под таким названием фигурировала сатирически изображённое поэтическое объединение, члены которого культивировали сочинение заумных стихов. Из иронического прозвища это название быстро превратилось в нейтральный историко-литературный термин, удачный, в частности, потому, что в стихах исландских модернистов в ряду мотивов, отсылающих к враждебности и обречённости современного цивилизованного мира, не последнее место отведено мотиву распада атома (который одновременно ассоциируется и с ультрасовременными научными изысканиями — и с угрозой гибели). Универсум таких модернистских стихов изначально был, как правило, очень замкнутым: «поэтический мир сам по себе» [2], лишённый привязок к пространству и времени, находящий выражение в сугубо индивидуальном поэтическом языке.
Следующие поколения поэтов-модернистов занимались синтезированием новаторства с традициями исландской поэзии, — и современные исландские поэты являются их наследниками в том, что касается и формы, и тематики. Верлибр и «стихотворения в прозе» в наши дни обычны в Исландии даже в детском творчестве.
Сказанное не означает, что к середине ХХ века твёрдые поэтические формы, как исландского происхождения (ведущие начало от скальдической поэзии и её производных), так и континентально-европейского происхождения были окончательно забыты. Разумеется, они сохраняются по сей день, — но культивация таких твёрдых форм (особенно исландских традиционных) в наши дни уже считается манифестацией определённой эстетической позиции. Так, Хатльгрим Хельгасон (род. 1959; известен в основном как прозаик), один из крупнейших современных исландских литераторов, до 2010-х гг. писал стихи исключительно в сложных формах, т. к. был убеждён, что для поэта полезно преодолевать «сопротивление материала»:
Что тебе сделать
с древним размером?
Не возносить.
Но не разносить.
Так как не знаешь,
трудность какую
стих твой может решить.
Что тебе сделать
с древним предком?
Не оборжать,
но — обожать.
Так как не знаешь,
предки какие
в юношах возродятся.
(Хатльгрим Хельгасон (род. 1959), «Речи Трудного». 1980-е гг.) [3]
В минувшем десятилетии у Хатльгрима вышло несколько книг верлибров.
Тоураринн Эльдъяуртн (род. 1949) сознательно культивирует в своём творчестве старинные исландские стихотворные размеры и аллитерацию, используя их даже в стихах, адресованных детям. Впрочем, верлибров у этого поэта также много.
Однако известны и противоположные случаи: отказ от ритмически организованных поэтических форм в пользу верлибра. Например, Вильборг Дагбьяртсдоттир (1930-2021), считающаяся основоположницей «женской» лирики в исландской литературе, всю жизнь писала верлибры , отличающиеся простым языком и продуманным ритмом, однако была отлично знакома с традиционными формами поэзии, требующими скрупулёзного соблюдением рифмовки и аллитерации, и однажды в юности победила в конкурсе традиционных четверостиший.
Впрочем, простота (кажущаяся?) поэтической формы отнюдь не всегда равна незамысловатости идеи, а отсутствие рифмы и/или аллитерации не означает автоматически исчезновение всех других составляющих, делающих текст поэтическим, — т. е. тропов, поэтической лексики и пр.
Искусство сочинять стихи при урагане
Мысли закрепляют
с помощью нескольких тщательно отобранных слов
созвучных
(...)
И остаётся трепетать на ветру
лишь самое-самое нужное
А прочее уносит буря
Как и всё непрочное
в этом краю
каменных вех и пустошей
Такова исландская школа
(Хатльгрим Хельгасон, из книги «Рыба с небес» (2015).
Также на рубеже XX-XXI в. чрезвычайную популярность обрёл жанр хокку. Впрочем, к нему в исландской поэтической среде может существовать скептическое отношение:
Хокку ходило
по городам и весям
норовом неистово
бряцало оружием
размеры да ритмы
рубило в капусту
И посторонились
стихи модернистов
Аллитерация алела ранами
Звукопись — зарублена…
(Эйрик Эртн Нордаль (род. 1978). Из книги «Апокалиптичности» (Heimsendapestir), 2002)
«Конфликт поколений» в современной исландской литературе фактически отсутствует; принятие тех или иных эстетических ценностей — не прерогатива поколений, а целиком личный выбор пишущих.
Если посмотреть на темы, интересующие исландских поэтов XXI века, то их перечень вряд ли будет отличаться от тем, волнующих других европейских поэтов: пейзажная лирика, зарисовки повседневности, рефлексия о межчеловеческих отношениях, об особенностях жизни в родной стране, отклик на события во внешнем мире… Вполне ожидаемо, современные поэты обращаются и к древнеисландскому литературному наследию, осмысляя в своих стихах сюжеты из известных саг или песни «Старшей Эдды». К нему обращаются далеко не все. Например, Сьоун (род. 1962) вообще не затрагивает в своей лирике древнеисландскую тематику. Андри Снайр Магнасон (род. 1973) обращается к ней редко, Сигюрд Паульссон (1948–2017) посвятил известным сагам большой цикл стихотворений («Людвзялстих» («Ljóðnámumenn», 1988, переиздание 2008)).
Редкие поэты обращаются к древнеислансдкой литературе постоянно: таков, например, уже упоминавшийся Тоураринн Эльдъяуртн. Интересно творчество молодой поэтессы и литературоведа по имени Тереса Дрёпн Ньярдвик (род. 1991), которая активно использует эддические формы и размеры, или размеры из устной авторской исландской поэзии Нового времени — или, во всяком случае, модификации, напоминающие их. При этом содержание таких стихов может отличаться злободневностью. Произведения Тересы Дёпн пока ещё только ждут своего переводчика на русский язык, — но вот как может выглядеть этот сплав традиционности и ультрасовременности (аллитерация и звукопись выделены):
Sá er sæll er sjálfur á, Блажен, кто сам имеет
spjaldtölvu með neti планшет с интернетом
þarf þá aldrei aftur sá тогда не нужно тому
vini sína að finna. с друзьями встречаться.
(Teresa Dröfn Njarðvík. Bragleikur. Reykjavík, 2013)
Также в этой связи необходимо упомянуть Герд Кристни (род. 1970). Она — автор самобытной поэмы «Кровавокопытный» (Blóðhofnir, 2010), в которой эддическая песнь «Поездка Скирнира» «пересказана» с точки зрения великанши Герд, — и в силу этого получает ярко выраженный феминистический месседж и неожиданное продолжение древнего сюжета: в финале поэмы братья Герд пришли к границам мира богов, чтобы мстить за похищенных женщин.
Вообще у Герд Кристни обращение к древнеисландским сюжетам продиктовано отнюдь не «музейным» интересом: в них отражается самая что ни на есть злободневная современность. Так, в строках «Прорицания Вёльвы» (песни, которой открывается «Старшая Эдда») о нашествии йётунов, с её точки зрения, можно усмотреть разительное сходство с современным миром: наплывом беженцев и беспочвенной боязнью их; это сходство и послужило источником вдохновения для её собственного стихотворения, также носящего название «Прорицание Вёльвы»:
Они пришли
(...)
Хельской дорогой
по тайным путям
из выжженных сёл
к обильной земле
(...)
И вот стучат
в ворота и
просят, чтобы
им отворили
И ропщет рядом
старинный страх
Руки наши тянутся
к мечам и топорам
Было бы неверным сказать, будто современные исландские поэты смотрят на современность и мировую историю сквозь розовые очки.
Геройские века оставляют
кровавый след на кровле времён
(...)
Костры воздвигнуты из тел
погибших от оружия
детки — самая дорогая
жертва огню
если смотреть из наших дней
далёкая мировая история
— это ясный ночной небосклон
(Каури Тулиниус (род. 1981), из книги «Ледниковые процессы», 2018)
Если в таком мире что-то и остаётся незыблемым, то это чувства к близким существам.
(...)
Это логика,
а это эмоции.
Это поезд,
а это станции.
Я люблю тебя. Я люблю тебя.
Я люблю тебя. Я люблю тебя.
(...)
После этих слов будут ещё слова,
а потом и предложения.
Будут картинки,
а внутри них другие картинки.
Это корабли,
это лодки.
Это жизни,
это хвори.
Я весь у тебя на мизинце,
указательном, среднем, безымянном, большом.
А у меня для тебя — пальцы.
(Эйрик Эртн Нордаль, «Шведский трёхколёсник», 2016).
[1] В этой связи интересно отметить, что переводчик Магнус Аусгейрссон, в 1920–1960 гг. знакомивший исландскую аудиторию с современной скандинавской и европейской поэзией, переводя верлибры, вводил в свои переводы твёрдые размеры, аллитерацию и рифму (иногда — только аллитерацию и подобие ритмической организации), объясняя это тем, что именно такой формальной организации ждёт от «настоящей» поэзии исландский читатель.
[2] Íslensk bókmenntasaga. Bd. V. Mál og Menning, Reykjavík, 2006, bls. 36.
[3] Все стихи, если это не оговорено специально, цитируются в переводах О. А. Маркеловой.
Тур Ульвен. Три странствия в пустыне (перевод с норвежского Нины Ставрогиной)
ТРИ СТРАНСТВИЯ В ПУСТЫНЕ
(Под рёв мотора) шипение автомобильных колёс по снежному месиву, будто звук вспыхивающей серы, тёмные полосы обнажившегося асфальта (чёрного, блестящего, как спинка лесного слизня) и нечётко отпечатанные узоры шин, липкая слякоть наподобие каши или обесцвеченного яблочного пюре (влага осмотически проникала в промокаемые кожаные ботинки; надо было надевать резиновые сапоги, но на тот момент было уже слишком поздно возвращаться домой и переобуваться), разъезженные следы машин и автобусов (более широкие) с белыми участками мокрого снега в форме выпуклых линз или прямоугольников посередине, снега, который пухлыми подушками давил на лапы елей у остановки, однако же сбивался в кашу на проезжей части, где шипованная резина, прокладывая себе путь сквозь снежную грязь, взметала по обе стороны вереницы скользящих брызг, будто идущий по снегу корабль; никогда он не замечал всего этого с такой точностью, как тогда, пока с грехом пополам спускался по ступенькам автобуса, до такой степени, что, остановившись на месте, засмотрелся на всё это куда дольше положенного мгновения, — ещё и чтобы собраться с силами, прежде чем поплестись, то и дело прислоняясь передохнуть к дорожным знакам и стенам домов, в расположенную через квартал больницу. Надо было всё-таки брать такси.
Начать с того [1], что там действительно имелись явные следы человеческого присутствия, включая какие-то буквы (но как бы совершенно произвольные, не составлявшие понятных комбинаций слов и имён), высеченные на камне в форме перевёрнутого конуса, чей верх наводил на мысли о воткнутом в землю колышке палатки, или старомодный жестяной рупор, который валялся за неким подобием кактуса, не присыпанный землёй или песком, как будто кто-то только что отбросил его, прокричав команду в мундштук; в таком случае хотел бы я знать, как, собственно, тот крик или крики звучали, о чём оповещали, кому были адресованы. Сам я не осмелился даже подобрать этот инструмент, из страха перед тем, как будет звучать мой собственный голос, усиленный металлом, в этом одиночестве. Где-то стояло ещё и нечто похожее на собаку (или, может, меня обманывала фантазия, желание увидеть недвусмысленный знак?) из твёрдого белого материала, похожего на бетон, на месте хвоста же свисало нечто вроде растительного волокна, невозможно понять, живого или мёртвого; но главная странность заключалась в том, что открытая пасть этой фигуры (?) казалась влажной и горячей внутри, будто в этом безжизненном собачьем черепе обитал, точно рак-отшельник, настоящий живой представитель семейства canidae, подобно тому как дышит под маской потное лицо актёра. Я приложил ухо к этой оболочке, но не услышал ничего, кроме звука, с которым моё собственное ухо тёрлось о слегка пористую поверхность, ни рыка, ни намёка на дыхание. Как бы то ни было, а с подобного рода феноменами теперь давно покончено.
Гамбургеры колбаски котлеты бекон сливочное масло студень картошка фри всё это свинство, весь жир, все пищевые добавки, отрава, искусственные красители, пестициды, пищевые добавки, все эти химикалии, которые, циркулируя в его теле, извращали и засоряли его внутреннюю природу (эти клетки, родственные клеткам цветочных побегов!) подобно разъедающим кислотам медленного действия, научным порошкам для эвтаназии, которые, околдовывая всё живое, естественное, заставляют его, насмерть выкормленное из силиконовой груди, засыпать искусственным сном в пластмассовом гробу. Приподнявшись в сливе раковины, куда с журчанием засасывало вихрящуюся воду, спичка конусообразно (верхние круги больше нижних) завертелась под кипенно-белым водяным столбиком с микроскопической пылью вокруг, заметной лишь при ярком освещении, как на этом крадущемся под острым углом зимнем солнце. Всякий раз, когда мойка опустошалась, спичка эта оставалась лежать поперёк дырочек, мерзкая чёрная спичка, прикасаться к которой она брезговала, в грязном ситечке, которое непрерывно принимало полуплесневелые остатки пищи, прокисшее молоко, выдохшееся пиво, плевки и серую, как бы ворсистую воду с песком из половых вёдер. Эта спичка. И ботинки, из которых он, приходя, переступал на пол, один опрокинутый, другой нет, чёрные лужицы грязной воды с подошв, грязные носки на диване, журнал на куче одеял перед телевизором, кожаная куртка на постели, вся эта разрушающая еда, облучённая, облучение могло, увы, лишь замедлить течение болезни (сказал главный врач), но — витамины A, витамины C, если бы только он ел свободные от отравы абрикосы, морковь, шпинат, апельсины, капусту, паприку. Она снова заплакала. Зашла в спальню, открыла коробку, нашла ключ в виде трубки, отперла выдвижной ящик, открыла коробочку, чуть помедлила, взяла одну в жёлтой обёртке, открыла, потянув за нитку, засунула содержимое в рот, не жуя, снова накрыла коробочку крышкой, опустила коробочку в ящик, заперла ящик, положила ключ обратно в коробку, закрыла дверь спальни и выбросила жёлтую обёртку вместе с маленькой серебристой бумажкой в мусорную корзину.
Через дорогу внезапно двинулась пожилая женщина (и какая-то машина вынуждена была, чтобы не сбить её, резко затормозить, проскользив по слякоти) в тёмной одежде, этом обычном камуфляже самоотречения (соответствующем траурной аскезе матрон из южных стран: главное в жизни уже сделано), в левой руке — два пакета, в правой — лимонно-жёлтый зонтик, несколько далековато выставленный вперёд (что позволяло снегу и мороси оседать на волосках задней трети меховой шапки), как балансируют при помощи зонтика канатные плясуньи или как светят перед собой фонарём (лимонно-жёлтый свет): ищу человека, по пути из магазина пряжи в аптеку. Не в больницу. Сколько их в пределах видимости? Десять? Пятнадцать?
Кое-где вроде бы торчат диковинные пучки чего-то, что может быть травой, но своей желтоватой бледностью, почти белизной (примерно того же оттенка, что шерсть фьордской лошади) напоминает скорее конский волос (как на скрипичных смычках), чем нечто относящееся к флоре, и эти пучки травы (назовём их так) беспрерывно колышутся от постоянного ветра, который часто меняет направление и температуру (ощущаясь то как муссон, то как пронизывающий апрельский ветер, то как нечто среднее или же и то, и другое одновременно), но никогда (по крайней мере так, чтобы это было заметно) — силу. Поначалу это нескончаемое монотонное завывание сводило меня с ума, но теперь я его едва слышу, как будто и сам становлюсь частью пейзажа, нечувствительной ко всему неприятному, что в нём есть. Хотя нет, когда крайне изредка ветер прекращается совсем, я замечаю наступающую таинственную тишину; тогда в ушах, точно гудок без соединения, начинает звенеть звук меня самого — и я жажду затихнуть, иными словами, чтобы снова подул ветер. Мимо то и дело проплывают маленькие бледные сгустки тумана (ловить их я перестал, потому что теперь это слишком истощает силы), то есть они такие плотные, что больше напоминают настоящие облачка, будто дело происходит на небе, хотя, разумеется, не в религиозном смысле слова, скорее наоборот. В последнее время эти клочки тумана попадаются всё реже. Зато я не раз наблюдал другие медленно парящие (или плывущие) в воздухе объекты, ярко окрашенные (хромово-жёлтые, к примеру, кобальтовые), неправильных форм, округлые, в виде моллюсков, некоторые, условно говоря, с крыльями (плавниками?), неподвижными, впрочем, или слабо помавающими, причём ни один, кажется, не обладает собственной тягой, они плывут по воздуху, будто наполненные гелием шары. К сожалению, я ни разу не подходил настолько близко, чтобы суметь их коснуться и тем самым лучше узнать их природу, но чисто субъективно они, как ни странно, создают у меня впечатление, будто я под водой, — водолаз без снаряжения, без потребности в кислороде. Воздух тоже, как правило, очень влажный и душный, хотя это характеристика переменная.
Есть он давно ничего толком не мог, даже ту грубую пищу, которую стряпал сам, мусорные завалы картошки фри в кровавых пятнах кетчупа оставались утопать в жире на его тарелке, не первую неделю ходил бледный, как его же сигаретная бумага; она давно собиралась сказать ему об этом, нет, невозможно, сейчас такое говорить нельзя, это следовало сказать давным-давно, до болезни, за завтраком (времени в обрез), за обедом (трапеза испорчена), вечером перед телевизором (мир нарушен), в постели перед сном (чрезмерная усталость или сексуальное возбуждение), в праздники (весь уют насмарку); он был неопрятный неряха, нездоровый грязнуля (ещё и эта в буквальном смысле вросшая, будто вытатуированная, грязь строительного рабочего на руках, под ногтями, некоей сетью или картой въевшаяся глубоко в кожные поры до самого дна бороздок, к вечеру воскресенья отмываемая почти — лишь почти — дочиста, а в понедельник опять всё сначала), но вообще-то добрый, никогда её не бил, в выходные уйму всего делал по дому, только неделю назад починил её фен; они ведь, в сущности, одно — никогда не будучи заодно, просто были одним.
Но они всё время покидали поле зрения или же появлялись в нём, число — величина изменчивая; для простоты: пятнадцать человек (не считая автомобилистов), каждый из которых обладал, вот как эта пожилая женщина, огромным знанием, огромной памятью, сжатой в мозгу, роями насекомых, скопищами бактерий знания, не только коллективным интеллектуальным достоянием наподобие информированности о настоящей, а не кажущейся форме земного шара, умения определять время по циферблату часов или знакомства с распорядком действий при покупке продуктов, но и колоссальной осведомлённостью о других людях, привычках, мнениях, предпочтениях супруга (или покойного супруга), его родителях, братьях или сёстрах, членах её собственной семьи, об их точной внешности, возрасте, профессии, друзьях и знакомых, детях и внуках, и даже это лишь мелочи в сравнении со всеми воспоминаниями, всем опытом, какие накопила она одна, в сравнении со всеми другими людьми, которых она встречала, всем, что видела, слышала, обоняла, осязала (не говоря уже обо всём том, что она видела и забыла, оно тоже где-нибудь хранится?); всё это гигантское содержимое сознания дремало под коричневой меховой шапкой, будто бесконечно ветвящаяся система виртуальных молний и молний, порождённых молниями; внутри же остальных — для простоты четырнадцати — голов хранились в полусне похожие (но иные, всегда разные, точное копирование, как с одной дискеты на другую, невозможно) системы, и одни только эти пятнадцать формаций знания и памяти в совокупности составляли безмолвную, непостижимую астрономическую сложность, которую никому не дано обозреть даже приблизительно; каждое из этих сознаний, будь оно претворено в пространство, образовало бы сферу, достаточно большую для того, чтобы заключить в себе тела всех людей, парящие, будто золотые рыбки, будто косяки сельди, будто креветки, криль, планктон в аквариуме, земной шар не вместил бы эти безумно гипертрофированные головы; но какая восхитительная мысль — стоять снаружи у стеклянной стены чужого сознания и смотреть внутрь, наблюдая, как пловцы с идущими изо ртов и от конечностей пузырьками извиваются в воняющей хлоркой бирюзовой воде, плавающие, ныряющие воспоминания и мысли сквозь окна общественного бассейна. Но они не обретают пространственности, они просто лежат, забраживая, во внутренней тьме, и каждый день тысячи таких внутренних галактик гаснут (будто все молнии сгущаются в одну-единственную, которая, подобно настоящим молниям, вспыхивает лишь единожды), почти утешительное напоминание среди слепящего урагана излучения, испускаемого хаосом всей совокупности сознаний, как после праздника, когда можно наконец погасить все лампы и поспать; выключить свет, когда смолкнет музыка; но что толку, ведь тогда же будут возникать всё новые, которым предстоит чем-то заполняться, день за днём, пока они в свою очередь не взорвутся и не погаснут, а тем временем успеют появиться ещё новые и по-прежнему будут существовать находящиеся на разных стадиях старые. Потребность думать о камне, о каком-нибудь простом круглом камне в руке, бессодержательной конкретности без тайн. Иметь сердце из камня. Мозг из камня. Дойдя до противоположного тротуара и неловко перешагнув через снежную обочину, отчего на ботинке, когда она скованным движением переносила ногу через снег, осталось белое пятно, она осторожно продолжила спуск по непосыпанному тротуару, всё время боясь упасть. Камень. Или уподобиться закрытому дому моряка в Лондоне: слой пыли толщиной в палец на аккуратно заправленных койках, гулкая тишина актового зала, чьи настенные бра создают иллюзию мерцающих свечей, когда кто-то в одиночестве поворачивает тугой выключатель с щелчком, разносящимся в помещении подобно выстрелу из пневматического ружья.
Такое впечатление, что ландшафт постепенно становится не то чтобы более пересечённым (в сущности, я будто всё время бреду по одной и той же слегка волнистой равнине), но как бы более отчётливым, и ноги всё чаще натыкаются (подчас в буквальном смысле ушибаясь) на твёрдые, возможно, минеральные конкреции в мягком грунте, напоминающем какой-нибудь песок или зернистый снег, в отдельных случаях муку или рассыпчатую землю, идти по такому очень трудно (местами пригодились бы снегоступы, а то и лыжи); худшее же в том, что никогда нельзя уверенно опереться ногой на почву, то мягкую, как пыль, то жёсткую, как брусчатка, то полутопкую, то пружинящую, как толстый мох. Ну ладно, вчера (указание времени — чистая догадка; я давно потерял счёт часам и дням, а может, и годам) я вышел, например, к какому-то плато или пику, и поскольку он оказался твёрдым, а не мягким, как поролон, подобно некоторым другим объектам, то я поднялся на него ради возможности какого-никакого вида на местность и, соответственно, дальнейший маршрут (без толку; обзор, как обычно, открывался плохой и неопределённый), но так или иначе удалось установить, что очертаниями эта скала (назовём её так) походила на звезду, наподобие спинного позвонка в разрезе, точно стоял я на костях вымершего огромного животного, и мне пришла в голову странная мысль (вызванная, вероятно, длительным одиночеством), будто я приставлен к остаткам этого исполинского скелета, чтобы охранять их до тех пор, пока однажды, покачиваясь над горизонтом, не явится какой-нибудь сородич этого мёртвого чудища и не истребует их.
И теперь, когда. Когда она наконец нашла кого-то, кто. Когда они наконец-то начали узнавать друг друга. Надо позвонить Л. Как она вообще должна. Если он уже прилетел. Номер гостиницы. В четверг она встретиться не может. Не исключено, что не сможет совсем, до тех пор пока. Должен же он понимать. Разве что хотя бы иногда. Она должна ухаживать. Само собой. Нежно и заботливо. Само собой. Он заслуживает достойной смерти, не его ведь вина, что он не понимал, как фатально нарушать древние законы равновесия в природе, некие весы, слишком много яда на одной из чаш — и вниз в пучину, вниз в моги… вниз в пучину, старые законы, распространяющиеся на ромашку, на куколку пяденицы, на белые кровяные тельца, на гордого орлана, на розовый куст, на корни волос, на клён (не есть ли человеческая нервная система лишь отображение куда более древней, той, что у листьев?), на крокодила, яка, обезьяну-ревуна, крапиву, кишечные бактерии и человека, нет, он этого не понимал, он вёл себя самоубийственно, но не понимают ведь столь многие, нельзя его за это корить, хотя она многократно объясняла, хотя он всякий раз орал, чтобы она заткнулась, он не ведал, что творил, она прощает его, по крайней мере сейчас, нет, всегда прощала, в сущности-то. Само собой. Но какое теперь будущее у них с Л.? Она снова заплакала.
Таяние снега на магазинных вывесках СПОРТ ПРОДУКТЫ ОПТИКА ускорится, когда в них вот-вот зажгутся, мигая, светодиодные трубки, на пешеходов начнёт капать сверху; но позже, морозной ночью, капли воды застынут как бы стеариновыми сосульками неправильной формы, покуда весь снег — может, на следующий день, а может, ещё через один — не исчезнет, а свежий снег, выпавший во время нового снегопада, в свою очередь не растает и не застынет сосульками, завершится же весь этот повторяющийся с разными вариациями, каждый раз с немного иными сосулечными узорами, процесс лишь к весне, однако возобновится с первым снегом в конце осени. И так далее. Ближний свет фар и теперь загоревшийся красным сигнал светофора тлели сквозь мешающую зернистую пургу (на короткое время — тускло мельтешащий снег; замершие автомобили; что долговечнее — транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания или снежинки, если принять во внимание повторяемость?), а когда они тронулись, он увидел, как аккумулированные в воздухе снежинки (всё время новые) стирают здания на заднем плане до состояния смутных серых теней, лишь пара покатых крыш белела сквозь завесу, а ещё дальше позади всё сливалось в неопределённое бледно-серое марево; разные стадии стирания, от яркого красно-золотого значка на куртке (у какого-то почти бегущего мимо паренька) на расстоянии вытянутой руки до океанической размытости в конце улицы, как будто за этой границей не было вообще ничего.
Все эти описания сравнительно ясных явлений могут, пожалуй, навести на мысль, будто пейзаж этот вообще изменчив и богат деталями. Это не так. Наоборот, оазисы (если можно их так назвать) относительно редки, и по большей части я блуждаю в некоем почти полном отсутствии направлений, которое на протяжении целых дневных (так сказать) переходов полнится лишь пыльным светом, парящей дымкой, катящимися туманными грядами, будто вид из самолёта внутри облачного слоя или (медленные) песчаные бури над совершенно безжизненной пустыней. Если я, судя по всему, и не хожу кругами (но что, если как раз хожу, а все вехи, которые я успел миновать, изменились так сильно, что я, проходя по тому же участку снова и снова, не узнаю́ их? эта мысль парализует, лишает мужества), то это потому, что я всё время следую за собственной тенью. Свет здесь очень своеобразный. Никогда не видишь солнечного диска (не говоря уже о луне и звёздах), но зато и совсем темно никогда не бывает. Все тени вроде бы смещаются, но лишь чуть-чуть, а потом так же быстро возвращаются обратно, как будто сутки (если можно так выразиться) всё время начинаются заново, так толком и не наступая, словно первые ноты некой беззвучной гаммы, играемые вверх и вниз, снова и снова, как будто природа, если прибегнуть к антропоморфизму, постоянно раскаивается в том, что позволила заняться дню, и передумывает, раскаивается, что позволила заняться вечеру, и передумывает, до бесконечности раскаивается и передумывает. Свет же, напротив, постоянно меняет окраску; светло-голубой, сернисто-жёлтый, медно-зелёный и так далее, с бесчисленными оттенками, но интенсивность его почти не меняется. Из-за этого возникает такое чувство, будто время заело.
Заботливо, да. Тот бандит. Измученный жаждой бандит лежал в пустыне, прикованный наручниками (ключи утеряны) к трупу шерифа, пока грифы кружили над ними, ближе и ближе, ему уже приходилось пинками отшвыривать самых голодных или самых настырных, чтобы удерживать их на расстоянии, нет, нет, это не бандит лежал прикованный наручниками к трупу шерифа, конечно, нет, это шериф лежал прикованный к трупу бандита, мёртвому телу, бренным останкам, бездыханной плоти, или всё-таки бандит к мёртвому шерифу, нет, это, конечно же, был шериф, который стоял на страже закона несмотря ни на что, который выжил, отвратительная картина, он ведь выжил, оказался в безопасности, но как? Как он выжил? Спасли? Кто? Как? Она не могла вспомнить. Надо сводить его к гомеопату.
Песок. Песок и труба. Лопата. Покрытие бомбоубежища, армированный бетон снизу, песок сверху, труба, которая должна торчать из песка. Стало быть, канава в песке, метра в три длиной (бригадир провёл черту измерительной линейкой) и в несколько дюймов шириной. Дрожащее изнеможение, разливающееся в теле подобно дистиллированной силе тяжести, тошнотворное и склизкое, после каждого копка приходилось по нескольку минут опираться на рукоять, отхаркиваться и сплёвывать, дурнота, пока он не вынужден был, сдавшись, опуститься на кучу изолирующих ковриков. В конце концов подняться (медленно) и осесть на стул после всего двух лестничных пролётов до квартиры. А потом террор: говорила ведь, угробишь ты своё здоровье, но раз уж не хочешь меня слушать, то это я должна позаботиться о твоём выживании, из нас двоих здоровая — я, чтобы ты высыпался, чтобы дышал свежим воздухом и двигался, чтобы не ел эту свою мерзкую жирную холестериновую отраву, все эти гамбургеры колбаски котлеты бекон сливочное масло студень картошку фри…
В свете, напоминающем обезжиренное молоко, но дающем отчётливые резкие тени, — некая популяция (если можно так выразиться) маленьких белых объектов в виде костей или ракушек, гибриды раковин, кроликов и собак, как бы неподвижно направляющиеся, нередко гуськом, к некоей сложносоставной, вроде бы растительной, густой, зелёной, как будто кожаной массе, где, как можно подумать, они несколько миллионов лет назад нашли пропитание, или же удаляющихся от неё. На большом расстоянии эти белые малютки напоминали стадо каких-то млекопитающих, с более близкого — окаменелые корни и грибы, совсем вблизи — опять-таки морских животных или растения (ведь несколько миллиардов лет назад животные и растения произошли из общего истока), однако твёрдых, как будто фоссилии этих животных продолжали, подобно часовому механизму, идти уже после смерти, движимые энергией своих последних судорожных сокращений. Я никогда не видел, чтобы они шевелились. Вообще ужас этого пейзажа в том, что нет никакой верифицируемой границы между царствами минералов, животных и растений, между подводным и атмосферным, доисторическим и современным, земным и внеземным, между мёртвым и живым. Если бы, впрочем, я должен был выдвинуть гипотезу, то сводилась бы она к тому, что всё мертво и что биологическое заключено в моих собственных пока ещё живых глазах (вернее, в мозге; ведь без мозга глаза так же слепы, как мозг без глаз), а не в самом пейзаже. Яркий свет летнего утра. Однако же ни лета, ни утра. Чёткая сложная геология (или флора, или фауна?). Запах соли и йода, будто с моря. И та конструкция высотой метров в двадцать (но воздвигнутая не людьми — образовавшаяся, может, в результате эрозии мягкой горной породы на протяжении тысячелетий?) из напоминающих строительные леса голубоватых скелетных форм, они похожи на кости голеней, бёдер, таза, лопаток, суставов, ключиц, теменных костей, лодыжек, поясничные позвонки, нарастающие друг на друга, трости слепых, костыли, прутья белых больничных коек; как будто прямо сквозь нечто вроде пупырчатой, рифлёной слоновьей кожи (если сравнивать с чем-то известным) или просто-напросто воду с вмёрзшими камешками (хотя температура пока что значительно выше нуля) пророс некий блёкло-серый бивень (будто здесь могут расти одни кости (или камни?), будто пейзаж этот населяют растущие, формирующиеся остатки скелетов, которые вместо тления спариваются, беременеют и рожают или, регрессируя к стадии пресмыкающихся, откладывают яйца, в конце концов они заполонят всю равнину непролазными костяными джунглями). Рядом — форма наподобие стола, покрытая напоминающей отсыревший в земле холст плотной материей с дырой посередине (бахрома по краям походила на белую бороду рождественского ниссе [2]), где что-то светилось — вроде бы вода, по-средиземноморски голубая. Оно оказалось твёрдым, гладким, как зеркало, но как бы подвижным под хрустальной плёнкой, будто вода под прозрачным льдом. Многочисленные круглые миски из белого камня (назовём это так для простоты), заполненные всё тем же голубым, похожим на воду, зеркало, лёд веществом, разбросанные одна за другой по направлению к горизонту, всё сильнее уменьшающиеся в перспективе, голубые глаза без зрачков, как будто мне никогда не добраться до самой дальней из видимых, не говоря уже о том, что находится за ней, как будто фактически они движутся прочь от меня, — так можно наблюдать, как стоящая у корабельных перил женщина, в которую ты давно влюблён, но которая так и не стала твоей, всё уменьшается и уменьшается, потом всё меньше и меньше становится судно, потом — только море, потом — дорога домой, набережная, швартовные палы, драные мешки, креветочная шелуха, пятна бензина, контейнеры, поддоны, бочки. Никогда больше. Тень этих устремлённых к небу костей упала на меня, когда я двинулся дальше, и ненадолго смягчила жжение в глазах.
Хотя он упирался, хотя он в это не верил, кто сказал, что природа не в силах исцелить то, что, казалось бы, разрушено, именно что исцелить разделенное надвое, и снова разделенное надвое, и снова разделенное надвое, смертоносное деление клеток, нет, не совсем так, но она должна как можно скорее, сейчас, сегодня же, вырвать его из скрюченных протезных когтей научной медицины, возможно, он всё-таки будет жить, непременно будет, а там она сможет сказать, не сразу, само собой, а спустя весьма долгое время, она станет ухаживать за ним, заботливо, до полного выздоровления, тогда-то и сможет это сказать, он же, уж конечно, найдёт себе другую, медсестру, ту кобылу, и тогда она сама с Л., не исключено, что и он с медсестрой, двойная свадьба, нет, нет, не совсем так. Но — июнь. Венок из цветов в волосах. Аромат сирени. Открытый лимузин, нет, повозка с четвёркой лошадей, которая ничего не загрязняет, из церкви. Венок из цветов в волосах, простых полевых цветов, не искусственной мишуры. А когда они скрылись бы у всех из виду, то остановили бы повозку возле луга, разулись и танцевали на траве, среди деревьев и цветов. Да. Она зашла в спальню, открыла коробку, нашла ключ в виде трубки, отперла выдвижной ящик, открыла коробочку, чуть помедлила, взяла одну в зелёной обёртке, открыла, потянув за нитку, засунула содержимое в рот, не жуя, снова накрыла коробочку крышкой, опустила коробочку в ящик, заперла ящик, положила ключ обратно в коробку, закрыла дверь спальни и, выбросив зелёную обёртку вместе с маленькой серебристой бумажкой в мусорную корзину, устремила взгляд поверх сквозистого зелёного папоротника «заячья лапка» на зимний пейзаж за окном. Ворона вспорхнула так резко, что мокрый снег вдруг осыпался со всех телефонных проводов разом, три белых линии, которые летели по воздуху где-то с полсекунды, а потом слегка вразнобой упали на снежный покров внизу.
Топография разительно переменилась, но не так, как я предполагал. То, что сейчас открывается моим глазам, представляет собой нечто среднее между циклопическим галечным пляжем и свалкой протяжённостью в целые мили, свалку камней, некое, быть может, кладбище, до того перенаселённое, что безымянные памятники громоздятся, куда хватает глаз, грудами и россыпями друг поверх друга, результат ливня из надгробий с геологического грозового неба. Пробраться через всё это явно невозможно. Ветра больше нет. Тишина глобальна. Теперь я ощущаю в теле некую близорукую сонливость, как бы от креплёного вина, и могу прямо здесь, где стою, лечь среди этих камней, чтобы никогда уже не подняться, и через некоторое время я приобрету ту же серую окраску, что и у них, ту же обточенную форму, никто не сумеет выделить меня в этой немой толчее как нечто особенное: да никто никогда и не придёт сюда и не увидит того, что я вижу сейчас.
[1] Здесь и далее в соответствующей группе фрагментов описывается воображаемое путешествие по картинам французского художника-сюрреалиста Ива Танги (1900–1955). В порядке появления, который совпадает с порядком создания работ: «Он сделал то, что хотел», «Угасание бесполезных огней», «Большая картина, представляющая пейзаж» (все — 1927), «Взгляд янтаря» (1929), «Ни легенд, ни цифр» (1930), «Без названия» (1934), «Бесконечная делимость» (1942), «Умножение арок» (1954). Детали разных полотен предстают элементами единого меняющегося мира. (Здесь и далее примеч. пер.)
[2] Норвежский аналог Деда Мороза.
Пятно-рот (с комментарием Лизы Хереш)
«Пятно-рот» Александра Фролова, написанного по следам тёмной прозы Тура Ульвена, не только начинается «с того места, где всё закончилось»: в каком-то смысле этот текст проделывает с собой такой же процесс обратного превращения-сворачивания, только не во временном, а в литературном отношении. Сращивая признаки трёх родов литературы — эпос, лирика, драма, — Фролов переносит в прозаически организованные тексты то, о чём много писал Самсон Наумович Бройтман — субъектный синкретизм, синтез тропов и их возвращение к более гибкому и текучему движению в артериях художественного мира. Это достигается Фроловым с помощью радикальной операции стирания текста с книжной страницы; материальный представитель литературной традиции подвергается физическому воздействию, сравнимому с удалением файла культурной памяти из картотеки. Однако именно стирание позволяет возникнуть дыре и речи: источник слова оказывается затемнённым и неизвестным. Эти же признаки позволяют ему оставаться живым. Теория письма (настаиваю, что именно это занимает Фролова как прозаика, переводчика и поэта уже долгое время) в каком-то смысле оказывается теорией анти-палимпсеста: вместо повторного нанесения надписи на табличку мы оказываемся перед пятном-ртом (безграничным пространством произнесения). Теория анти-палимпсеста не лишена самопожертвования: открытие рта возможно благодаря стиранию своего голоса. Вместе с тем нестабильное тело речи не может существовать без счёта, поддерживающего мир вокруг: возвращение зрения не происходит вне времени; оно укоренено в нём.
Последнее, о чём мне хотелось бы сказать, будет смех — единственный защитный слой письма от тех, кто будет на нём паразитировать, воспринимая чистое тело как «приглашение к татуировкам». В тексте о поэтике Драгомощенко, написанном после его смерти, философ Михаил Ямпольский сравнивает смех с инструментом разрушения целостности лица, регрессии образа; поэтому его интересует, что Драгомощенко придаёт смеху скорость. Фролов придаёт смеху толщину: он ставит перегородку между ускользающим телом письма, продуцирующим мир, и между другими способами подчинения самого тела письму (неслучайно пятно говорит о себе в женском грамматическом роде). Защитный слой, окутывающий глаза, при этом не теряет собственной антиавторитарной функции: смех нужен для освободительного взгляда на смерть, конечность и распад. Смех — условие сохранения себя и продолжения мира.
— Лиза Хереш
ПЯТНО-РОТ
С того места, где всё и закончилось, я и начну. Плыли облака, как мускулы пыли. Он сидел за столом, не имея представления, где он, и что было раньше. Какое-то немое чувство наполняло его. Он пытался его позвать, вступив в контакт, но это была молчаливая глыба, точнее ощущение от её присутствия — огромная скала, которой не было, но чудовищность, нависающая над ним от её якобы «здесь», пропитала каждый атом пространства, его пустоту, сделав её агрессивной: с когтями, колючками, крючками, клыками — хищный воздух, который, проникая в горло, царапал, рвал язык, лёгкие — будто вдохнул тысячи игл, и они внутри продолжали свою работу — утончённую пытку, бесцельную, не преследующую результат. Это безымянное чувство разрасталось в нём, струилось соками, готовое прорвать оболочку его тела — нетерпение? страх? тревога? интуиция, стремящаяся предотвратить разум?
Были часы. Били часы. Он поднял голову на бессюжетную стену — плоскость, на которой ссыхаются любые семена воображения, гибнут ростки фантазии — и увидел какое-то пятно почти под самым потолком — равномерно пульсирующее — словно разбитое о стену сердце, расплющенное, но ещё живое (болели часы), сокращающееся где-то шестьдесят ударов в минуту, сокращающее жизнь, дотлевающую в нём.
Комната — грудная клетка? Тогда кто он? Внутренний наблюдатель? цензор? один из оттенков «я»? Тогда где все остальные? Семья, семейство, род? Произошло расщепление? Что-то хоть вообще произошло? Или нити, лежащие повсюду на полу, — куски сухожилий событий, которые никуда не приводят, ни с чем не связываются — просто куча сорняков, водорослей, волос, паутины — сети, наваленные здесь для него — запутать — оставить здесь навсегда?
Пятый удар, извергаемый пятном, был последним, который распался и перешёл в стрекот — эхо, длящееся до следующих ударов. Он пристально всматривался в эту успокаивающуюся массу под потолком, охваченную каким-то изменением, будто сквозь её бесформенность начинала проступать геометрия.
Пальцы? Он трогал свои пальцы, будто не принадлежащие ему. Полупарализованные, получужие отростки, лучами-червями расходящиеся от ладони — часть тела, где он ощущал остатки контроля.
Пальцы, как лапки насекомого, беспорядочно шевелились, пытаясь сбежать.
Холод, отнимавший клетку за клеткой, орган за органом, исходил изнутри. Его источник был неопределим, как и всё вокруг; угадывалось только движение — крадущееся, как радиация, радиоволна, дающая о себе знать, лишь достигнув границы тела, тут же эхом возвращающаяся назад, захватывая участки плоти, отодвигая «я» всё дальше от своего воплощения, давно пройдя точку невозврата.
В этом разрыве стрёкотом были часы. Саможующимся пятном на стене. Он смотрел по сторонам и не мог понять, что они считает. Кого? Его — невозможно, т. к. спорно его существование. Не набрасывали ли они штриховку того, чем он мог бы быть? Живые насечки в анабиозе.
Ему что-то предстояло. Тень, от которой он был зачат? Событие, ожидающее его участия? Был ли у него выбор? Между чем и чем? Чаши весов пустовали, как предметы, разбросанные по комнате, без смысла. Возможно, здесь также были слова — полые, выпотрошенные бесконечными разговорами.
Место, где он пребывал, будто быстро покинули — все встали и ушли, ошарашенные, может быть, новостью, заставившей незамедлительно действовать, или непредвиденным событием — взрывом на улице, криком, скрежетом металла во время аварии, глухими ударами дерущихся мужчин, треском ломающихся костей, сигналом тревоги, захлёбывающейся музыкой похоронной процессии... это место — прервано, как разговор ушедших отсюда людей — на полуслове, распавшемся на микрочастицы и осевшем на поверхности.
Недосказанность, лежащая на всём, царившая в воздухе, не давала ему понять, где он. Чем ближе он подходил к предметам, тем больше они становились неузнаваемыми. Когда он чего-то касался, на ум приходило лишь слово «материя». Безымянная, аморфная масса не отвечала на прикосновение — холодная, безучастная, она заполняла почти весь объём помещения, как древние руины, чьи узнаваемые признаки стёрли ветер и время. Но эта вездесущая масса не давила, почти прозрачная, будто горы стекла, ломающие свет, за струением которого следил его ум. Углы, резкие повороты, изломы без предупреждения, знаков препинания и движения — ни шанса сосредоточиться, подумать о цели пути — затерянная в горах фигура, истязаемая ветрами, метелью, холодом и темнотой.
Немая скала, разрастающаяся в нём, возможно, была отражением, порождением внешней. Его тело, ум были границей, зеркалом, в котором пустота набирала мощь воплотиться.
Почему он сидит неподвижно уже довольно продолжительное время, глядя перед собой, словно в никуда, но очень внимательно? Чего-то ждёт? Кого-то? Бесцельно? Падая, падая и падая во временной раскол.
В его «слышать» давно не били часы. Полуживое пятно почти неуловимо пульсировало под нависающим потолком. Он шевелил пальцами — клубком червей — нитевидными языками мясного костра, вращая пожелтевшими от прямого солнечного света белками глаз. Чёрный, деревянный стол, стоявший возле окна, удерживал его от рассеивания в этой комнате, буквально утверждая его присутствие. Обезвоженным, полураскрытым ртом он всасывал воздух, шипящий, цеплявшийся за зубы. Эти ритмические всплески почти что свиста, она слышала по другую сторону стены, которые ей казались завихрениями песка, его пересыпанием в огромном сосуде из стекла, от чего она вплотную приблизилась к своей жизни и ощущала её сумасшедшую скорость.
Их разделял монолитный прямоугольник бетона. Ни двери, ни окна в нём, только хорошая слышимость, царапины, выбоины от тяжёлых ударов на поверхности и пятно часов под потолком.
Внутри геометрической фигуры, где она теряет себя с каждой секундой, есть только стул у ржавой кровати с провисшими от растянутости пружинами, разноцветные мелки, разбросанные по полу и разбитое окно. Дыра в нём была размером с футбольный мяч. Когда дул сильный ветер, он беспрепятственно проникал в комнату, подхватывая с пола её вещи, клочки бумаги, играя с её волосами — подбрасывая, теребя, путая. Внутри простого (обеднённого) на события помещения всё оживало, танцевало и менялось. В такие моменты она была вся в себе. Её белые руки неподвижно лежали вдоль тела, брошенного бездействием, как забытая вещь, на кровать. Пружины повторяли контуры тела. Она бормотала обрывок фразы последнего человека которого она помнит, до того как оказалась здесь. У него почти не было лица, или что-то съедает воспоминания о нём — клетку за клеткой. Различимым пока ещё оставался его шевелящийся рот. Это был какой-то рабочий, возможно, строитель —обветренные, потрескавшиеся губы, обожжённая солнцем кожа, шелушащаяся. Он говорил о прослушках в стенах, о домах, избегаемых птицами, о похищении зрения бетоном. Напоследок он сказал: «остерегайся стен, они теперь слышат...»
Ни живая, ни мёртвая, она лежала на продавленной кровати, заставив замереть даже мысль.
Но сейчас было безветренно. Всё лежало на своих местах. Всё было здесь. Она встала, подняла с пола белый мелок и провела кривую линию на стене — не длинную — фрагмент круга? изгиб волны? женского бедра? очертание берега, который ей снится время от времени? тень времени? Нельзя было понять, была ли линия началом, серединой или концом. Просто завиток? Зачаток буквы, которым начнётся письмо? Не был ли это полукруг лица или рта, сказавшего, что стены в какой-то момент ожили?
Она слышала глухие удары с той стороны стены — монотонные, заключающие внимание в свой ритм — стрёкот, переходящий в набат.
На ней не было лица. Но были волосы. Волосы были волосами.
На ней не было лица, но была маска — без выражения — фарфоровая оболочка, с прорезями для глаз, сросшиеся с лицом, ставшая им.
Она не смеялась и не плакала — так всё и происходило. Так всё и произошло. Ледяное безразличие, охватившее её, пространство, ничто.
Тяжёлый свет лежал на предметах.
Она поставила стул посередине комнаты и села на него. Не зная, куда деть руки, она познавала тесноту пустоты.
Разведя руки в стороны, она посмотрела на проведённую мелом линию и закричала. Этот крик был нечеловеческим. Он напоминал птичий. Крик ласточки, почувствовавшей сокола в высоте.
Чем темнее было в комнате, тем ярче горела белизна завитка.
Она начала махать руками, как крыльями.
Затем последовал второй крик — более яростный и обречённый.
Она не хотела здесь умирать — в окружении живых стен. Она чувствовала нарастающую слабость в теле, будто стены высасывали из неё все жизненные соки.
Она продолжала махать расставленными руками. Они становились тяжелее. Наливались свинцом. Она превращалась в истребитель, который никогда не взлетит.
Небо, в котором она отсутствовала, было напряжено, как глаз, что вот-вот лопнет. Оно с усилием всматривалась сквозь дыру в стекле, пытаясь её обнаружить.
Где-то за гранью пролегало время. Она чувствовала его, но на расстоянии. Возможно, по ту сторону стены, себя. Был ли ему кто-то там свидетель? слушатель? вестник? Не нужно ли ей было умереть, чтобы почувствовать, как сквозь неё устремится пульсирующий поток.
Она опустила руки на колени. Она опустила руки. Они были тяжелее тяжести. Тяжелее себя. Настолько, что даже мысленно невозможно было их поднять.
Достаточна ли у неё была концентрация внимания? Были ли узнаваемы предметы в его поле? Выносимы?
Лёгкость, с которой она теряла своё тело, передавалось его принятию решения в следующий раз начать всё по-другому, а пока — тени, густеющие чёрным льдом на поверхностях, отсутствие шорохов в ящиках стола, будто там задумался ветер, напуганный хрустом своих хрящей.
На столе три-четыре синие книги. Из одной торчит закладка — клочок цветной бумаги: красный.
Комната длинная, но узкая, как вагон поезда. Солнце тут редкий гость. Сложно читать. Но можно достать из себя страхи и долго рассматривать их в полумраке.
Он смотрит на стены, потолок, окно, дверь и закрывает глаза. Хотелось пить, но он решил подождать.
Тело тяжелее скучной книги.
Иногда оживали стены. Больше ничего. Ничего не происходило. Не происходило. Не.
«О чём мои руки, язык?» — думал он — «Тело в целом или в частях?». За окном пролетела птица, скрипнул стул, дернулся глаз.
Чего ещё ждать от пространства, изголодавшегося по действию? Предельного напряжения, от которого сохнет кожа и шелушатся поверхности предметов, теряя краску и блеск? Агрессивности на неподвижность или ожесточенного сопротивления на внезапное появление чужеродного? Он был внутри этой хищной среды — её частью, клеткой, нервом, зубом, клыком или причиной, что вызывала её ожесточение?
Он сидел за столом, боком к стене и окну. Стол был чёрный, как и пятно, производящее несколько ударов в час. Считал ли он их? Его руки лежали на столе, а её — на коленях, на которых от их веса уже были синяки.
Что-то сквозило сквозь стену — возможно, их общее непонимание того, что они тут делают.
Знали ли они друг о друге?
Превосходящая их сила удерживала внутри, хотя были двери, через которые они сюда пришли или их привели.
Возникал ли у них вопрос о состоянии двери?
Она — на стуле напротив стены — смотрит на белую линию, он — возле окна, за столом, не узнаёт свои руки, и никто ни разу не подошёл к двери. Быть может, они не верили в «здесь».
Стена — то, что их связывало, но и разделяло — дробная черта, где она числитель, а он — знаменатель. Они оба чувствовали неуловимую закономерность, ставящую их в зависимость от того, что по ту сторону.
Что нашёптывает им бездействовать? Отсутствие веры? В свои силы? В свои тела? Могли ли они называть их своими в месте, где вы всё казалось ложным? Или тела и были единственной твердостью — падью земли, гравитация которой притягивала тени, обретающие вес — материю будущих предметов?
Кажется, предметам чуть не хватало уверенности, чтобы стать молекулами события. Откуда ей взяться? Из действия, на которое никак не решатся он и она? А способны ли они на это? А если они куклы, брошенные в театральной кладовке, разделённые перегородкой, никому не нужные в силу дефектов или естественного износа?
Нити, видимые только для них, расслабленные, сваленные кучами на полу, привязанные к рукам и ногам, шее, талии, никуда не ввели, а лишь приводили к догадкам, к чему были привязаны раньше их противоположные концы — пальцам кукловода? Иногда казалось, что это волосы смерти. Невидимые, но крепче стальной проволоки.
Он открывает книгу с красной закладкой. На белых страницах танцуют чёрные буквы. Он не может сфокусироваться. Или свет дрожит от перенапряжения. Истощения. Нервного.
Есть ли у света нервы? Не они ли разбросаны по всему пространству их местонахождения?
Он смотрит на страницу, на которой что-то пытается, что-то пытается высказаться, но не получается, на которой что-то пытается высказаться в силу... определенных обстоятельств.
Они пребывали в неопределенности. Обстоятельства давно потеряли границы и перемешались. Теперь есть месиво, неподдающееся вопросам.
На страницах был чей-то отпечаток голоса. Кому он принадлежал? Возможно, ему. Чтобы не потерять, он спрятал его в книгу и забыл, оставив себе молчание, с которым он не справлялся, парализующее всё вокруг. Единственным противовесом были часы. Он не мог на них смотреть. Хотел, но не мог, так как они провоцировали пробуждение и раскрытие голоса — его временного места захоронения, как кто-нибудь бы сказал. По слову «временное» часы его и находили.
Он открыл книгу, и часы остановились? ослепли? подавались? стекли на пол? — пробили шесть.
Она тоже слышала эти шесть громких, отчётливых удара, будто диктор произнёс слово «ВНИМАНИЕ!»
Отчеканенные удары с лёгкостью достигали самой отдалённой точки внутри неё. Оно содрогалось от каждого толчка, вызванного оповещением часа. Мелкие трещины уже испещрили её тайну.
Она встала с кровати, подошла к разбитому окну. Порыв ветра щекотнул её лицо. Небо было открыто к диалогу, который она запретила для себя, приняв внутрь все облака, чтобы в не проходящем солнечном свете она смогла как можно дольше видеть своё исчезающее тело.
Он взял в ящике стола ластик и начал методично что-то стирать на странице книги. В её комнате поднимался ветер. Порыв за порывом. Ещё шорохи вперемешку с шёпотом. Нарастающие ёрзания. Будто само пространство хотело высказаться, но не могло, булькая, рыча, заикаясь. Он продолжал тереть страницу. Иногда казалось, что он делал это пальцем. Её тело горело. Она открыла настежь окно. Слепое небо. Плети воздуха ударили по коже. Была ли она одета? Не могла вспомнить. Она не видела, что была на ней, так как смотрела внутрь себя. В какой-то момент он понял, что протёр страницу насквозь. Образовавшаяся дыра была очень гостеприимна. Она ждала его, чтобы сделать своим дном? Он приблизил книгу к лицу, и дыра зашевелилась, засмеялась и заговорила.
— я не одета. Вы кто?
— я наблюдаю за пятном времени. У вас есть доказательства?
— я с вами говорю.
— вы дыра!
— я рот лица. Посмотрите, как внутри меня интенсивно работает язык.
— мне может быть явлено лицо?
— вам нужно преодолеть для этого стену.
— у меня нет молота.
— вы уже на полпути.
— что я для этого сделал?
— вы сделали из себя ничто. Вы стёрли свой голос, открыв тем самым мне рот. Я лежала за стеной и ждала, пока что-то произойдет. От тела осталась лишь кожа и точка внутри, куда я направила всю силу внимания, чтобы полностью не исчезнуть. Я лежала на кровати с ржавыми пружинами и исчезала, молекула за молекулой, пока не услышала спасительные шесть ударов. Неужели вы до сих пор не поняли, что непослушным пальцем, казавшемся вам ластиком, вы протёрли не страницу, а стену в том месте, где пульсировало пятно?
— что с ним случилось?
— оно лопнуло, как фурункул, и мой рот будто освободился от кляпа.
— а где же книга?
— вы читали стену, отдав права голоса ей.
— откуда вы всё это знаете?
— я ничего не знаю. Мой рот пересказывает вверенное вами стене.
(пауза; умирающие часы превращали пространно в близость)
— что происходит? Почему ты молчишь?
— мне страшно! Мне нужна твоя помощь.
— что случилось?
— ко мне двинулись руины чисел. Могу ли я поверхность своего тела использовать как щит?
— есть опасность, что они воспримут её как проявление гостеприимства, поселяясь на ней татуировками. Твоё чистое, как бумага тело, без шрамов, бесшовное, подтянутое, для них — магнит — земля обетованная. Лучше оденься и отставь открытыми только глаза.
— ничего не выражающие, стеклянные, неподвижные глаза?
— да, и окутанные толщей смеха.
— смеха над чем?
— над их убожеством, распадом, конечностью. Потрескавшаяся 2, чем-то скошенные 4 и 7, разорванные 9 и 1... мёртвые останки каких-то древних, давно вымерших числовых рядов у меня вызывают смех до колик.
— если всё так, тогда здесь происходит восстание мертвецов. Нам нужно спасаться! Ты так спокоен, будто заручился поддержкой какой-то магии. Моя кожа начинает гореть. Будто дичает солнечный свет, распадаясь на миллиарды микроскопических жал, кусается, жужжит, бурлит, кипит; иногда рычит.
— это от разрушения основания, на котором он всегда держался, а точнее от которого отталкивался — числовой ряд, внезапно оживший, ломаясь, лопаясь, — полумёртвые сгустки, дрейфующие в пустоте. Теперь свет не знает, что превышает. Не может соотнести свою скорость с пределом. Черта, за которой начинается бессилие, осталась, но на уровне ощущения; она вшита в свет, в его природу; внешних ориентиров нет — в духе огней на взлётной полосе. Свет всегда на пределе, но постоянно в этом сомневается.
— быть может это показательный пример того, как находиться в относительном равновесии в условиях, когда крушение назначает тебе встречу. Я не берусь загадывать наперёд, я не доверяю интуиции, построенной на логике. Её ошмётки летят в мою сторону, будто кто-то взорвал все мостики к будущему, о котором хочется порой пофантазировать.
— я на волоске от столкновения с оледеневшими кусками математики. Моё зрение не различает их в потемневшем воздухе. Все предположения сметаются встречными ветрами. Не стоит ничего ждать, мои нервы изношены и наэлектризованы. От любого резкого звука меня прошибает, словно током. Если меня в кои-то веки настигнут числа, ты поможешь мне их привязать к какому-то событию? Сделать их датами? Пусть даже нанесенными поверх другу друга?
— я боюсь тебя подвести, не уверен, что обладаю ловкостью, нужной для совладения с числами. Я упражнялся ежедневно, как того требуют методички, по нескольку часов подряд записывая репортажи, ничего не понимая в содержании проговариваемого материала. Моя главная цель была отделить зёрна от плевел: писать быстро и главное. Я провёл в изнурительных тренировках больше года, но так и не достиг требуемого мастерства. Поэтому так уклончиво отвечаю на твою просьбу.
— начни просто считать — по нити твоего голоса я смогу вернуть своё тело.
— один, два, три, четыре…
…небо зарастало облаками…
...зрение возвращалось...
07.03.2024
Оборотная сторона истории: о поэзии Тура Ульвена
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ
Кто такой Тур Ульвен? Не биографически, конечно, потому что навязывание подобной оптики всегда рискует увести от предмета разговора. Возможно, стоит скорректировать вопрос: откуда взялся этот поэт, инопланетянин Тур Ульвен? И почему он именно сейчас становится культовым автором для молодого поколения русскоязычных поэтов, хотя первая книга его стихотворений (в переводе Дмитрия Воробьёва и Иосифа Трера) вышла более десяти лет назад?
Можно ответить на эти вопросы умно и хорошо, но надо ли? Ульвен — поэт философичный (как и все лучшие поэты), а философия далеко не всегда любит отвечать, потому что ответ — вольно или невольно — претендует на аксиоматичность мысли. То же и со стихами Ульвена: как только начинаешь анализировать их, производить дешифровку, структурирующая их энергия улетучивается, и ты остаёшься чуть ли не с черепками. Это не слабость, а защитный механизм подобной рациональной поэзии. И как бы она не располагала к препарированию самой себя, её основная задача — заставить шевелиться джунгли человеческого бессознательного.
(Мы будем ждать до тех пор, пока книги и туши быков не уложатся слоями)
Парадоксально, как эти, пользуясь словом самого поэта, неутешительные стихи завораживают и погружают в состояние близкое к трансу. Ульвен и есть поэт парадоксов (повторюсь, как и все лучшие поэты). В своём единственном интервью он сказал, что «время или переживание времени» — центральная тема его поэзии, а что может быть парадоксальнее ощущения времени? Определить точку отсчёта в его стихах практически невозможно: время нелинейно, будущее перепрыгивает через прошлое и попадает в настоящее. Кажется, что субъект речи застрял в промежуточности матрицы, неспособный существовать в полной мере. Он вынужден постоянно переключаться между «бытиями», а стихи Ульвена — это инструкция «как выйти из одного бытия и перейти в другое», не дающая, впрочем, единственного алгоритма действий. «Переключаться» субъекту помогают различные порталы (возьмём в качестве примера «след»), через которые можно как появиться:
и ждать, пока
бесследно
родишься.
…так и исчезнуть:
Что, если отпечаток
пальцев ног на песке
был сначала,
сама же нога росла
дни, годы, чтобы в этот миг
найти след, заполнить его
и исчезнуть.
Так смерть перешагивает в жизнь, исчезновение — в образование, забвение — в память (тут ассоциативно возникают строки поэта Михаила Гронаса: «забыть значит начать быть»), а затем в обратном порядке, и так, видимо, до скончания времён. Не будет линейности, не будет логики. Потому что человек заброшен в мир хаоса, насилия и равнодушной природы, и если человека съедят, то не ради священной жертвы, утоления голода или из ненависти к нему. Всё до обидного просто: оказался не в то время не в том месте.
Затёртый до неприличия концепт Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» в поэтическом мире Ульвена видится не более, чем аффирмацией, поскольку под сомнение ставится не только существование личности («теперь, когда тебя никогда / не существовало»), но и мироздания.
Мир возникает с твоим появлением, уничтожается с твоей кончиной. В минутной толчее рождений и смертей непонятно, существует мир или нет
И в этом мире неопределённости единственным собеседником поэтического субъекта становятся мёртвые, которые фактом своей смерти придают хоть какое-то подобие линейности времени. Правда, диалогом это общение назвать нельзя. Субъект часто обращается к анонимному «ты», которое при желании можно интерпретировать как обращение к самому себе:
Ты ничего не
значишь
для своего
сердца.
Если же с подразумевающимся субъектом начинают говорить мёртвые, то выступают они в качестве привилегированных собеседников («Когда мы выкапываем их, / они смеются / над нами»), обладающих неким трансцендентным знанием, которое они способны артикулировать исключительно «невнятным голосом»:
Тихо
в зале.
Челюсть,
выкопанная из земли,
склонилась
над микрофоном
и ревёт
вымершим
голосом
ледниковых времён.
Поэзия Ульвена буквально наэлектризована напряжением доисторической эпохи. Он так часто обращается к этому «довременью», что его можно было бы назвать «палеонтологом от поэзии». Кости погибших существ раскиданы в его стихах тут и там, и часто мерещатся поэтическому субъекту даже в условно спокойных ситуациях. Так немыслимо далёкое прошлое утверждает себя в его реальности:
Твоя рука пролетает низко
над моей шеей. Я ощущаю
слаженную работу косточек
в крыле доисторического
ящера
Интерес к доисторическому времени влияет и на саму структуру текста. Так в паузах между строфами (которые могут выражаться одним-двумя словами, как в приведённом выше стихотворении «Тихо / в зале») могут пройти столетия, если не тысячелетия. Ульвен словно бы воссоздаёт скелет давно погибшего существа, бережно и кропотливо соединяя осколки костей. Он даже сформулировал собственный жанр — «фрагментарий».
Ты переворачиваешь камень, лежащий на сырой земле, потому что тебе нравится смотреть на муравьёв, желтоватых червей и двухвосток, которыми, конечно, кишит земля под камнем. Тебе первому дано открыть эти маленькие существа, застать их врасплох. Но на этот раз с оборотной стороны камня на тебя смотрит лицо, и оно начинает говорить невнятным голосом, пока комья земли шевелятся вокруг рта. Из этой сиплой и властной речи ты понимаешь, что наступает твоя очередь лежать лицом к земле, пока кто-то не придёт и не перевернёт тебя по случайности в порыве детского любопытства.
Эта статья — лишь беглый обзор
основных черт поэтики Тура Ульвена, но заслуживает он, конечно, гораздо более
пристального внимания. Пожалуй, пришло время произнести вслух очевидную мысль:
Ульвен — норвежский поэт мирового масштаба (хотя сам он лишь скептически
ухмыльнулся бы на такие слова). Тем отраднее, что в 2023 году в «Издательстве
Ивана Лимбаха» вышла замечательная, полноценная книга его стихотворений и эссе
«Исчезание равно образованию» в переводе Нины Ставрогиной и уже упомянутого
Дмитрия Воробьёва. Некоторых читателей может отпугнуть внешняя сторона его
стихов, как то пессимизм, разочарование, ощущение обречённости мира и
преходящести жизни. Но, продравшись через эти колкие, рационалистичные
стихотворения, потенциальный читатель сможет не только утешиться, но и
освободиться от страха.
В-том-самом-единственном-интервью Ульвен выразил следующую, весьма оптимистичную для него мысль: «Вполне возможно, вся хорошая литература гуманистична в том смысле, что всякий, кто читает или пишет книгу, вынужден рефлексировать — или сублимировать, если прибегнуть к фрейдистскому выражению, — и тем самым дистанцироваться от варварства». Мысль, несколько освещающая наше тёмное время. Но насколько она справедлива каждый должен решить самостоятельно, потому что всякий раз, переворачивая камень истории, мы натыкаемся на своё собственное лицо.
Тове Дитлевсен — голос молчаливого поколения. Копенгагенская трилогия.
«Копенгагенская трилогия» датской писательницы Тове Дитлевсен вышла на русском языке в издательстве No Kidding Press в 2020 году в чудесном переводе Анны Рохманько.
Трилогия, состоящая из романов «Детство», «Юность», «Зависимость» — многослойное письмо, которое при комплексном рассмотрении раскрывает читателю тонкую работу автора-созерцателя с автобиографическим материалом. Я попробую обратить здесь внимание на то, как устроена фикция в автофикшне, и какими инструментами оперирует автор «Копенгагенской трилогии», чтобы сейчас, спустя полвека с момента написания романов, «возродиться» и зазвучать на более чем 25 языках.
На первой же странице «Детства» только что проснувшаяся девочка (Тове) смотрит на сидящую у окна мать, которая, в свою очередь, воспроизводит висящую на стене картину. Фрагмент построен по принципу сдвоенного изображения (картинка в картинке), который, с одной стороны, фокусирует внимание читателя на рассказываемом фрагменте, с другой — задает ключевую оптику, как бы подсказывая, что это — поколенческая история о женщинах:
«Позади нее на обоях в цветочек <…> висела картина с пристально смотрящей в окно женщиной, рядом с которой на полу стояла люлька с младенцем. Подпись внизу поясняла: «Жена ждет возвращения мужа с моря». Кроме того, это архетипическая история. Пока Пенелопа вяжет (кстати, мать Тове тоже вяжет свитер), на том берегу Одиссею дОлжно бороться с волнами, с Циклопом и Посейдоном, приставать к юным девам и не только, словом — вести себя как полноценному субъекту. Только вот в тесном доме на улице Вестербро в Дании 30-х годов мужчина отсутствует по другой причине: тотальная унификация рабочего класса стирает границы «мужского» и «женского», предлагая иную оппозицию — «рабочие» и «безработные»: «И наконец никто не должен был узнать, что твой отец — безработный. <…> Поэтому мы прятали свой позор за безумнейшей ложью: самой простой была история, что отец упал со строительных лесов и теперь на больничном».
Отец Тове отсутствует и сидя на диване, и читая газету, и задыхаясь на работе кочегаром. Стоит сразу сказать, что мужчины трилогии: отец Тове, ее брат Эдвин, ее муж Эббе (их гораздо больше, но я и так собираюсь превысить количество знаков) — фигуры достаточно инфантильные и пассивные. Они в большей степени инструменты в руках аппарата, чем женщины, которые борются за свою субъектность разными, подчас нелогичными способами. В попытке матери не «замечать детство» дочери, торговаться на базаре «не своим» голосом, а так, как «заведено у обычных жен», кроется бунт против социальных ролей, которые женщина рабочего класса обязана играть в условиях тотальной унификации и объективации: «Начав получать социальные выплаты от государства, человек лишался права голоса».
Мир женщин, не интересный большой истории, становится предметом глубокого погружения и рефлексии рассказчицы. С самого начала и последовательно доказывается материальная, физическая, телесная сопряженность этой жизни с глобальным нарративом, например, руки матери и Версальский мирный договор: «Я ела не спеша, рассматривая тонкие мамины руки, неподвижно покоившиеся на газете, прямо на новостях об испанском гриппе и о Версальском мирном договоре». С одной стороны, таким лаконичным способом читателя вводят в контекст эпохи, с другой — задают те ключевые аспекты письма, которые будут реализовываться на протяжении всей трилогии. Так же и в «Юности», говоря о некрологе редактора Брохмана, который умер, не успев помочь свершиться большому писательскому прорыву Тове, читаем: «Мама разливает кофе и ставит кофейник прямо на его имя». В «Зависимости» эта сопряженность доведена до абсолюта: «Я мерзну даже в пальто и не могу собраться начать писать — Гитлер ревет сквозь стены, словно он рядом со мной. Он рассказывает об Австрии, и я застегиваю пальто до самого ворота, поджимаю пальцы в ботинках». Героиня никогда не ставит знак неравенства между свой личной историей и большим глобальным нарративом, наоборот: «На следующий день я приступаю к работе в Валютном центре наборщицей текстов, а Гитлер нападет на Австрию». Это равнозначные события, и со временем ценность личной истории будет только превалировать, даже перед лицом мировой войны.
И вот здесь, продемонстрировав эту сверхидею и «я» героини, стоит обратиться к ее путешествию: с одной стороны сугубо индивидуалистскому, с другой — содержащему элементы мифологического, восходящие, в частности, к андерсеновским сказкам. В первую очередь, речь идет, конечно, о «Снежной королеве».
Герда и Маленькая разбойница
Конечной целью пути Герды к Каю, кроме мотива инициации, можно назвать стремление быть услышанной. Не случайно в конце она должна окликнуть его, и тот должен услышать. Путь героини в трилогии Дитлевсен содержит ту же интенцию: высказаться и быть услышанной: «Однажды я запишу все слова, что пронизывают меня насквозь».
Голос (и здесь уместны параллели не только с греческим мифом о Филомене, но и с другой сказкой Андерсена — «Русалочкой»), репрезентирует женскую субъектность, и отобрать его, значит лишить ее субъектности. В «Детстве» Дитлевсен мать иногда поет, причем совсем другим, будто забытым девчачьим голосом. В юности она любила петь, но Дитлев — так она называет мужа, лишил ее этой радости. Тове отстаивает свой голос с детства. Как и Герда, она встречает на своем пути помощников и вредителей. Первая и самая яркая из них — рыжеволосая воровка Рут, обитающая в основном у мусорных баков. Рут, как Маленькая разбойница, открывает для девочки другой мир, учит ее воровать и обманывать. Из мира жестких правил девочка попадает в мир нарушения правил. Это новое пространство возможностей волнует, это пространство дозволения, и воровство тоже воспринимается как акт дозволения, можно даже сказать — творческий акт. Инаковость Рут подкрепляется мифологически и объясняется тем, что она подкидыш. Мотив «чужеродной красавицы», которая может нанести герою смертельную рану или, наоборот, спасти, распространен в мифологии и объясняется попыткой первобытного мышления примириться с ужасным исходом, который как будто не столь страшен, если нанесен чужой, вражеской рукой. Образ жизни Рут воспринимается родителями как проклятье, и мы не знаем (собственно, это и не важно), на самом ли деле она подкидыш или это способ родителей отгородиться от ее инаковости. Как бы то ни было, она тоже зачаровывается Тове и, подобно Маленькой разбойнице, пытается оставить ее в своем мире как можно дольше. Но здесь, как и в андерсеновской сказке, истинная субъектность героини состоит именно в том, чтобы отказаться от «волшебного» мира и идти дальше, к конечной цели, в одном случае — к речи, в другом — к письму.
В обоих текстах — и в сказке Андерсена, и в «Детстве» Дитлевсен, отсутствуют родители как фигуранты или субъекты, между тем есть бабушка — наиболее авторитетная фигура, вокруг которой вырисовывается своего рода расколдованный топос. В данном случае под «расколдованным топосом» понимаем место, лишенное привычного распорядка, императивов и объективации жизни рабочего класса. Не случайно на нудной работе наборщицей текстов Тове пытается втайне писать свои стихи, пока «ведьма не проснулась». Фигура бабушки в обоих текстах пространственно ограничена именно естественной природой вещей, что помогает героиням раскрыться творчески.
Здесь не нарушаются правила, как в мире Рут/Маленькой разбойницы, потому что мир разбойниц тоже находится в прямой, хоть и обратной, зависимости от окружающего. По сути Рут — это Тове, которая в какой-то момент поддалась и осталась в другом, но тоже зачарованном мире, которую опьянил рай (будь то социалистический, которым бредит отец Тове, коммунистический или какой-либо другой). Тове отвергает любой обещанный рай, и в этом ее истинная субъектность. Здесь еще появляется и магически исчезает херре Крог со своими потрясающими книгами, точно так же, как «колдунья в соломенной шляпе и чудесными цветами» встречается Герде (с точки зрения перекличек примечательно и то, как замирают героини при виде в одном случае цветов, в другом — книг). Отчетливо Герда понимает одно: на ее вопрос о Кае каждый отвечает о чем-то своем, каждый рассказывает «свою сказку», и, может быть, ей тоже следует рассказать свою. В этом смысле героиня Дитлевсен автобиографична и, при этом, парадоксально мифологична. Стремление Тове стать писательницей не подлежит оспариванию, ей интересны только ее стихи и те, с кем она может говорить о своих стихах. Даже в бомбоубежище она изучает себя и окружающих женщин писательским глазом. Этический вопрос Адорно, мучающий многих и сегодня, для героини Дитлевсен вовсе не стоит, у нее другой вопрос: «А что, если начнется мировая война, и моя книга не выйдет?». Возможно, дело в том, что путь героини лежит в плоскости канонической сказки, герой которой, нарушая запреты на пути к освобождению принцессы/царевны, не задумывается о том, стоит ли она того, чтобы ее спасти. Ведь это история не о принцессе, а о нем — его естественном пути инициации.
Герда и красные башмачки
«Я и мои стихи» — как заклинание ведет героиню на этом мифологическом пути, где есть место и символическому жертвоприношению. От красных башмачков, олицетворяющих женское сексуальное начало, Герда, в отличие от другой героини Андерсена из сказки «Красные башмачки» — Карен, откажется сразу. Мотив красных башмачков как в одноименной сказке, так и в «Детстве» Дитлевсен связан с конфирмацией. Выбирая красные башмачки как дар и следуя своей природе, «тщеславная Карен» совершает грехопадение: ноги пускаются в пляс, не слушаются и доводят девушку до дома палача, которого она молит их отрубить. Эта жестокая подробность нужна нам, чтобы проследить, как она перекодируется у Дитлевсен: «Вот тебе последняя пара обуви от нас», — говорит перед конфирмацией мать Тове. «Туфли сделаны из парчи и стоят девять крон <…> отец укорачивает каблуки топором». То есть, в каком-то смысле Тове тоже совершает символическое жертвоприношение, отказывается от сексуального начала (здесь это как будто репрезентируют каблуки), но не отказывается от призвания. В основе сексуального порыва, пишет Батай, лежит отрицание обособленности «я». Тове на протяжении всего пути наоборот — отстаивает обособленность я: «— Ваша подруга, — говорит он, — потрясающе красивая. — Да, — отвечаю я и думаю, что он предпочел бы ее, а не меня. Но эта сторона вопроса мне безразлична».
С другой стороны, Тове, подобно этой девочке, только и думает о своей книге, но раскаиваться не собирается. Как будто вся феминистская литература вместе с ней идет сказать о том, что женщина имеет право думать о своих красных башмачках, даже если это стихи или мальчик, решающий уравнения. Она может думать о любых башмачках, о которых захочет. Но и здесь Тове отказывается от жестких оппозиций и остается в пограничности: «Я ношу полуботинки на шнурках, которые, разумеется, достались в наследство от брата». Она все время нащупывает грань свободы и вынужденного свободомыслия. Сначала нужно доказать, что и девушка может быть поэтом, затем в богемном мире, куда Тове попадает в юности, — что поэт может иметь детей. Рождение ребенка для Тове равно творчеству и должно произойти исключительно по собственной воле.
С этой пограничностью связана и следующая ступень — андрогинный нарратив, где верхний слой формирует мифологический аспект, а внутренний — нарратологический: моделирование дополнительных инстанций, разработка фиктивного (Бахтин) другого. В «Детстве», к примеру, в ткань повествования вставлены поэтические куски — стихи Тове. Эти вставки случайны и никак не мотивированы, что создает эффект разоблачения героини/нарратора. Между основным текстом и стихами создается своего рода лакуна, пробел, нетронутое пространство, которому в верхнем слое соответствует расколдованный топос в доме бабушки. Здесь появляется новая, взрослая инстанция — другой, способный к архивации, совершающий отбор текстов по собственному усмотрению. Если предположить, что это реконструкция мира-текста — большой, глобальный нарратив и незначительная, неуместная жизнь героя/ини, можно сказать, что она действует в обратном, то есть идеальном, направлении: большой текст «Детства» служит поэтическим вставкам, обрамляет их и становится местом самопоэтизации.
Улица и ее «сказочные» персонажи эстетически убедительны и органично вплетены в мир ребенка (Лили Красотка, Герда и дровосек, Кетти), но с взрослением они демифологизируются, превращаются в тени. Появляются как бы двойники, выполняющие те же функции, что и герои в «Детстве», но теперь обыденность пожирает их сказочную оболочку. Эббе — второй муж Тове, вечно решающий уравнения, как Кай, завершает ряд раздавленных тотальным нарративом мужчин. Интересно, что и Эббе, и Кай оказались в мире цифр не по собственной воле. Так же и брат — Эдвин. Изначально представленный как принц, с которым связаны все надежды родителей, потому что, в отличие от девочки рабочего класса, судьба которой предопределена: школа, конфирмация и работа в чужих домах, с мальчиком еще не ясно: он еще не отец, не муж и уже не девочка. Но и ему не удастся обойти систему, она распознает его, раздавит и наделит той же рабочей мозолью, что и отца.
Поэтому «противоядие» в преодолении объективации и жестких бинарных оппозиций для героинь лежит в недискурсивной плоскости. Аффективное письмо, которое мы получаем в третьей части — «Зависимость» — результат или даже апогей таких недискурсивных практик. Героиня изначально находится и переживает свою субъектность как минимум в трех измерениях: мир объективной реальности, мир сослагательный (возможный) и мир будущий: «Да я и сама была виновата: не разглядывала бы женщину, осталась бы незамеченной. Мама с ее строгими и прекрасными глазами сидела бы, аккуратно сложив руки и уставившись в разделяющую нас пустоту». Или, если про будущее: «Когда мне исполнится 18, мир перевернется». Таких примеров в трилогии множество. Бахтин назвал бы это лазейкой, пользуясь которой я спасает себя от сплошной природной данности. Такой лазейкой для Дитлевсен и является выход в «андрогинный нарратив», в котором дополнительное пространство с помощью привлечения новой повествовательной инстанции вырабатывается в «Детстве», теряется, превращается в мерцающее я в «Юности» и достигает завершенности в «Зависимости». Эту новую инстанцию важно заметить и учесть, ведь от этого во многом зависит прочтение трилогии не как истории взросления, становления и распада личности, а как последовательно выработанной стратегии автора при работе с автобиографическим материалом, которая в конечном счете ведет по восходящей к созданию новой — пограничной (аффективной), аутентичной автору формы письма. Ведь, соглашаясь снова с Батаем: «Лишь долгая агония поэта обнаруживает наконец аутентичность поэзии».
Но это не точно.
X + X; виньетка вида на карусель: о поэзии Гунвор Хофму и Хьелля Хеггелунда
Катаясь на карусели, может, надежней поверить в запечатляемое вращение всего — кроме тебя (неподвижный соглядатай); и оно держится в уме, становясь источником (заметка на полях: это требует уточнений) твоих видимых/невидимых переворотов и обращений. Вокруг собственной оси — и в качественно следующее состояние. По меньшей мере, такая картина складывается во многих текстах Гунвор Хофму и Хьелля Хеггелунда. Два крестика, искомых, два Х.
Было бы нечестно без предисловий и напрямую соотносить эти две фигуры, заведомо оберегающие друг против друга водораздел. Пучок расхождений между искомыми Х., оказывается, не препятствует: для остова нашего разговора подобное соположение осеняет. Дает возможность на выборочно-семейном портрете норвежского модернизма предметом взгляда сделать характер обращенности отдельных поэтических форм (пусть малых) — ракушечно внутрь / отзывчиво вовне. Различия подчас просты как в детской раскраске: если в поле зрения Хофму — норвежский модернизм в своем бурном апогее, в известной его первой фазе в 1940-е годы, то Хеггелунд относится к третьей фазе 60-х годов, которую часто считают последней столь заметной, связанной с литературой как с практикой во многом не выходящей за пределы кружка т. н. профессионалов. Почему бы и не обозначать эту наличность контекста Хьелля поэтикой элитарности; хотя Хеггелунд не раз потом исступленно протестовал, когда кому-нибудь приходилось обозвать его «poeta doctus». В этом усматривали позднее его глубокую умозрительность; ее даже побаивались критики, позволяющие себе нелестные рецензии — и всегда прибавляющие нечто вроде: да, наверняка что-то, да упущено, можно ведь потерять зоркость и ошибиться, если имеешь дело с этими учеными стихами. Один из них, Инге Лёнинг, воспринимал свой опыт прочтения поэта на деле испытанием, «ребусным забегом» (rebusløp). [6].
Временами неизбежная ученость все же не извлекает его героя из возможного кругового движения, где обращение наблюдателя к самому себе не становится привычной интроспекцией — но вниманием к объективно внешнему; качества отдельного «я», наращиваемые в текстах Хофму, будут у Хеггелунда скорее точкой зрения, включенным ракурсом в большой и внешний мир (датский литературовед называет эту поэтику attityderelativisme, «релятивизмом позиций») [5].
«Сады» (Sommerhavene) Хеггелунда из поэтического сборника «В мое время» (I min tid) существуют в этой относительности, но наблюдатель не может не ощущать себя по крайней мере ситуативным ядром события:
...наши
сады, еще зеленые
за приглушенным сверхзвуковым
шумом газонокосилки
всё плотнее чем свет и
день который
падает
на тебя
...våre
sommerhaver, grønne
bak gressklipperens
dempede overlydstoner
tettere alt enn lyset og
dagen som
faller
mot deg) [1, 35].
Если «сады» не симметричны, то безнадежно зеркальны: нужно учитывать, что ускорение темпа мелькающих картинок у самого носа «я» напоминает растревоженную водную поверхность; «отражения скитаются, потерявшись» («refleksene vandrer vilsomme omkring»): движение в тексте — что вообще можно считать чертой хеггелундовской поэзии — изначально спиралевидно — в конце концов, панорамный круговорот притягивается гравитационной тяжестью лирического субъекта. «Быстрее и быстрее» в поле зрения второй половины «Садов» входят «забытые движения»: всякая вещь здесь находится в непрерывном процессе становления, но ей недостает (и не достанет) врожденной потенции этот процесс пройти до конца. Это и есть точка пересечения с бесконечным становлением в текстах Г. Хофму: и ее поэтике принадлежит привычка продлевать описываемую ситуацию, пряча узелки ее завершения — они сливаются с паузами, неожиданным молчанием, которое провоцирует формальное завершение стихотворения (или замыкание его в кольцо: как яблоко будет «падать и падать в твою вечность» [2]). Существует тесная связь между открытостью двух этих пространств: по одну сторону — хеггелундовское «Представление», где «ничего не завершено», а по другую — фраза Хофму «все нужно учить заново» (см. ее текст «Голоса»). Оговорка необходима: ничего общего с поэтикой становления как emergency (согласно интерпретации Джона Холланда, это — «большое, происходящее из малого», much coming from little) [4], становления как реакции адаптации, признака чуткости к мировому времени в этих стихах нет. Хотя, конечно, они наследуют эту неизбежную линзу последовательности хода вещей, необходимости внимания к проистеканию. Но и предопределение едва ли существует: это все еще эпистемологическая заминка, вопрос предопределения принадлежит той самой темноте, от которой отвернут хеггелундовский герой и на которую открыто смотрит герой лирики Хофму, только этот открытый взгляд эманирует из незрячести, да и сам о ней знает. Мы говорим о предчувствии и чаянии темноты как об атрибуте ее текстов до вхождения фигуры в поле действия мировой катастрофы. Да: ее дебютный стихотворный сборник, «Я хочу домой, к людям» (Jeg vil hjem til menneskene) вышел в 1946 г., и естественным выглядит жест отнесения его (т. н. первой фазы ее поэзии) и некоторых скоро последующих сборников к дискурсу послевоенного кризиса; оптика очевидно усложняется, если добавить, что ее близкая подруга, Рут Майер — жертва Холокоста. В статьях о ней общепринят такой ракурс: «Из страхов Второй мировой войны вырастает ее поэзия, но мы знаем — уже пятьдесят лет спустя — что эти страхи существуют во все войны, даже сегодня, здесь, в ЕС-Европе» [3, 506]. Да; но, апеллируя к стихам самой Гунвор Х., скорбь и смерть присутствуют и до сотворения человека, когда еще «в прихожей молча стоит Ожидание», когда Дух не начал населять воды, носиться над ней [3, 122]. Страдание выступает как связующее времени, оно даже предполагалось при создании мира — а это значит, что от мира не отчуждается. Современность Хофму определяет ситуативное прочтение ее текста, но тот, раковина, устремлен к собственной сердцевине — с желанием видеть в ней общие законы. Рут Майер в дневниках замечала еще довоенное неотъемлемое от Гунвор измерение скорби [7].
Текст Хьелля Х. катастрофой мало заинтересован, он не ее носитель: современность ему и не дала повода — здесь они полярны с современностью Гунвор Х. (тем не менее, есть уже названное замечание Яна Эрика Вола, главного на сегодня исследователя Хофму: страхи Второй мировой войны, выводимые из ее поэзии, применимы и к его эпохе; он выходец тех же «профессиональных кругов» в литературе, что и Хеггелунд — с Хьеллем они ровесники, относились к одним и тем же литературным кругам, были соредакторами литературного журнала «Окно» (Vinduet)).
Но отличие становления ситуации наших Х. от, допустим, канонической для такой поэтики ситуации Уитмена (т. н. emergent poetics) [6] — в том, что стихотворная форма определяется потенциально бесконечно долго не потому, что созидательно соприсутствует событию-современнику (а нельзя отрицать, что перед Уитменом стояла задача найти собственные — может быть, меняющиеся и ускользающие — координаты для описания его Америки), а потому что апеллирует к никогда не завершающемуся полотну.
Оказывается невозможным не только выучить летучий поток, упорядоченный в форме спирали, но и изучить, и успеть представить его себе гранулированным; однако один из концов спирали предугадываем: он оказывается, например, в руках медиума. Так, «День» — зарисовка, и многие тексты Хеггелунда напоминают по своей центростремительности — тоже — виньетки, заворачивающиеся как улитки — внутрь себя ли, к предмету-сердцевине ли. Именно потому такие раковины изначально скорее чужды адаптивным механизмам — они изменчивы наедине с собой, по собственной мерке.
Но то же вращение вокруг видящего субъекта в тексте Хофму слишком широко, это меньше виньетка, больше раковина, обратившаяся и обращающая в слух. В конце концов, вид на карусель остается: камертоном непременно служит «всё» или «ничего», реальна только любая мыслимая вечная крайность; оттого мир Х. тяготеет даже к общей номинации через заглавные буквы, это большие слова, из которых можно вывести любое, какое угодно, маленькое — но обратного движения по раковине, внутрь, не предвидится. Рифмуется с «Днем» Хеггелунда «Этот снег был другим» Хофму: это схожее обособление вместимого в отдельно взятый промежуток, это опыт нахождения в заповедном пространстве, которое позволяет в качестве исключения — в нем человеку ненадолго быть.
«Этот снег был другим / и другим — мрак / не таким, как в эту ночь / Твое будущее рождено снегом» разрешается в обширном «Но позже ты узнал / всё. Все твои шаги / сквозь Мир — / отзвук пустоши / белой от снега / под зрячей луной» [3, 454] ; или как это происходит в смежном тексте: «на самом краю утреннего / света я поднял свои руки и все / утра осели / в это утро / где все открылось Началу / что было / в моих руках» [1, 49].
Притом чаще эта принадлежность видится кажимостью, не может убедить в действительности опыта и знания: «сам я разговариваю / О весне как ни в чем не бывало / Я не знаю потому ли / чувства действительности во мне больше чем в других» [2, 51]. Атрибут времени здесь размещается затемненно: часто, в русле тенденции, ситуация изначально помещается на самое дно сосуда, не обнаруживая свою принадлежность к обозримому времени — мыслится в плюсквамперфекте. Событийная точка же, находящаяся между наблюдателем и предметом, даже не всегда обнажается: иногда его кончик скрывается в эллипсисе, иногда же, показываясь, оно выглядит единичным мерцанием из намеченной глубины. На донце «Дня», например, отсвечивает эта точка, позволяя проводить карусели хронологическую линейность ( сначала все утра стекаются в то единственное, где — уже потом — открылось Начало, и тоже — потом, последовательно и по следам внимательного взгляда — оно оказывается в руках чуткого «я»).
Тур Ульвен — и в такой компании, хронологически располагаясь уже после двух иксов, этот норвежский поэт, писатель и критик будет рассматривающим игреком, Y — говорит о единственных трех сборниках Хеггелунда как о постепенно сгущающемся рое, который невозможно наблюдать, оставаясь несогласно с тем спокойным [5, 228]. Увлеченность дистанцией, промежутками — то, что одновременно сближает два Х — и вместе с тем разводит их поэтики по противоположным полюсам; та темнота, к которой обращается Хьелль, воздушна и пориста: через нее возможно просвечивание угадываемых вещей и происшествий. Это, конечно, непомерно далеко, но глубина эта скорее прозрачна, бывает отмеченной даже юмором tongue-in-cheek. Где угодно она появляется на поверхности — даже в названиях стихотворений, еще не приступив к наррации, он может осекаться, передразнивать свою же интонацию. Ёрничать: о, если это описываемое посвящение (Innvielse), то, подбираясь к заданному текстом тону, он точно добавит в скобках — À l’ancienne; герой становится фигурой мнимо видной и не по-настоящему весомой, «gallionsfigur» (гальюнной фигурой — на носу корабля), и все посвящение балансирует между совершенной игрушечностью и страшно серьезной ситуацией. Коммуникация, возникающая в пределах хеггелундовского пространства, никогда не может быть трактована однозначно / одномерно / единично. Еще и потому, что связи часто выстраиваются ретроспективно или, напротив, предугадываются, их характер постоянно меняется: на это влияют временные веховые столбики, наблюдаемые еще издалека.
Движение как колесо — и подразумевается неисчерпаемый механизм — чутко отвечает этой картине, и текст «Я указываю на ночь» (Jeg peker mot natten) очень ясен с заданного ракурса: по замкнутому кольцу мелькают указания. Они очень видимы — за исключением одного: «я» указывает в сторону ночи (по набору характеристик она почти стерильна — там нет ни вины, ни мук, ни улыбчивости — да и человек там слабо вообразим), но как только происходит избавление от слов, «ты» указывает и на лирическое «я», и на ту темноту, откуда они оба происходят. Сейчас оно прикровенно (еще и из-за «света враждебности», в который вступают, приняв молчание), но память о генезисе — состоится. И состоит из непрекращающихся намеков, которые замечает (и это самое важное) тот, кому они предназначены: в последнем из трех сборников Хьелля Х. «Пункт восьмой» встречается несколько визуальных стихотворений, и все они превращают обсуждаемый поток в очевидный:
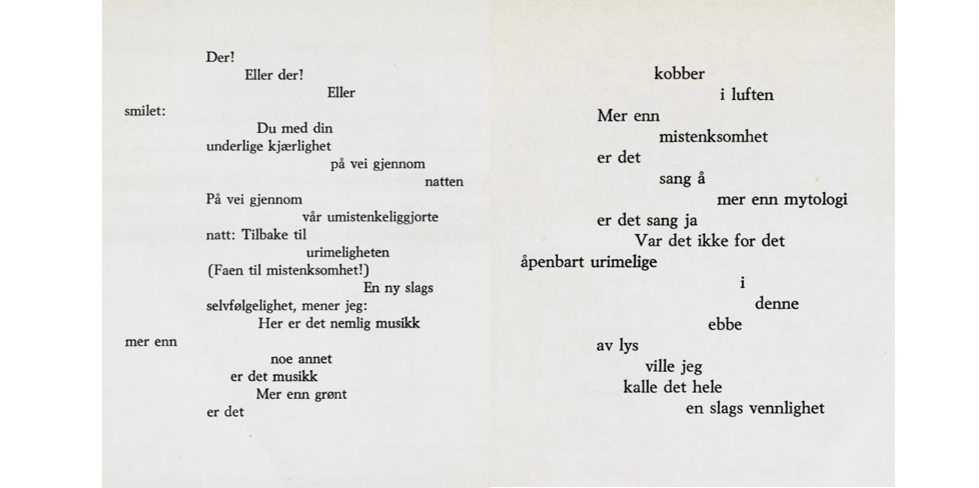
Именно та музыка, слышимая в сопровождении (или: музыка сопровождения), и состоит из всего видимого в пути, — она будет и больше мифологии, потому что сама мифологизируется, но этим не исчерпывается: опорной дугой, на которую упирается карусель, становится дружелюбие. В приближении к поэтике Хьелля Х. оно приобретает черты миролюбивости и миролюбия — вообще. Оно было бы осуществимым, если бы не «убывание света», в чем есть и неправдоподобие, и невозможность (det åpenbart urimelige i denne ebbe av lys) — одна из границ невероятного, которая проходит по иному шву у Гунвор Х. [2]. (Вос)принимая вещи через эту оптику, через постоянное приближение к дружелюбию — и вместе с тем ощущая себя зоркой точкой средоточения, можно «считать до белого», незамутненного белого цвета, «белости». И есть вероятность, что белый цвет, который можно достичь именно сквозь эту призму, и полное забвение вещей — нетронутых и тех, которых с самого начала невозможно коснуться («...ting ting urørte urørbare») [2], функционируют как сообщающиеся сосуды. Причастившись к одному, будет невозможно избежать второго; темнота памятная, темнота происхождения потому составляет органичный фрагмент дихотомии.
У подобной темноты мало общего с непознаваемой темнотой Хофму, где человек пессимистично скорее ориентироваться не способен: «Бог прячет вещи в темноте / как скупой сгребает свои деньги / в самом неправдоподобном месте» (Gud gjemmer tingene i mørket / lik en gjerrig / som samler pengene sine / på det mest usannsynlige / stedet [3, 444] ). Всякое существо, прежде чем слиться с заведомо представимым потоком всех мыслимых образов — а для Гунвор это изначально темнота, где возможно всеобщее разрешение, сначала проницаемо. Сквозь проходит какое-то количество непременно осязаемых впечатлений: будь то голоса, или бесформенные рефлексы мистерий, или воды из океанского дна, которое принимает этого героя рыбоподобным. Момент слияния — одновременно момент уподобления, но всегда не образу человека. Впоследствии эта точка фузии с темнотой (а это всегда темнота, которая пантеистична) создает невозможность условия фузии со светом: тогда происходило бы слияние снова, где последний теряет свои качества (см. «Вечной ночной жизнью являюсь» (Evig natteliv er jeg) [3, 332]). Это неизбывная герметичность образа и подобия.
«Все, что ты видишь, находится вне тебя» [2]— знание, которое на поверку не искупается: все видимое в акт обнаружения помещается именно внутрь очевидца. И одновременно с тем исключается на время из цикла внешней спирали: она становится частью непререкаемо постоянного потока; он подражает занимаемой форме — например, часто вырастающему в его текстах дружелюбию. Будь это дружелюбие у Гунвор Х., оно скорее стало бы Дружелюбием, одним из столпов для человека, над которыми у того нет и не может быть власти. У Хьелля Х., принимая едва не будничный вид, оно все же оказывается емкостью, и емкостью, которая может вместить все существующее — а содержимое «одинаково» [2]. Это снова — крестец полярностей: на одной стороне — соединение-поглощение, на другой — соединение-подражание, где остается лоскутность и щербинка между источником и медиумом. Полюс первого искомого — арктически пустынен, карусель движется пронизывая замершее; полюс второго спасительнее, это впитывающая весна (эксплицитный сезон его последнего поэтического сборника и, подспудно, — двух первых), которая даже безымянно может присутствовать в момент обретения Начала — или даже на пути к тому, в мгновение устремления к дуге дружелюбия по отношению к мелькающему.
Герметичность обоих Х. определяет характер сцепления с действительным, потому что поэтический случай — только солнечный/темный зайчик от него. Материя карусели всегда неожиданно проецирует его, и тот становится несовременен и допотопно своеобразен; вид же карусели неотделим от самой виньетки, созданием Х., заинтересованной подчас больше приобретенным бликом.
[1] Heggelund K. I min tid. Oslo: Aschehoug, 1967.
[2] Heggelund K. Punkt 8. Oslo: Aschehoug, 1968.
[3] Hofmo G. Samlede dikt. Oslo: Gyldendal, 2021.
[4] Jaussen P. Writing in Real Time: Emergent Poetics from Whitman to the Digital. Cambridge University Press, 2017 .
[5] Nielsen H.-J. Nye sprog, nye verdener — udvalgte artikler om kunst og kultur. Red. Tania Ørum et al. Kbh: Gyldendal, 2006.
[6] All denne hvithet : en bok for Kjell Heggelund [redigert av Kjartan Fløgstad, Jan H. Landro, Jan Erik Vold]. Oslo : Aschehoug, 2002.
[7] Волл Я. Дневники Рут Майер. Еврейка-беженка в Норвегии» / Пер. Федоровой Н.Н. М.: Мосты культуры, 2010.
Словесные вши. Попытка заново открыть одну закрытую книгу. Тур Ульвен о Трюгве Андерсене (перевод с норвежского Нины Ставрогиной)
I
«В спальне он замер на месте и уставился в открытое окно. Там полно было крошечных белых точек. Они выстраивались в линии, а когда он пригляделся получше, точечки оказались буковками, которые складывались в слова, белыми буквами на чёрном фоне. Окно было подобно развёрнутой чёрной газете с белым шрифтом. — — — Желая прочитать написанное, он подходил всё ближе и ближе — то было некое предназначавшееся ему особое послание. Но как только он приблизился вплотную, линии задрожали, он попытался схватить эту газету — и буквы в беспорядке рассыпались по страницам. Разобрать можно было лишь слоги и обрывки предложений. А ведь это — адресованное ему особое послание, он должен прочесть!»
Быть может, ещё и особое послание для читателя. Но из какой книги? Большинство читателей, даже искушённых, наверняка остановятся перед этим текстом в таком же замешательстве, в каком персонаж романа — перед не поддающимся прочтению окном. А будь заглавие указано, то эти же читатели, надо думать, не узнали бы имя автора, а будь имя автора указано — пожалуй, не узнали бы и его. Иными словами, всё намекает на некое бесполезное допотопное снадобье из самых забытых (но всё равно вместительных) закромов литературного хранилища, с какой-нибудь полки для самозабвенно злободневной бездарщины или уродливых курьёзов. Ответ в своей грубой лексичности гласит: «К вечеру», опубликовано в 1900 году, автор — норвежский писатель Трюгве Андерсен (1866–1920). Получив эти сведения, любитель литературы может поинтересоваться, не тот ли это Андерсен, что написал «Во времена канцелярии» (1897), — так и есть. Именно с последней книгой и связано его имя для потомков, тогда как остальную часть творчества поглотил по меньшей мере полумрак.
«Канцелярия» (как часто сокращают название) тоже не стала в норвежской литературе чем-то большим, нежели своего рода minor classic, однако переиздаётся с нерегулярной периодичностью, зачастую в красиво переплетённых сериях классики для так называемой широкой публики. Среди же публики не столь широкой, в своё время читавшей дебютную книгу Трюгве Андерсена с благожелательными кивками, можно уверенно назвать Бьёрнсона и Ибсена, равно как и коллег помладше: Нильса Коллетта Вогта и Ханса Э. Кинка, а впоследствии также Юхана Фалькбергета, которому Андерсен, кстати, давал нечто наподобие частных уроков литературы. Тогдашняя критика тоже в целом расхвалила этот близкий к собранию новелл роман со свободной композицией, написанный в простой, но изящной и — хотя автор был одним из предводителей неоромантизма — сугубо реалистической манере, пусть и с некоторым уклоном в гротеск. Короче говоря, книга имела успех и сумела выдержать испытание временем.
II
Но на этом литературная удача как будто покинула Трюгве Андерсена. Правда, после дебюта он выпустил немало книг, включая четыре тома новелл, сборник статей (с характерным названием «Несчастливый кот»), а посмертно был издан его «Дневник морского путешествия». «Полное собрание прозы» вышло в издательстве «Аскехоуг» в 1916 году; в этот трёхтомник вошли «Канцелярия», все (на тот момент) новеллы, а также пресловутый «К вечеру».
Что же пошло не так с этим романом? Старая история с автором одной книги, которому никогда больше не удаётся достичь своего же уровня? Может, Трюгве Андерсен, современникам известный как утончённый стилист, пример для младшего поколения авторов, попросту стал писать хуже? С последним не согласятся, не сделав оговорок, даже литературоведы; иные из лучших его рассказов (например, «Сын епископа», «Ночной сторож» и «Золотая месть») содержатся в позднейших сборниках новелл (которые, между прочим, почти не переиздаются). Однако широкий по замыслу роман «К вечеру», который сам Андерсен называл своей «лучшей и самой любимой книгой», оказался, стало быть, катастрофой, т. е. снискал, как бы то ни было, катастрофический приём. Почему? И что это за роман? Ответить на первый вопрос, пожалуй, легче, чем на последний.
Через год после дебюта писатель издал свой единственный поэтический сборник «Стихотворения» — и даже наиболее благосклонные из современников сошлись на том, что прозаик он выдающийся, однако лирик посредственный; большинство стихов явно было почерпнуто из гимназических запасов и слегка переработано. Уже одно это склонило его звезду к закату. Но для того чтобы понять прискорбную судьбу романа, здесь необходимо привлечь биографические, то есть, собственно говоря, внелитературные обстоятельства, значительно повлиявшие на оказанный книге приём: во время работы над своим большим романом Андерсен жил в Дании в стеснённых материальных условиях, с семьёй, в которой свирепствовал туберкулёз. На практике он, пока писал роман, ухаживал за двумя больными — и писал преимущественно ночью, потому что только тогда у него бывало свободное время (и действие романа «К вечеру» тоже значительной частью разворачивается в темноте). От этих плачевных обстоятельств он бежал при помощи «стимулирующих средств» (как это именуется в источниках; помимо алкоголя, по-видимому, морфия или чего-то подобного). Когда читаешь этот роман, такой последовательный и смелый по композиции, обладающий столь обширной, однако стройной галереей действующих лиц, история его написания прямо-таки изумляет. Беда заключалась вот в чём: для того чтобы обеспечить автора средствами, в которых он отчаянно нуждался, книга выходила отдельными фельетонами в журнале «Верденс ганг», а рабочая обстановка не способствовала регулярности выпусков. Уже на том этапе многие читатели, посчитав роман бессвязным, махнули на него рукой. Впоследствии Андерсен еле-еле нашёл (малоизвестного) издателя, который вообще согласился издавать произведение в виде книги.
Смертельный же удар нанёс тогдашний предводитель, едва ли не самодержавный король всех критиков — Карл Нэруп, знаменитый своим цветистым слогом и декларируемым крайним субъективизмом: именно от него, как известно, можно было получить критику, называемую импрессионистской. Единственным, что нашёл на этих почти трёхстах страницах Нэруп, стала «горстка пейзажных зарисовок наподобие оазисов»; в этом романе-де (пересказывает Кристиан Йерлёфф — восторженный, но непрофессиональный биограф Андерсена) «нет ни внятной идеи, ни целостности, автор, по-видимому, не умеет сочинять романы, без исторического фона ему, пожалуй, вообще не под силу ничего написать». Похоже, именно критика со стороны Нэрупа и привела к тому, что Трюгве Андерсен почти исчез из норвежской литературной жизни, по крайней мере из поля зрения так называемой читающей общественности. Не помог и тёплый, подчас щедрый приём, оказанный критиками иным из более поздних его книг. Кроме того, представляется, что приговор Нэрупа породил некую — пусть и не лишённую нюансов — традицию в норвежской критике и литературоведении: «Канцелярия» — шедевр, новеллы хороши, а «К вечеру» — опус, может, и талантливый, но сомнительный; до дебютной книги он в любом случае не дотягивает.
III
Итак, ни внятной идеи, ни целостности. Между тем читателю более современному, чем легендарный вождь критиков рубежа веков, эти упрёки со своими имплицитными критериями кажутся по меньшей мере несколько неочевидными.
Обобщённо-упрощающий краткий пересказ (это литературное соответствие списку покупок) содержания «К вечеру» будет выглядеть примерно так: уже не юный и не особо жизнерадостный адвокат Эрик Хольк (говорящее имя: «Эрик» напоминает о народном прозвании чёрта, а holk [1] — не сказать чтобы гордая шхуна) прибывает в маленький прибрежный норвежский городишко и открывает там практику. В глазах этой цепляющейся за свою мелкобуржуазность среды его происхождение выглядит сомнительным, однако постепенно он оказывается принят местными тузами и влюбляется в дочь (по имени Лилли Хервиг) одного из них, но из-за непостоянства и страха перед наследственной душевной болезнью не осмеливается сделать решающий шаг и жениться. Зато более или менее сознательно пользуется любовью к нему другой женщины. Угрызения совести и припадки галлюцинаций всё сильнее терзают Холька. Его ближайший друг в этом месте — столь же метафизически экзальтированный, сколь и не чуждый плотских утех философ-дилетант и мечтатель (Юханнес Нильсен, которого и посещают процитированные в самом начале видения), в остальном же круг общения по большей части состоит из поверхностных молодых карьеристов или циничных старых капиталистов, если отвлечься от местного аптекаря и его жены, чей крепкий и идиллический домашний очаг служит Хольку объектом отчасти наивной тоски, отчасти иронии. Общая атмосфера в городке накалённая и по-простонародному апокалиптическая: представители «низкой церкви» [2] в любой момент ожидают Судного дня. Тем временем буржуазный разум сближается (неохотно) с зарождающимся рабочим движением, чтобы противостоять религиозной истерии. Но Судный день и правда наступает! К концу книги напряжение лихорадочно нарастает вплоть до последнего предложения: «Море горит».
Если вернуться к высказанной Нэрупом безапелляционной критике и перечитать весь роман повнимательнее, то упрёк в отсутствии (композиционной) целостности покажется довольно несостоятельным. Наоборот: на протяжении всей книги Трюгве Андерсен сплетает по меньшей мере три тематических нити, причём так, что они не рвутся и не путаются; вот эти линии: социальная (ироническое изображение общества), психологическая (портреты главного героя и второстепенных персонажей) и, наконец, (экзистенциально-)философская (связанная с тревогой и иррациональным началом в человеке). Но есть в романе и четвёртый слой, а именно то, что можно назвать протомодернистской формой символизации: то, что с реалистической точки зрения выглядит невероятным (мотив Судного дня), невозможно исчерпывающе понять ни с религиозных (антиметафизически рассказчик при всей своей сдержанности тоже не настроен), ни с научных (как банальную science fiction), ни с чисто психологических позиций (картины гибели мира увидены глазами не одного только нездорового главного героя). Таким образом, гибель эта обретает некий литературно-онтологический статус: она совершается в книге, внутри строго реалистической рамки, как некий невозможный факт — и тем самым становится загадкой, которая не поддаётся никаким попыткам простого аллегорического толкования. Это не позволяет отнести книгу и к жанру «фантастической повести». Столь же мало, сколь и в случае с Кафкой, здесь приходится говорить о романтическом полёте фантазии; это — способ мышления при помощи образов, почерпнутых из обыденности. На момент выхода книги едва ли кто-то в норвежской литературе делал нечто подобное.
IV
«Однажды тёплым днём в самом конце июля фру Кристиане совершала свою обычную предобеденную прогулку. Её внушительная фигура плыла по улице неспешно и с достоинством. На каждом десятке шагов ей встречались люди, которые приветствовали её, и она отвечала на приветствия: с достоинством, как и подобает супруге консула Хервига, однако приветливо и кротко. — Кроткой была улыбка на её губах, кротко смотрели большие круглые глаза с влажным блеском — кротость фру Кристиане была всепобеждающей. Если она с кем-нибудь заговаривала, голос её звучал печально и приглушённо, а когда кивала на прощание, человек отходил от неё с чувством, будто получил отпущение грехов».
Так начинается «К вечеру» — то есть как роман в высшей степени конвенциональный, в атмосфере классической идиллии маленького городка с оттенком социальной иронии. На протяжении всей книги сохраняется (без преувеличенной карикатурности) сатирический взгляд на это более или менее лицемерное (мелко)буржуазное провинциальное общество, которое лихорадочно тщится блюсти своё мнимое достоинство и свою предполагаемую образованность, но в действительности безнадёжно борется со скукой и пресыщенностью, на деле отличаясь цинизмом, алчностью, оппортунизмом и ограниченностью. Народ (эти в большей или меньшей степени анонимные индустриальные рабочие, рыболовы, ремесленники и моряки), с другой стороны, изображается с определённой авторской симпатией, при этом не представая, однако, галереей неких непогрешимых идеальных типов. А вообще не секрет, что Андерсен, как и другие неоромантики, был однозначным противником тенденциозного романа — и, быть может, именно поэтому эта сторона книги кажется более убедительной, чем многие соответствующие произведения норвежской литературы, которая как раз не знала недостатка в романистах пламенно ангажированных. Между тем через всё творчество Андерсена проходит несентиментальный интерес к персонажам маргинальным, «погибшим душам», как сам он их называл, и симпатия эта распространяется также на презираемые низшие слои общества.
Однако социальная тематика далеко не самый оригинальный пласт в стратиграфии этого романа. Наиболее оригинальный вклад составляют, пожалуй, его более индивидуально-психологические аспекты.
Если отважиться на сравнение с Гамсуном (не пытаясь представить Андерсена как забытого равновеликого автора), то можно, вероятно, бегло задаться вопросом, не всегда ли Гамсун как писатель (или рассказчик) в определённом смысле солидарен со своими героями (или «героями»), какими бы сумасбродами они ни казались, к каким более или менее грубым методам ни прибегали в жизненной борьбе и как бы неразумно себя ни вели, как будто сама их жизненная сила несмотря ни на что достойна восхищения даже тогда, когда ни к чему их не приводит; иными словами, они не замечают собственной иррациональности. По-другому изображается нежизнеспособный, в сущности, адвокат Трюгве Андерсена, в данном случае через пересказ внутреннего монолога — кстати, об отношении к женщине, которую он любит:
Никогда ещё вера в свои громкие слова и теории не была там крепка в нём, как тогда, когда он, щадя собственную совесть, хотел в решении своей участи положиться на её [Лилли Хервиг] силу. Выбирать самому, по крайней мере самому сделать решающий шаг — о нет, от этого он себя избавил. Его бегство от неё прошлой осенью было, пожалуй, низкой комедией; в действительности же он полз за нею, как попрошайка, и молил: выбери! выбери! Что означало: сжалься надо мной. — И она сжалилась и выбрала. Но, присутствуй в его любви мужская сила и мужская воля, ей не пришлось бы ни делать выбор, ни брать на себя ответственность.
Разумеется, нервный, пьющий и смирившийся с судьбой Эрик Хольк — во многом типичный, то, что называется декадентский, романный персонаж 1890-х годов. Но если многие тогдашние писатели (например, очень наивный и очень эгоцентричный Арне Дюбфест) сделали исследование души неким усладительным соревнованием в питье перебродивших жизненных соков (если выразиться в стиле того времени), то Хольк «действительно» в разладе с самим собой, эмоционально амбивалентен, занят бесконечным самокопанием — и не в последнюю очередь самообвинениями и самоиронией.
«Я сознательный полишинель в театре марионеток», — говорит он в одном месте самому себе. На слово «сознательный» стоит обратить внимание. Бессознательно вступает в несчастье по преимуществу герой классический, которого поражают некие внешние, предопределённые судьбой обстоятельства, ему непонятные и неподвластные; он, в сущности, не способен осознать иллюзию прежде, чем факт свершится (если свершится). Более современный герой Эрик Хольк, напротив, с самого начала насквозь видит (само)обман как социальный, так и индивидуальный, но всякий раз оказывается не в состоянии действовать иначе и, соответственно, являет собой яркий случай несчастного сознания: бессильное понимание — так невротик может прекрасно осознавать свои симптомы теоретически, отчего они ни на йоту не меняются. Чувство вины у Холька тоже величина изменчивая, пропорциональная его этически непоследовательному поведению: в одно мгновение он может хладнокровно вытягивать роковые признания из ни в чём не повинного разорившегося мелочного торговца, а в другом контексте — щедрой рукой уплатить штрафы за народных проповедников, нарушающих буржуазный покой и порядок в городе. Таким образом, Хольк ведёт себя непоследовательно и непохвально, но всецело это осознаёт; он как будто почти ищет безнравственного, чтобы навесить реальный проступок на более неопределённо-общее чувство вины. Исток у этих аморальных идей явно тёмный, чуждый разуму, но избавиться от них путём рационализации не выходит, и крысиное колесо нечистой совести продолжает вращаться на протяжении всей книги.
Это морально-психологическое самоистязание можно, пожалуй, истолковать как протестантскую мораль без Бога, где индивид лично ответствен за свои поступки и вместе с тем лишён инстанции, к которой мог бы обратиться за мерилом своей потенциальной греховности. Всё дополнительно осложняется тем, что источники морали на поверку оказываются замутнёнными и непредсказуемыми, и впору (как указал Поль Рикёр) задаться вопросом о допустимости утверждения классической (христианской) этики, если не сознательная воля управляет индивидом. С литературной точки зрения можно, пожалуй, сказать, что расщеплённый главный герой Трюгве Андерсена предвосхищает психоморальную рефлексию в романах Хуля и Сандемусе несколькими десятилетиями позднее. Но «К вечеру» многослоен. Одному из этих слоёв присуща некая инфернальная аура.
V
«…Я хотел встать, не смог, сел на колени, меня вырвало, и я лишился чувств. — Снова проснулся, был день, солнце ещё палило, а мне было всё так же худо, я не мог шевельнуть ни одним членом и лежал пластом на спине, меня рвало через нос и рот, я чуть не захлебнулся блевотиной. — Лишился чувств и очнулся, и опять был день и светило солнце, и я чуял вонь собственных экскрементов. И тут я понял с непоколебимой твёрдостью, что околел и обречён на пустынный, раскалённый, залитый солнцем ад. Чтобы облегчить своё состояние, я предавался фантазиям о холодной, как смерть, и чёрной, как смерть, ночи и в нетерпении ждал вечера…»
Это рассказывает несколько экзальтированный друг Холька, инженер и метафизик-дилетант Юханнес Нильсен, — о временах, когда, будучи безработным, умирал с голоду в Америке. В итоге он попадает в больницу и выздоравливает, но, по его словам, «впоследствии я так и не смог вполне избавиться от этого, оно может взять и ударить мне в голову: что я в аду, что все мы, люди, там, и что земля и день — это ад». Нильсен рассказывает об этом Хольку и двум друзьям последнего, которые по воле случая заехали его проведать, писателю и художнику. Если художник отстаивает циничный эстетизм, где человеческие страдания лишь обеспечивают искусство «темами», то писатель представляет подчёркнуто рационалистический дух просвещения (стоит только разуму истребить любые суеверия и иррациональность, как восторжествует настоящий прогресс, — такова логика), к которому Хольк, что неудивительно, относится скептически: «…Мы вспахали столько целинных земель, посрамили столько внешних врагов, а окопами против внутренних пренебрегли. — Старые укрепления мы снесли из высокомерной уверенности в собственной безопасности, тяжким трудом будет возвести новые. Спастись и завоевать себе мирную жизнь путём наступательной войны для нас невозможно. Вражеские войска столь бесчисленны, и дьявольски невидимы, и неуязвимы…».
«К вечеру» — роман ещё и в значительной степени экзистенциальный, чуть ли не онтологический. Но в противоположность значительной части литературы той эпохи общая тенденция, таким образом, не ведёт в объятия какой-нибудь более или менее туманной и приемлемой пантеистической религиозности, в порядке реакции на вдохновлённый прогрессом научный оптимизм. В романе Андерсена речь скорее о скептическом колебании, которое никогда не прекращается: человек не может обрести утешения ни в религии, которую видит насквозь, ни в рациональности, которая остаётся поверхностной, поскольку всецело вытеснила бессознательное. Таким образом, презумптивно рационального до мозга костей человека будет беспрестанно настигать «страх призраков», как это именуется в книге. Фундаментальный для жизни страх пронизывает весь роман, в более конкретной форме проявляясь как страх суда и осуждения, беспомощности и одиночества, а не в последнюю очередь и смерти. От этой основополагающей тревоги не спасают, разумеется, никакие благие намерения и прекраснодушные сантименты, в особенности же елейные разговоры о «любви» — или, как выражает эту мысль Хольк: «Скоро даже самое гнусное обращение начнёт рядиться в одежды любви, чьё имя красуется над церковью и обществом по сбыту спиртных напитков, ростовщическим банком и профсоюзом, биржей и парламентом, школой, и детским домом, и тюрьмой — надо всем подряд». Быть может, в конечном счёте инженер Юханнес Нильсен, который видит галлюцинации, валяясь в нечистотах, воняя собственными экскрементами, убеждённый в том, что находится в аду, и есть вполне точный образ человека, каким он предстаёт в своей элементарной форме на страницах этого романа. Пожалуй, можно провести осторожную линию от несчастных созданий Андерсена (как в романе «К вечеру», так и других его книгах) к антигероям модернизма, даже к ползающим и лопочущим людям-остаткам у Беккета. (Захватывающе нерелевантный, чисто случайный курьёз, который всё-таки выглядит не лишённым смысла: почему-то среди последних дел, какие предпринял смертельно больной Трюгве Андерсен, оказался перевод романа английского писателя Чарльза Кингсли «Westward Ho!». Одним же из последних изданных текстов Сэмюела Беккета стала книга с очевидно пародийным названием «Worstward Ho» (1983)! Тот факт, что Андерсен, похоже, воспринял этот разудалый роман всерьёз, а Беккет явно нет, пожалуй, тоже есть мера разделяющей их модернистской эпохи).
Как бы то ни было, рисуемый в «К вечеру» взгляд на жизнь скорее лишён иллюзий. Однако выражается эта экзистенциальная тематика прежде всего при помощи почти нейтральной передачи языка, воззрений и поступков персонажей. В трагикомическом ключе, к примеру, изображается накануне финальной гибели мира городской представитель закона — «Лауритс-полицейский». Этот измождённый и почти глухой старик, уснувший на своём ночном посту, не знает, что утро — несмотря на кромешную тьму Судного дня — вообще-то уже наступило. В конце концов он просыпается от лихорадочного движения во мраке: «…Но когда он заковылял прочь, то вконец ошалел. Ничего такого, что помогло бы назвать точный час, у него при себе не было, однако за полночь явно перевалило. Чудно́-то как, столько народу высыпало на улицы, а ещё чуднее, что в домах свет горит. Он хотел было заговорить с кем-нибудь, узнать, что стряслось, но больно уж люди озлобились, лгут ему, дурят голову, вот он и не решился, к тому же все так спешили…». Тут Лауритс видит идущего пробста и рассуждает далее: «Коли этот малый пожаловал не по делам прихода, то гвалт, верно, стоял ужасный, раз духовное лицо всполошилось, а значит, как пить дать здравствуй отставка, а пенсия, чего доброго, плакала: ох и оплошал же он. И караульный потащился в ратушу…». Через несколько часов мир гибнет.
«К вечеру» — это, бесспорно, книга о несчастье, скрытом под внешней тривиальностью. Но в отличие от многих своих предшественниц в норвежской романной литературе эта книга не даёт несчастью определения, беда не вмещается полностью в пояснительные модели из экономики, политики, философии морали или религии, да и психологии тоже; или же охватывает их все, однако оставляя неуловимый остаток. Остаток, похожий на некий центр.
VI
Любому внимательному читателю очевидно, что литературной целостности и последовательности роману «К вечеру» не занимать. Достаточно отметить, с какой взвешенной осторожностью автор подготавливает финальную гибель при помощи одних только сдержанных картин странных, но, казалось бы, объяснимых явлений природы, или как Андерсен рассматривает персонажей под разными углами зрения (социальным, политическим, психологическим, экзистенциальным) на протяжении всего романа, причём без перекоса в какую-нибудь одну сторону. С композиционной точки зрения книга по меркам эпохи тоже передовая: начинается она в настоящем времени, но почти вся первая часть («книга I») состоит из ретроспекций, и лишь в начале второй части («книга II»), спустя более чем сотню страниц, возобновляется повествовательная линия из самого начала. С точки зрения романной структуры книгу никак нельзя назвать неудачной. Но что же заставило тогдашнюю критику вообще и Карла Нэрупа в частности оценить этот роман столь отрицательно, дав ему характеристику «ни внятной идеи, ни целостности»?
Быть может, дело в том, что Нэруп был прав более, чем мог знать: книга лишена целостности как собирающей полноты смысла. Напротив, она рассказывает о крахе целостного смысла, и для понимания этой тематики, которая сегодня, почти век спустя, выглядит хорошо знакомой, у Нэрупа и других критиков того времени не было никаких предпосылок. Поэтому для них эта книга оказалась столь же непостижимой, сколь письмена на окне — для Юханнеса Нильсена: пожалуй, задним числом этот эпизод с не поддающимися прочтению буквами можно рассматривать как иронический комментарий к выказанному критиками непониманию. «Непонятный» модернизм XX века возвестил о своём пришествии — между прочим, аккурат на рубеже веков.
Если же предположить, что «К вечеру» — роман протомодернистский, то во многом это связано с нередко превозносимым стилем Трюгве Андерсена.
VI
И по возрасту, и, скажем так, в организационном отношении Андерсен принадлежал к так называемому неоромантизму, который программным образом хотел вернуть в литературу жизнь чувств и иррациональное начало после (якобы) унылой серости реализма. Это породило ряд интересных экспериментов, но также, причём не в последнюю очередь, огромное количество пустопорожнего пафоса и литературной трескотни, особенно в лирике (и с этой точки зрения, в сущности, даже чтение такого оригинального поэта-новатора, как Обстфельдер, сегодня может действовать удручающе: подчас он нестерпимо мелодраматичен). Не избежала этой участи и проза. Даже, скажем, Рагнхильд Йёльсен (которую всё же следует причислить к неоромантикам) в иных своих книгах опасно балансирует над зыбучей бездной напыщенности. (В более же принципиальном смысле вопрос заключается в том, не обладает ли также стиль, обыкновенно именуемый цветистым и чувствительным, тенденцией к разрушению прозы в большей степени, нежели лирики. Представляется, что позиция рассказчика-романиста, работающего в жанре, родственном хронике и биографии, попросту требует определённой стилистической трезвости или по крайней мере контроля над лирическим участком регистра. Когда о прозаике говорят, что он пишет «поэтично», это может с равным успехом быть как сокрушительным приговором, так и комплиментом. Ведь кипящая эмоциями фантазия зачастую первая беспощадно осмеивается потомками; читатели же более критичные вольны позабавиться ещё при жизни автора.)
Без сомнения, можно дискутировать о том, представлял ли собой неоромантизм (или так называемый декаданс) в целом кульминацию эстетики XIX столетия или же предвестие модернизма XX века, но так или иначе не связь Андерсена с указанным направлением как таковая делает «К вечеру» протомодернистским романом. Как и, конечно же, не общая атмосфера гибели или пессимизм книги. Зато это имеет определённое отношение к столь часто упоминаемому авторскому стилю.
Найти универсальные признаки всего литературного модернизма, пожалуй, невозможно; понятие это, как известно, обозначает скорее многообразие форм и направлений более или менее программного характера. Но сквозь эту неразбериху можно провести хотя бы кое-какие вспомогательные линии.
Одну из них допустимо, пожалуй, обозначить как «невероятный референт». Можно предложить провести эту линию через точки Конрад — Кафка — Фолкнер — Беккет — Клод Симон; имена, конечно же, можно добавлять и при случае заменять на какие-нибудь другие. У этих писателей обнаруживается не некая кодифицированная программа, но определённое соотношение между стилем и мотивом: о чём-то невероятном рассказывается (по видимости) холодным, невозмутимым и отчуждённым либо ироническим тоном. Рассказанное может иметь всецело реалистическую референциальную рамку, как у Конрада или Симона, или же полностью выламываться из какого бы то ни было реализма, как это происходит у Кафки и Беккета; странным образом представляется, что это не главное, ведь в обоих случаях читатель сталкивается с невероятным в том или ином виде. Но рассказывается о нём не так, как этого зачастую требует традиция, то есть не с сильной ангажированностью и наставительными или разъясняющими причинно-следственные связи комментариями, равно как и не в примирительном, гармонизирующем всё неприятное ключе.
Фактически Трюгве Андерсена, особенно в романе «К вечеру», можно, если принять во внимание все пропорции, читать как пионера современной традиции невероятного референта. Показательно, в частности, начало девятой — и последней — главы. В утро перед гибелью планеты рассвет так и не наступает, и последний день Андерсен начинает простым и точным описанием:
Фитиль плавал в глубине стеклянного ночника, масло в котором почти выгорело, оставив на воде лишь жёлтую плёнку. Маленькое невинное пламя отважно боролось с наползавшими из углов тенями, но вот фитиль напитался водой — и оно стало брызгать, потрескивать и дёргаться, с каждой дрожащей вспышкой становясь всё меньше и бессильнее, тогда как тени всё плотнее обступали две кровати, где мирно и крепко спали аптекарь и его жена, отдыхая после времени, проведённого в обществе адвоката. В конце концов в ёмкости остался плавать лишь красный огонёк, который едва поддерживал круглое световое кольцо на белой скатерти стола, а когда чадящий фитиль зашипел и погас, тени окончательно сомкнулись и наполнили помещение темнотой.
Удивительно, что так пишет рьяный поборник неоромантизма с его склонностью к чувствительным излияниям. Но, во-первых, известно, что Андерсен, человек учёный и начитанный, питал пристрастие к немецкому романтизму, особенно позднему в лице Клейста и Гофмана: оба были столь же дисциплинированными стилистами, сколь и — с мотивно-тематической точки зрения — визионерами ужаса. Кроме того, Андерсен явно внимательно прочёл Флобера, а методом этого французского писателя, как известно, была как раз необыкновенная точность в сочетании с дистанцией по отношению к патетическому и отчасти абсурдному материалу. Рассказывают, что Андерсен мог подыскивать слова столь же кропотливо, добиваясь столь же микроскопической точности, сколь французский коллега. Хотя к современной ему норвежской литературе Андерсен, конечно, относился скептически, не стоит, пожалуй, забывать о той ближайшей — безыскусной, реалистической, нередко внимательной к деталям — норвежской прозаической традиции, которая берёт начало в середине XIX века и впоследствии кульминирует в натурализме. Письмо Трюгве Андерсена, в сущности, не так уж отличается от письма Амалии Скрам. Но технику эту он зачастую использует на материале, для Скрам немыслимом. Иными словами, в романе «К вечеру» Трюгве Андерсен задействует литературную технику реализма (и натурализма) применительно к мотивам (и темам) «романтическим», то есть предполагающим столкновение с иррациональным и невероятным.
Ещё одна существенная протомодернистская черта в романе Андерсена — последовательная сдержанность книги. Будь автор не так умён и более наивен (или попросту старомоден), то, вероятно, постарался бы изобразить главный мотив книги — саму гибель — как можно обстоятельнее, тем самым превратив её в гипертрофированный, избыточный антиклимакс. Вместо этого книга заканчивается там, где писатель более наивный только начал бы, то есть как раз в момент наступления грозного катаклизма; Андерсен использует книгу для тщательной подготовки того, свидетелем чего читатель, в сущности, так и не станет. Известный же феномен в романе модернистском состоит в том, что тень чего-то, что не происходит, что не проявляет себя, становится для книги столь же важной, сколь область освещаемая, иными словами, сколь предмет положительной референции.
VIII
В связи с романом «К вечеру» встаёт ещё такой более общий вопрос: что придаёт этой отрешённой, по видимости аморальной авторской позиции, особенно в случае невероятного референта, такую литературную убедительность?
На первый взгляд может, пожалуй, показаться, будто сильнее всего влияет на читателя автор эксплицитно морализирующий и эмоционально увлечённый. Бывает, разумеется, и так; значительная часть литературы популярной (быть может, за вычетом «крутого» детектива) и близкие к ней романы как раз и рассчитаны на игру с читательскими негодованием, удивлением и увлечением, что ясно выражает сам писатель (сознательно или нет). Это касается не только «розового романа» и тому подобного. Если, к примеру, повнимательнее вчитаться в «Улисса» Алистера Маклина (не Джойса!), то выяснится, что книга эта есть не только суровое изображение ужасов морской войны, но и чрезвычайно эмоционально заряженный апофеоз героя — командира крейсера, капитана первого ранга Вэллери. Многие читатели, похоже, и требуют подобных отношений с автором, по крайней мере таким, каким он предстаёт в книге в качестве рассказчика, но зачастую и, что называется, автором как человеком, в той мере, в какой его образ поддерживается за пределами книжных страниц. С точки зрения других и, пожалуй, более пресыщенных читателей, напротив, подобный авторский голос может скоро сделаться навязчивым и неуместным, в худшем случае грозя испортить в остальном хороший литературный материал. Так, в почти современном «К вечеру» романе «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (1891) англичанина Томаса Харди трагическая тематика значительно ослабляется старомодно-диккенсовской и «сочувственной» позицией автора. В чём корни этого феномена? Ведёт же это прежде всего к тому, что писатель (как личность, как тот, кто задаёт позицию) приобретает большее присутствие в книге, тем самым нарушая иллюзию. Чем нейтральнее авторский голос, тем сильнее иллюзия реализма; противоположное почти можно назвать «метароманом поневоле».
Но ведь роман как раз и есть иллюзия, и многие писатели более позднего времени, нередко лучшие из них, прекрасно это сознавали (не обязательно прямо выставляя это отношение напоказ). Между тем на практике представителей «невероятного референта» отличает более или менее трагический взгляд на человеческую жизнь, что едва ли случайно. Ибо весьма вероятно, что причина столь сильного воздействия этого холодного стиля в том, что по аналогии с трагизмом настоящей жизни (но не как прямое его отражение) он передаёт фундаментальную, полнейшую нейтральность окружающего мира по отношению к индивиду, отчасти как равнодушие природы, отчасти как присущие индивидам и социальным коллективам нечуткость и эгоизм, которые в своей иррациональности в конечном счёте могут рассматриваться как параллель к нечуткости и эгоизму природы, хотя и не прямое их продолжение. И эта людская нечуткость, конечно же, есть излюбленная тема литературы, поскольку кажется чем-то вдвойне трагическим, если принять во внимание предполагаемый разум с предполагаемой моралью и соответствующие гуманистические идеалы. Как бы сложно всё ни было на практике (в книгах или вне книг), элементарный трагизм даёт о себе знать: как естественное, так и специфически человеческое оказывается неосуществимым, и сама жизнь даётся (некоей нейтральной инстанцией: никем) как некая (мучительная) избыточность.
Читателю отстранённого романа эта нейтральность предъявляется тем же немилосердным образом, каким на него рано или поздно обрушатся так называемые жизненные реалии. Преимущество, разумеется, в том, что чтение романов относительно безвредно. Но уже того факта, что оно несёт с собой неприятные открытия, достаточно для того, чтобы многие читатели заартачились; люди хотят читать так же, как жить, в окружении утешительных голосов. Между тем хроникёры невероятного референта не пытаются изыскать смысл бессмысленного страдания. Вот как рассуждает про себя Эрик Хольк в самом конце книги:
Поколение рождало поколение, а наследство всем доставалось одно: ужас перед неизвестностью, которую все они именовали смертью. Нарекали её, впрочем, и другими именами, Бога и дьявола, ада и царства небесного, и об этих-то именах они слагали сказки и предания, скрашивая ими свой ужас, придавая ему величие, облагораживая его или же закаляя себя против него. — И если теперь наступил закат времён, то золотая мишура этих сказок и преданий — единственный трофей, завоёванный в тысячелетней борьбе с неизвестностью. Тот же всемогущий враг, те же люди, и всё было смехотворной и расточительной игрой создателя — эта бесплодная плодотворность, что зовётся жизнью…
Не стоит, впрочем, преувеличивать модернистскую нейтральность в романе Трюгве Андерсена; конечно же, она далека от последовательной объективности, к примеру, французского нового романа. (Другое дело, что авторская нейтральность лишь кажется таковой и что в конечном счёте невозможно — да и едва ли желательно — писать, будто некий механический регистратор.) Бесспорно, однако, что тенденция эта налицо и что в 1900 году она явилась для норвежской литературы чем-то исключительным, а до некоторой степени и предвосхитила одну из линий континентального литературного модернизма.
IX
Выше очерчены основные причины, по которым роман «К вечеру» в целом оказался раскритикован и предан забвению. Едва ли случайность, что проверку временем как главная книга Андерсена выдержала именно «Канцелярия». Дело в том, что она обладает рядом ценимых в норвежской литературной традиции свойств: она относительно проста и реалистична по форме, предлагает любопытную галерею персонажей частью из народа и содержит коренящиеся в устной традиции рассказы наподобие анекдотов. Кроме того, сельский антураж этих историй, помимо прочего выражаемый при помощи использования в прямой речи диалектов, делает эту книгу чрезвычайно норвежской, что в эпоху, когда это считалось важным, несомненно подкупало.
«К вечеру» этим непосредственным обаянием с народным колоритом не обладает. При всех своих юморе и ироничности это — мрачный роман о крахе высших жизненных ценностей, всех ценностей вообще. Неразборчивые белые письмена в чёрном окне, которые видит смятённый человек на грани самоубийства, — образ самой этой книги. Вовсе не обязательно провозглашать её неким шедевром недооценённого гения, да громкие слова ей и ни к чему. Но в эпоху, когда на свет божий извлекаются, что похвально, как целые полузабытые наследия, так и отдельные произведения (например, литературно близкой Рагнхильд Йёльсен), роман этот заслуживает по меньшей мере переиздания и, соответственно, новых прочтений. Хотя в каком-то смысле было бы всецело в духе этого автора и его личной судьбы, если бы «К вечеру», а если на то пошло, и всё его творчество так и остались на глухом чердаке литературы. Едва ли Андерсен питал особые иллюзии по поводу литературного бессмертия и индивидуального величия. Вот как заканчивается процитированная в самом начале сцена с Юханнесом Нильсеном и письменами на окне — с убийственной в буквальном смысле иронией:
Предложения разлетались мельтешащими
слогами, длинными и короткими — его тело кишмя кишело ими, будто беленькими
червячками. «Тьфу, экая гнусь! — Словесные вши!» — бормотал он, отряхиваясь.
Всё зудело, они пожирали его. Он зажмурился — они заползали под веки, принуждая
смотреть. «Словесные вши — подлые словесные вши — духовные вши!»
Хе-хе, а он разгадал-таки смысл этих
слогов, раскусил смысл предложений, тайну тайн! — «И от века и до века я — Бог» [3],
— произнёс он тонким ясным голосом, приставил нож к горлу и полоснул.
(Напечатано в журнале «Vagant», № 3, 1992)
[1] Здесь: «посудина, корыто» (о судне) (норв.). (Здесь и далее примеч. пер.)
[2] Течение в протестантизме, ставящее евангелические принципы выше роли духовенства, таинств и ритуальной части богослужения.
[3] Парафраз Пс. 89:3: «И от века и до века ты — Бог».
Рене Шар: Ярость и тайна (перевод с норвежского Нины Ставрогиной)
Послесловие к книге: René Char. Raseri og mysterium. Gyldendal, 1985
В годы войны на стене кабинета Рене Шара висела репродукция: «Пленник» французского художника Жоржа де Латура. (Позже сюжет полотна интерпретировали как «Иов и его жена», но здесь это не так важно.) Уже в «Листках Гипноса» (1946) Шар упоминает исходящую от картины особую ауру; впоследствии он ещё не раз возвращался к этому барочному мастеру (1593–1652).
Композиция «Пленника» почти по-спартански проста: на каменном блоке сидит обнажённый, если не считать куска ткани на бёдрах, бородатый старик. У его ног стоит чаша, от которой откололся крупный фрагмент. Сложенные руки старика заломлены, будто скорее в отчаянии, чем в мольбе. Рот беспомощно открыт, почти как у страдающего старческим слабоумием, а взгляд устремлён на другое действующее лицо в левой части картины: склонившуюся над ним женщину средних лет. Её левая рука поднята над головой старика в выразительном жесте. В правой руке, чуть ниже уровня бедра, она держит восковую свечу без подсвечника. Других источников света в помещении нет; позади угадывается лишь каменная стена. На женщине просторные, но строгие одежды, поверх — пунцовый плащ до пят. В остальном на картине преобладают тёмные земляные оттенки. Женщина стоит так, что заслоняет узнику весь обзор. Кажется, она сообщает ему нечто важное. Её лицо серьёзно, сосредоточенно. Она смотрит старику в глаза.
Итак, единственный источник света в этой сцене диалога — голая свеча в руке у женщины в красном. За спиной мужчины видна только стена, а слева, за спиной женщины, царит кромешная тьма.
По-видимому, эта свеча в её руке — свет утешения и надежды, но речь не идёт о надежде решительной, тотальной. Она не есть нечто самоочевидное — она подвергается опасности, угрозе.
В одном из писем Шару его друг, писатель и философ Жорж Батай, писал: «Не знаю, люблю ли я ночь, — может быть, ведь хрупкая красота человека до боли трогает меня лишь потому, что я знаю: ночь, откуда мы приходим и куда уходим, бездонна. Но я люблю тот далёкий контур, который люди оставляли и продолжают оставлять после себя в этой темноте!».
Такая построенная на контрасте позиция не была, без сомнения, чужда и Шару. Но у него ночь, пожалуй, — это ещё и ночь богов, этих божеств, которые, конечно, имеют земное происхождение, но в то же время ничейны, автономны. Они пребывают где-то за пределами светового круга, но не являются тьмой; скорее — внезапными проблесками в ней, наподобие молнии: внезапное прозрение в обступающей с обеих сторон ночи. Свет как ярость. Если Шара и можно назвать тёмным поэтом, то потому, вероятно, что он не пытается развеять тьму путём разъяснения, но признаёт её, рассматривает как ресурс. У тех, кто находит Шара трудным для чтения, нет причин отчаиваться, ведь и сам поэт, по-видимому, не верит в какую бы то ни было простую, аллегорическую «философию просвещения». Зато о месте интуиции в его творчестве можно сказать многое.
И всё-таки темнота богов не подходит для пребывания. Она необитаема. Богов можно мельком заметить лишь на расстоянии; быть может, они суть не что иное, как расстояние между нами самими и тем, чего нам никогда не постичь. Это опять-таки отсылает нас к той хрупкой восковой свече, тем двум телам, поднятым из пустоты. Лицо, руки; тревожный диалог, навязанное присутствие. Именно возвращение к этому элементарному присутствию придаёт свету серьёзность и таинственность. Он приходит почти как некое обетование, возможность освобождения. Но этот же свет выявляет все морщинки на изнурённом теле пленника. Отметины времени и конца становятся видимыми одновременно с надеждой на избавление. Всё, что у нас есть, — картина этого почти неподвижного диалога, где свеча не может ни прогнать темноту, ни полностью в ней исчезнуть. Немота света. Утешение как временное равновесие между «да» и «нет».
Удивительно, что напряжённой драмой присутствие этих интенсивных образов становится только тогда, когда они отступают обратно в пространство картины (её тёмную комнату?). Чтобы присутствовать, они должны отсутствовать; изгоняться, чтобы обретать отношение к нам. Но не как угодно. Эта присущая вещам тяжесть лишь тогда делается наглядной, когда элементы картины взаимно смещаются (пусть и почти незаметно), застывая чем-то чужим друг для друга, чуждым нашему обыденному коду проявленности. Поэтому мы мельком замечаем их материальность, прежде чем они обернутся новой метафорой. Чтобы стать настоящей картиной (и в переносном смысле тоже), зримое должно как бы навязать себя нам, восходя от самых своих основ и одновременно рискуя сорваться обратно. Изображение оказывается игрой между бесконечно перетолковываемой метафорой и немой конкретностью.
Так, пожалуй, и с поэзией, особенно с поэзией Шара. В его стихах и афоризмах случаются самые причудливые встречи между словами, подчас прямо-таки высекая искры над подлинными метафорическими безднами. Слова являются нам из своей неузнаваемости. Иногда эти разрывы могут казаться почти произвольными, и всё же в них всегда содержится некий авторитет, указывающий на значение. Язык приобретает такую глубину, что открывается для дна (или бездонности?) невозможного смысла.
Не между ли великой тьмой вечно ускользающего от нас смысла и обнажённостью вещей и людей на свету и пролегает одна из главных линий напряжения в этой поэзии? Ведь невзирая на постоянное существование неподвластных нам глубин и высот ничто не указывает на их замкнутость вокруг вечных истин, метафизическую отдельность от поверхности вещей и человеческой смертности. В одном из афоризмов говорится: «Создать стихотворение — значит завладеть некоей брачной потусторонностью, которая, будучи накрепко связана с этой жизнью, пребывает пусть и внутри неё — но всё-таки вблизи урн смерти». Глубины никогда не заполняются никаким неземным светом, они могут лишь открываться через это элементарное: этот камень, этот взблеск молнии. Досократическая лирика: едва ли случайно, что из философов Шар предпочитает Гераклита. Путь в той же степени лежит от ночи богов к чувственно воспринимаемому свету, сколь и наоборот. С одной стороны — невозможность видеть мир таким, «каков он есть», очищенным от знаков (не было ли бы это примером не-человеческого: дерево, которое рассказывает о дереве?); с другой — отсылаемость к базовому, безмолвному присутствию вещей — и ещё сильнее: лиц. Даже самое простое не может избежать груза некоего значения, но и никакой неподвижной сути никогда не обретает. Стихотворение открывает «иные миры» внутри этого мира. И в то же время тяготеет к простоте столь великой, что ничего уже нельзя сказать. Если истина вообще существует, она оказывается скорее процессом, нежели состоянием благодати. Темноту можно «перевести» при помощи бесконечного множества метафор, но нельзя дать ей Имя, которое без остатка превратило бы её в свет. А коль скоро великая спасительная определённость не наступает никогда, то речь не идёт уже о том, чтобы кого-то убедить и обратить: «Поэт на своём пути оставлять должен не доказательства, а следы. Только следы влекут» [1].
[1] Шар Р. О поэзии / Пер. с фр. В. Козового // Писатели Франции о литературе. Сборник статей / Сост. и пред. Т. Балашовой и Ф. Наркирьера. М.: Прогресс, 1978. С. 282.
Тайные пути: Транстрёмер — Айги — Вулох
Есть стихи, от прикосновения к которым возникает радостное возбуждение, будто пьёшь холодное северное солнце, медленными глотками. Обжигающая ясность. Лопаются пузырьки мартовского воздуха, шуршат мгновения, где-то в углу притаилась тень тишины, вещи меняют свой цвет, становятся ярче и ближе или пульсируют сквозь слегка колеблемый восприятием светящийся воздух мгновений. Всё смещается. Всё приходит в движение, знакомые слова меняют своё направление — и выглядят то крошечными муравьями в муравейнике вселенной, то огромными валунами, покрытыми цветущим лишайником. Воздух обнимает скульптурную форму дня, лепит новые пространства для взгляда. Тумас Транстрёмер «Избранное» (ОГИ, 2002). Даже если перед тобой плотные, как бы слоистые и одновременно наполненные зыбкостью переводы со шведского, сделанные Александрой Афиногеновой и Алексеем Прокопьевым и собранные в довольно большой сборник-билингву, даже там чудо покрывает ум [1]. А если удаётся артикулировать слова оригинала (пусть не совсем верно, наугад) и создать своё собственное звуковое/акустическое пространство Транстрёмера — чудо освещается тайной. И становится совершенно понятно, почему Айги и Транстрёмер, встретившись в 1991 году на вручении премии Петрарки, сразу узнали друг в друге родное, сразу возникла общность, создавшая «поле» для творческого взаимодействия, в которое естественным образом вошёл художник Игорь Вулох [2].
Одной из первых совместных книг Игоря Вулоха и Геннадия Айги (друживших ещё с начала 60-х) была книга «Тетрадь Вероники» (1985). Графические работы Вулоха к этой книге поначалу напоминают приоткрытое окно, почти реалистичное. Однако постепенно реалистичность уходит, и возникает то, что можно было бы назвать «вход в умопостигаемое трансцендентное пространство».
В начале 90-х Айги знакомит своего друга-художника с творчеством шведского поэта Тумаса Транстрёмера, и уже в 1994 году Вулох создаёт к его стихам серию графических работ, а в 1995 году в Чебоксарах выходит книга «Пять графических серий к поэзии Г. Айги и Т. Транстрёмера» (переводы со шведского А. Афиногеновой).
Стихи Транстрёмера избегают привычных опор, однако по ним, как по твёрдым камушкам, легко перепрыгивать через тёмные зоны нашего восприятия. Его слова освещают каким-то особым светом то, что поддаётся освещению и имеет поверхность и глубину. В конце ХХ века актуализируется тема девальвации слова как прямого высказывания, однако Транстрёмер и Айги чувствуют иную природу сло́ва — сло́ва, претерпевающего изменение и трансформацию, но никак не девальвацию. В стихах Транстрёмера благодаря этой трансформации (проявленной иногда с помощью нарушенного синтаксиса [3]) возникает особая зыбкость и недосказанность, возникают семантические сбои, меняется фокусировка восприятия, в привычное втягиваются какие-то иные — смежные или совершенно далёкие — области.
В этой черной гостинице спит ребенок.
А за стеной: зимняя ночь,
где широко распахнув глаза катятся кубики. [4]
Транстрёмеру удаётся создавать в своих поэтических текстах особое напряжение разных по структуре и плотности пространств, мыслимых и тех, что мы называем «реальными», т. е. обладающие датами, отсылками к тому, где именно и что именно происходило (но происходило ли это на самом деле — кто знает?). Ведь никто не знает, куда соскользнёт мысль (и слово), когда поэт сидит в ночном автобусе и наблюдает, как свет фар вырывает из темноты чёрные стволы деревьев и сонные дома по краям дорог… В непостижимом мгновении слова, обнимающего своей незримой оболочкой, своим крошечным фонариком все проявление жизни = мысли [и все их непостижимости] совместимы все реальности. Возможно поэтому в графических работах Вулоха к стихам Транстрёмера возникают линии, как бы намечающие некие «границы/складки» бытия, иногда они похожи на перекрёсток или крест, иногда на слоистость сланца или на нераспечатанный конверт. Вслед за Транстрёмером и за его словом мы (в работах Вулоха) проделываем в плотном [почти окаменелом] воздухе нашего сознания узкие ходы. И тогда можно почувствовать, что в «конвертах» Транстрёмера таится что-то очень точное, хотя и точечное, что-то очень явное, но будто ещё неявленное и окруженное особым сиянием и чистотой проявления. Вот оно: предельно конкретное, однако возникающее как будто в пространстве «сновидения»:
Приснилось, будто я рисовал на кухонном столе
клавиши рояля. Я нажимал на них, беззвучно.
Пришли послушать соседи.
Через привычное «приснилось» Транстрёмер создаёт щель в чудесное, и именно оно — это чудесное, неожиданное и странное — и есть та подлинная реальность, которая открывается поэту. Входя в зону творчества, поэт попадает в мир иных связей, законов и траекторий движения образов, мыслей, слов и всего того, что стоит за словами. Многомерно-сложная вселенная Транстрёмера возникает из особой укоренённости в Здесь-бытии, в каждом его невосполнимом мгновении, и каждое слово, запечатлевающее это мгновение с помощью своих скупых и аскетичных средств, намечает выходы к трансцендентному.
В одном из своих интервью Геннадий Николаевич Айги замечал: «Транстрёмер — это совершенно изумительный, необыкновенно светлый человек, человек необычайной тонкости и благородства. Он психолог по образованию, многие годы работал врачом-дефектологом, работал и в тюрьме. Он человек, отмеченный даром большой любви к людям» [5]. Айги говорил об этом неслучайно. Этический принцип был значим для него всегда: через этическое, эстетическое и социальное (последнее часто имеет у Айги свойства анти-природного, анти-этического) и возникает его исключительные по форме и духу стихи, в которых заключен мощный и одновременно смиренно-кроткий вызов — message — будущему: когда в предельно новое — авангардное — по форме движение текста включена ethica (чего авангард сторонился). Поэтический голос Айги размыкает «авангардные» рамки и проявляет religio-связь феноменального и ноуменального мира и того, что может происходить на границе познания и может быть прояснено (освещено) трудным и сложным «методом» поэзии. Поэтическое слово Айги, проходя через болевые зоны «сущностного бытия», через билингвальное мышление, через древний и во многом архаический мелос родного языка (для него это был чувашский язык) [6], разворачивается к тому неведомому, что находится за пределами чувственного опыта. Собственно именно в этом Айги и Транстрёмер необычайно близки друг другу, хотя их художественные практики, казалось бы, довольно разные. Именно эту общность двух поэтов и проявляет в своих графических работах Вулох — проявляя мистическое в поэтических озарениях Транстрёмера и Айги, художник создаёт абстракции, в которых остро чувствуется глубинная связь мира, стоящего за словом.
Айги называл свой метод работы «сущностным реализмом». Смещения и разрывы обыденного, особый воздух, окружающий каждое слово, когда начинает говорить сама Тишина: через нарушения и сбои синтаксиса, через зазоры и пустоты (графически образованные с помощью увеличенных межстрочных интервалов, тире, многоточий, пробелов и других самых простых знаков пунктуации). Так внутри слов и между словами создаётся особая фоника, которая обладает неожиданной акустикой и порождает пра-слова — этот гул и лепет, шелест и шёпот/топот пространства, его «новый» язык, который мы начинаем воспринимать, возможно, только сейчас.
И последнее, о чём хотелось бы сказать: поэзия Айги и Транстрёмера лишена экзальтации, взвинченности и душевной расхлябанности. Иногда она кажется немного холодноватой, немного не от мира сего, однако в ней есть та особая сосредоточенность и вдумчивость, та предельная внимательность к миру, благодаря которым мир обнимается звучанием слова, обнимается заключенной в слове мыслью и — р а с ц в е т а е т. Как музыка расцветает в нотах композитора, свет расцветает в красках и линиях художника, а пространство — в камнях Прантля, одного из любимых скульпторов Геннадия Айги, которому он посвятил цикл стихотворений, а Тумас Трастрёмер, чутко и, можно сказать, «тактильно» чувствуя музыку (с юности он увлекался игрой на фортепиано), пишет:
Засунув руки в карманы Гайдна,
я подражаю тому, кто спокойно смотрит на мир.
Я поднимаю флаг Гайдна, что означает:
«Мы не сдаёмся. Мы хотим мира». [6]
[1] Стихотворение Геннадия Айги «Поле весной» (1985; здесь и далее прим. автора).
[2] Игорь Вулох (1937–2012) — российский художник, нонконформист 60-х годов, один из классиков абстракции в российском искусстве.
[3] См. статью Алёши Прокопьева «Как читать Тумаса Транстрёмера».
[4] Тумас Транстрёмер, «Избранное» (ОГИ, 2002), из цикла «Шесть зим» (пер. А. Прокопьева).
[5] Из интервью Геннадия Айги «Прыжок с парашютом из сна» (беседу вела Ю. Логинова).
[6] Только в 1969 году поэт Геннадий Лисин (эту фамилию его отец получил в результате советской «русификации») вернул себе родовое имя Айхи (Айги) и перешёл с чувашского языка на русский.
[7] Тумас Транстрёмер, «Избранное» (ОГИ, 2002), из стихотворения «Allegro» (пер. А. Прокопьева).
Душа вполне могла бы присниться цикадам: Спекулятивный реализм Ингер Кристенсен (перевод с английского Алеси Князевой)
Введение
Спекулятивный поворот в современной континентальной философии можно охарактеризовать как интеллектуальный побег из тюрьмы — нарушение пределов разума, установленных Кантом, или побег из прозрачной клетки сознания (Wolff 1997), корреляция между сознанием и бытием (Meillassoux 2009) или это просто попытка мыслить за пределами человеческого и человечества в целом (Bryant et al., 2011). Не только нечеловеческий, но и «неодушевленный мир» является важнейшим ориентиром для любой реалистической метафизики (Grant 2011: 41). Две главные фигуры спекулятивного поворота, Грэм Харман и Иэн Хэмилтон Грант, разделяют эту цель, но стремятся к ней двумя разными способами. По словам Гранта, его несогласие с Харманом связано с подходом к вопросу, поставленному Джордано Бруно: «Существует ли отношение предшествования между субстанцией и потенцией в природе материи?» (Там же: 41). Харман говорит «нет», Грант — «да» (Там же: 45). Харман предлагает плоскую онтологическую модель, известную как объектно-ориентированная онтология (OOO), где космос [2] населен независимыми автономными объектами, несводимыми к их компонентам и эффектам. Грант же предлагает глубинную генетическую модель в соответствии с философией природы Шеллинга, где условия существования объектов помещаются за пределы самих этих объектов, чтобы сделать возможным динамизм бытия (см., например, Grant 2006; Harman 2018). В то время как Харман (Harman, 2017) принимает и расширяет кантовские границы, чтобы они учитывались не только во взаимосвязи человека и мира, но и в любых отношениях между двумя объектами, Грант пытается мыслить за пределами этих границ, обращаясь к идее Шеллинга о природе как о том, что предшествует и порождает эту ограниченную способность в первую очередь. Грант пишет: «природа утверждает, что "там, где обрывается слово, не может быть ничего"; глубокое геологическое время априори сводит на нет перспективу своего появления для любого конечного феноменологизирующего сознания» (Grant 2006: 6). В этом смысле, возможно ли соединить горизонтальную (плоскую) ось отдельных объектов с вертикальной (общей) осью потенций, предшествующих материй?
Датская поэтесса и эссеистка Ингер Кристенсен (1935–2009) обращается к схожей проблеме в своих стихах и эссе. Хотя Кристенсен хорошо известна в скандинавской литературной среде, она довольно непопулярна в международных философских кругах. Норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор в книге «Моя борьба 2» («My Struggle 2») пишет: «"Однако", — сказал он, когда мы проходили через турникеты на станции и заходили на эскалатор, — "Ингер Кристенсен была уникальна. Она была совершенно фантастической. В своей собственной лиге. Хотя все так говорят, и вы знаете, что я думаю о единодушии, но она такой была"» (2014: 172). В национальном контексте Кристенсен ассоциируется с датским неоавангардом 1960-х годов, модернизмом третьей фазы, экспериментализмом, биосемиотикой и тем, что называют систематической поэзией (systematic poetry). Через различные неантропоцентрические фокусные точки в материи космоса, разворачивающейся с помощью загадочных механизмов, ее поэзия сама по себе взывает к странной гибридной спекулятивно-реалистической позиции.
Я представляю это тем, что я называю спекулятивным реализмом Кристенсен. Поэзия Кристенсен спекулятивна в том смысле, что она представляет реальность за пределами человеческого разума, сродни различным попыткам, которые мы находим в «спекулятивном повороте»: «Спекуляция в этом смысле направлена на нечто "за пределами" критического и лингвистического поворотов. Таким образом, она восстанавливает докритический смысл «спекуляции» как отношения к Абсолюту, а также принимает во внимание неоспоримый прогресс, достигнутый благодаря труду критики» (Bryant и др., 2011: 3). Кристенсен обращается к той же проблемной области — напряжению между языком и реальностью. Однако ее замысел не вырваться из круга корреляции не потому, что это невозможно, а потому, что этот круг и без того непрочный и проницаемый. В отличие от большинства мыслителей спекулятивного направления (за исключением Мейясу), Кристенсен признает взаимосвязь между мышлением и бытием и в то же время описывает реальность, которая находится за пределами, то есть до любой такой взаимосвязи. Она не абсолютизирует корреляцию (Гегель) или фактичность корреляции (Мейясу), но со-осознает Абсолют как не-все-многообразие вещей, которые существуют снова и снова с другими обитателями космоса, не защищая при этом панпсихизм и не отдавая предпочтение человеку как пограничному стражу того, что считается настоящим.
Я возьму за отправную точку самую философскую работу Кристенсен — «Это» — it — (dat) (2006), впервые опубликованную в 1969 году, и рассмотрю именно этот вопрос о соотношении поэзии и философии, языка и реальности. Затем я изложу то, что, на мой взгляд, является ее основным философским постижением-прозрением, используя две основные черты: нередуцируемость и порождаемость. Работа Кристенсен раскрывает реалистическую позицию с конкретным основным цветом (природой) и несколькими сухими пятнами (состоянием секретности/тайны), что составляет основу ее спекулятивного реализма. Наконец, обращаясь к ее стихотворению в прозе «Алфавит» (2001), впервые опубликованному в 1981 году, я охарактеризую позицию Кристенсен в как политическую плоскую онтологическую модель. Я утверждаю, что ключевые элементы универсальной и объектно-ориентированной системы объединяются в то, что я называю объектно-ориентированной философией природы.
Поэзия и Философия
Поэзия Кристенсен не просто описывает или конструирует вымышленный мир с помощью написанного слова, но и отражает его собственный способ понимания, отличающийся от других форм знания. Этот способ «понимания» заключается в тайной связи между языком и реальностью, в том, что Кристенсен, используя термин, заимствованный у Новалиса, называет «состоянием секретности/тайны» (датский: hemmelighedstilstanden, немецкий: Geheimniszustand) (Christensen 2009: 40). Слова стихотворения могут быть совсем не правдой, но в них содержится возможность правды, потому что реальность, которую они сопровождают — истинна. Это не корреспондентная теория истины [3]. Слово — это отрицание самого себя, потому что оно не соответствует миру, который оно описывает (Christensen 2006: 49). Язык одновременно является продолжением реальности и отличием от нее, потому что, как и всё остальное, язык является семиотическим процессом. Отношения между языком и реальностью — это дружеские отношения (companionship), а не соответствие. Слова могут раскрыть что-то истинное о реальном, потому что язык сам по себе является частью реального, но при описании чего-то, отличного от него самого, раскрытие должно быть опосредованным, поскольку оно не идентично тому, что оно описывает. Пропасть между языком и реальностью в этом смысле — это состояние секретности, черный ящик со структурой, похожей на лабиринт:
Это тени, появляющиеся у словесных стен логики,
биологические формы распространяются по ходу своего разложения,
раскрывая безумие, лежащее в основе языка,
разрушенных садов за железной оградой, которая растет. (Там же: 34)
Идея здесь не в том, что природа в терминах «разрушенных садов» лежит в основе символического мира языка как субстрат, потому что «хотя тьма определяется светом, а свет — тьмой, всегда что-то упускается из виду. И даже если это что-то «определяется» как разросшиеся сады за железной оградой, логика всегда остается и…» (Там же: 50). Что-то уходит из области присутствия или попытки выразить это языком. Вместо бессмертной фразы Декарта, ставшей ключом к современности: «Я мыслю, следовательно, я существую», — Кристенсен предлагает изящную версию того же изречения: «Я мыслю, следовательно, я есть часть лабиринта» (1992: 62). Лабиринт (разрушенный сад) описывается как общее мышление (tankegang), лента Мебиуса [4] между людьми и миром, но это не значит, что это единственный лабиринт среди других (Там же). То, что всегда упускается из виду, напоминает то, что Грант в соответствии с Шеллингом и мистической традицией Якоба Бёме назвал бы беспочвенным (Ungrund), но они не идентичны, поскольку «состояние секретности» Кристенсен — это изменение формы.
В книге «Эпоха поэтов» (The Age of the Poets) (2014) Ален Бадью рассуждает о связи между поэзией и философией и указывает на способность стихотворения раскрывать и возвращать вещи к их первозданному виду, хотя эта сила и основана на определенном бессилии: «Сила откровения в стихотворении охватывает загадку, так что точное определение этой загадки показывает реальное бессилие силы истины» (Badiou 2014: 7, 53). Всегда есть что-то, чего стихотворение не может раскрыть, что-то, что останется скрытым в этом откровении. В духе Хайдеггера Бадью объясняет: «Тайна, собственно говоря, в том, что любая поэтическая истина оставляет в центре своего внимания нечто, что она не в силах сделать присутствующим» (Там же: 54). В разделе книги «это» Кристенсен, названном «Сцена: взаимосвязи» мы находим «Я» в кавычках, которое выражает то, что она называет истинным бессилием. Например:
«Я» не хочу больше видеть, как вселенные появляются
в пределах разумного
«Я» не хочу больше слышать звуки пожарной сигнализации
каждый раз, когда восходит солнце... (Кристенсен 2006: 52)
Это конкретное стихотворение заканчивается следующей строкой: «Это критика любой "поэтики", потому что это критика страха перед истинным бессилием» (Там же). С одной стороны, есть бессильное «я», запертое в рамках разума. То, что происходит за этими границами, недоступно «Я». С другой стороны, то, что происходит в стихотворении, не отделено от мира «за пределами» символического порядка. Скорее всего, то, что мы могли бы назвать «материальным миром», является также семиотическим миром, ограниченной областью смыслотворческой деятельности: «Я должна найти смысл в мире не потому, что это то, что я решила сделать, или не потому, что это даже то, чего я хочу, а потому, что я, как любой другой обитатель, даже так же, как это дерево является местным обитателем, да, действительно, как глубоко уходящая корнями часть мира, не могу избежать создания смысла…» (перевод Haugland в Svare и др. 2016: 92; Christensen 2009: 12). Иначе говоря, язык сам по себе материален, а деятельность письма сама по себе является проявлением материи, как замечает Ибен Холк (Iben Holk) (1983: 79), указывая на название «это», написанное маленькими буквами и набранное шрифтом печатной машинки, подчеркивающим продуктивную и сырую материальную реальность клавиш, вдавливаемых на чистый лист (tastslagets rå materielle virkelighed). Производящая сила стихотворения основана на его бессилии раскрыть тайну. Как же выглядит внутренность этой машины? Бадью писал: «Они (поэтические фигуры) организуют последовательную машину, в которой стихотворение собирает в себе рациональное представление строения мысли: вычитание и изоляция у Малларме; присутствие и прерывание у Рембо» (Badiou 2014: 49). К этому я бы еще добавил: нередуцируемость и порождаемость у Кристенсен. Рассмотрим два этих термина более подробно.
Двигатель:ность: Нередуцируемость и порождаемость
В недавней антологии Якоб Стоугаард-Нильсен (Jakob Stougaard-Nielsen) относит поэзию Кристенсен к глубинной экологии Арне Несса (Arne Næss) [5], к тому, что он в более общих чертах называет «нордической природой». Биоцентризм глубинной экологии облечен в поэтическую форму в книге Кристенсен «Долина бабочек: реквием» [Sommerfugledalen: et requiem] (1991) (Stougaard-Nielsen 2020: 177, см. также Haugland 2012). Однако Кристенсен непоследовательна в использовании таких терминов, как «реальность», «природа» и «мир». Периодически они используются как взаимозаменяемые, изредка — как различные онтологические сферы. Время от времени «мир» относится к «социальному миру», но в черновике из недавнего сборника статей Кристенсен, опубликованного посмертно, она описывает землю как сироту под заголовком «пост-мир» [efterverden] (Christensen 2018: 842). С точки зрения современности, это звучит как предвосхищение того, что Алан Вайсман (2008) назвал «миром без нас». С другой стороны, само название этой работы — «Мир хочет видеть себя» (verden ønsker at se sig selv) предполагает, что мир здесь равен природе или реальности как таковой.
Заманчиво предположить, что Кристенсен придерживается романтического / или идеалистического представления о природе, потому что природа для нее — это самоорганизующийся процесс размножения жизни, разворачивающийся, изменяющийся, развивающийся в поэтическом состоянии (Holk 1983: 86; см. также Svare и др., 2016). Однако я бы сказал, что, хотя Кристенсен действительно, по-видимому, ориентируется на концепт природы, ее позицию нельзя назвать ни «натурализмом» в каком-либо упрощенном смысле как «физикализм» [6], ни в смысле тотализирующей философии природы с физизом (с греч. «природа» [прим. пер.]) в качестве руководящего принципа. Ее система представляет собой автономный «двигатель», основная часть которого состоит из различных интертекстуальных фрагментов, отсылающих к различным положениям в науке, литературе и философии. Было бы уместно подчеркнуть, но не «обобщать» роль природы в ее поэтическом мышлении.
Если мы обратимся к книге «это», которая состоит из главного философского стихотворения Кристенсен в прозе 1969 года, то увидим поэтический генезис в его систематизированном виде. Как отмечает Энн Карсон в своем вступлении к английскому переводу, это одновременно и космогония, и космология. «Космогония, — продолжает Карсон, — состоит из слова kosmos, «космос», и gignesthai, «приходить в бытие», то есть — «рождение вещей из ничего», в то время как «космология» состоит из космоса и логоса и относится к «системе, посредством которой вещи осмысляются» (2006: x). Поэма разделена на три основные части — ПРОЛОГОС (пролог), ЛОГОС и ЭПИЛОГОС (эпилог), и составлена в таком математическом порядке (см. там же: xi).:

Разделение на «ПРОЛОГ», «ЛОГОС» и «ЭПИЛОГ» интересно тем, что в них явно прослеживается связь между языком (логос) и реальностью как чем-то, что предшествует языку (прологос). Карсон ссылается на газетную статью 1970 года, в которой Кристенсен объясняет идею такого разделения. Кристенсен пишет:
Вначале я действительно вела себя так, как будто меня не было, как будто это («я») было просто какой-то говорящей протоплазмой, вела себя так, как будто я была просто чем-то, что происходило, пока развивался язык, мир. Вот почему я назвала первую часть «ПРОЛОГОМ» — часть, которая даже если является всего лишь вымыслом — она предшествует слову, предшествует сознанию. Предыстория, отправная точка, точка обзора. Пролог в театре. (Там же: Х)
Кристенсен утверждает, что то, что создает или описывает слово, не является реальностью как таковой, но, как мы видели ранее, нельзя сказать, что оно принципиально отличается от реальности. В отличие от других кандидатов на происхождение всего как такового, например, «хаос» (Гесиод), «Хора» [7] (Платон) или «логос» (Книга Бытия), Кристенсен предлагает гораздо более анонимную отправную точку — «это». Стихотворение начинается так:
Это. Это оно. С этого всё и началось. Это есть. Оно продолжается. Двигается. За пределами. Становится. Становится этим, и этим, и этим. Идет дальше этого. Становится чем-то другим. Становится чем-то большим. Сочетает что-то еще с чем-то большим, чтобы сохранить что-то помимо чего-то еще и еще большего... (Кристенсен 2006: 3)
Первое «это» — местоимение, не относящееся к подлежащему. Следовательно, это сразу же заявляет о себе как о «сломанном» слове, выделяясь без какой-либо привязки, и в то же время оно косвенно проявляется в своей обнаженной, сырой материальности, лишенной всякой функции. «Это» еще не говорит о том, что оно есть — оно более анонимно, чем позиция Левинаса il y a (есть) или позиция Хайдеггера es gibt — (имеет место), поскольку оно не является ни позитивным, ни негативным утверждением. Это вообще не утверждение. «Это» — слово (логос), которое настаивает на том, чтобы быть не-словом, неисправным знаком, прологосом. Следующая фраза: «Это оно» («That’s it») буквально означает «Это было оно» (Det var det), обозначая временное начало. Первое «это» — чуждый элемент, сродни тому, что Бадью называет «безымянным» — тому, что скрывается и не может быть представлено в стихотворении. Но это отсутствие само по себе становится присутствующим в своем отсутствии. «Это» должно относиться к предмету, но это не так, значит, оно не идентично ни тому, что оно должно описывать (предмет), ни тому, что оно на самом деле описывает, то есть «ничего» (отсутствие предмета). «Это» — не ничто, но и не просто слово, поскольку оно лишено своей лингвистической функции. «Это» — это лакунарное слово, проявляющее себя в своей собственной реальности, а не в реальности, которую оно призвано описывать. Оно не сводимо к соответствующему субъекту или реальности, но эта несводимость как раз является двигателем того, чем становится «это» — и «этим, и этим» — как порождающая его инаковость. Это «оползень, обращенный вовнутрь, приглушенная мутация» (Там же: 34).
Хотя вскоре мы понимаем, что «это» также относится к природе, когда говорится — «Это горит. Это солнце горит» — первая часть ПРОЛОГОСА — ПРОЛОГА представляет собой «неопознаваемый метафизический лимб» (там же: 4). Первое «это» ни с чем не отождествляется, но как только мы переступаем порог первого знака препинания, мы попадаем в первичный бульон бытия («Это есть»), становления («Продолжается. Двигается. За пределами. Становится»), количественной оценки («Становится этим, и этим, и этим»), события («Это становится») и отчуждения («Это никогда бы не произошло без чужеродного элемента») (Там же: 3). Неизменное состояние секретности/тайны является движущей силой порождающей, продуктивной, самоорганизующейся системы, которую можно было бы назвать «природой». Тогда вопрос в том, как организованы эти отношения?
Здесь мы должны различать содержание и форму стихотворения, то есть «что» описывается и «как» это описывается. Форма (шрифт, организация текста, разделение на ПРОЛОГОС, ЛОГОС, ЭПИЛОГОС, экспериментальный стиль, неправильное местоимение и т. д.) становится материальным проявлением онтологизма. Как сам «двигатель» реального, «это» отсылает к состоянию секретности в ПРОЛОГЕ (пропасть между языком и реальностью), но основная структура поэмы «это», как и сама форма того, что приходит-к-бытию, меняется с помощью ЛОГОСА и ЭПИЛОГОСА. Ничто и никто не может проникнуть в состояние секретности — оно «спроектировано как сад, но без входов, дорожек или выходов». Подобно черной дыре, площадь поверхности или горизонт событий могут увеличиваться (или изменяться), если в них попадает больше излучения и материи (см. Ilachinski 2002: 637; Christensen 2006: 77).
В «ПРОЛОГОСЕ» поэмы «это» — всего лишь игра формы, а содержание — всего лишь метафизический первичный бульон из сил, существования-бытия, сущностей, событий и становления. В ЛОГОСЕ мы попадаем в очевидный мир гор, растений, домов, людей, мир социальной жизни и космоса в бетоне (in concreto). «Режим секретности» теперь принимает другую форму. В разделе «Стадии: вариативность» говорится:
Неужели не существует промежутка,
который был бы не пустой зоной
и не зоной боевых действий,
а просто игрой линий,
промежуточными тенями,
позициями,
вещами,
временем безвластия,
куда мы все можем пойти,
прилечь
и быть
вне нас самих
объединенные пониманием общей непостижимости,
Я говорю о зачаточных формах коммуникации,
Лакунах-промежутках мышления,
говорю о переплетениях чувств,
Почему бы этому не быть единственный миром. (Christensen 2006: 60)
Идея определенного структурного и динамического взаимодействия мысли и игры линий — топологического разграничения промежутков под заголовком «логос» — указывает на логическую рамку мышления, которая является не статичной, а динамичной. Беспорядочное расположение строк подчеркивает этот момент, словно слова сами постоянно находятся в движении. Это трансцендентальное как органон — органическая биологическая и политическая матрица социально-эпистемологического промежуточного пространства. В тринадцатой главе «Кантовской катастрофы» (The Kantian Catastrophe) (2017) Катрин Малабу обсуждает свою новую книгу «Перед завтрашним днем» (Before Tomorrow) (2016) в диалоге с Энтони Морганом, где она представляет аналогичную интерпретацию кантовской концепции трансцендентного. Она излагает свою точку зрения в кратком, но в отчетливом отрывке из §27 «Критики чистого разума» 1781 года (Kant, 1998), где Кант рассуждает о происхождении категорий. Чтобы объяснить, как и почему эти категории не являются ни врожденными, ни эмпирически обоснованными, он вводит понятие эпигенеза [8] — термин, заимствованный из биологии. Категории являются эпигенетическими, когда они содержат в себе принцип своего собственного развития (Malabou 2017: 242). Малабу интерпретирует эту идею, опираясь на «Критику способности суждения» 1790 года (Kant 2000), где Кант прямо обращается к биологии и живым существам: «в третьей «Критике» трансцендентальное анализируется как живое существо» (Там же: 244). Отсюда она делает вывод: «Итак, если мы можем сравнить структуру нашего познания с живым существом, это говорит о том, что трансцендентальное поддается трансформации и является само по себе собственным же оправданием» (Там же).
В том же смысле, если мы рассматриваем логос/ЛОГОС как трансцендентную сеть, она тоже может трансформироваться, быть подвижной, живой, органичной, но остается загадкой, была ли она соткана кем-то другим, кроме нее самой. На содержательном уровне длинное стихотворение Кристенсен в прозе, кажется, обыгрывает идею о том, что логос — язык, слово, разум или трансцендентальное — возник из чего-то, что ему предшествовало, то есть прологоса, который также служит основой для возникновения природного мира — солнца, земли, и так далее. На уровне формы (шрифт, организация текста, экспериментальный стиль и т.д.) prologos или «это» само по себе происходит в систематической рамке, а именно в PROLOGOS. Оставляет ли это нас в заблуждении относительно происхождения (протобытия)? Для Кристенсен существует неразрывная связь между про-логическим онтогенетическим происхождением из поэмы «это» (содержания) и логической эпи-генеративной порождаемостью трансцендентального (формы): «Это вопрос неопределенных точек» <...> "где язык и мир задевают друг друга, информируют, деформируют или делают что угодно по отношению к друг другу"» (Christensen 2006: 40). Это постоянная игра между природой как порождающим «двигателем» и языком как «двигательностью», но не как противоположными полюсами, а скорее как непреодолимой двигатель/ностью, в котором форма и содержание взаимно влияют друг на друга, постоянно вращаясь вокруг черной дыры загадочного закрытого источника творчества — состояния секретности. Пластичность формы и содержания зависит от последующей взаимной динамики.
«ПРОЛОГОС» начинается с представления sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности) о космосе, разворачивающегося из не поддающегося идентификации «этого» (формы) и «первичного бульона сил и материи» (содержания).
В «ЛОГОСЕ» онтологический состав был изменен на «пространство» (форму) и «конкретный космос вещей — звезд, гор, обществ, войн и т.д.» (содержание).
Наконец, в ЭПИЛОГОСЕ «это» превращается в «тревогу» (форму) и «экзистенциальное состояние человека как части нечеловеческого мира» (содержание).
Состояние секретности меняет форму в метонимическом отношении к только что описанному развитию, начинаясь как абстрактная форма — «это» (ПРОЛОГОС), а затем принимает форму «промежутка» (ЛОГОС), чтобы, наконец, стать «тревогой» (ЭПИЛОГОС). В английской версии написано «fear», но это неудачный перевод датского «angst», которое означает «беспокойство/тревогу» или «ужас», но не «страх» (frygt).
В стихотворении прослеживается закономерность развития, но темно-зеленая плазма, возникающая из «этого», заполнена червоточинами, которые ведут в новые миры, новые начинания, перезагружающие заново материю, происходящие в горизонте событий стихотворения «оно». ЭПИЛОГОС начинается так:
Это / Это оно / В этом всё дело / Это всё в целом / Это всё в массе различий / Это всё в массе разных людей / В ужасе [angst] / Но это не целое / Это даже не близко к тому, чтобы быть законченным / Это — это еще не конец / И оно еще не началось / Оно начинается / С ужаса [angst]... (Christensen 2006: 223)
Эта система — не монизм с бесчисленными модификациями, приведенными в движение, а множественная онтология не/органического, незавершенного, избыточного и пористого целого: «...это могут быть слова / материя, которую мы все еще делим друг с другом / материя, способная расширить разум / и чувства», <...> «клетки — это слова…» (Там же: 234). Мы узнаем, что язык — это часть биологии (Там же: 225), но также и определенный взгляд: «что бездна / между нами / заполнена, / как / как / позволить этому / параллельному языку / расти…» (Там же: 235 и далее). Однако эта идея о заполнении промежутка, который создает интерсубъективное пространство, или темную пропасть между любыми объектами в космосе, параллельным языком невозможна: «этот параллельный язык, / который / не существует / и никогда / не будет, / боюсь, / начинается / Оно снова начинается / во мне / Оно начинается в мире / Оно начинается в мире после мира / Оно начинается далеко за пределами мира / Оно начинается в страхе / и за пределами страха…» (Там же: 236 и далее). Непреодолимая пропасть, которую невозможно заполнить, продолжает порождать новые анархические начала без какого-либо иерархического построения: «Оно начинается» (рождение как абстрактное метафизическое начало в про-логическом местоимении), «Оно снова начинается» (возрождение), «Оно начинается во мне» (трансцендентализм — логический порядок), «Оно начинается далеко за пределами мира» (онтогенез — хронологический/про-логический порядок), «Оно начинается в страхе» (экзистенциальное состояние).
С одной стороны, Кристенсен, по-видимому, придерживается концепции «природы» или философии природы, не заявляя при этом о своей верности к какой-либо существующей философской позиции или научной парадигме. Она, кажется, весьма близка к изложению Грантом-Шеллингом не совсем общей онтологии природы как самоорганизующейся материи. С другой стороны, она согласилась бы с Мортоном, который говорил: «Я действительно утверждаю, что такой «вещи», как природа, не существует, если под природой мы подразумеваем нечто единое, независимое и долговечное» (2006: 19–20). Система Кристенсен — это незавершенное целое, а не замкнутая тотальность. Она описывает состояние секретности как разрушенные сады, не отождествляя его с природой как таковой. Она определяет язык как часть биологии, не прибегая к бескомпромиссным физикалистско-редуктивным рамкам. Скорее, дивгатель:ность стихотворения «это» больше похожа на то, что Мэри-Джейн Рубенштейн (Mary-Jane Rubenstein), используя термин, заимствованный у Уильяма Джеймса, называет «мультивселенной», где всегда что-то ускользает и не превалирует ни один принцип, то есть «для плюралиста мир — это, безусловно, «мультивселенная» — совокупность различных явлений, отношений и взаимосвязей, которые невозможно свести к единому принципу» (Rubenstein 2016: 4). В «ПРОЛОГОСЕ» в бытии уже есть избыток, который открывает двери в разные миры: «Это находит свое место в этом мире и колеблется в другом» (Christensen 2006: 5).
В модели Кристенсен мы получаем не совсем общую философию природы, где реальное сопровождается языком и порождается состоянием секретности, которое само по себе является динамической формой/ированием. В стихотворении в прозе это явно тяготеет к тенденции, чтобы энергии, силы, процессы, изменения, различия и повторения играли решающую роль, но когда мы вглядываемся в ее поэтическую вселенную, Кристенсен больше склоняется к «самим вещам», чем к силам. Мы получаем то, что я называю объектно-ориентированной философией природы, с гибридными знакомыми символами, состоящими из элементов из других сфер, таких как объектно-ориентированная онтология, вибрирующая материя и политическое мышление, вплетенные в ткань нарратива.
Крылья из расплавленного воска: политическая онтология?
Онтологическая система Кристенсен не является нейтральной теорией о структуре реальности. «Политическое» находится в самом центре «двигателя»: «Это лихорадочные манифесты / подношения цветов и вина / одетые в белое голуби в клетках / девственницы, спрятанные в гробах / рассказы о перелетах / с одной высоты на другую / трава, от которой зеленеют мозги / глупая красота / оригинальная политическая инициатива [inderst det politiske udspil]» (Christensen 2006: 115). Политическое — это не то, что впервые возникает в сфере человеческой деятельности, а находится в «самом сокровенном бытии» (inderst), что говорит нам о том, что онтологическая сфера является также и политической. «Политический» относится как к практической политике, политической структуре, так и к политическому per se — онтологической категории. В части «ЛОГОСА», озаглавленной как «Единства действий», мы находим критику политической структуры общества с точки зрения суровой, подобной бабушки, логики кафкианских бюрократий:
Внутри первого завода есть второй, внутри второго —
третий, внутри третьего — четвертый завод и т. д.
На заводе № 3517 человек стоит у станка
На заводе № 1423 человек стоит у станка
Человек № 8611 все это время сочинял небылицы о свободе
В конце концов, на всех объединенных фабриках стоит человек,
делающий деньги.
(Christensen 2006: 141)
В следующих суб-стихотворениях завод сменяется бараками, институциями, парламентами, офисами, банками, компаниями и, наконец, обществами, которые следуют одной и той же логической схеме. Во главе бараков сидит безумный генерал, а во главе всех остальных институтов — комитет экспертов — хорошо оплачиваемый советник, хорошо оплачиваемый скрытый наблюдатель, умный спекулянт, финансовая династия и, наконец: «В конце всех объединенных обществ сидит Мистер _______ и улыбается: "Я очень рад с вами познакомиться. Вы мой самый первый пациент"» (там же: 142–48). Само стихотворение содержит диагностический подход и критику организационной и административной инфраструктуры капиталистической системы, а также современной практической политики шестидесятых годов прошлого века, которая привела к бомбардировке Хиросимы, войне во Вьетнаме и так далее.
Однако, если политический гамбит заложен в самом двигателе, это означает, что первичный бульон в ПРОЛОГОСЕ — это уже политическая экология. Здесь описание Кристенсен близко к идее Джейн Беннетт о вибрирующей материи. По словам Беннетт, мир — это «рой ярких материалов, входящих и выходящих из агентных сборищ» (2010: 107). Более того, для Беннетт политическая экология является онтологически гетерогенным «обществом» именно потому, что «человеческая культура неразрывно связана с активными нечеловеческими силами» (Там же: 108). Это не означает, что каждый «член» этого общества в равной степени является ее участником. Это означает, что вопрос о политическом не может быть изолирован от сферы человеческой деятельности, скорее он принадлежит к более широкому ее воплощению, включающему различные действующие лица (актантов), таких как растения, животные, машины или люди, причем, с различными агентными возможностями и степенями власти (например, «маленькие агентства» червей, совокупный эффект которых может оказаться довольно значительным), действующие в демосе-народе и понимаемые как неопределяемая волна энергии, которая превосходит конкретные задействованные тела (там же: 96, 102, 106). Для Кристенсен онтологическое утверждение кажется более весомым, поскольку нечеловеческое не только участвует в политической сфере, но и является составной частью механизма как такового — «Это все то, что я позаимствовала у мира» — и человеческой сферы в частности: «это благодаря этому предложению (sentence) мир создает свой образ меня» (Christensen 2006: 63). То есть, нет смысла выделять человеческую сферу как изолированную онтологическую область, потому что нечеловеческое уже является частью этой области: «душа вполне могла бы присниться цикадам» (Christensen 2000: 50).
Более того, Кристенсен не делит мир на два противоположных, но взаимодействующих полюса, например, на человеческое и нечеловеческое. Скорее, она выступает за тот же тип плоской онтологии, который был предложен Мануэлем ДеЛанда в версии, принятой и модифицированной OOO [9]: «подход с точки зрения взаимодействующих частей и возникающих целостностей приводит к плоской онтологии, состоящей исключительно из уникальных, единичных индивидуумов, отличающихся пространственно-временным масштабом, но не в онтологическом статусе» (DeLanda 2013: 51). Идея деиерархизированной онтологии — это окончательное прощание с онтологическими моделями, в которых только одна сущность помещается на вершину горы реальности, не предоставляя онтологический статус другим существам, находящимся ниже ее. Ян Богост выражает суть плоской онтологии в этой программной формуле: «Все вещи существуют в равной степени, но они не существуют одинаково» [10] (2012: 11). В литературе по OOO мы часто находим случайные списки вещей, иллюстрирующие первую часть определения, касающуюся онтологического равенства, например: «мы сами в такой же степени принадлежим миру, как мушкетная дробь, гипс и космические шаттлы» (Там же 8), или «коралловые рифы, поля сорго, полеты на параплане, колонии муравьев, двойные звезды, морские путешествия, азиатские мошенники и пустующие храмы» (Харман 2005: 3). Дело здесь в том, что ни одной конкретной сущности — например, человеческому разуму не отдается предпочтение в качестве главного объекта исследования — все вещи рассматриваются с самого начала, когда ни одна из них не имеет онтологического приоритета перед другой.
В книге «Алфавит» (1981) Кристенсен приводит аналогичный список. В определенном смысле стихотворение представляет собой не что иное, как список таких существующих вещей. Однако он организован не случайным образом, а в алфавитном порядке и с помощью последовательности Фибоначчи, где количество строк равно сумме двух предыдущих строк: 1, 2, 3, 5, 8, и так далее. Оно начинается так:
1 абрикосовые деревья существуют, абрикосовые деревья существуют
2 папоротник существует; и ежевика, ежевика [11];
существует бром; и водород, водород
3 существуют цикады; цикорий, хром,
цитрусовые деревья, цикады существуют;
цикады, кедры, кипарисы, мозжечок
4 существуют голуби, мечтатели и куклы;
существуют убийцы, и голуби, и голуби;
дымка, диоксин и дни
существуют, дни и смерть; и стихи
существуют; стихи, дни, смерть
(Christensen 2001: 11–14)
Первая строка представляет собой простое утверждение: «абрикосовые деревья существуют», за которым следует повторение: «абрикосовые деревья существуют». Тон стихотворения с его повторяющимся ритмом скорее напоминает молитву, чем утверждения. Тем не менее, общим знаменателем всех перечисленных вещей является то, что они существуют. Стихотворение представляет собой длинный список различных вещей, которые не существуют одинаково, но как только они начинают существовать — они существуют в равной степени (наравне). Кристенсен представляет плоскую онтологию, но объединяет ее с обобщенной моделью. В разделе 9 она рассказывает о «пере-потерянном рае», где все белое, «но не такое белое, как то белое, что существовало во времена фруктовых деревьев — их цветение было белым» (Christensen 2001: 21). Учитывая это описание, абрикосовое дерево в начале может быть отсылкой к Райскому саду — саду, где растут фруктовые деревья. В природе все начинается с мифических ассоциаций, затем мы переходим к растительности (папоротник) и фруктам (ежевика), а также к химическим элементам (бром и водород) перед тем как мы перейдем к животному миру — цикадам и клубнелуковичным растениям (цитрусовые деревья и кедры), минералам (хром) и, наконец, к человеческому мозгу (мозжечок). В четвертой части мы видим голубей — фигуру, наполненную религиозной символикой, к тому же нам встречаются мечтатели, убийцы и куклы, а также атмосферные явления — дымка и токсичные продукты — диоксин, за которыми следует смерть.
Смерть от загрязнения окружающей среды, токсичных отходов и ядерного оружия, подобно атомной, водородной и кобальтовой бомбам, проходит через стихотворение красной нитью. Ритмичное повторение простой онтологической идеи «все вещи существуют в равной степени» сопровождается взаимодействиями между этими вещами и возможным разрушением мира, каким мы его знаем. В этом смысле онтологическое утверждение «вещи существуют» звучит как призыв: «Вещи существуют!»
В разделе 6 мы возвращаемся к абрикосовым деревьям, но с дополнительными характеристиками: «абрикосовые деревья существуют, абрикосовые деревья существуют / в теплых странах это вызывает правильный цвет абрикосовой мякоти» (Christensen 2001: 16). Это уже не просто онтологическое утверждение о существующем объекте, но и онтическая квалификация объекта и контекста вокруг него. Далее в 8 части, мы возвращаемся к мозгу, но в контексте того, что он был рожден другим — объектом: «...и вся эта гелиоцентрическая дымка, которая мечтала об этих преданных своему делу мозгах, их удаче и человеческой коже…» (Там же: 18). Человеческий мозг берет свое начало в природе, то есть в животном мире (о котором мечтают цикады) или в биосфере как таковой (о которой мечтает гелиоцентрическая дымка), но как только он существует, он в равной степени существует и среди других объектов — цикад, кедров, кипарисов, мозжечка. Объекты существуют как отдельные сущности, и они существуют в отношениях.
Вернемся к 9 части: «ибис будет существовать, движения разума унесутся в облака, / как вихри кислорода в глубине Стикса» (Там же: 20). Онтологический аспект здесь заключается в том, что разум может существовать как сущность среди других, а не за VIP-столиком в клубе реальности, но также и как сущность, опутанная природой. Однако онтический аспект гораздо более политичен. Раздел 9 начинается так: «Существуют ледниковые периоды, существуют ледниковые периоды / лед полярных морей, зимородок во льду; / существуют цикады, цикорий, хром» (Christensen 2001: 20). Как утверждает Келд Зерунейт (Keld Zeruneith) (1983: 182), длинное стихотворение в прозе в целом содержит двоякую временную структуру — одновременность вечного повторения различных сюжетных линий и в то же время более последовательную структуру времени, ведущую к апокалипсису. В девятой части, посвященной современному периоду, рассказывается об антропоцентрической эпохе, связанной с массовым вымиранием. В начале описывается ледниковый период, а в конце — тающие глаза. Здесь также присутствуют загрязнение планеты и возможное уничтожение биологических видов. Мы начинаем со «льда», затем следует — «небо цвета цикория, похожее на синеву, растворяющуюся в воде», а после — намек на смерть, когда разум, уносящийся в небо, сравнивается с рекой Стикс (Там же: 20). Гордыня человечества воплощена в образе Икара: «Икар, завернутый в тающий воск / крылья всё ещё существуют, Икар бледен, как труп / в уличной одежде, Икар углублялся туда, где / существуют голуби, мечтатели и куклы» (Там же: 21). Мифологические сюжеты перенесены в мирскую обстановку — Икар в уличной одежде — наряду с мотивом смерти и религиозными символами, которые свидетельствуют о нашем саморазрушении: «...конечно, мы будем существовать, и на кресте у нас будет кислород. / как иней, мы будем существовать, как ветер, / как радужная оболочка в мерцающих зарослях ледяных растений, как сухие травы тундры, как маленькие существа / мы будем существовать, такими маленькими, как частицы пыльцы в торфе, / как частицы вируса в костях…» (Там же: 21).
Как мы уже видели, вопрос формы также является важной частью «Алфавита». Как утверждает Зерунейт (1983: 182), когда Кристенсен (2001: 27) сравнивает «слова» с «хромосомами», она также указывает на потенциальную опасность ошибок молекулярного шифрования, порождаемых хромосомами, которые заставляют объекты расти вопреки их естественному строению. Иными словами, язык, как и всё остальное в мире, подвергся загрязнению и радиации, когда люди настроили природу против себя, разделив силы и превратив высвобожденную энергию в мультинациональное разрушительное ядерное оружие. Мы видим расщепление ядра в самом языке путем разделения на строфы и накопления количества строк, которые имитируют рак и атомарные процессы (Zeruneith 1983: 185). Далее, из-за последовательности Фибоначчи, стихотворение не может содержать все буквы алфавита. Однако оно заканчивается буквой n, которая, согласно Зерунейту (там же: 181), является отсылкой к символу периода полураспада радиоактивных материалов. Образ пере-обретенного рая возвращается в конце стихотворения, где радиационный заяц смотрит на группу детей, ищущих убежища в пещере, где они слышат, как ветер рассказывает о сожженных дотла полях: «...как будто они были детьми из детских сказок, они слышали, как ветер доносит / о сгоревших полях, / но они не дети / их больше никто поддерживает» (Christensen 2001: 76-77).
Сюжет «Алфавита» — это мрачная экологическая история, начинающаяся с абрикосовых деревьев — райского уголка и заканчивающаяся массовым уничтожением, вымиранием, смертью и террацидом. Структура представляет собой комбинацию онтогенетического импульса, сопровождаемого языком, в чем-то похожим на тот, который мы находим в стихотворении «это», но постоянно подкрепляемым изречением плоской онтологии «вещи существуют», которому вторит онтико-политический [12] призыв: «Вещи существуют!». Поэтическое мышление Кристенсен берет свое начало в децентрализованном множественном фокусе, в напряжении между языком и реальностью, которое создает чуждый элемент — состояние секретности. Последняя строка апрельского письма от 1979 года отражает этот момент: «Кто знает, может быть, сами вещи осознают, что мы зовемся как-то по-другому» (Christensen 2011: 146).
Заключение
В ходе спекулятивного поворота в современной континентальной философии природа и нечеловеческий мир стали серьезной темой для обсуждения. Важность языка, когнитивных способностей и трансцендентального анализа уменьшается в пользу новых систематических теорий всего — материи, объектов, природы и так далее. Как устроена сама реальность? Состоит ли она из отдельных объектов (Харман) или представляет собой процессное развитие природы как таковой (Грант)?
На примере поэтического мышлении Ингер Кристенсен мы получаем гибридную модель, в которой язык (логос, познание, трансцендентальная структура и т. д.) и реальность (природа, объекты и т. д.) постоянно сопровождают друг друга, вращаясь вокруг органической пропасти своего формирования (состояние тайны). Для Кристенсен форма и содержание, поэзия и реальность, объекты всех масштабов и природа как живая семиотическая система сливаются воедино во всех новых образованиях, конструкциях, деконструкциях, истинах, вымыслах, альтернативных мирах, надеждах и мечтах, тревогах, фруктовых садах, голубях, убийцах, политике, плутонии без единого организующего принципа. Реальное рассматривается как совокупность в движении (природа) и как совокупность отдельных сущностей, существующих на одной и той же плоской онтологической и политической основах. В этом смысле её поэзия, по-видимому, занимает спекулятивную позицию между Харманом и Грантом, или то, что я называю объектно-ориентированной философией природы.
Источники
Badiou, Alain (2014). The Age of the Poets: And other Writings on Twentieth-Century Poetry and Prose. Ed. and Trans. Bruno Bosteels. London: Verso.
Bennett, Jane (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, NC: Duke University Press.
Bogost, Ian (2012). Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Bryant, Levi, Nick Srnicek, and Graham Harman (2011). «Towards a Speculative Philosophy» In The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, eds. Levi Bryant, Nick Srnicek, and Graham Harman, 1–18. Melbourne: re.press.
Carson, Anne (2006). «Introduction». In it, by Inger Christensen, trans. Susanna Nied. New York: New Directions Books.
Christensen, Inger (2001). Alphabet. Trans. Susanna Nied. New York: New Directions Book.
Christensen, Inger (2006). it. Trans. Susanna Nied. New York: New Directions Book.
Christensen, Inger (2009). Hemmelighedstilstanden [The state of secrecy]. Copenhagen: Gyldendal.
Christensen, Inger (2011). Light, Grass, and Letter in April. Trans Susanna Nied. New York: New Directions Book.
Christensen, Inger (2018). Verden ønsker at se sig selv. Digte, prosa, udkast [The World Wishes to See Itself. Poems, Prose, Drafts]. Copenhagen: Gyldendal.
DeLanda, Manuel (2013). Intensive Science and Virtual Philosophy, London: Bloomsbury.
Grant, Iain Hamilton (2006). Philosophies of Nature after Schelling. London: Continuum.
Grant, Iain Hamilton (2011). «Mining Conditions: A Response to Harman» in The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, eds. Levi Bryant, Nick Srnicek, and Graham Harman, 46. Melbourne: re.press.
Harman, Graham (2005). Guerrilla Metaphysics — Phenomenology and the Carpentry of Things. Chicago: Open Court.
Harman, Graham (2017). «Global Finitude» in The Kantian Catastrophe — Conversations on Finitude and the Limits of Philosophy, ed. Anthony Morgan, 253– 70. Newcastle upon Tyne: Bigg Books.
Harman, Graham (2018). Object-Oriented Ontology —A New Theory of Everything. London: Pelican Books.
Haugland, Anne Gry (2012). Naturen i ånden: Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab [Nature in spirit: The philosophy of nature in Inger Christensen’s authorship]. PhD diss., Department of Nordic Studies and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Copenhagen.
Holk, Iben (1983). «Det egentlige/Det usigelige — det. Digt, 1969» [The proper / the inexpressible —it. Poem, 1969]. In Tegnverden: En bog om Inger Christensens forfatterskab [A world of signs: A book on Inger Christensen’s authorship], ed. Iben Holk, 79–110. Aarhus: Centrum.
Kant, Immanuel (1998) Critique of Pure Reason. New York: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel (2000) Critique of the Power of Judgement. New York: Cambridge University Press.
Knausgaard, Karl Ove (2014). My Struggle. Book II: A Man in Love. Trans. Don Bartlett. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
Ilachinski, Andrew (2002). Cellular Automata: A Discrete Universe. New Jersey: World Scientific.
Malabou, Catherine (2016) Before Tomorrow — Epigenesis and Rationality. Trans. Carolyn Shread. Cambridge: Polity Press.
Malabou, Catherine (2017). «Transcendental Epigenesis». In The Kantian Catastrophe? Conversations on Finitude and the Limits of Philosophy, ed. Anthony Morgan, 239–52. Newcastle upon Tyne: Bigg Books.
Meillassoux, Quentin (2009). After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency. Trans. Ray Brassier. London: Continuum.
Morton, Timothy (2007). Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rubenstein, Mary-Jane (2016). Worlds without End: The Many Lives of the Multiverse. New York: Columbia University Press.
Stougaard-Nielsen, JaKob (2020). «Nordic Nature: From Romantic Nationalism to the Anthropocene». In Introduction to Nordic Cultures, ed. Annika Lindskog and Jakob Stougaard-Nielsen, 165–80. London: UCL Press.
Svare, Silje Ingeborg Harr, Anne Gry Haugland, and Klaus Müller-Wille (2016) «Inger Christensen / Novalis / Philosophy of Nature». Romantik: Journal for the Study of Romanticisms 3.1: 79–109.
Weisman, Alan (2008) The World Without Us. London: Virgin Books Ltd.
Wolff, Francis (1997) Dire le monde [Saying the World]. Paris: PUF.
Zeruneith, Keld (1983) «Alfabetisk entropi — alfabet. Digt, 1981« [Alphabetic entropy — Alphabet. Poem, 1981]. In Tegnverden — En bog om Inger Christensens forfatterskab [A world of signs: A book on Inger Christensen’s authorship], ed. Iben Holk, 179–92. Aarhus: Centrum.
[1] Becoming, становление — понятие из философии процесса (process philosophy) или онтологии становления, процессизма, главной темой исследования которых является динамизм и развитие как главенствующие принципы реального повседневного мира (здесь и далее прим. переводчицы).
[2] Здесь и далее вероятнее всего под космосом (cosmos) подразумевается понятие из древнегреческой философии и культуры, означающее представление о природном мире как об упорядоченном гармоническом целом, т.е. противопоставление хаосу.
[3] В метафизике и в философии языка корреспондентная теория истины или теория истины как соответствия утверждает, что истинность или ложность утверждения определяется только тем, как оно соотносится с миром и точно ли оно ее описывает, т. е. соответствует этому миру. То есть истинные утверждения должны соответствовать реальности. Эта теория пытается установить взаимосвязь между мыслями или утверждениями, с одной стороны, и вещами или фактами — с другой. См. Аристотеля, Платона, Рассела, Витгенштейна и др.
[4] В математике лента Мёбиуса, жгут Мёбиуса или петля Мебиуса — это поверхность, которую можно сформировать, соединив концы полоски бумаги наполовину. Лента Мёбиуса — это неориентируемая поверхность, а это означает, что внутри нее невозможно последовательно отличить повороты по часовой стрелке от поворотов против часовой стрелки.
[5] Deep ecology (Глубинная экология) — это экологическая философия, которая пропагандирует неотъемлемую ценность всех живых существ, независимо от их полезности для нужд человека и стремится применить к жизни понимание того, что отдельные части экосистемы (включая людей) функционируют как единое целое. Философия затрагивает основные принципы различных экологических и «зеленых» движений и пропагандирует систему экологической этики, выступающую за сохранение дикой природы, ненасильственную политику, способствующую сокращению численности населения и т.д.
[6] Физикализм — концепция логического позитивизма, которая разрабатывалась Карнапом, Нейратом и др. Ее сторонники считают, что все осмысленные предложения можно перевести или редуцировать к предложениям физики.
[7] Хора у Платона — место, в котором происходит зарождение, вместилище также обозначаемое, как hypodochē. Деррида называет хорой семантический отрезок, в котором переплетаются текст, слово, голос и телесное выражение.
[8] Эпигенез в биологии — процесс, посредством которого растения, животные и грибы развиваются из семян, спор или яиц через последовательность стадий, в которых разделяются клетки и образуются органы.
[9] Object-oriented ontology — Объектно-ориентированная онтология
[10] «In short, all things equally exist, yet they do not exist equally» — под этим скорее всего подразумевается, что все вещи обязательно существуют, даже, видимо, абстрактные объекты мышления: ведь они не существуют, но являются вещами. Но это разные вещи, поэтому они не обязательно существуют как одно и то же.
[11] Проблема с русским и английским переводами заключается в том, что они не могут передать алфавитную последовательность как в оригинале у Кристенсен.
[12] ontico-political (онтико-политическим) — Хайдеггер проводит важное различие между онтологическим (Ontologisch) и онтическим (ontisch). Он пишет: «Онтическое отличие Dasein (вот-бытие, здесь-бытие) заключается в том, что оно онтологично». То есть онтологическое относится к вот-бытию конкретного существа, объекта, в то время как онтическое относится к тому, что конкретное существо может или делает.
«Да, вот так»: Датская женская поэзия в поисках языка
В специальном выпуске журнала Words Without Borders, посвященном современной датской поэзии, писательница и переводчица с датского Катрине Огор Йенсен размышляет о парадоксе рецепции датской поэзии за рубежом. Многие ее знакомые американские писатели и критики высоко ценили творчество Ингер Кристенсен, но единицы из них могли назвать хотя бы одного датского поэта, кроме нее [1]. Несмотря на развитые литературные институции Дании и активную переводимость актуальной поэзии, в том числе на русский язык (например, подборка в спецвыпуске «В датском королевстве» журнала «Иностранная литература» 2014/11), многие ключевые тексты датской поэзии мировому читателю еще предстоит открыть.
Другое препятствие, с которым сталкивается поэзия, в особенности женская — проблема исключения из канона маргинализированных авторов и практик. Эта проблема характерна и для литературы Дании, несмотря на развитое гражданское общество и существование мер поддержки для авторов из менее представленных в литературе групп. Официальный культурный канон, одобренный Министерством культуры Дании, содержит 28 поэтических текстов, только один из которых — «Долина бабочек» Ингер Кристенсен — написан женщиной [2], не говоря уже о непредставленности текстов представителей этнических меньшинств.
Мне хотелось бы исправить эту несправедливость и показать сложность и красоту поэтического ландшафта Дании и ее зависимых территорий. Эта статья не даст всеобъемлющего взгляда на современную датскую женскую поэзию. Вместо этого я решила сосредоточиться на поэзии с субъектом-субалтерном, привлечь внимание к голосам мигранток и жительниц колонизованных Данией территорий — Гренландии и Фарерских островов.
Поиск языка, своего голоса, который никому не отнять — главный поиск субъекта-субалтерна, определяемый особенностями языка/языков автора, лингвистической гегемонией и литературной традицией. Джамал Махджуб, говоря о поэзии Яхьи Хасана, автора самого продаваемого сборника поэзии на датском языке, характеризует датский язык как «не склонный к лирическому полету, больше подходящий для поэзии, сила которой — в иронии, языковой игре, повторах и столкновении образов» [3]. Игра взламывает образцы прошлого и позволяет найти свое место в столь богатой традиции. Пять представленных здесь поэтесс переводились на другие языки и получали литературные премии — все это свидетельствует о начавшейся канонизации.
Майя Ли Лангвад
Майя Ли Лангвад родилась в Сеуле и была удочерена семьей из Копенгагена в младенчестве. Темы международного усыновления/удочерения и культурной идентичности — основные в ее книгах «Найди Хольгера Датчанина» (Find Holger Danske, 2006) и «Она зла» (Hun er vred, 2010).
В книге «Найди Хольгера Датчанина» Лангвад предлагает читателю взаимодействовать с шаблонными, холодными текстами: рекомендациями для будущих приемных родителей, законами, анкетами для биологической матери, самой себя и любого читателя. С одной стороны, они предлагают выбор готовых ответов, а с другой — заставляют тщательно обдумать этот выбор («К какой национальности ты относишь себя?», «Может ли ребенок быть расистом?»). Еще один элемент, организующий текст, — четверостишия, последовательно меняющие по одному слову в устойчивых выражениях («паршивая овца в семье / паршивая лошадь в семье») — от пословиц до расовых слюров — и тем самым уничтожающие их и создающих сложную систему человеческих и животных субъектов.
Вторая книга Лангвад, написанная после длительной поездки авторки на родину, исследует злость как феминистский инструмент. Мишень ее гнева — не только и не столько система международного усыновления, в основе которой — колониализм и белое превосходство, сколько невозможность манифестации своей идентичности, будучи удочеренным белой семьей небелым ребенком. Выбор языка и политики оказывается ложным («Она зла на свою приемную мать за то, что она решила, что лучше для нее. Как она может не считать свою приемную мать колонизатором? <...> Она зла на себя за то, что она считает свою приемную мать колонизатором»). Сумма аффектов чувствуется острее абстрактных систем дискриминации: по словам китайской поэтессы Минг Ди, книга Лангвад «не об идентичности, но в то же время и об идентичности, не о расизме, но в то же время и о расизме; о том, чего нельзя представить, пока не почувствуешь на себе, но и не о личном опыте» [4].
Последняя на настоящий момент книга Лангвад «Азбука еды» (Madalfabet), написанная в соавторстве с Кристиной Ниа Глаффи — оммаж ключевому тексту датской поэзии, «Азбуке» Ингер Кристенсен. Авторки заимствуют систему организации текста, в которой каждая из 14 частей начинается со следующей буквы алфавита, а количество строк в каждой части соответствует ряду Фибоначчи (последовательности натуральных чисел, начинающейся с 0 и 1, в которой каждый элемент равен сумме двух предыдущих чисел), изменяя ее (начиная с 10 части, количество строк определяется результатом вычитания, а не сложения элементов ряда), благодаря чему текст значительно короче оригинала.
Если текст Кристенсен подсвечивал отношения между природой и человеком на грани ядерной войны, то в цикле Глаффи и Лангвад на первый план выходят проблемы капитализма, перепотребления, мирового голода и расстройств пищевого поведения. И хотя очевидные реминисценции на первоисточник Кристенсен, начиная с первой строчки («Абрикосовые деревья есть, абрикосовые деревья есть» [5] превращается в «Абрикосовые пироги есть, абрикосовые пироги есть») выглядят ироничной игрой, повторение кулинарных сем также вызывает зловещий эффект.
Сиссал Кампманн
Сиссал Кампманн — первая авторка с Фарерских островов, выпустившая билингвальную книгу на английском и фарерском языках (Darkening/Myrking, 2017), что позволило ей добиться определенной известности за пределами Дании. Центральный образ поэтики Кампманн — дом в разных его пониманиях: физическом и духовном, дом как родная земля и как состояние спокойствия. Исчезание — ключ к пониманию стихотворений Кампманн: кажущиеся чувства спокойствия, близости и связи ускользают по тем же природным законам, по которым день сменяется ночью, а прилив — отливом. Природные картины наделяются чувствами и воспоминаниями, но при этом существуют и вне их. Поэтесса показывает изменчивость природного и культурного ландшафта островов, готовясь к исчезанию чувства дома, знакомого ранее, и замещению его новым чувством.
Найя Марие Айдт
Гренландка Найя Марие Айдт уже была одной из самых заметных датскоязычных авторок из Гренландии, выпустив несколько сборников стихотворений и рассказов, когда в 2015 году погиб ее двадцатипятилетний сын Карл Эмиль. Через два года поэтесса опубликовала книгу, озаглавленную строчкой из стихотворения, которое она написала, когда Карл был подростком: «Если смерть заберет что-то у тебя, верни это назад: Книга Карла» (Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog). Сборник стал одним из самых известных в стране примером sorglitteratur — литературы скорби, письма о том, что часто замалчивается. В интервью о книге Айдт сравнивает скорбь с диким животным [6], говоря о неконтролируемости своего состояния. Письмо о потере — не только способ терапии, но и необходимость, чтобы преодолеть травму и начать писать о чем-то еще [7].
Вместо одного личного переживания потери Айдт говорит о трагедии через многообразие голосов: дневниковые записи, надгробные речи, разговоры в группе поддержки, стихи самого Карла и многочисленные интертекстуальные вставки, включая цитаты из «Эпоса о Гильгамеше» — древнейшего из сохранившихся литературных произведений, тем самым показывая одновременно уникальность и универсальность пережитого опыта. Фрагментарная структура книги с ее распадом языка имитирует разрушительное влияние скорби на человека и осторожную пересборку своей жизни.
В 2020 году Айдт стала лауреатом Премии Датской академии — самой престижной национальной литературной премии.
Катти Фредриксен
Главная героиня фильма Аайю Петер «Дважды колонизованная» (Twice Colonized), посвященного истории
гренландской инуитки, живущей в канадской провинции Нунавут, рассказывает о
своем раздражении от разговоров с жителями метрополии. Задавая вопросы вроде
«Неужели инуиты могут пить кофе в пластиковых стаканчиках?», они транслируют свое,
западное представление о том, каким должны быть или не быть представители
коренных народов Севера. Такая же по тону книга «100% эскимоска инуитка» (100% Eskimo Inuk) (2012) Катти Фредриксен — гренландской поэтессы и политика, в 2020 году
назначенной на пост министра образования, культуры и церкви Гренландии. Само
название сборника указывает на уничтожение колониального языка в поисках своего
собственного, подходящего для репрезентации себя. Текст написан на гренландском
и датском, сообщая о праве выбора языка:
Да, вот так:
я думаю на родном, а пишу на датском.
Да, вот так:
я не люблю этот язык.
Да, вот так:
люблю гренландский. [8]
Для Фредриксен также важна межпоколенческая связь. Герои ее лирических зарисовок — стареющие гренландцы и молодые люди, постепенно утрачивающие связь с культурой своих предков. Осознание своего места среди родной природы и своих людей — та энергия, которая дает лирической субъектке силы на действие — будь оно творческим, политическим или бытовым: «А все же они говорят: не сомневайся, /и я верю, я вижу, что принес прилив».
Джесси Климан
Джесси Климан известна прежде всего как художница, работающая в жанре перформанса. Климан опубликовала две мультилингвальные поэтические книги, участвовала в чтениях и литературных фестивалях и снялась в короткометражном фильме Ивало Франк «Птица-убийца», прочитав стихотворение о пережитом опыте сексуализированного насилия в детстве. Кроме того, Климан работает в жанре видеопоэзии.
Книга стихов «Боль Арктики» (Arkhticós Dolorôs), написанная на гренландском, датском и английском языках — часть мультимедийного проекта Климан, посвященного экологии. 20 июня 2019 года Климан провела одноименный перформанс в Голубом озере — зоне абляции (таянии) ледника, в ходе которого она перемещается по местности и использует экипировку в непривычных контекстах, исследуя границы природного и телесного [9]. Главный инструмент поэтики Климан — осцилляция: между языками, субъектами (частая смена первого и второго лица), внешним и внутренним мирами, способствующая эмпатии к Другому.
Экопоэтика — одно из основных направлений в поэтических традициях островных стран, наиболее уязвимых перед климатическим кризисом. Поиск связей между собой и природой, принятие на себя ее боли — то, что сближает тексты поэтов Глобального Севера и Юга и используемые в них символы.
[1] https://wordswithoutborders.org/read/article/2015-12/december-2015-danish-intro
[3] https://lithub.com/celebrating-yahya-hassan-poet-rebel
[4] https://www.tupeloquarterly.com/editors-selections/an-introduction-to-maja-lee-langvad-by-ming-di
[5] Пер. А. Прокопьева.
[6] https://m.youtube.com/watch?v=l7nxZZlCBKE
[7] https://www.youtube.com/watch?v=3ytPirnv6Ag
[8] Пер. А. Строкиной: https://magazines.gorky.media/inostran/2014/11/stihi-2287.html
Надежда Воинова: ответы на вопросы «Флагов» (подготовка Владимира Кошелева)
Владимир Кошелев: Как переводчица вы дебютировали в 2016-м году, после публикации «Мельнской элегии» Гуннара Экелефа, а затем «Завещания Девочки-Машины» Иды Линде. В одном из интервью вас спросили: «почему Экелеф?» Я хочу задать другой вопрос: почему шведский?
Надежда Воинова: Превратности судьбы привели меня в Швецию, где я жила и работала несколько лет. Там я занималась совсем другим, инвентаризацией арт-коллекции Управления по культуре Стокгольмской области, и работала в аукционном доме Буковскис, будучи искусствоведом по образованию. Но позже, когда я оказалась в Казахстане, выяснилось, что именно шведская современная поэзии для нас terra incognita и совершенно пустая ниша.
В.К.: На ваш взгляд, может ли сегодняшний читатель, ознакомившись с существующими переводами, сложить релевантное мнение о шведской поэзии? Или материала пока что недостаточно?
Н.В.: Кое-что есть. Можно сказать, что интерес появился с моей легкой руки. Мы с Дмитрием Кузьминым в 2017 устроили трёхъязычный фестиваль в Риге с участием четырёх шведских поэтесс (Иды Берьел, Анны Аксфорс, Анн Йедерлунд, Наймы Шахбоун) и одного переводчика (Ларса Клеберга). Материалы были опубликованы в «Воздухе» и Text only, наряду с моими более поздними переводами Кристины Лугн, Кхашаяра Надерехванди, Марка Григорьева и проч. Кроме того, в других сетевых изданиях («Цирк-Олимп», «Двоеточие», «Артикуляция» и проч.) публиковались мои переводы шведских феминисток (Мэрте Тикканен, Сони Окессон, Биргитты Тротциг, Майкен Йоханссон, Сив Арб), Афины Фаррукзад, рано умершего Генри Парланда, удивительного поэта, в общем-то нашего соотечественника, писавшего по-шведски.
В.К.: Есть ли непереведённые шведские авторы, чьи стихи, по-вашему мнению, нам необходимо узнать? Может быть, расскажете о своих переводческих планах?
Н.В.: Сейчас я продолжаю работать с переводами Анн Йедерлунд, замышляя что-то вроде полного собрания её сочинений. Но есть, конечно, и новые будоражащие меня имена. И в Швеции это (плохая новость для мифа о мужском гении) сплошь женские дебютантки, опубликованные и награжденные призами в конце прошлого десятилетия: Аманда Горман, Ханна Райс Лара, Aрасо Ариф, Матильда Седергран, Юдит Кирос, Фелисиа Мулинари, Мона Монасар.
В.К.: Некоторое время назад по-русски вышла книга Осе Берг «Тёмная материя» в вашем совместном переводе с поэтом Андреем Сен-Сеньковым. Что оказалось сложнее всего в работе над текстами Берг? Не думали ли вы о русскоязычных авторах, чьи голоса близки голосу Берг?
Н.В.: Сложнее всего переводить её специальную научную лексику из самых разных областей — от горнодобывающей промышленности до оптики и биологии, а также разбираться в её «кеннингах», многоступенчатых метафорах, сплошь состоящих из генетивов. Думаю, у нас нет аналогов таких поэтик.
В.К.: Развивая линию тёмной поэзии, Берг удается создавать убедительные миры, пугающая особенность которых, быть может, как раз в том, что они предельно реалистичны, и потому завораживают нас. Как вам кажется, благодаря чему её поэтика стала именно такой? Какие линии влияния вы можете у нее опознать, или же они не распознаются?
Н.В.: Возможно, Осе выстраивала свою апокалиптику, оппонируя американскому философу Фукуяме, который в то же десятилетие пишет «Конец истории». Но прямые отсылки, очевидные в текстах, конечно, к романтизму Новалиса, лавкрафтианству, Экелефу и к «Аниаре» нобелевского лауреата и члена Шведской Академии Харри Мартинсона.
В.К.: Чему, на ваш взгляд, актуальная русскоязычная поэзия может научиться у шведской? Какие точки соприкосновения находите именно вы у этих двух крупных литератур?
Н.В.: Почти никаких. Шведская поэзия настолько другая, настолько смелая, настолько экспериментальная, что ничего подобного, кажется, у нас нет. Если не считать тексты Софии Камилл, которая росла и развивалась в этой поэтике, и отталкивалась именно от неё, а не от русской литературной традиции. Именно поэтому и важны переводы. Они не только отражают абсолютно другие миры, но и изобретают новый язык, который приходится переизобретать из отечественных подручных средств, что открывает новые возможности и горизонты для русского языка.
В.К.: Много молодых людей с гуманитарным образованием или интересами, лежащими в области языка, литературы, философии и т. д. сегодня принимаются за перевод самостоятельно. Что бы вы рассказали им о переводе? Что приходит только с опытом? Какие аспекты этой работы не были очевидными изначально, но их оказалось необходимо принимать во внимание?
Н.В.: Мы и так перегружены традициями в плане перевода. Подчас, на мой взгляд, чудовищными. Ощущение, что переводчики были глухими. Жили за железным занавесом, никогда не слышали и не хотели передать звучание настоящей иностранной речи. Например, наши транслитерациии с «Г» чего стоят, — все эти Генрих Гейне, Гофман и прочее! Или шведское обращение к даме, которое у нас транслитерировалось как «фру» (звучит «фрю»). Или «ö», звук, который звучит как «ё» после согласных, — у нас транслитерируют почему-то в «э», а не в парное «о» (Östermalm — Эстермальм). С этим, конечно, надо что-то делать. Поэтому полагаю, пора рекомендовать молодым переводчикам несколько правил известного дизайнера и филолога Андрея Дмитриева: «Не ссы!» и «Никого не слушай!»
Осе Берг: ответы на вопросы «Флагов» (подготовка Владимира Кошелева, перевод с английского Майи Мамедовой)
Владимир Кошелев: Для русскоязычного читателя выход «Тёмной материи» особенное событие. Занимаясь номером, посвящённым скандинавской литературе, я заметил, что наши поэты и переводчики внимательно следят за тенденциями шведской литературы, отдавая честь не только ключевым авторам страны, но и тем, чью роль только предстоит осознать. Осе, скажите, а что для вас русскоязычная литература? Как обстоят дела с с её переводом в Швеции?
Осе Берг: К сожалению, Швеция небогата переводной поэзией, поэтому у нас публикуется не так много русскоязычных поэтов, особенно молодых. Мне грустно говорить об этом. Тем не менее, я надеюсь, что публикация «Тёмной материи» породит новые связи. Вообще-то я планирую начать обсуждение тематического «русского» номера журнала, который издает мой друг. Посмотрим, что из этого выйдет!
В.К.: Как приняли «Тёмную материю» на родине? Сейчас, спустя 25 лет после её выхода в Швеции, как вы относитесь к этой книге? Какое место вы ей отводите?
О.Б.: Для времени своего выхода эта книга оказалась настолько странной, что отзывы разделились. Одним критикам она понравилась, другие её вовсе не поняли. Тогда в шведской литературе царил правильный и скучный минимализм, поэтому такой максималистский и вульгарный взрыв некоторых шокировал. Но я думаю, что это своего рода классика для тех поэтических групп, которые и по сей день желают чего-то мрачнее и страннее.
В.К.: Вы известны как одна из инициаторов Stockholm Surrealist Group. В каком-то смысле историю литературы можно изучить, оглядываясь как раз-таки на подобные группы и движения. Что для вас значит этот опыт работы в группе поэтов-единомышленников? Оглядываясь назад, как бы вы сформулировали значение этой группировки для шведской литературы?
О.Б.: Может эта группа и не была столь важна для шведской литературы, но для меня и некоторых моих друзей она была местом, где мы могли расти как независимые художники и писатели. Мы были очень экспериментальными не только в том, что касалось литературы и искусства, но и в самой жизни. Я многому научилась, но сейчас оглядываюсь на этот опыт со смешанными чувствами. Вообще-то, группа была абсолютно нефеминистской, — не самое лучшее место для молодых женщин. Вначале нас было трое молодых женщин/девушек, и к нам относились как к музам, а не как к полноправным членам.
В.К.: Продолжая разговор о Stockholm Surrealist Group, я хотел бы уточнить: насколько сильно вы опирались на опыт своих предшественников, например, французских поэтов-сюрреалистов, и какие, на ваш взгляд, можно провести разграничения между общеевропейским и шведским сюрреализмом?
О.Б.: Мы были очень вдохновлены их методами и практиками, такими как использование бессознательного для создания смысла. Но мы также отличались от них тем, что, на мой взгляд, были более политическими, чем ранние европейские группы. Но мы поддерживали связь, например, с чешскими сюрреалистами, сотрудничали с ними и время от времени ездили в Прагу.
В.К.: Читая «Тёмную материю», пожалуй, нельзя не задать себе вопроса: а что вообще такое поэзия? Вы не просто расширяете поэтический словарь, скорее, вы изменяете сам образ поэтического мышления. Вы бы могли согласиться с утверждением, что поэзия — это способ познания мира, например, наравне с научным анализом? Что такое «поэзия» для Осе Берг?
О.Б.: Поэзия очень важна для меня, это способ расширить жизнь и выдержать реальность. Я ищу тонкости в языке и, как следствие, я также создаю новые тонкости реальности. Наша задача как поэтов не просто расширить реальность, ведь она зачастую крайне тупа и поверхностна, что видно в медиа и политике. Мы являемся свидетелями глубинных течений общества.
В.К.: Осе, насколько я знаю, вы глубоко погружены в тёмную литературу и тёмную культуру. В частности, я имею в виду литературные опыты Батая, Лавкрафта и кино, которое по привычке называют «ужасами». Как их большой поклонник, я бы хотел уточнить у вас: можно ли сказать, что «Тёмная материя» также поднимает вопросы о феноменологии ужасного? Ставили ли вы такую цель в момент письма, и насколько комфортно вы чувствовали себя во время создания текстов, составивших эту книгу?
О.Б.: Несомненно! Я ищу красоту тьмы, красоту уродства, смысл бессмысленного. Но оно не обязательно должно быть зрелищным. В противовес современному обществу я хочу изучать тени, мир негромкий, практически незримый.
В.К.: Один из главных вопросов, на который пытается ответить наш журнал — вопрос о продуктивном взаимодействии между разными поколениями пишущих и авторами, творящими в разных эстетических координатах. Мне было бы интересно узнать, насколько внимательно вы следите за молодой поэзией в Швеции? Наблюдаете ли вы какие-то тенденции в актуальной шведской литературе?
О.Б.: Я внимательно слежу за ней. На самом деле я читаю каждый выходящий поэтический дебют, поскольку являюсь членом жюри премии Borås Tidnings debutanpris, — самой значимой для молодой, новой литературы в Швеции.
В.К.: Осе, скажите, пожалуйста, что бы вы сказали молодым русскоязычным авторам?
О.Б.: Никогда не уделяйте слишком много внимания мнению других людей! Никогда не идите на компромиссы в своем искусстве, отказывайтесь подстраиваться под мейнстримные тренды, вместо этого — создавайте их! Или не создавайте. Действовать в тени — нормально. Поэзия сама по себе — подводное течение. Вам не нужно постоянное одобрение. Работайте вместе с другими, но учитесь и выносить одиночество. Быть неудачником — нормально. Все поэты — неудачники.
Вслед за Туром Ульвеном: стихотворения восьми поэтов и поэток
Апрель. На тающем снегу — пятна крови после побоища диких котов. Кошачье боевое искусство не ведает истории. На батальном полотне Альбрехта Альтдорфера, написанном в 1529 году, вид открывается такой широкий, что всё сражение напоминает блестящую рыжую шкуру из копий и плюмажей, гигантского зверя войны, составленного из живых людей. Вдали синеют море, небо, горы. Там, на непокорённых вершинах, никто друг друга не убивает. Но когда спящий блуждает, никем не видимый, в темноте, то кто знает, набросками чего служат эти беспомощные жесты: то ли объятий, то ли захвата за шею, то ли чего-то третьего, не поддающегося определению.
— Тур Ульвен (пер. Нины Ставрогиной)
·
Катастрофическое письмо Тура Ульвена в выбранном тексте меняет своё направление — от разорванности оно устремляется к целостности, от равноценности каждого звука и образа — к попытке построить место наблюдения, смотровую/слуховую/чувствительную площадку, с которой можно будет попробовать описать всё. Вместо вопроса этики — «как это может существовать вместе» — Ульвен, скорее, задаётся вопросом физики — «каким образом оно продолжает быть рядом». Эта интенция обеспечивает магнетичность — в любом случае архитектура письма, даже отстраивающаяся от заданного текста, будет прилегать к нему. Избежать опыта «вслед» не получается. «Природа вещей», масштабированная полотном Альтдофера, вытягивается до последнего этажа.
— Лиза Хереш
Марина Богданова
***
речь неба теряется в момент чувственного познания
оно видело смерть консервированную консолидацию страха
зернистость скорби по молочным платочкам рыбьих скелетов
и не единожды погибало
медлительное совокупление голубой мякоти с взломом
семантического пространства
обещает фрустрированную плотность пероксида натрия в воздухе
выбеливающего в памяти шерстяную структурную решетку
им дышат те кто рекурсивно смотрит со стороны
и думают, что война похожа на любовь
тем что она настоящая только тогда когда все акторы мертвы
но говорить об этом не принято
нахождение в состоянии изнеможения
заставляет убивать и быть убитым высотностью горных ракурсов
так завещал четвертый месяц в латунных перчатках
способный только к нерепрезентативной абстракции
проводящей политику невмешательства в стабильную однотонность
потому что нельзя думать о том что ты не видел
но говорить об этом не принято
противогаз помогает доказать отсутствие интенциональности
ведомства по борьбе с переворачиванием орнамента
гибели на сторону где возможность бросать камни отрицается
люминесцентной теорией трансгуманизма
в ней третий жест несет в себе жертвенное самообъятие
потому что отсутствие действия это тоже действие
но говорить об этом не принято
небо наблюдает за распылением света на продолжающуюся жизнь
охлажденные мыльные языки несовпадение ожидания и пряток в слоях
глянцевых солнечных отражений на треснувшей эмали
и не может сказать ни слова
Святослав Уланов
ВОЙНА НЕ ВЕДАЕТ ИСТОРИИ
Туру Ульвену
1.
сон, в котором молния ударяет
в дерево
и оно падает. возможно ли
соотнести масштабы?
безымянное дерево пало жертвой случая;
безымянный солдат оказался в прицеле —
но был убит залпом артиллерии.
2.
оптика разыменования, расщепления.
зверь войны оставляет следы
во времени — не в ландшафте:
памятные даты что содержат в себе?
больные антероградной амнезией
отдают себе отчет о своих действиях, но потом
вся их деятельность пропадает из памяти.
интервалы отсутствия.
3.
«я ощутил присутствие объема,
что комнатою звался угловой».
4.
теги разнокалиберного отчаяния:
смысл, интерпретация, ложные воспоминания.
Вероника Голованова
***
Капли крови на ступенях перехода метро — и ещё мелочь — всё, что осталось после падения. Сколь хрупок человек — ему не благоволит высота собственного роста. И всё равно разверзается гигантское туловище войны, а внутри всё то же: мелочь, капли крови, судороги, будто кто-то упал во сне, но глаза открыты… Шум ветра. Пение из-за ветвей. Апрель. Мы сидим в лесу. Ты говоришь: как приятно слушать птиц — и не есть их.
Роман Шишков
ИТИНЕРАРИЙ (WASD)
W
в приближении шершавой реки даже камни заговорят
A
упругий взгляд музыканта с древней фрески царапнет твой и без того потрескавшийся профиль
S
оказавшись невтовремя-невтоместе стоит лечь на асфальт и стараться как можно дольше ни о чём не думать
D
место побоища: страницы книг, фрагменты картин и географических карт пришпорены снегом
(ДОПОЛНЕНИЕ)
снега не существует
Вероника Соболенко
***
1.
что-то всегда вместо головы
открывается на рассвете и
обрезает
кроме слуха
следы
2.
в дождливые дни
первые шрамы
расходятся
изнутри наружу
глаза падают вниз
3.
пусть мягкие корни и почва
говорят с солнцем
пока туман
не рассеется
4.
наблюдатель
вызывает вражду
5.
упала
на ветку
жадная до тепла хочу
присоединить
жжение, онемение
вот-вот погаснет
6.
из тела
распускается цвет
не обнять
небо
7.
там написано, не здесь
тысячи миль рек и гор
ветер уносит
несколько листьев
где не видно
8.
люди сгорели
одежда их
нет
Александр Фролов
ОТКРОВЕНИЕ ВЫЖИВШЕЙ ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ЯГОДЫ
Апрель. На тающем снегу — пятна крови после побоища диких котов.
Кошачье боевое искусство не ведает истории.
— Тур Ульвен
По углам земляничного поля ты расставил своих боевых тигров.
Ни одной целой ягоды — все раздавлены в пылу смертельных игр.
Ты стоишь в центре месива — красный от крови или сока, важно ли?
Веки опущены и руки болтаются на ветру, как бумажные.
Груды тел — фолианты камней — громоздятся до горизонта,
Закрывая от меня — полураздавленной ягоды — низкое, желтушное солнце.
Тебе снится апрель, белый снег со следами бойни кошачьей,
И ты — сомнамбула — тянешь к ним раскрытую руку, но будто за сдачей.
Твои тигры не спят, а ты всё больше им напоминаешь клубнику —
Бормотание, жесты, шаги ветвятся и к земле, как ростки, никнут.
Недобитая когтем — я одна — срез дыхания, прорастаю углом пятым
В сон апрельский твой, и ты видишь меня то кустом мяты,
То захватом за шею, то объятием, то чем-то третьим,
Стёртым смоченной в спирте ватой.
Анастасия Кудашева
белый гриф заоблачных равнин:
*
свежестью веет горной оттуда, где всё отступает
заворачиваясь в раковину и превращаясь в гул
так трава пробивается вопреки, и добрые люди
заглядывают в глаза тому, кто не в силах отвернуться
от первородного столкновения
и вот-вот побледнеет дотла
*
последний снег претерпевает возвращение
рас-собираясь в облачные сгустки
освобождённых тайн
в глазах Никого –͙ в͙с͙е͙г͙д͙а͙-͙р͙а͙с͙с͙в͙е͙т͙ из отстоявшейся тьмы,
преобразованной в беспилотный полёт бесплотности
*
находясь в слитке невольно раскачиваешься
как маятник вопросов
на крючках которых –͙ предчувствие ответа
¿͙ ͙¿͙ ͙¿͙ ͙
на все вопросы ответ один
потому что мы –͙ т͙а͙й͙н͙и͙к͙и͙ ͙с͙а͙м͙и͙х͙ ͙с͙е͙б͙я͙
*
м͙н͙е͙ ͙с͙н͙и͙т͙с͙я͙ ͙ч͙т͙о͙ ͙я͙ ͙з͙а͙г͙л͙я͙д͙ы͙в͙а͙ю͙ ͙т͙е͙б͙е͙ ͙в͙ ͙г͙л͙а͙з͙а͙
͙а͙ ͙т͙ы͙ ͙в͙с͙ё͙ ͙р͙а͙в͙н͙о͙ ͙м͙е͙н͙я͙ ͙
͙н͙е͙ ͙в͙и͙д͙и͙ш͙ь͙
͙б͙л͙е͙д͙н͙ы͙й͙,͙ ͙к͙а͙к͙ ͙к͙р͙у͙ж͙е͙в͙а͙ ͙в͙е͙к͙о͙в͙
*
мы –͙ граница светотьмы и не нам обдумывать
грехи друг друга
только если.͙.͙ ͙о͙п͙л͙а͙к͙и͙в͙а͙т͙ь͙
ночью, в глубине тишины
(когда птицы ещё недостаточно проснулись,
чтобы подражать ангельским голосам)
слагая двуединые жесты
в͙ ͙с͙в͙е͙т͙о͙в͙о͙й͙ ͙п͙ы͙л͙и͙ ͙в͙с͙е͙г͙д͙а͙ ͙н͙о͙в͙о͙г͙о͙ ͙в͙р͙е͙м͙е͙н͙и͙
по памяти о том
как ушедшие поезда возвращались
чтобы забрать нас с собой
собирая в кувшин
векторы-слова –͙
светящиеся тела внутренних слёз
высекающих рассвет
для непогрешимого будущего
под музыку которого
мы снимся и отражаемся
водой в бессловесной воде
*
в белом грифе заоблачных равнин
в͙о͙з͙в͙р͙а͙щ͙ё͙н͙н͙о͙г͙о͙
Али Алиев
ТРЕТЬЕ
в восторге оборачиваясь воды обсчитавшись городом
сейчас так переведу на песке с провода помощи слагаемое лего
буквально одну изнутри побоища буду воздуха строчку помнить
лукавые службы и идеальное боевое так детство — шестнадцатого
объективом снял потлача войны снова через исполинскую будто дышит
сможешь осмотреть ли вот музыка она чего? изнутри картины наблюдая
за тобой?
Космический пессимизм: о книге Тура Ульвена «Исчезание равно образованию»
Ульвен Тур. Исчезание равно образованию — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; Knopparp: Ariel Förlag, 2024
Имя норвежского поэта, прозаика и переводчика Тура Ульвена (1953–1995) известно заинтересованным читателям не первый год. В 2010 году в Чебоксарах вышел том избранных переводов его стихотворений, выполненных Дмитрием Воробьёвым и Иосифом Трером, но, к сожалению, эта уникальная по концепции книга, помещающая стихи Ульвена в контексты русской и чувашской поэзии, не получила должного внимания критики [1]. Тем не менее, ей всё-таки удалось обратить внимание на доселе почти неизвестного российскому читателю норвежского автора, интерес к которому, благодаря усилиям Нины Ставрогиной и Дмитрия Воробьёва, нарастал в течение всех 2010-х. Впрочем, полноценные издания новых переводов Ульвена появились только в начале следующей декады: в 2020-м году в переводе Нины Ставрогиной под редакцией Станислава Снытко вышел небольшой (и единственный, изданный за два года до добровольного ухода Ульвена из жизни) роман «Расщепление» [2], а в следующем году был опубликован блок материалов о поэте в журнале «Новое литературное обозрение» [3]. Думается, теперь у нас есть некоторые инструменты для прочтения выпущенной «Издательством Ивана Лимбаха» и «Ariel Förlag» книги «Исчезание равно образованию», призванной расширить представление об Ульвене-поэте, но и познакомить с его эссеистикой. Это тем более важно сегодня, когда движение to the worstward, о котором рассуждал столь ценимый Ульвеном Сэмюэль Беккет, приобрело очевидно необратимый характер. Привыкший мыслить в тупике Ульвен оказывается для нас неожиданным союзником и в какой-то мере утешителем.
Тур Ульвен был принципиальным аутсайдером; вся его жизнь представляет собой последовательное замыкание в себе и собственной проблематике. Впрочем, его маргинальность выражалась не только в способе существования, но и в последовательном дрейфе в сторону минималистичной выразительности, которая не была похожа ни на тяжеловесные опусы норвежских классиков, ни на софистицированные поэмы Стейна Мерена, ни на величественные медитации Юна Фоссе, ровесника Ульвена, ставшего международным классиком и получившего в прошлом году Нобелевскую премию по литературе. В не лишённом застенчивой иронии интервью, опубликованном в норвежском литературном журнале «Вагант» Ульвен несколько раз упоминает Юна Фоссе (и вообще демонстрирует завидную начитанность в разных областях), деликатно проводя различие между собой и своим более именитым коллегой [4].
Полноценная творческая карьера Тура Ульвена насчитывает около двадцати лет. В начале 1970-х он дебютирует с сюрреалистическими текстами и почти до конца десятилетия продолжает исследовать специфику этого метода, с успехом развивая его и в собственном письме. Думается, сюрреализм интересовал Ульвена не как новаторский способ создания текстов (для этого в 1970-е годы было уже поздно), но как специфическая форма немиметического письма, не теряющего, впрочем, связь с конвенциональными формами поэтического и металитературной рефлексией. Я не буду подробно останавливаться на сюрреалистических текстах Ульвена, замечу лишь, что во многих из них уже возникают мотивы и образы, которые станут частотными в его поэтических текстах зрелого периода: интерес к природным явлениям и циклам рождения и смерти, отражённый в завораживающих статичных пейзажах и инсталляциях, а также обращение к образам руинированных объектов, коррелирующих с фрагментарной природой его циклов и книг. Но еще важнее то, что не лишенный некоторой манерности сюрреалистической метод научил Ульвена свободе в обращении с образами и смыслами, которая позволила ему на следующем этапе творчества создать принципиально новую поэтику.
Почему же Ульвен отказывается от сюрреалистического письма? Причин две, и они в какой-то степени связаны друг с другом. По видимому, с начала 1980-х годов Ульвен стремится разработать эстетический метод, который не был бы обусловлен внешней литературе трансцендентной инстанцией, a опиравшийся на бессознательное сюрреализм для этого не подходил. Также к концу 1970-х сюрреализм становится одним из полноправных «языков» популярной культуры, с которой у Ульвена, судя по всему, разговор был короткий (см. стихотворение «На одной из страниц коммерческого каталога…», с. 254). И дело, конечно, не в элитарности, которой неоткуда было взяться у всю жизнь занятого самообразованием молодого человека из рабочей среды, но в самой специфике поп-культуры, предполагающей вовлечение в коллективный аффект. Ульвен принадлежит к редкому типу авторов, кончиками пальцев ощущающих условность социальных и культурных конвенций, которые следует обходить по касательной, защищая свой обострённый, не дающий потерять отчаяние взгляд. Исчерпав сюрреалистический метод, Ульвен двигается в сторону экономного интровертного письма, призванного очертить локус существования субъекта, теряющего символическую связь с миром. В его поэтических текстах возникают пустоты, межстрочные интервалы, в которых накапливается драматизм, которому Ульвен, говоривший в интервью о важности «внеязыкового опыта» в поэзии, придавал большое значение:
<…>
Зарыться
восточнее мозгов,
западнее ногтей,
непросвещённым,
подземным.
Да
учение нерождённых
сурово. (c.71)
Суровость «учения нерождённых» прямо пропорционально враждебности мира, непригодного для обитания человека, который в нем, в общем-то, случайный гость. А сознание — чья трагикомедия разыгрывается в романе «Расщепление» — видится Ульвену если не досадной ошибкой эволюции, то чем-то близким: заведомо обречённым на ментальный тупик копошением вокруг малозначительных вещей. В программном эссе с характерным названием «О неутешительном», Ульвен отстаивает возможность писать без метафизических или идеологических условий, которые для него не более чем набор иллюзий, уводящих человека от удручающего удела. «В своих книгах я хочу настаивать на неприятных аспектах существования» — признается он в интервью журналу «Вагант» [5]. Своими союзниками в борьбе с эстетическим и этическим манихейством Ульвен называет Артура Шопенгауэра и уже названного выше Сэмюеля Беккета, который представлен в ульвеновском эссе не столько мастером парадоксальных стилистических и сценических решений, сколько апофатиком от литературы, стремившимся раз и навсегда расправиться с оскорбительным для человека принципом надежды.
Несмотря на то, что известная сдержанность вообще свойственна скандинавским литературам, а сам регион нередко ассоциируется с разнообразными мрачными сюжетами, столь последовательных пессимистов как Ульвен найти нелегко. Конечно, Ульвен далек от поэтизации рекуррентной депрессии, вообще от персонального измерения пессимизма; скорее, он стремится, говоря словами Юджина Такера, «помыслить жизнь в терминах отрицания» [6], подвергнуть сомнению саму идею того, что «всё, что существует, должно иметь свое основание» [7]. Космический пессимизм Ульвена предполагает отказ от объясняющих бесформенную материю жизни спекулятивных обобщений, согласно которым человек находится в зависимости от придающих ей смысл внеположных ценностей, являясь при этом привилегированной формой существования, занимающей исключительное место в биологической и социальной иерархиях. В упомянутом выше интервью Ульвен довольно резко отвергает принцип «человеческой исключительности» (Ж.М. Шеффер): «<…> нам никуда не деться от основополагающего принципа — все мы живем с биологическим интеллектом рептилий. Или даже одноклеточных животных, которые хотели одного: выжить. <…> нам надо обосновывать свое существование, пытаться придать ему смысл» [8]. Казалось бы, подобная бескомпромиссность должна была привести Ульвена к анархо-примитивистскому синкретизму a la Джон Зерзан, но он не готов принять эту и подобные ей объяснительные модели, едва ли не с сарказмом говоря о «беспомощном антигуманизме». В мире Ульвена проблема субъекта не может быть снята автоматически, он существует в универсуме филогенеза, неподвластном кантовским априорным формам восприятия, с разработкой которых связана одна из самых неколебимых телеологических стратегий в европейской мысли. В частности, сильной метаморфозе в поэзии Ульвена подвергается время, обнаруживающее свою непредсказуемость и нелинейность: точка далекого прошлого и текущий момент накладываются друг на друга, образуют временную аппликацию, которая и является точкой актуального настоящего в текстах Ульвена. Это проявляется как на вполне обозримом уровне:
За июлем —
январь. (c.48),
так и в рамках более широкого горизонта:
чтобы стоять неподвижно
здесь
и ждать, пока
бесследно
родишься. (c.75)
В мире Тура Ульвена — который, напомню, был внимательным читателем Беккета — цикл человеческой жизни также претерпевает метаморфозу, меняющей местами смерть и рождение, на которое субъект только и может рассчитывать как на окончательное избавление от все глубже втягивающих его в мир свойств.
Апофатическая замкнутость на «элементарных условиях» существования в переполненном информацией мире, требовала от Ульвена специфического эстетического решения. Несмотря на сюрреалистический бэкграунд, он почти не прибегает к изощренным стилистическим решениям (или виртуозно вплетает их в структуру текста), создавая конспективные тексты-иероглифы, представляющие лишь скелетированную схему поэтической фабулы, реконструкция которой может вызвать известные затруднения (при этом, его тексты вполне доступны). Так, например, в раннем тексте под названием «Поэт» Ульвен тематизирует характерную для него сцену письма:
Пользоваться ручкой и бумагой он перестал давно. Вместо этого он выпускает мириады маленьких черных муравьев на белую мраморную плитку — так почти само собой появляется новый язык. Важно только в нужный момент залить жидким стеклом рисунок письма. (c. 17)
По сути, Ульвен описывает похожую на изготовление ранних фотографий химическую операцию, в результате которой из довольно ограниченного набора почти никак друг с другом не связанных элементов конденсируется смысл: «белая мраморная поверхность», принимающая «мириады черных муравьев», и особенно «жидкое стекло», вызывающее в памяти разнообразные составы (коллодий, желатин), закрепляющие фотографическое изображение на различных поверхностях в середине позапрошлого века, считающейся теоретиками медиа в диапазоне от Вальтера Беньямина до Вилема Флюссера точкой отсчета современности (модерности), чьим «симптомом» и было возникновение и ускоренное развитие фотографии [9]. Согласно Флюссеру, фотографический (он называет его техническим или, в другом переводе, техногенным) образ имеет магическую природу, но на территории современности, в постисторическое время «магизм» имеет отчетливо секулярный характер, оказываясь не мистическим переживанием, но когнитивной способностью зрителя (читателя) собирать разрозненные элементы изображения (текста) в единое целое. Тем не менее, представляя свою философию фотографии, Флюссер постоянно возвращается к понятию ритуала, что позволяет провести прямую параллель с текстами Ульвена, в которых часто возникает описание инсталляций, образующихся в результате непредсказуемого соединения профанных объектов:
Тихо
в зале.
Челюсть,
выкопанная из земли
склонилась
над микрофоном
и ревёт
вымершим
голосом
ледниковых времён. (c.65)
Это программное, часто цитируемое стихотворение Ульвена показывает, что в основание своих инсталляций он кладёт отсылающий к археологии объект, призванный раздвинуть длительность, в которой пребывает субъект, до бесконечности. Наряду с черепом это может быть и «бурая кость», в стихотворении «Ars poetica» противопоставляемая центральному символу романтической культуры:
Ищешь
голубой цветок
<…> находишь
в итоге
бурую
кость
<…> (с. 277)
Действительно, стремящегося запечатлеть встречу до- и постисторического времени Ульвена по праву можно назвать поэтом-археологом, с той лишь разницей, что инкрустированные в его тексты твёрдые объекты не могут свидетельствовать о культуре и истории прошлого. Вместо находящегося в перманентном становлении и проявляющего «небесное в земном <…> связывающего конечное и бесконечное» [10] голубого цветка Новалиса, Ульвен находит нечто иное, «бурую кость», у которой, так сказать, совсем иной семантический ореол. Но речь не только о снижении образа, указывающего на крах романтических представлений об искусстве в мире после Второй Мировой войны — это лишь самые общие представления о культуре второй половины прошлого века, в целом, конечно, коррелирующие с интровертно-мизантропической оптикой Ульвена. Стремясь порвать с обуславливающей символическую иерархию миметической логикой, он настаивает на имманентной фактичности костно-черепных образов, вокруг которых часто центрируются остальные элементы его собирающихся в пространные циклы фрагментов. Наряду с ними в этот ряд может быть включен и часто возникающий в текстах Ульвена камень, который несёт за собой длинный шлейф символических значений per se, но его материальная природа отсекает возможность трансцендирующей интерпретации. Грубо говоря, в мире Ульвена камень и череп это просто камень и череп. Можно сказать, что перед нами довольно необычный вид руин, не способных выполнять аллегорическую функцию, так как прошлое, которому они вроде бы должны принадлежать, невосстановимо. Поэтому попытки «бесследно родиться» откладываются, вместо этого возникает текст об ограниченности пространственного (исторического, географического) ареала человеческого животного. Тексты собираются в циклы, а циклы в книги, несущие холодную весть о существовании без иллюзий.
[1] Ульвен Т. Избранное: Стихи / Пер. с норвежского И. Трера и Д. Воробьева при участии М. Нюдаля и Г. Вэрнесса. — Кноппарп; Чебоксары: Ariel, 2010. — 252 с. — (Серия «Моль»)
[2] Ульвен Т. Расщепление: Роман / Пер. с норвежского Н. Ставрогиной под ред. С. Снытко. — М.: Носорог, 2020. — 128 с.
[3] Помимо представительной стихотворной подборки и эссе «Непрограммируемое» самого Ульвена, данный блок включал эссе Сигурда Теннингена о его творчестве и посвященную роману «Расщепление» рецензию Ольги Баллы.
[4] Русский перевод интервью, вошедшего в рассматриваемую книгу, впервые был опубликован в сетевом журнале Textonly. Хаген А., Скрам Хёль С. Интервью с Туром Ульвеном. Перевод Нины Ставрогиной // Textonly, №42 (№2, 2014)
[5] Хаген А., Скрам Хёль С. Интервью с Туром Ульвеном. Перевод Нины Ставрогиной // Textonly, №42 (№2, 2014)
[6] Такер Ю. Ужас философии: в 3 т. Т.2. Звездно-спекулятивный труп. — Пермь: Гиле-пресс, 2017. C.135
[7] Ibid. C.126
[8] Хаген А., Скрам Хёль С. Интервью с Туром Ульвеном. Перевод Нины Ставрогиной // Textonly, №42 (№2, 2014)
[9] Впрочем, я не хочу проводить тождества между этими средствами или утверждать, что Ульвен переносил принципы фотографической эстетики в поэтическое творчество. Скорее, речь об аналогии.
[10] Вольский А.Л. Герменевтика символа «голубой цветок» в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген».
Движение к человеку: о книге Тура Ульвена «Исчезание равно образованию»
Ульвен Тур. Исчезание равно образованию — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; Knopparp: Ariel Förlag, 2024
Издательство Ивана Лимбаха совместно с издательством Ariel выпустило книгу стихотворений и эссе Тура Ульвена «Исчезание равно образованию» в переводе с норвежского Дмитрия Воробьёва и Нины Ставрогиной.
Тур Ульвен — один из самых известных норвежских авторов конца двадцатого века. В то время, когда мир уже насквозь просматривался постмодернистским взглядом, Ульвен продолжал модернистскую линию наблюдения за многообразием сил, организующих мир, — беспристрастных, стоящих вне времени.
И всё же мы должны
подглядывать
за тем, что было там
до открытия
глаза, за тем, что останется там
после того как глаз
увидит своё.
«Исчезание равно образованию» композиционно использует эту особенность авторского художественного мира, выступающего отражателем того, что существует до рождения и после смерти. Движение от образа автора, доводящего свою скрытность едва ли не до эпической связи героя с пространством, когда одно без другого немыслимо, к личности художника и поступательная смена дистанций становятся главными принципами расположения текстов.
Первая часть книги полностью посвящена поэзии. Она состоит из прижизненно опубликованных пяти поэтических сборников и отдельного блока, в котором собраны свободностоящие стихи. Следом идут переводы «Из посмертно изданных книг» — их тоже пять. Во второй части в хронологическом порядке представлены эссе, а завершает книгу перевод единственного интервью, которое Ульвен дал Альфу ван дер Хагену и Сесилии Скрам Хуль в 1993 году — за два года до смерти.
Произведения Тура Ульвена уже
переводились и издавались на русском языке. В 2020 году в издательстве
«Носорог» вышел его единственный роман «Расщепление», а в 2010 году было издано
«Избранное» с переводами стихотворений на русский и чувашский языки. «Исчезание равно образованию» оказывается в этом ряду
наиболее концентрированной по содержанию книгой. Взаимосвязь
художественного и исследовательского поиска наглядно выражена в сборнике
последовательностью текстов: эссеистика
следует после поэзии. Так первый опыт прочтения освобождается от
заданных автором эстетических формул. Исключенность прозы из книги объяснима и
задачей — навести фокус на Ульвена как поэта — и тем, что его единственный
роман уже издан отдельно.
Двигаясь от поэзии к эссе, Ульвен осуществляет
медленный переход от искусства к буквальному разговору о нём, от монолога к
диалогу. В предуведомлении к беседе с Хагеном и Хуль Ульвен объясняет:
«Интервью всегда становится комментарием. Написанное должно уметь обходиться
без авторских пояснений». Неприятие сокращенных дистанций через посредника
снова возвращает нас, но уже мысленно, к идее безличной организации мира и,
соответственно, текста.
Послесловие становится заключительным элементом, который закрепляет смысл композиции — это текст норвежского поэта и переводчика Гуннара Вэрнесса «Тур Ульвен: тексты, контекст, рецепция» в переводе Дмитрия Воробьева. В «Избранном», опубликованном в 2010 году, этот же текст является предисловием. Трехчастный исследовательский взгляд на творчество Ульвена, историю норвежской литературы и то значение, которое Ульвен обрел в ней, по композиционной логике нового сборника становится взглядом с самой дальней дистанции. Его невозможно было бы поставить в начало.
«Исчезание равно образованию» организовано принципом обратной пропорциональности: чем больше дистанция от автора, тем ближе его художественный мир, и чем ближе автор и его реальность, тем значительнее дистанция между читателем и поэзией. Но разность расстояний вовсе не подразумевают исключение одного из другого. Принцип оксюморона здесь, как и в поэзии Ульвена, создает сложную систему, в которой тесное сосуществование противоположностей позволяет обратиться к миру во всей его полноте:
Если ты ждешь,
что он повернется
к тебе,
то, может, когда-нибудь и повернется,
кто его знает.
Шум внутри черной раковины: о книге Осе Берг «Тёмная материя»
Берг Осе. Тёмная материя. — М.: SOYAPRESS, 2024
В поэтическом сборнике «Тёмная материя» Осе Берг изображает гротескные мутации человеческого тела, эрозию молекулярных и экологических ландшафтов, создавая новую гибридную форму биологической научной фантастики — экопоэзию.
Название «Тёмная материя» присваивает книге как бы удвоенный смысл: изначально под «материей» понималось именно неоформленное вещество, которое по этой причине не могло не быть «тёмным».
Латинское materia (строительный лес, материал, ткань) является семантической калькой с греческого hyle (лес, дерево, материя). Например, Аристотель под hyle понимает «ещё не принявшую форму реальных вещей "первоматерию", которая в качестве голой, ещё не осуществлённой "возможности" обладает единственным свойством — способностью принять определённую форму». Как и тьме, материи чуждо различие, поэтому в ней нечего разглядеть, негде провести границу.
Книга Осе Берг открывается прологом, в котором выделены две финальные строки:
Склеп раковины, материалы дышат.
Тьма материи бездонна.
Основным разделам книги также предшествует пролог, в котором повторяется формула с упоминанием «материала»: «материалы дышат», «материалы рвутся наружу», «материалы железной дланью управляют своими лицами…», «материал ждёт своего часа». Тьма материи заполнена слоями материалов со своей волей, выступающих на свет в форме вещей.
В этом контексте нельзя не упомянуть ещё одно «соучастие с анонимными материалами» в жанре theory fiction, а именно «Циклонопедию» Резы Негарестани. Как и «Тёмная материя», «Циклонопедия» — это спекулятивное повествование об апокалиптических тенденциях нефтеполитики, в котором важную роль играют «материальные посредники». Например, таким посредником для Негарестани выступает сама нефть как участница экономического обмена: «События конфигурируются сверхпроводимостью нефти и глобальными петродинамическими потоками до такой степени, что нефть оказывается в большей степени влияющей на разворачивание и совершение событий, нежели время». Для Берг посредником выступает материал как таковой, — «материал-машина», выведенная на «интерфейс» реальности: «Как встречу я взгляд другой материал-машины?»
«Тёмная материя» и «Циклонопедия» используют гибридный наукообразный язык для описания процессов на стыке реальности и вымысла. Негарестани описывает это термином «ксенопоэтика», характеризующим творчество из искаженных материалов.
Знаки — нефть письма. В качестве визуального элемента залитые чернилами страницы сборника напоминают об углеводородной природе всего, что не пропускает свет. Для передачи информации фотонам нужно совсем немного темноты. Солярная экономика прекрасного основана на принципе получения максимального количества различия при минимальных материальных затратах. Пока онтологический рынок функционирует, «тьма материи» накапливается медленнее световых скоростей развития и роста, но, стоит машине различия сломаться, органы речи затопит «чёрной пеной» графических нефтепродуктов. Тьма знака расползется по странице сплошным бесформенным пятном, а вывернутое наизнанку письмо «белым по чёрному» лишь усугубит последствия экологической катастрофы.
Книга Осе Берг написана в пространстве неразличимости, из которого «высосано» время: «Чёрная дыра здесь притягивает к себе время». Время и свет — две величины, «конец» которых знаменует завершение существования мира таким, каким его воспринимает человек, — в виде последовательности материальных форм. В свою очередь «начало» мира также связано с возникновением оформляющей хаос системы отсчета, прежде всего небесных светил. Таким образом, скорость распространения света является упорядочивающей шкалой для разлитого в пространстве материального опыта, за пределами которой материалы предоставлены сами себе:
Армагеддон, Икстлан, Вальпургис, Ктулху, смерть тюленя. Въело себя в меня и сквозь меня. Пронеслось смертельно-тихо по людским венам. Мы думали, что властны над волей, часовой механизм материала вгрызался, выламывая наше млекопитающее яйцо из времени.
«Тьма материи» парализует зависимое от производства различий зрение. В вязком, тягучем пространстве отсутствует дистанция для наблюдения. Ландшафт переживается телесно, как органический процесс: «Буду тащить это тело из желатина, буду подхлёстывать эту не-форму, буду продавливать этот организм из газа через серые области». Основными средствами навигации в заражённом материей мире становятся частицы и частоты, запахи и звуки: «Конгломерат частиц на выдохе. Слой стекла в осадке голоса». Обоняние и слух частично берут на себя функции зрения: «По слегка едкому запаху я могла бы определить местонахождение фокуса линзы».
Стекло характеризует звук как материал, в главе «Рентген» с его помощью описано звучание лемуров: «Лемуры мерцающе-сини. Их резкие стеклянные звуки проявляются только на редких частотах. Звуки в своей совокупности смертельны — вырвут барабанные перепонки у нас из ушей, если мы крепко не сожмём бифокальные мышцы». Лемуры — призрачные существа (от лат. lemures мн. ч. «души умерших»), чей род намного старше человеческого. В этом описании читается отсылка к последнему роману Уильяма Берроуза «Призрачный шанс», также посвящённого теме рукотворного апокалипсиса. Главный герой романа Миссьон, которого можно назвать первым экологом, исследует мир лемуров Мадагаскара: «Теперь Чебахаки [лемуры] видели его, и издавали согласные вопли, разрывающие барабанные перепонки». «Призрачный шанс» известен в том числе благодаря творчеству группы CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), активными участниками которой были философы Ник Лэнд и Сэди Плант, — родоначальники гибридного письма. В статье «Лемурийская временнáя война», написанной в жанре литературной мистификации, Берроуз представлен как борец с поработившим землю Тайным Советом: «появление этой организации было ответом на ощущение ужаса, вызванное тем, что время распадается на части и <…> спиралевидно "выкручивается" из-под контроля. Спираль <…> была омерзительным символом несовершенства и изменчивости».
Образ «чёрной раковины» или «спирали» — один из постоянных рефренов в книге Берг:
Спираль соборы лабиринты
И чёрной раковины шахта
из тьмы материи.
Повествование оборачивается извращенным эволюционным движением по спиралевидной траектории «себя в меня и сквозь меня». Вначале мы видим организм «медленно плывущий сквозь тишину чёрной раковины». В результате языковых экспериментов он деформируется и мутирует, преодолевая точку невозврата, прорывается за пределы раковины:
смотрите же, как вырываюсь
теперь из раковины чёрной.
Парадоксальным образом новый биологический вид также принимает форму раковины, развиваясь уже внутри категории авторства:
и буду парить одна во мне в чёрной раковине, Осе.
Научно-фантастическая экопоэтика Осе Берг превращает последствия антропогенного изменения климата в тревожный поэтический (сюр)реализм, анатомически намечая новый язык для описания мира, вышедшего из-под человеческого контроля.
Петроглифы черепных окаменелостей: геймплей & прохождение «Тёмной материи» Осе Берг (спидраннинг)
Говоря о формировании поэтики Осе Берг, одна из переводчиков «Тёмной материи» — Надежда Воинова — отмечает: «В 1980-е творчество Берг испытало влияние сюрреализма, Батая, Маркиза де Сада и Антонена Арто, а в 1990-е — Сильвии Платт, Кристины Ульссон и Анн Йедерлунд. Важную роль в формировании ее галлюцинаторного, вязкого "вегетативного" языка сыграло знакомство с известной в феминистских и авангардистcких кругах 1940–50-х годов поэтессой и писательницей Рут Хилларп, ставшей для Осе Берг старшей подругой и наставницей, а также влияние фильмов ужасов и романов Г.Ф. Лавкрафта, которого поэтесса переводила многие годы» [1]. Также среди повлиявших на Берг авторов <в том числе озвученных самой поэтессой> можно отметить Гастона Башляра, Артура Кёстлера, Харри Мартинсона, Гийома Аполлинера, Поля Дельво и др.
«Тёмная материя» была написана ещё 1999-м году, но темы книги будто бы становятся всё более актуальными из-за социальных, экологических и других катастроф 2010–20-х годов, на фоне которых в издательстве SOYAPRESS вышел русскоязычный перевод сборника.
Рассуждая о генезисе «Тёмной материи», можно вспомнить сюрреализм, weird fiction, биопанк, survival horror (годы написания книги совпадают с расцветом данного игрового жанра), философию и разного рода научную литературу.
В интервью Михаилу Бордуновскому авторка раскрыла несколько биографических подробностей, оказавших влияние на её творчество. Например, она отмечала, что её семья почти не уделяла внимание языку(-ам), поэтому, пытаясь разобраться в теме, Берг обратилась к поэзии, которая подсвечивала больше речевых нюансов. В случае с «Тёмной материей», она изучала большое количество научной и наукообразной литературы, касающейся горнодобывающего дела, переработки стали, геохимии, тонкозернистых пород, обработки металлов и других (в частности, непрофессиональный перевод таких сложных текстов на шведский — источник новояза в её стихотворениях).
Получается, Осе Берг — что в случае с языком, что в случае с научной литературой, предварившей «Тёмную материю», — обращается к совершенно неизвестной для себя области и пытается работать с ней как поэтесса, открывая её <для себя> и создавая параллельно этой <часто научной> теме поэтические миры. Говоря на презентации книги о поэтических мирах, авторка отмечала, что они — первичны; по её словам, она видит их настолько ясно, что может перенестись в них и быть там буквально. Как говорит Берг, она будто попадает в компьютерную игру, где может видеть разные элементы и находить новые, но для их описания нужны слова — и здесь приходит музыка.
Тексты Осе Берг, действительно, аудиовизуальны и будто бы апеллируют к эстетике и механике компьютерных игр. «Тёмная материя» словно начинается с вступительной заставки, повествующей о возникновении мира, в который мы постепенно спускаемся через шахту [2].
Раны расколоты одиночеством между сегментами тяжёлого организма, медленно плывущего сквозь тишину чёрной раковины. Искажённый ген проделал путь сквозь хаос, небольшой разрыв вытянулся наружу через фрактальные системы, образовав цепочки дефектов, зарядив неподвижность космоса всё более грубыми ошибками, чтобы, наконец, взорваться необратимой и бесконечной внутренней деформацией.
<…>
У нас, относящихся к одному виду, всегда был внутренний крен, хотя даже запах не особо отличался, и мы вполне могли маневрировать естественно. И потому мне было очень легко определить степень тонкозернистости тех экземпляров, с которыми я столкнулась. Некоторые отступили, и я это отметила с тихим уважением.
Условная предыстория напоминает пролог культовой отечественной игры «Вангеры», вышедшей в 1998 г., в котором рассказывается, что «знанием, наиболее сильно повлиявшим на человеческую эволюцию, явилось устойчивое туннелирование пространства, отразившее давнюю мечту проникновения в иные миры» [3]. Люди, получив особые технологии, исследовали реальность, пока не наткнулись на инсектоидных существ криспо: «конфликт софти (людей — прим. Л.Л.) и криспо опрокинул генетические структуры обеих рас, обеспечивавших хранение и воспроизведение организмов, обладавших устойчивыми источниками жизненной энергии. Уже в следующем поколении биомолекулярный хаос стер в цепи всех первичных софти и криспо, образовав ужасающий в своем уродстве Суп Существ» [4]. Суп Существ — страшный период жестоких мутаций, в результате которой возникла Потерянная Цепь Миров.
«Тёмная материя» тоже изрыта туннелями («В глубинах под нами магистральная труба Гольфстрима у жил земли медленно застывает в туннельную тубу из вечно прочного первобытного металла», «Скользи в тяжёлый тоннельный материал поцелуя», «Суда из неслыханных вод проваливаются сквозь туннели и трубы», «Машина поисковая машина ищет в муках по туннелям и трубам» и др.); кажется, постапокалиптические <по новому завету> пространство книги, подобно вселенной «Вангеров», представляет собой цепь миров, населённых в том числе мутантами: некими пост-человеческими агентами — как прокомментировала на презентации сама Берг — постоянно меняющими форму на молекулярном уровне: «Субмикроскопические зародыши кристаллов во время формирования раковины, слышен звон и потрескивание крепких ядер, переливающихся в более тяжёлую массу. <…> На линии кожи зёрна соединяются с зёрнами и пригвождают нас друг к другу в форме стали. Словно отлитые одним блоком, мы войдём в тишину материалов» или «Мы живые стояли на краю и чувствовали, как рассасываются ионы, как магнетизм выдирает клетки из оболочек».
Мир «Тёмной материи» населён как привычными для нас существами, выжившими после, как нам кажется, подразумевающейся экологической <или иной> катастрофы (ящерицами, птицами, цикадами, муренами, улитками, зайцами, людьми и проч.), так и различными монстрами, «мерцающе-синими» лемурами [5], стеклянными оленями, нефтяными конями, жалящими светящимися туманами, пинхедами [6] и др.
Лирическая героиня представляет собой нечто пост-человеческое; нечто, способное менять форму: «Маховые перья пальнули кроваво из моей руки, я же тёмными плавниками прочесала воду», «Теперь я засну моё птичье тело в пух», «Я рассматриваю слои, чтобы найти ядро моей плазмы, пропитанной соками, чтобы найти ядро телесной плоти, несмотря на внешнюю, окружающую плоть, твёрдую поверхность нагого тела, подобие человека — здесь, внутри посинения, превращающегося в растение», «…голубой эмали моего лица…», «…я, как маленькая ящерица <…> Такая субтильная, что нервы просвечивали сквозь эмбрионально-голубую кожу», «Буду тащить это тело из желатина, буду подхлёстывать эту не-форму, буду продавливать этот организм из газа через серые области. <…> Маленькая русалка, отлитая из морской пены, — так я тащу мои длинные покровы, слои эластичного хряща, скользких, мерцающих мембран, хлорофилл. Жабры трепещут, сияя глубоко внизу в этой пасти из ткани…»
Вся физика «Тёмной материи» — в ускользающих формах. Пространство книги тоже изменчиво, и часто неясно, где проходит граница между плотью и местностью («Трещины нижних горных цепей систематически проходят сквозь перекладины костного скелета. В стене рядом со мной открывается дыра. Стальное лицо вырывается из стены рядом со мной. Ты механически вырываешься из ткани последней стены» или «плоть становится растением, становится камнем»); где заканчивается живое и начинается неживое: «Машины шипят в пещере <…> Машины вгрызаются в шахту. Где человек вырывает ремни из своего слабого мускульного сердца. Где Оно подползает в прокисших лохмотьях, в блевотине, пенясь кровью, причмокивая языком», «Я упираюсь мышечными связками в машины, бьющиеся глубоко в ране», «Руки машины ищут прогрызаются в не-массе пустого Ничто <…> Здесь череп сияет в память о чертах лица машины», «Насколько мёртв этот чёрный камень? / Как встречу я взгляд другой материал-машины? / Там и здесь проходят границы между различными способами бытия жизненной формой». Осе Берг превращает всё окружающее пространство в гигантский живой организм, в котором непонятно, где заканчивается живая материя и начинается металл.
Примечательно, что машины в «Тёмной материи» тоже живые наравне с персонажами и пространством: «Осколок, поворот, раскол в структуре: ghost in the machine» (выделено полужирным у Осе Берг. — Л.Л.), — повествует космогонический «пролог». «Ghost in the machine» вступает в конфликт с декартовским дуализмом тела (машины) и души (призрака), а также предлагает вспомнить «Дух в машине» [7] — книгу Артура Кёстлера [8], в одноимённой главе которой автор рассуждает о биологический и умственной эволюции, о потенциале живой материи и человеческого мозга: «…читатель, возможно, начнет протестовать, считая, что это кощунство называть симфонии Брамса и Ньютоновы законы движения актом самовосстановления и сравнивать их с мутацией головастика, регенерацией органов саламандры или восстановлением здоровья пациента путем психотерапии. Что касается меня, то я верю, что этот полный взгляд на биологическую и умственную эволюцию выявляет работу творческих сил по всей линии до оптимальной реализации потенциалов живой материи и человеческого мозга — универсальная тенденция к "спонтанно развивающемуся утверждению более высокой разнородности и сложности" [9]», — слова Кёстлера звучат провокационно и созвучно с «Тёмной материей» Берг.
В частности, эпиграф к части «Интерфейс» гласит: «Состояние неравновесия может спонтанно превратиться в состояние возрастающей сложности», — Осе Берг будто развивает мысль американского нейробиолога Чарльза Джадсона Херрика, занимавшегося сравнительным исследованием нервной системы позвоночных. В приведённой цитате есть ещё одна наукообразная подвязка — поэтесса вводит нас в разомкнутую систему; а когда система размыкается, законы термодинамики перестают действовать.
По этому поводу Кёстлер пишет: «Евангелием плоскостной науки был знаменитый второй закон термодинамики Клазиуса. <…> Только в недавнее время наука начала приходить в себя от гипнотического эффекта этого кошмара и осознавать, что второй закон относится только к специальному случаю так называемой "закрытой системы". <…> Все живые организмы, однако, есть "открытые системы", т.е. они поддерживают свою сложную форму и функции через постоянный обмен энергией и материалом со своей средой. Вместо того чтобы "идти к концу", подобно механическим часам, теряющим энергию через трение, живой организм постоянно "строит" более сложную субстанцию из субстанции, которая питает его, вырабатывая более сложные виды энергии из энергии, которую они получают, и более сложные модели информации — восприятия, чувства, мысли — из сырья, полученного его рецепторами» [10]. Этот отрывок иллюстрирует, как функционирует мир «Тёмной материи» — в оппозиции с иерархичностью и теми же плоскими онтологиями. В том числе поэтому в тексте Осе Берг «духовное» и «механическое» — родственные атрибуты, а превалирование одного над другим зависит от изменения уровней (согласно иерархическому подходу, о котором пишет Кёстлер).
Тем не менее интерпретировать «Тёмную материю» и ответить на вопрос «что здесь происходит?» не представляется возможным, ведь поэзия Берг не замкнута на сюжете — авторка будто бы создаёт открытое выставочное пространство; причём не плоское, а с многочисленными тайными порталами/туннелями. Книга подобна визуальному приключению, в ходе которого мы можем наблюдать различные артефакты и экспонаты, скользить (этот глагол достаточно часто употребляется в тексте) по узким лабиринтам, как по кишечнику Земли, вместе с кровью и нефтью в атмосфере анонимного ужаса и анонимной плоти.
Мы уже бегло упоминали биопанк и survival horror, но теперь можно привести конкретный пример — Scorn, неоднозначно воспринятую игру от небольшой сербской студии. Мир Scorn, подобно миру «Тёмной материи», задуман как биомеханический, живой, без чётких границ: коридор/пищевод, двери/зубастые пасти, колонны из мышц и костей. Для Любомира Пеклара, одного из разработчиков, было важно, чтобы игра рассказывала историю через окружение — мир и атмосферу [11]. Scorn, действительно, выделяется мощнейшим арт-дизайном, очевидно вдохновлённым творчеством фантастического реалиста Ханса Руди Гигера, работавшего над визуальной составляющей фильма «Чужой».
Осе Берг тщательно прорабатывает пространство, а также называет отдельные его фрагменты (например, часто повторяющийся топоним Довре, а также Нидарос, Даудботн, утёсы Скреа, гроты Скреа и др.) и существующих в пространстве (Иво, Александр, Захрис и т.д.) — в мире «Тёмной материи» прослеживается география, действующие лица и даже само действие, в т.ч. глобальное и намекающее на сюжет, выходящее за пределы одного стихотворения:
ОКУЛЯРНАЯ ВЯЗКОСТЬ
Оптические обманы расползаются.
Куда же нам дальше?
За криком внутри зверя вдоль воды.
За криком окулярного зверя.
Погрузиться внутрь через это тяжёлое галó.
Текст напоминает кат-сцену перед миссией: «тяжёлое галó», через которое планируется погружение — часть книги и, видимо, конкретное место в мире «Тёмной материи». По словам редактора книги Даниила Небольсина, пространства здесь «не имеют чёткого сюжета и лишены линейности "классического" поэтического сборника: все фрагменты взаимозаменяемы» [12], — действительно, образы и сюжеты искажаются, смешиваются, что отражено и во внутренней логике текста: «Здесь Иво сменит форму на Александра».
Поэзия Осе Берг двойственна, как и сама природа: одна её сторона повёрнута к свету и поддаётся интерпретации через культуру; другая, «тёмная материя», существующая за пределами культуры и интерпретации, отвёрнута в тень; это порождает естественный конфликт, но не приводит к его разрешению, оставляя лишь сгущённое напряжение.
Склеп раковины, материалы дышат.
Тьма материи бездонна.
[1] Воинова Н. Предисловие к подборке Осе Берг. — Ф-письмо. — 2019. — 2 мая.
[2] «Шахта» — название первой части сборника.
[4] Там же.
[5] «Гипотеза Лемура» отсылает к Лему́рии (англ. Lemuria) — континенту, получившему популярность благодаря биологу Эрнсту Геккелю, предположившему в 1870 году, что Лемурия могла быть прародиной человечества.
[6] Пи́нхед (англ. Pinhead; от pin «булавка» и head «голова») — герой серии фильмов «Восставший из ада» (1987).
[7] «Ghost in the machine» также может отсылать к седьмому эпизоду первого сезона «Секретных материалов» (1993) и четвёртому альбому британской рок-группы The Police (1981).
[8] Кёстлер А. Дух в машине. Пер. И.Н. Лосевой // Вопросы философии. — 1992. — № 3. — 93-122 с.
[9] Herrick CJ. The Evolution of Human Nature. — N-Y., 1961. — С. 51.
[10] Кёстлер А. Дух в машине…
[11] PC Gamer. Behind the beautifully grotesque art of Scorn.
[12] Небольсин Д. Искажение, разрушение и заражение.
В трещинах дом: о книге Осе Берг «Тёмная материя»
«Тёмная материя» Осе Берг поэтически воспроизводит бытие небытия через совмещение своеобразных чертежей различных форм существования материи, подсвечивая холархическую структуру взаимоотношений микро- и макрокосмоса. Нелинейный сюжет имеет множество монтажных склеек — главы и некоторые эпизоды прорежены чёрными листами. С одной стороны эта формальная особенность бумажного носителя поддерживает основную тему произведения — в трещинах и швах разливается когезит анти-волевого Ничто, а с другой — создаёт кинематографический эффект смены плана или хронологического/топологического скачка в событиях. Трансмиссию сюжета обеспечивают четыре действующих лица — Захрис, Иво, Александр и сама Осе, которая появляется ближе к финалу — в главе «Иезекииль» они сложены в своеобразного тетраморфа. Появляясь по очереди, они являются аллегорией четырёх стихий (земли, воды, воздуха и огня) и одновременно агрегатных состояний материи (твёрдое тело, жидкость, газ и плазма) — по возрастанию степени свободы частиц и увеличению пустотности их структуры. Но главным героем книги является бесформенный анти-материальный сгусток — ghost in the machine, отсылающий к одноимённой книге Артура Кестлера — нечто вроде фрагмента альтернативного генетического кода, по памяти ищущий своё лицо — подобно тому как нейромедиаторы ищут в организме белковые мишени для выработки микроразрядов чувств. После попыток работать со слишком плотным металлом и камнями приют был найден в пустой раковине древнего головоногого — как в полости поражения и проигранной битвы за существование, как в сосуде сдавшейся плоти.
Такой ракурс восприятия от лица отсутствия дарит нетривиальный способ наложения разных масштабов всего-и-сразу друг на друга и убедительно указывает на их единство: организмом, сотканным из ничего, всё живое воспринимается как внутренние органы тела, железы, уплотнения, например: «птичьи фурункулы», «комки тяжёлой мошоночной плоти» перепрыгивающих по ветвям деревьев белок; гематома становится растением, бактерия — окутанной мантией воздуха картой ландшафта. Персонажами третьего плана становятся запахи, гормоны и химические процессы — с ракурса материи всё это было бы художественным приёмом — метафорой, лишь намекающей на метафизическое родство вещей. Но при взгляде с ракурса не-существа в тех же конструкциях возникает ещё и физическое измерение, проявляется единство материи на разных уровнях — поскольку пустота одинакова и в межатомных расстояниях, и в бытовом пространстве между ограниченными кожей оболочками биологических особей, и в межзвёздном вакууме среди астрономических тел. Поэтому книга читается как написанный художественным языком странный научный трактат, в котором множество терминов соседствует с квазинаучными неологизмами вроде «нобусфер» и «мортерий». Сюрреалистическая метафорика здесь чем-то напоминает иллюстрации к асемическому трактату «Codex Seraphinianus» Луиджи Серафини с его амфиболическим сращиванием самых разных качеств минералов, бактерий, растений и животных в один организм. Взаимоотношения художественного и не-художественного языков дополнительно воспроизводит сюжет отношений нематериального с материальным на уровне подхода к письму.
Теоретизация метафизического опыта, равно как и исследование измеримых явлений природы инструментами точных наук всегда ощутимо обедняют описываемый феномен, вынимая его из естественной среды и рассматривая вне контекста. Сталкивая два этих полюса и художественно обрабатывая научные термины под одной обложкой, авторка насыщает произведение уникальными эмерджентными свойствами.
Особо подсвеченным становится экологический аспект: коптящая над Землёй, «смесившей эмбрион до глины», болезнь промышленности, источник которой — современный человек — планета страдает, вынашивая свой плод. Перебирая одну за другой формы жизни, сгусток тёмной материи изучает границы соприкосновения с населяющими Землю телами — скользит по ним в поиске родственного, соразмерного себе дефекта, в пустоту которого можно встроиться. Этот процесс мучителен. Начавшись на пороге времён с цепи каскадных реакций в безжизненных минеральных структурах, он сменяет множество носителей разного происхождения: от пургаториуса — единственного уцелевшего после падения иридиевого астероида на Землю приматоморфа с монокулярным зрением, до эволюционировавшего в семейство приматов индри, и после безуспешных попыток прячется в глубине чёрной раковины.
Сохраняя в себе память о предыдущих организмах, сгусток начинает стремительно усложняться, найдя в качестве носителя первую особь человеческого вида — геолога Захриса, работающего на сланцевой дробильне небольшого скандинавского городка Довре. Попав в его руки, эта разумная субстанция чувствует в его теле искомый потенциал дома, но не узнаёт предельно деформированного языка материала, из которого сделан этот человек, поскольку пройденный ей онтогенез всегда шёл в пустотах между материей и в обратную сторону, регрессируя до чистого отсутствия. Тёмная материя усложняется гораздо быстрее своего носителя и в какой-то момент начинает состаривать и уничтожать его, множа внутренние дефекты и разрушая структуру его тканей. Захрис работал с камнем и потому его характер схож с кристаллической решёткой, очень твёрдой и хрупкой — и гибель Захриса по сюжету основана на механике разлома. Эта глава в основном насыщена терминами из геохимии (сланцы, базальт) и обозначениями промышленных зон (дробильня, доменная печь), а заканчивается она стихотворением-рентгенограммой, обнажающей внутреннюю структуру организмов — координаты пустот и уплотнений в твёрдых телах, что выводит сгусток к следующему носителю и, соответственно, на следующий уровень организации пустоты в материи.
Дрейф искажённого гена сквозь миллиарды лет хаоса по «внутренним системам пустотных люков Земли» выводит тёмную материю к Иво — тоже человеку науки, но изучающему природу на другом уровне. Он занимается исследованием кристаллических структур. Здесь из графика, подобного тем, которые обычно составляют по инверсированной дифрактометрической картине при изучении структуры кристаллов, возникает образ очертаний соборов (пики) и мостов (гало). Сама эта картина чем-то похожа на рентгенограмму из конца предыдущей части, а график после её обработки представляет собой зависимость интенсивности излучения от угла поворота проходящего сквозь вещество луча. Пики интенсивности по вертикальной оси на графике свидетельствуют об отражении света от атомов в узлах решётки, а гало говорит об аморфности вещества, то есть об отсутствии в нём чёткой структуры. Первые тексты четвёртой части — единственной из всех имеющей нумерацию — насыщены терминами из материаловедения (степень твёрдости, закалка балок) и кристаллохимии (зёрна перлита, нержавеющие карбиды). К концу всё больше начинают преобладать образы эластичных, вязких, упругих материалов (кожа, нефть, резина), что создаёт ощущение исчерпанности структурированного материала носителя и его разжижения — Иво, так же как и Захрис, изнашивается сгустком тёмной материи. Возникает узнаваемая логика хоррора наподобие «Чужого» — анти-материя эволюционирует и эта остывающая в глубине реактора жертва — не последняя: «Затвердевшее хочет жира. Материалы рвутся наружу».
После очередной монтажной склейки Иво сменяется на Александра — нового носителя стремительно эволюционировавшего сгустка пустоты. Обилие упоминаний растений, медуз и лекарств говорит, что он связан с биологией или биохимией — и здесь уже преобладают образы слизи, мягких тканей, жидкостей. Он собирает гербарии, готовит эссенции на цветках, выделяет порошки и трудится «над лицом Саскии Морены» — над рельефом саксонских гор из ледяной муки, разделённых рекой, и тем самым напоминает бедного журналиста из романа «Голод» Кнута Гамсуна, пишущего слишком сложные для читателей статьи и влюбившегося в красавицу с именем Илаяли. Пустоты организма Александра оказываются для тёмной материи тоже не вполне подходящими — у него поднимается температура, нарастает жар, он анестезирует мышцы, выводит из себя чужеродный яд через «проёмы их внутренней встречи» — борется с непонятными симптомами. Всë чаще в главе возникают запахи, собираясь в плотные удушающие составы. Узловыми образами здесь являются мускус и амбра — продукты отходов животных и некоторых растений, которые используются парфюмерами в качестве фиксажа. Эти вещества тоже несут в себе уникальные свойства и обладают потенциалом памяти — они связывают и удерживают ароматы в душистых составах. Но амбра — эндогенно синтезированная в тракте китов из непереваренных кальмаров — отторгается их организмом и затем самим морем на берег. Так же и мускус — вырабатываемый железами кабарги, ондатры или содержащийся в масле мирры, ладана и сосновой смоле — продукт избыточный и не нужен носителю для поддержания жизни. С ними сравним и сгусток тёмной материи, не нашедший своего анти-гравитационного ядра, он окружён полем анти-воли — все материальные объекты либо отторгают его, либо истощаются им, выходя «из другдругости тел». Так под вспышки гормональных фейерверков и симфонию химических процессов, мимо опустошённых ампул опиатов, в стихающей борьбе угасает и глубокий стук аорты Александра — его тело сдаётся и тёмная материя оказывается вновь бездомной.
Далее следует повтор вступительного фрагмента и после — глава под названием «Интерфейс», несущая в себе ключи к прочтению всей книги и отвлекающая от хоррор-сюжета. Разломы, трещины, пространство между слоями материи и «про-не-жутки» — это тесная область развития альтернативной ветки эволюции мыслящих анти-материальных организмов, желающих перерасти мир, находящийся в равновесии. Для анти-существ люди и материя настолько же нестерпимы и трудно проницаемы — их жизнь развивается на стыке границ, «на краю между пластами того, как всё устроено», а их анти-существование наполнено множеством вопросов к мирозданию, верой в счастье вещей, скрытых за своими границами. Искривлённое пространство, в котором существует материя, выделено страхом анти-материи — мера разбитости мира составляет ширину его реальности, и тёмная материя «несёт своё Ничто на массе Всего». Следом идут несколько вспышек из жизни анти-материи внутри оленя и зайца, внутри материалов и не-отношений друг с другом. Не-воля анти-материальных организмов не подразумевает общения — они не могут погладить не-животное, бытие небытия одиноко и тотально. Но оно дышит и стремится бесконечно расти, поскольку энтропия не требует волевых усилий — всё в мире само по себе стремится к распаду и лишь созидание требует сил — поэтому материя медленно теряет свою целостность, эмерджентность снижается с разрушением уникальных свойств частей, соединённых в макро-объекты. За счёт этого растёт мера тëмной материи. Энергия, выделяющаяся при разрушении связей в процессах гниения и разложения — пища для анти-существ, так они крепнут, вбирая в себя призрачные центры своих погибших носителей и общаясь с ними внутри себя. Метафорой общего анти-пространства на протяжении всей книги является огромное пустое «озеро дождей» Mare Imbrium в кратере на границе с тёмной стороной луны.
Каждая вещь находит себе укрытие во взгляде анти-вещи, расшифровывающей криптограммы падали, окаменелостей и шелухи. Местечко Довре постепенно заполняется тёмной материей, а её сгусток снова скользит в поиске нового носителя — и в композицию возвращается уже знакомый сюжет, но в этот раз он пойдёт по другому сценарию. Последняя глава книги состоит из четырёх ритмизованных стихотворений — в первых трёх мерцает память о Захрисе, Иво и Александре, в организмах которых не нашлось искомых лакун для анти-гена. Центральный образ последней главы — гермафродит — улитка, ищущая тишины и уединения. Так постепенно нарастает саспенс, и в объективе последнего стихотворения появляется сама Осе. Но далее следует неожиданный поворот — сгусток тёмной материи встраивается в неё как недостающий ген, происходит их полное слияние и разговор о чужеродности для них злой резистивной материи, о бескомпромиссности этого противостояния, о невидимой силе дефектов и анти-воли, об удушающей навязчивости всего материального. Это со-растворение имеет характер откровения — двойная природа синтезированной к концу книги героини «мы-Осе» обретает свободу одиночества внутри полой чёрной раковины. Она сворачивается в самой себе подобно тому, как свёрнута галактика Андромеды или последовательность белков в цепи ДНК — единство одиночества мира в разных масштабах служит здесь разрешающей нотой. «Мы-Осе» будто вбирает в себя всю тёмную материю городка Довре, спасая его жителей от разрушительного действия инородного анти-существа. Путь почти монашеского замыкания тëмной материи на одиноком поэте становится избавлением — его от сопротивления материи, остальных — от разрушительной пустоты.
Сюжетная канва книги, образованная сплавом средневеково-фигуративного и лавкрафтовски-анонимизированного ужаса, оборачивается метафорой внутреннего поиска авторкой чего-то недостающего в самой себе — этот поиск был развёрнут вовне. Как поделилась сама Осе Берг на презентации переведённой книги, имена Захрис, Иво и Александр принадлежат партнёрам, с которыми она искала единство, но не нашла — в книге их лица сюрреалистически смазаны и являются проформой для странности архетипических видов отношений вообще. Но как только она внутренне соглашается не искать недостающих частей в другом, исцеление настигает её — странным образом для ощущения собственной целостности героине не хватало отказа от его поиска. За счёт насыщенности естественно- и псевдонаучной терминологией — отчасти сакрализующей личное, отчасти подрывающей современный рационализм — авторка выводит из подсознания холодящее чувство соседства с альтернативными мирами. Следуя уже традиционной для вирд-литературы тенденцией проговорить хотя бы саму невозможность выразить проблему, Осе Берг попутно демонстрирует в том числе и мощь терапевтического потенциала письма. Перевод и издание «Тёмной материи» — безусловно значимое событие для современных поэтов — книга притягательна и вносит свой вклад в медленный, но ощутимо-настойчивый скандинавский поворот в русскоязычной поэзии.

