«Флаги». Первый номер
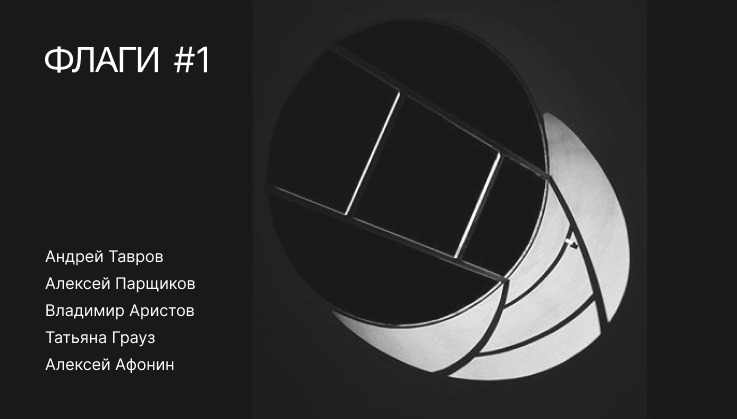
Содержание
Фото на обложке – Никита Караск | inst: @karaphos
Поворот
ПОВОРОТ
Вот человек идет, тебе надо остановиться, чтобы увидеть его
вместе с ангелом, который есть остановившийся во времени свет
вместе с деревом, отказавшимся от бегущих ног,
чтоб обрести себя, счесть свои внутренние кольца,
взвесить их разбег, уйти лицом в землю и в крону.
Чтобы увидеть человека, тебе надо остановиться,
как взвешенной в колодце воде,
тебе надо шагнуть на ту сторону Земли,
где снежинки, Брейгель, трамваи по бульвару и госпиталь в Сен-Реми,
и в тишине – ты увидишь. Скажу начерно, как собака,
хрипящая «мама» в цирке –
слишком сильны и грубы мышцы горла и языка
слишком шумная кровь бежит в сосуде для человеков,
даже звезды тише ее...
И в тишине ты увидишь идущего как матрешку,
где мельчайшее отзывается вовне величайшим объемом
который Данте называл Перводвигателем,
и остальные последовательно – от Эмпирея и до Земли –
те внутренние фигуры резные, что возрастая собой – уменьшаются сферами,
ибо самое живое и мельчайшее –
наружу огромно, оно и есть простор с вложенными вселенными.
А последняя, большая и внешняя, размалеванная фигурка,
это и есть ты видимый, явный, наглядный, устремленный к затверженной смерти,
запутавшийся в реакциях и формах, не могущий назвать воду ее тихим именем,
не могущий спеть в соловье, зажечься в звезде, воскреснуть в гниющем бомже.
Ты увидишь его как он есть.
Я говорил бы дальше, я бы показал тебе
любую вещь – корабль в береговом прибое,
птицу у тебя на плече, фабрику, изрыгающую смрад на город,
ночное кафе с посетителем, единственным и сутулым,
желтую утку, прилетевшую из Казахстана –
все это – та сторона Земли,
все это тихие шепоты, бессмертный смех, остановившееся время,
ветер в листьях каштанов, трамвай
и сердце твое вместо солнца.
Любая вещь вывернута – в ту сторону Земли,
любые глаза зажжены не для того, чтобы стать прахом,
или шекспировским жемчугом в глазнице утопленника,
все ветви мира – для пальцев глубоких твоих, мыслящих бездонным прикосновением,
прикосновением, преодолевшим мысль, как цеппелин в небе,
как прощающий тебя взгляд в спину или в глаза, здесь это – одно.
Гниющий в окопе солдат – вывернут в солнце,
дом престарелых – дом неподвижных звезд
снег и птица уже и сейчас живут среди Начал и Престолов –
вот мир, что вы отрубили, как хвост дога,
как лес мира, как деревья городов.
Мы тянемся стать лучом продолжиться и долететь,
дыша процентами, иномарками, банками, ставками, ипотеками,
поездами с миллионами тусклых экранчиков,
феминистскими разборками, танками и субмаринами.
Мы тянемся стать лучом, продолжиться и долететь.
Нащупать себя культей
увидеть свою спину
выпить сухую воду
Продолжится и долететь
выворачиваясь в безмерное и с нами идет птица лебедь или воробей.
не сходя с места.
Так пловец на дистанции переворачивается у стенки
и бассейн вместе с ним, и он плывет уже в другом мире,
но в той же воде, закидывая мускулистую руку в кроле
в живой воздух наполненный богами чистых соответствий,
и он здесь и не здесь
и он придет первым но
ему это уже неважно после переворота
только новое тело играет
меж звездами и тихой землей, как конь, как родник
ГОВОРИТ АХАШВЕРОШ
Я пришел из сиянья, чтобы снова в сиянье уйти,
говорит патриарх и наутро уходит,
еще там был иероглиф в конце «Что же это?»
Подкова лежит на дороге, и, чтобы цвела фиалка,
и голова кружилась от синего счастья, ощупывая пальцами лба землю,
пусть сложатся все слова языков в один мешок с глиной,
утративший голову, руки и ноги,
словно это сам язык – влажный, глухой, богомольный
(или это сова, что закрыла глаза и стала большой землей),
и пусть он боднет меня своей тупой мордой,
а я стукну в ответ тупой ладонью
и стану снова сияньем, свершеньем всего,
горой и ланью на склоне, и ланью.
И если это еще слова, то они вышли со дна,
откуда родом ты сам и кости ласточки и вздох черепахи.
Нас подняла на себе волна
и опустит в землю, но мы с ней пойдем дальше,
ничто никогда не начиналось,
как древо жизни Эц Хаим из своей же растет листвы.
Эни хэй! Эни арум ан.
Элшу энеза, энеза, очь.
Ожозель!
Халила хали гэй, хали гэй!
Вот удар моей пятки – пустота букв.
Что же это?
ЕГОРИЙ И ЗМЕЙ
Над Москвою-рекой равновесный полдень стоит,
а над Иерусалимом на чаше другой – Луна.
Рыба осетр волну, как чугун кипятит,
и всадник в себя сгустился, как в гул юла.
Дева лежит на ладони родной земли.
Мускулистей конского крупа репейник звезд,
и плывут вокруг нее рыбы да корабли,
изо лба и до неба встал белой радуги хвост.
А дракон хрящеват, из всех он смотрит окон,
за всякой кормою плывет, в устах говорит,
и вяжет петлю, и гонит в Сибирь вагон,
подколодным небом хвалится и корит.
Вяжет деву-еленя в кольцо и глядит в лицо,
а Егорий копьем касался его лица,
и вошли они вместе в синих небес кольцо,
а очнулись в Ерусалиме звездой крыльца.
А дева руки срастила в один цветок,
да ноги в один синий плавник-крыло,
и стала она теперь, как перед смертью глоток,
каждой пропащей душе, что вошла в село.
Крутится змей, как лицо, как огни-васильки,
а Георгий со рта, раз начал – кораллом растет,
и ходят они вдоль города, босяки,
ожидая, кто первый родится, а кто умрет.
Колокольня стоит, птица на ней Черногар,
синева над полями крепнет, как бицепс, растет,
и в глазах у Георгия чудный стоит пожар –
не понять, то ли пламя, а то ли елень идет.
Высвобождена, расплетена,
как капитана Немо ее глубока душа,
и одна у нее глубина
с цветком занебесного камыша.
А Егорий четырехрук, как биплан,
в небе летит, и кто его отпоет?
Русь-сторона, неведомый миру стакан
с водой многорукой, кто пил, уже не умрет.
И в красный кирпич все стучится ружье-удод,
и Егорий лежит, как кирпич, положен сплеча,
и Новый Иерусалим над стеклянным челом растет,
и лапы его держат воздух, как два грача.
МАЙ (ИЗ ЧАСОСЛОВА БРАТЬЕВ ЛИМБУРГ)
Тянется в поля кавалькада,
воздух голуб да зелен, плющится и слоится,
а потом охапкой туда-сюда ходит – вагон подвесной, канатный.
Лес дудок растет вразнобой, в согласье.
Герцог с Жанной в гирляндах зеленых,
на конях узловатых, белых.
Скрипят их седла, как сиденье в эмке.
Конь весь в яблоках и воздух – тоже,
пересыпает их, выдохом-вдохом перекатывает.
Воздух насосы свои накачивает, светлые, воздушные.
А та сидит на заднем сиденье, по бокам офицеры,
время строит из пальцев рук
разномастную голубятню.
А ей все одно – что в зелени Жанна, что Алатырь-птица.
Ходит та птица, важничает, вся грудь в портупее,
все ебена-мать говорит, сапогом чирикает, блещет,
клюв у нее кривой да желтый, прокуренный.
Ай, снеси мне птичка, яичко золотое
погон да петлицу, да гнездо с голой актрисой,
пусть не блядь какая-нибудь марлен-дитрих,
а пусть будет душа василиса прекрасная
с губами красными, с бедром белым.
Крепок воздух весенний, потрескивает, как изба,
конь под Жанной играет, ожерелье ее до колен, в рубинах.
Пищалки да флейты – ну прямо Синее море,
прямо волны шумят, герцог влюблен, как мальчишка.
А у Марлен-Дитрих лицо бледное, серебряное,
в пудре лицо, а с затылка коса разматывается,
коса твоя козочка, дорожка вековая, конкурная
пурпуро́вая дорожка, бедная.
А воздух-то, воздух – синь, один на всех пласт голубой жизнетворный,
все вдвигается меж ними, все холодит, вдвигается - единым для всех быть хочет.
Вы братья, говорит, сестры, апостол иоанн, говорит, любите-прощайте, конь белый, шумит в горах Воробьиных,
и он же в тополях Реймса гуляет словом
да ветром.
Не стреляй, браток, в Марлен-Дитрих,
не сшибай с собора высокого стрелой птицу,
а давай достанем дудки-трещотки восславим майского дурака, бога Гермеса.
А то сядем в лодку, содвинемся лбами
да выплачем горе
всей остальной, не нашей уже жизни.
МАЯТНИК
А если б не олень, как заплелась бы роща.
Шнурует землю крот и кровь – ребро,
и мы от ласты делаемся площе
и проще, легче, чем упавшее перо.
Огонь живет в плечах, как арсенал Гермеса,
травинка горяча, и смертный прах
нам нужен для того, чтобы лишил нас веса,
свой чернозем набрав, тот звездный ковш в цветах.
Зачем река длинней руки простерта?
Я тело раздавал, чтоб древовидный луч
шел в кольцах годовых. И красная реторта
одна на всех живых – двугубый легкий хрящ.
Орфей-аэроплан играл земли углами,
стопа расширена, как Эвридики плач.
И звезд коленчатых возня над нами
нас сводит в гроб и удлиняет в луч.
Все говорливое уложится в наперсток,
над Сан-Мигеле бабочка летит,
и тяжелее маски в синих блестках
на мне лицо неровное лежит.
И детство, и барак качнет землетрясенье,
и старики замрут, мигнет и вспыхнет свет.
И вновь все умерли – но длится их веселье,
а на стене растет улитки лунный след.
Кто свяжет нас в одно?.. И шебуршится птица,
как будто это сам я под стрехой.
Земля черна, по венам кровь струится,
и замер маятник – солдат живой.
ПРАФЕНОМЕНЫ
Как будто сдернули пантеру с небосвода,
а звезды и круги все щерят зубы
и с бабочкой ширококостной
играют мускулом кривым и когтем.
Как я хочу добраться до начал:
кто вложен в раковину – человек ли, конь?
Кто тащит в ней мешок с цементом – круговым
движением плеча? Зачем любовник лег
меж белых ног, как в пашни узкий ров,
зачем пульсируют они, как будто червь
в них роет светоносную могилу?
Не та эта ль сила заставляет прятать
свою же голову в себе самом
нагого лебедя. И человек
так прячет в пятипалую звезду
ночного неба голову. И он бы
вложил ее себе в подмышку, если б смог.
Где первовещи наши, сгустки нас,
охапки смыслов, пригоршни мерцаний?
И отчего выпячивает нам
грудную клетку кашалот, давя в лопатки?
И отчего, чем лезвие, опасней
догадка о своей первооснове,
что вторит ритму барабана,
а тот все просит крови и любви,
пока вокруг бегут мулаты в масках
быков и звезд, носы забиты ватой,
чтоб дух не выпорхнул наружу белой птицей.
Я на себя надет. Как раковина на себя надета,
смещаясь на себе, как будто бы рубашка
на плечиках. И лишь метафора
скрепляет вещи световым цементом –
той «мертвой зоной», о которой ты прочел,
взяв в магазине книжку с полки наугад, –
иначе было бы всего – по два,
по три... и в пятипалом небе
мы надеваем балахон и когти
и разрываем в пять сторон быка,
как собственное сердце на весь мир,
и проливаем ром на перекрестках.
Кто нас найдет? Какой удар ман-мана
нас выведет наружу из времен,
что подгоняют город, как пиджак
на тело, состоящее из губ,
в которых все еще круглятся ров и роза.
ПРОРОК
Внутри любого существа сверкает дождь,
и в каждой капельке стоит существ живая форма –
слона, осины, бабочки, забора,
и вместе собираясь как готовность к форме,
они ее однажды создают – то птицу феникс
в огне эфирном, голубом, то птицу человека.
И если наблюдать коня дороги,
увидишь, как внутри него идет гроза,
и в каждой капле он переставляет ноги,
в любой из капель он всецел – темны глаза
и шея с гривой, как челнок, послушна,
конь в каждой капле сжат, как вложен в микроскоп.
И каждая внутри себя хранит
не только одного коня – весь мир –
листву и облака, и ястреба круги, и у ольхи ондатру,
но каждая – в начале конь, хотя
не сосчитать тех капель с облаками, что летят
внутри у каждой капли. Но хранят они
свою же форму, лишь пока летят,
как стая птиц, как листья или град.
А падая, они уходят в землю
и разбиваются с конем и звездами, и облаками
внутри себя. И я стою, пророк, и слышу
их тихий звон. Это уходит конь
и ангел с ястребом туда, где только синь,
и ничего там нет помимо сини.
Там некому шуршать листвой и бить в ладоши,
там смерти тоже нет, нет горизонта –
лишь синь – разумная и всеблагая.
СВЯТОЙ ХРИСТОФОР
В узел песьей головы завязан.
И, вращаясь, как веретено,
еще раннее, невидимое глазу,
небо в тот же узел вплетено
и вдогон ему хрипит и глохнет,
слова ищет в лобовой кости,
и тычком ударит и отсохнет,
и скребется, чтоб произнести.
Поднимал себя с землею до глазницы
вместе с рощей, кладбищем, сохой
чтобы высмотреть и заклубиться
речью шерстолицей и сырой.
Брат мой, короб земляной, скворечный
в синеве – и в ребрах и за край!
чтоб в зияньях плавал пояс млечный
под язык молчанье набирай.
Пятипалое простосердечье,
словно птица алюминиевая дня,
заворкует полногрудой речью,
чтоб к реке придвинулась земля.
Выковыривай свой выговор собачий
из-за уха, устрицы, холма,
чтоб рука в обрубках свет незрячий
зажимала, как язык, сполна.
Вот мы знаем мира нечет, полночь,
тыльной крови ход до мотылька,
гул пчелы и речки течь и помощь
и как ищет поручень рука.
Целый мир в один мешок сложился,
чтоб толкнуть тебя серебряным толчком,
словно монгольфьер, и кругл и жилист,
с выступающим одним плечом.
Чтоб, очнувшись, к слову пробудился
и услышал шум взамен себя,
как он ширился и как лепился
и окреп и вышел из ребра.
Чтоб могилы встали и пошли бы
от земли, как сосны отделясь,
и вытягивались в жизнь, как рыбы,
и распахивались, горячась.
Чтоб расширилось и убежало
все, что было прежде и потом,
и пустое место задрожало,
выпуклым собачьим языком.
Речь на вручении Премии Андрея Белого
Уважаемые друзья и коллеги!
Я испытываю чувства волнения, признательности и благодарности в связи с этой высокой наградой!
В моем случае это поэтическая премия, а единицей поэзии в каком-то смысле является стихотворение. Именно о стихотворении как о «живом существе поэзии», по выражению Андрея Белого, мне и хочется сказать несколько слов. Конечно, все определения, касающиеся поэзии весьма приблизительны, они скорее кружение вокруг неназываемой сущности, и все же, в результате этого кружения сущность становится более доступной нашему восприятию, словно бы подсказывая нам, благодаря нашим же собственным усилиям, какие пути ведут именно к ней, а какие уводят в манящие, но смежные пространства.
И тут мне кажется, можно наметить кое-что определенное.
Прежде всего стоит заметить, что, в отличие от традиционной прозы, от, скажем, рассказа или новеллы, стихотворение не является рассказом о событии, потому что оно – само является событием. То есть перед поэтом обозначены две дороги – рассказать при помощи коротких или длинных строк о каком-то событии и сделать это достаточно подробно и многословно или создать событие ритма и языка, которое и есть – само стихотворение. Стихотворение как событие, как рискующий поступок, как след Большего. Это так сказать разделение в чистом виде. На практике чаще всего обе стороны сочетаются, но какая-то из них является преобладающей – либо рассказ о событии, либо стихотворение как событие. И все же то стихотворение, которое держится «зажмурясь, на собственной тяге», подобно тому, как это делает солнечная система, кажется, более отвечает задачам поэтического ремесла.
Стихотворение, как я его понимаю, во многом похоже на солнечную систему, более того, оно удерживает ее внутри себя, и поэма Данте о путешествии по сферам бытия это рассказ, конечно же, о внутреннем, а не о внешнем событии. Можно сказать, что оно происходит внутри стихотворения, внутри большой поэмы, внутри читателя и поэта.
Мир фрактален и голографичен, его структуры входят одна в другую, повторяясь и умножаясь.
Стихотворение, ощущающее внутри себя наш мир – систему планет, претендует на сбалансированную завершенность своей событийности, и подобно сферам Данте располагается на фоне неназываемого и неизреченного.
Более того, оно его отчасти проводит в себя как след и включает в виде фактора вневременности, осуществляемой в «послевкусии» стихотворения, всего его целиком, всего его, осознаваемого сразу.
Поэтому, говоря о природе «истинного стихотворения» можно говорить о трех вещах, необходимых для его существования: об этичности стихотворения, о его ауратичности и его преступности.
Стихотворение по природе своей преступно. Оно не хочет вписываться в рационализированный мир государственности или социальности. В нем всегда есть то, что мешает ему и его создателю это сделать. Достаточно вспомнить отношения с государственными структурами и судьбы таких поэтов, как Андрей Белый, Осип Мандельштам, Бродский, Лермонтов или Хлебников, написавший, что местом встречи его и государства является участок. Но преступность, преступление стихотворения – это преступление особое – это преступление неограниченности и свободы против ограничительных форм, это преступление высшего против низшего, это преступление жизни против энтропии. Это хорошо чувствовала Цветаева, сказавшая :
Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенья хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!
Но эта преступность стихотворения может быть увидена лишь в напряженно этическом мире, ибо само стихотворение этично. В современном мире, в котором этика серьезно разрушена, восприятие сверхразумной преступности стихотворения «безмерного в мире мер», ослаблено, а, следовательно, выброс энергии при пересечения некоторой священной социальной границы, не ощущается, ибо границы этики и правды стали расплывчатыми и неуловимыми и уж конечно же не священными, а договорными, условными и плавающими, «слишком человеческими» в дурном смысле слова.
В силу этого становится ясно, что из стихотворения, нарушающего застывшую этику, в новом мире поэтическое произведение превращается как в носителя этики, так и в представителя этического безмерного на фоне аморфного этического, ощущаемого в обществе как норма. И его «преступность» вплотную примыкает к философии рискованного поступка, о котором в молодости писал Михаил Бахтин и к особенностям категории этического в заданном мире, освещенной в трудах множества философов новейшего времени от Владимира Соловьева до Эммануэля Левинаса. Это новая миссия стихотворения, пока что трудно ощутимая – совмещение безмерного и тонкого этического сияния с поэтическим высказыванием в контексте нравственно хаотической и аморфной дробности общества.
Подобно сферам планет в «Рае», каждая из которых есть все более тонкий уровень смыслов, музыки, понимания, языка, – стихотворение также обладает возможностью существования на тех или иных своих аурах – близких к телу стихотворения, как Луна или Меркурий, или более удаленных, как Дантовские планеты высшей и тончайшей мудрости и озарения, Юпитер или Сатурн.
И если, скажем, Маяковский работал на самых близких аурах, то такие поэты как Блок или Мандельштам выходили на более удаленные и тонкие планы. Вспомним «зашептали шелка, задремали ресницы» или знаменитую соломку-Саломею, науку «блаженных слов».
Стихотворение с его орбитами и сферами, тождественными аурам – дитя космоса и человеческого сердца, поэтому оно безмерно, поэтому его возможности никогда не могут быть исчерпаны, поэтому оно будет продолжаться до тех пор, пока продолжается жизнь.
Стихотворение призвано прибавить жизнь жизни, а не позаимствовать ее в целях собственного обеспечения. И это, кажется, главнейшее в системе его координат.
Замечу, что Андрея Белого, любимейшего моего поэта, ясновидца, исследователя, создателя новой прозы и метафизика неудержимо влекло в обозначенные только что миры – его Я было вписано в безмерный Космос, а космос своими ритмами находился внутри безмерного Я.
Книга «Плач по Блейку», за которую я удостоен премии, писалась как раз в перекрестье этих понятий о предназначении стихотворения – его внутренней завершенной событийности, угадываемой ауратичности и возможности проявления в нем тихой этической красоты, без которой мир Блейка, как и мир поэзии вообще, был бы не только лишен энергии, но и, скорее всего, вообще невозможен.
Я хочу поблагодарить всех тех, кто сделал сегодняшнее событие возможным. Мне выпала честь оказаться среди замечательных, великолепных поэтов и прозаиков, удостоившихся высокой награды, и я хочу снова и снова поблагодарить комитет премии Андрея Белого, его жюри, моих друзей, учителей и коллег, моих издателей, моих близких, – всех тех, кто меня поддерживал, вдохновлял и вел к большему пониманию сути поэзии на фоне Бытия.
Три гранатовых зерна (с предисловием Андрея Таврова)
ХРУПКАЯ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ КАК СТИХИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ
Хрупкость сопутствует самым разным вещам, высветляя их и ослабляя, в ее ряду хочется назвать: раковину, стекло, цветок, Землю, партию в шахматы, далекое пение птицы, зарождающееся чувство, некоторые стихи и встречи. И второе качество, на котором, говоря о стихах Алексея Афонина, хочется остановить внимание – уравновешенность. Здесь приходят на память Колдер с его мобилями, строение человеческого тела, танец, Солнечная система, паутина…
Хрупкая уравновешенность – то качество и то содержание, которое совсем недавно стала осваивать молодая поэзия; в хрупкой уравновешенности есть и что-то элитарное, и что-то, что немного в стороне от других стихотворений; что-то и уязвимо-хрупкое, и непобедимое в своей уравновешенности.
Секрет баланса как такового в том, что он помогает держаться ни на чем, как держится ни на чем уже упомянутая система планет и Солнца. Сумма притяжений и гравитационных расчалок, присущая таким космическим устройствам, может пронизать и стихотворение, уточняя формулу поэмы, держащейся «на собственной тяге». Это и есть непобедимая сила сбалансированности, динамической общности при разности и даже возможной фрагментарности элементов, ее составляющих.
Говоря, что такое образование держится ни на чем, не лишним будет уточнить, что это «ничто» не является чем-то несуществующим – оно просто не выражено явно, отсутствует как форма в той системе координат, в которую вхожа видимая и обладающая формой часть стихотворения. Применительно к стихам Афонина можно назвать это «ничто» ускользающим, но все же явным в своем ускользании напевом, мелодией, основной неслышной песней, соединяющей фрагменты стихотворений воедино, колдующей между словами и строками, сдвигая их смыслы и снова к ним возвращаясь, прикоснувшись к ним, удостоверившись в их существовании и форме.
Тактильность свойственна этим стихам, как мало каким другим – по всей подборке рассыпаны касания и прикосновения: «обнимаешь внезапно распластанным сердцем», «имя подносишь к непослушным губам», «воздух надкусан, наколот»…
Вещи и стихии стихотворения словно бы веря и не веря своей мерцающей, но неотменимой сути, возможности жизни внутри иной формы жизни, стремятся убедиться в том, что такое бытие, как их собственное, невообразимое – возможно, реально, доступно. Что мы все еще здесь, мы все еще есть, мы все еще непостижимо тут. Происходит это бессознательно – так ощупывают тело после удара, так дуют на рану, так гладят по голове, узнавая заново живые и хрупкие вещи мира.
– Андрей Тавров
ТРИ ГРАНАТОВЫХ ЗЕРНА
***
Антуану де Сент-Экзюпери
…Раскрытая роза ветров в развороте ладоней –
как раковина, или друг, или белый мрамор.
В самом сердце фонтана раскрыта мокрая роза ветра:
неровные стрелки дождя,
раскрывшийся взгляд в глубине лепестка штурвала.
Это ли та глубина, что в глубинах рокочет?..
Голуби ропщут на дождь, утрамбовываясь плотнее.
Слива под крышей цветёт, ветроногая слива,
едина.
И развевает
семена свои тихий мятлик, люцерна в полях немеет.
Где – целые дни, что под воду ушли в полях, – не целее,
чем на лисьей охоте хвост, в ольшанике
всполыхнувший?..
…Стрекозиная лопасть меча уходит под воду,
и приходит, как вздох, к одному-единому горлу –
как на мокром листе начерченная полоска.
Белый, лампа и акварель, – и лестница молний.
Тот единый взгляд, что даришь, не оглянувшись,
уходя, или по рукаву нежной звездой стекает, –
это лето. Уходя – поднимайся по лестнице молний,
не снимай никогда лицо перед тем, как вспыхнуть, –
так и ляжешь, опутанный нитями трассеров,
среди мокрой люцерны, золотым, как сливы, словом
вдаль на чистом листе; под сырую музыку ветра.
ЖЮЛЬ И ДЖИМ
Подержи-ка этот стебель.
Он будет очень хорош.
Мы вырастим розы
и целый мир,
летящий в больших шарах.
Подержи-ка этот стебель, Джим.
Он будет прекрасен, как дождь.
Он будет прекрасен, как схватка под солнцем,
плетение ягод на камне ограды,
как паперть пустая,
как самый удобный нож.
Подержи-ка этот город, Жюль.
Он будет очень красив.
Гусиные шеи вытянув, лодки подходят, загасив фонари.
Как зеркальце, бритва и нож в кармане.
Как лето со сколами барж.
Он будет очень красивый, Жюль, и ты его не продашь.
Гляди-ка, Джим, а наш космопорт
уже замычал в порту.
Гляди-ка, Жюль – солнце плывёт,
малиновое, как сюртук.
По всем по выгнутым лицам прошлось,
и вниз, на доски и белых львов.
Гляди-ка, Джим – а можжевеловый рот
уже будоражит кровь.
Ты в подворотне будешь кидать шары,
малиновый, как диван.
А я – выходить и, разинув рты,
тополиных девочек раздевать.
Мы канем в зеркало у пруда.
Мы в Лету тайком уйдём.
Как полицаи в красивом кино,
по трубочке с кремом, и с ветерком.
Мы – души пробитых канканом ног.
Нас целовал канал.
Ты станешь церковью, я – соском,
настойчивый, как домик с окном,
Альянс на все времена.
– Возьми этот дирижабль, Джим. – А ты, Жюль,
солнце сожми в руке,
выдави из него великанью слезу,
чтоб накрыла весь этот город ароматным дождём,
весь наш город ветров и мачт.
И Сен-Мартен, горячий, как спирт.
Ты будешь
клубничным настоятелем этих белых стен, Джим.
Электроника! Электроника!
Возьми этот стебель, Джим,
вплети его в континент.
Возьми этот город, Жюль, он будет очень красив.
Больше не город, а солнце на чердаке,
больше не город,
а вопль в толпе,
ветер во сне, гарь на руке,
больше не город, а:
хохот, звезда, массив.
*** (ДЕТИ РАЙКА)
Трепещущая жизнь там, в экране:
Жан Батист кидает корзину цветов
между чёрными, серыми полутенями
проползает любовь:
от неё не убежать, не скрыться,
И где-то там, в огне
старый синематограф, стирая, рождает лица
– тебе и мне
ДВА СТИХА ДЛЯ А. (НАПИСАННЫХ В СТИЛЕ К.)
1.
От перемены слагаемых и их мест
меняется если не всё – то много;
сумма двух, мой друг, это не знак числа
но Бога
хотя б не здесь; когда выходишь в сад, как в старый бульвар
вновь без тебя, один
и танцуют льдинками без тебя слова уходи
о боже не повтори
Этих солёных слов, этих сладких фраз
и голуби растерянно садились на холст
слетевшись на виноград
/нас
2.
Чёрные волосы, сияющие глаза
Этот город выдуман про тебя, весь мой город
весь этот воздух надкусан, наколот
как истёртый гранат
Обещанием дней, прощанием сентября
снами друзей уснувших кариатид
троллейбус, выгнув рога, входит в печаль
где как старые карандаши
пахнет ветер – всё для тебя!..
Но сейчас февраль, не апрель; впрочем, бывало так:
Как с губ февраля срывалась капля глотка́
чтобы упасть на март
***
…и однажды на город опустится одиночество
большое, как все воспоминания
улицы, ведущие вниз, зашумят под его пальцами
И где ты, за светлым фасадом
в полутьме
от ливня
укладываешься
в прохладную свою постель
И обнимаешь внезапно
распластанным сердцем
все прогретые светом вечерним булыжные мостовые
белый телефон возле постели
…и что кроме них – и нет ничего
И наступает молчание
прерывающееся
шорохом ветра в жасмине и фонарях
обнимающих тебя, как молоко или хлеб
как утра,
каждому из которых принадлежишь – только ты сам
И лишь на сердце твоё,
бьющееся под покрывалом,
как маячок
где имя подносишь к непослушным губам
только одно
– кто на него
пристальным взглядом из той темноты
придёт?
WILD HUNT
Всё началось с того, что однажды я умер.
Даже сам не помню, как.
Был ноябрьский ненастный день, меня несли на руках,
кажется... или нет. Не помню.
С тех пор я живу хорошо.
Читаю газеты,
по выходным играю в футбол.
Ем сосиски в придорожном баре,
вожу девушек на танцы.
Люблю путешествия, дальнобой,
вожусь со своей машиной,
много времени провожу в гараже.
У меня всё нормально.
Мне нравится моя жизнь.
..Особенно осенью, когда мы собираемся большой компанией
и ходим по пабам,
пьём пиво, слушаем рок-н-ролл, веселимся,
закусываем вяленым мясом.
Некоторые от нас шарахаются, но мы на них не смотрим.
Меня забавляют люди,
которые боятся темноты.
Я-то её люблю.
Бывает, иногда по вечерам,
когда возвращаюсь с работы совсем поздно,
я подхожу к освещённым окнам
и долго смотрю из темноты туда, на свет.
Мне нравится, как они выглядят.
Мне хочется к ним вернуться.
Так хочется.
...Иногда.
ПРЕДЫГРА (2)
Запах кофе
Как ожидание твоих рук
Обнажённое танго
*** (WHA'LL BE KIND BUT CHARLIE)
Э.
Подсолнухи прорастают в голубой стене.
Синеглазая птица приносит в клюве
самый белый пароход
из солнечных зайчиков.
..Весело стеблям из золота
перемигиваться с тишиной.
Медовые тропы.
Оставленный велосипед.
Распахнутое окно.
***
А.Т.
Небо звёзд, сфера сфер, мост мостов...
И немного Латинской Америки – по капле в чайную ложку.
Поезд двигался, запаздывая немного,
чтобы ты не двигался невзначай
проходя насквозь.
По звезде на чайную чашку неба – как вдох и выдох.
Стонет конь в средоточии ветра, во власти калиток.
Стонет ночь, разметавшись в широкой своей постели.
Стонут ветер и солнце, и ласточки на прицеле.
Ты, конечно, достигнешь цели, проходя насквозь
(Где струна и ветер, не скрываясь,
танцуют вальс).
Среди звёзд, между нами, на гибком своём пределе.
МОЙ ДРУГ
Мой друг –
человек с пальмой на голове!
Он видит белых птиц и белые облака,
он рисует в чайных чашках прекрасные узоры.
Прикладывает к уху закаты – вроде морской раковины
и слышит между нот музыкальный шум.
Спросите его: Сколько времени?
Он ответит: Семнадцатый век на дворе!
Расскажите ему сказку –
он откликнется:
– Правдивая история!
Всё для него, для моего друга
– маленькие сосенки, приветствуя его, взмахивают корнями.
Рыбы выбрасываются из воды, превращаясь в заводные часы,
которые он прикладывает к уху, чтобы сообщить прохожим,
сколько времени.
Огромные светофоры вышагивают не глядя.
Золотые жуки приносят на своих надкрыльях серебряную пыльцу.
Кофе пенится в чашках,
розовые гладиолусы склоняют перед ним свои царственные головы...
Солнце встаёт на западе и закатывается на востоке,
чтобы осветить его невероятные лохмы, пальмовые листья.
Луна пожимает ему плечами.
Всё для него, для моего друга.
А, может быть, он – это я?
Ну нет!
Не могу же я быть
таким сумасшедшим.
КОГДА ЦВЕТЁТ ЖАКАРАНДА
Цветы распускаются,
как глаза любимой.
Улицы наливаются
неземным светом.
Я посвящаю тебе
лучшие строки.
Чтобы забыть всё напрочь
наутро.
И что ещё будет,
пока мы живы.
И смертны.
И что ещё будет,
и лёгкой волной проходит.
И цветы в волосах,
лежат как случайные слёзы.
И ты на проспекте.
И старый трамвай на подходе.
АДРИАТИКА
Море качается под ногами,
море целует в щёки.
Море обещает смерть – или удовольствие – как и всё на свете.
Море пахнет как смерть, мидии, креветки и ракушки;
море пахнет как слёзы, зачатие и вознесение;
море на вкус – как кровь и тугое стекло,
сильное объятие разомкнутых рук.
Роды Луны над морем, солёная слюнка,
прозрачные серые камни, тени.
Шорох качает шорох, скользя, стекает слеза.
Олеандр и можжевельник, и чёрные кипарисы.
...Море, сладкое, как путь на Восток, – и мягкое, как обман,
море, сияющее неумолимо под ветром.
Славься, Могила и Колыбель,
Жена Моряка, принимающая его в свои объятия,
Бабушка Призраков, разбивающая надежды на миллионы цветных брызг;
неумолимо сияющее под невечерним светом.
...Море, вымощенное серебром и ветром.
Слишком красивое, чтобы тебя забыть.
Слишком коварное, чтобы тебя любить.
Бесконечно заставляющее к себе возвращаться.
РОМ И РЯБИНА
...А ты собираешь горстями рябину,
из лесу тащишь охапками вереск.
А у меня – бутылка чёрного рома,
да чёрный хлеб.
Почти что дома.
А у тебя холмы, яблони как лоно раскрыты.
Владетели в белых одеждах выходят плясать попарно...
...А мои чёрные собаки лижут мне руки:
ноябрь, декабрь и январь – три месяца лета,
пропахшие кровью.
А у меня – красные горы,
помпончики, солнце, рогатые головы духов...
У Луны в животе холодного вижу ребёнка,
потягиваясь, когда ты меня обнимаешь.
...Шелка и духи, и зефиринки полною горстью:
духи смуглой воды и вспотевшего сладкого тела
улыбаясь, проходят. Пьют из бутылки.
Биение ритма как жар проникает под кожу.
А у тебя – просо, овёс и рябина.
...Тутовник руками давлю, растираю руками по платью.
Белая лань, прянув стрелой, уходит как в омут в чащу.
Белая лань на себя шелка надевает.
С такими друзьями можно уже не бояться.
Белая змейка моё обвивает запястье,
с белой рубашкой, с молоком и солью.
Где-то заходит чужое мне солнце.
Где я, и кто я – никто теперь и не скажет.
Серебряные рудники, смуглая кожа,
запах горькой воды, зефирки и барабаны.
Новая жизнь, чтоб себя потерять – и снова найти в пелёнках.
Зачать звезду, улыбнуться, зажечь огонь, выплюнуть море.
Стать сильнее и мягче.
Где моё место?.. Но отчего каждую осень плачу,
осень познав, давя руками рябину,
слыша: в чаще плачет лунный ребёнок.
ТРИ ГРАНАТОВЫХ ЗЕРНА
Я краду тебя из-под Солнца,
где ты плачешь, как куропатка в травах.
Ото всех кто пьёт, поёт, жрёт и жирует,
ото всех, кто любит Солнце.
Я уношу тебя на руках в могилу.
Я закрываю двери.
Прислушайся: что ты чувствуешь?..
Усталость, и тьма разливается в лицах,
касаясь нежно, как ветка вишни.
Я на колени встану.
Я дам тебе три зерна граната. Только три.
Проглоти их, любовь моя; что ты слышишь?..
Не бойся, ты вернёшься обратно.
Гранат – это кровь Земли. Её живое разломлено сердце,
чтоб тебя напоить – силой и ожиданьем,
изо рта в рот, со слюною и скользким дыханьем.
Ешь их, любовь моя, и ничего не бойся.
Чёрная кровь Земли закипает в друзах, осколками
ранит зрачки, болью стекает по рёбрам.
Разворочено сердце, как зеркало раскрываясь,
держит тебя в объятьях. Гранат – это радость
живого огня, глубокая жизнь, что в твои вливается жилы.
Ешь их, любовь моя, и ничего не бойся.
– В животе моём тьма взорвалась, как чернила у каракатицы.
Что ты сделал?..
Тьма омывает тебя на брачном ложе.
Тьма размыкает тебе объятья.
Тьма обнимает тебя, как лисёнок. Она нежна и прекрасна.
Тьмою омыты, моря подаются навстречу рассвету и ветру.
Тьмою омыт, на дно опускается старый корабль,
и кракен, тьмою омыт, щупальца выпускает, рождая новое Солнце!
Ты думаешь, тот, кто смотрит во тьму, помнит лишь ужас.
Забудь!.. Всё на свете он помнит.
Роение духов между стен золочёных улья
он помнит, и владеет всеми ответами этого мира.
Где мать хватала за волосы, выдирая пшеницу,
тьма выходила навстречу, и превращалась в помощь.
Щёлоком горьким стекала, стирала лица.
Поила из горсти тёмной безгласной любовью.
Чёрная с прозеленью вода – зачерпни из горсти,
все поруганные, забытые во тьме этой будут.
Все мои поля с парением тонких бабочек.
...Ты вернёшься, в день распахнув тяжёлые двери.
Глубоко и наполненно изнутри как каракатица тьмою.
Она только лучше оттенит этот твой свет звенящий.
Как ручей в нежном солнце.
Ты будешь играть, но не так безоглядно.
Улыбаться уже, как бабочка глазами.
Ступая глубже, сильнее и слаще,
помня, что тьма в твоём животе, и что она безоглядна.
Что она глубока и животворяща как воздух.
Что в неё возвращаются все, кто ещё не вернулся.
Что она средоточие жизни.
...А когда закрутится голый ветер,
и мать, скалясь, горный покров срывает –
ты вернёшься ко мне спать под мои веки.
И мы будем спать с тобой в объятье, укрытые тьмою.
Бесконечно и безоглядно под её покровом,
порождая миры, все, что ни есть на свете.
– Любовь моя, кто же будет нашим ребёнком?..
– Самое красивое из ночных созвездий.
Весна-слово-зима
***
и я когда-то (была) тосковала
лето в ладонях несла (сливы спелые солнца)
воздух жаркий живой ускользающей жизни
ПОСЛУШАЙ
морозные закаты декабря
собачий холод вечер вьюга
коленок зябнущих тупое онеменье
огни-огни-огни-огни-огни
и атриума ад многоэтажный
сквозь хор заснеженных деревьев
а дальше – так легко – как будто
послушай кто-то шепчет прямо в сердце
озябшие седые воробьи
передают друг другу весть благую
НЕУТОМИМО
дежурный-огонёк-сестра
как обезболить день в палате душно
до дыр зачитан «Заводной Orange»
соседка справа спит после наркоза
лицо узбечки-бабочки-смуглянки
коленка оголилась свет на коже –
холодный молодильный зимний свет
а я лежу успения не зная
и дух захватывает от прозрачной сини
над ржавой крышей облако сияет
неутомимо строит дом – подвижный лёгкий
КУКУШЕЧКИ ЛЕТЯТ
как быстро дни-кукушечки летят
над стылым городом холодным
когда гудят от заморозков звёзды
и счастье зыбкое по швам легко трещит
***
в увеличительном свете весны
мы – только форма присутствия
[цвет] завитки забытого времени
мы воздух у самой земли воздух горячий
***
день
не разрезать лёгкой
и даже тяжёлой рукой
остаются
слова и начала вещей
и переплетения воздуха
в комнате полупустой
***
мы будто камни и мхи
близко подходим
к тёмному небу причин
ГРАВИЙ И ПАМЯТЬ
Паулю Целану посвящается
поедем в Oswiecim
по гравию серому
по узким дорожкам
[войдём]
в камеру смерти
[выйдем] из камеры
и посмотрим
сумрачно и отчуждённо
видишь случайное облако
входит в случайное облако
это Auschwitz(а) газовые
голубые глаза
жизнь так проста
[не кричи]
внутри тебя
голубые газовые
невидимые кирпичи
***
у этого утра
холодные щёки
как у миномёта
и сила взрывная
[опасная сила]
БЕЗЗАКОННО
с собой и без сахара
возьму это бедное бездонное небо
и унесу беззаконно и безнаказанно
сквозь нити и сети
сквозь проволоку колючую дней
сплошные осколки израненный свет
ОСТАВЛЕННЫЕ
слышишь
оставленные
в свете убогом живём
в жизнь пробиваемся
сквозь мусор и щели
в память как в тишину
пробиваемся
в сердце цветёт
только камень
слышишь вложи
камень вложи в эту стену
сердце вложи слово молитвы
силу последнюю
васильки
***
и не молчанием
теплом ответным пылает
ветром светлым голос
ответный голос смутных улиц
вощёных ветром крещёных светом
аптека оптика и перекрёсток
плывёшь по руслу переулка
г у л к о
бросаешь в снег как гильзу сигарету
и гаснет в небе жёлтым гаснет
« н а с н е т »
наст – снег – звезда
***
внутри тишины
жёлтая тёмная окалина слов
вот и мы
вчерашние
проснулись
холодная земля
белые корни звёзд на губах
и сияние тихое тростниковой воды
между рёбрами – плеск
магический плеск
б у д у щ е г о
в лунной воде темнеют
отчаяние и мудрость
мудрость и отчаяние
***
сорняками
нищими сорняками растём
ветер колышет траву
зимняя оттепель
алое на перекрёстке сияет
или это божественный куст
или мальчишка в курточке лёгкой
выдохнув что-то
идёт по сырому асфальту
туда – в темноту
в тишину света другого
ПУСТЫЕ САДЫ
нет ничего
нет и не надо
пустые квартиры
пустые кафе
пустые сады
нельзя нарушать
свой покой
и чужой покой
нельзя нарушать
снег
мы протаптываем дорожки
отпечатки следов
собаки и человека
времени нет
с н е г
т и ш и н а
на лицах и на ладонях
чистые звуки минут
это подарок
когда впереди
ещё много дыханья
Зелёная вода
миг длится, жизнь уходит прочь
DAS HEIMWEH
На другой стороне реки, дорогой реки,
Волны колосьев и в них потонувших слов, –
Это поле подвешено в воздухе без крюков,
Как рыба – подтянута паузой, бежав с руки.
Завидное место на дереве Цапле есть, –
Готова взлететь и за лес тебя унести, –
Если не веришь в местные странности –
Готова взлететь – и съесть.
Плачем песка унесён твой неловкий взгляд –
За обрывом – обрыв, где ноги не знают встать, –
Чтобы корни успели с горя тебя обнять,
Лишь головой опрокидывайся назад:
Белый Гигант за рекой никогда не спит,
Слушает рыбу, спрятанную в кругах, –
И поле, как поле, тонет в своих волнах,
Под себя подминая таинства прочих птиц.
БЕРЕГОВУШКА
По грязной капле соберу –
из берега возьму,
устрою внешнюю игру
и тайную возню:
Давид пищит над головой
и спорит над собой –
соединённые водой,
как ласточка с вон той.
ПАМЯТИ
В двух шагах от меня
– и траве позабыть –
отведи из меня
грубо выбранный путь, –
Сколько речи простой
из тебя проросло
то ли слова достой
то ли – Солнце взошло –
одиночка травы,
в густоте луговой –
или звуки любви
на ногах с головой
***
Ползи меня, зелёная вода,
Продай себя за вздох травы и мяты –
У пристани, как мокрые солдаты,
Ложатся рыбы с привкусом вина.
Ты чуешь вдохновение труда? –
Картонная дурилка и балда, –
Ты видела как облако размякло?
Не видела ты ничего тогда.
Бежит с лица солёная вода,
И в лодке как-то умерли, устали, –
С нас бабочки кристаллы собирали,
Обратно исчезали по спирали –
Ты ничего не видела тогда.
***
Я иду под сигнальную музыку –
узкой улицы дым меловой –
по кошачьему длинному усику,
а на кончике – миг мировой.
Головастик запрудой упруженный –
это я продолжаюсь вперёд,
по природе – обезоруженный, –
он пилот или автопилот?
На глаза опадает сознание
узкой улицы, мел вековой, –
неожиданное расстояние –
только линька шагов по прямой.
Я иду, отходя от кошачьего,
и всё больше туда, где я был, –
головастик! как хочется сжать его!
ты убил его! нет не убил
***
Замрёт опасная вода –
цветная кисея,
и выхлопная борода
свернётся, как змея, –
Пожалуйста, не начинай, –
сегодня тишина
костями звёзд начинена
и в лёд погружена.
За эту смерть снеговики
стоят, а не идут,
и медленные дворники
сугробы уберут, –
А ты учись не горевать,
с болезнью и без сил –
как неспособный бликовать
растерянный бензин.
И этим вечером, дыша
февральской немотой,
почувствуешь, что тишина
развёрнута спиной:
За ней – глаза, как про запас,
укутанные в ткань, –
пожалуйста, заметишь нас –
не прибирай к рукам.
***
посмотри на него
между пальцев
зеркальный кусок
это царских рогов
два созвездия
мягких досок
это мокрых гвоздей
стрекозиный пучок-
василёк
посмотри на него
между пальцев
растёт василёк
Стихотворение, которое вообще никуда не вписывается
***
раз козочка
два козочка
покатилась розочка
от рога к темечку
проросла семечка
птичка сильная
синичка синяя
личиком красивая
клюнула розочку
боднула козочку
достала куцой лапкою
из земли коробочку
спицы-коготочки
а в них листочки:
"ноги-руки скрещивай"
"помолись Боженьке"
"попроси помощи
для себя грешного"
"козочку вырасти"
"синичку выпусти"
"поливай семечку"
"посыпай темечко
пеплом из розочки" –
написали деточки
пожелали лучшего
к Рождеству Христовому
скрутились роженьки
поседели перышки
снежные
розочку клюет
в белое темечко
нежная
и поет:
с Рождеством Христовым, дети
***
посв. Василию Савельеву
я и мой друг дорогой
к левой петле его ирис приколот
к правой ирбиса хвост
я и мой друг дорогой
сад мы чудесный проходим в зеленых провалах
речка течет
голуби греют голубок боками
псы в круглых пятнах – телята –
лапы сложили на лапы друг друга
глаза закрыты у них
друг дорогой говорит
"сегодня в пять
от меня уходит любимая –
я не могу опоздать"
себя от петель отрывает
и улетает
голуби крыльями прячут бока
речка с досадою пересели с камня на камень
спрятали псы носы друг у друга в лапах
глаза закрыты у них
телячьи ресницы
***
девочка со спичками сгорает
догорает
и по-птичьи завывает
довывает
и становится у церкви
и из церкви
выбегают церкволюди
церкводети
церквокошки
церквомышки
церкволожки
церквовилки
черворучки
червоножки
червоспички
выскользают
вылезают выползают выбегают
птичка воет и по-девичьи сгорает
***
Vita nostra
Клитемнестра
в небе остро
в море тесно
Нестор
всё
переписал
Ашшурбанапал – упал
и с тех пор не шевелится
в море плачет Нестор-птица
в небо плачет Нестор-птица
плачет, дышит, нерестится
***
падыйдём-па зимле падыйдём-па зимле
вьместасон-ца прияне-икаме-ньглатать
здесь-аврагот стиховыли стих-шый карьер
атвердев-шый патреть-им капы-там каро-
вы
япаглать тыпаглать – парагам паглазам
атварисухафруктыпаминкииплатья
иплатки иплатки сновавних старики
спляшутнам асвистав сваитретьи паминки
большэнет-ва-силь-ков и-цвитов и-сильней
за-се-стру-ста-нут-дра-ца-не-че-сны-е-бра-тья
мыдамой привизём ниудар атлуны -
вьтретираз красоты ниукрасьнам
великой
***
две мухи друг другу навстречу летели
среди беспроглядной гремучей метели
и одна другой говорит:
да над полем-полюшком
пролетала я
и над степью-степьюшкой
пролетала я
и по Волге-матушке
пробежала лапками
да над Днепром-батюшкой
взмахнула крылышками
а второй крайне неловко,
потому что:
1) она так красиво завернуть не сумеет
2) наглая ложь собеседника прямо в лицо всегда обескураживает
но тем не менее, муха-путешественница в состоянии объяснить, почему она оказалась летящей
среди гремучей метели
а сможет ли вторая муха-протагонистка оправдаться –
вопрос
***
Ветер жены моей
в поле целует,
в соцветья под пальцами,
в ящериц хвост;
хвороста рост ветром зажжен.
Ветер несет жажду и засуху, жажду и засуху, жажду, и ломкие пальцы, и старость –
пальцами старыми вылеплен глиняный край,
откуда жена моя
выросла.
ГЕРНИКА
падем на колени и будем молиться
целебною грязью омоем локти
увязнем в кругу разобщений
вы станьте квадраты и угловаты!
и круг ваш сомнется углами в квадраты!
и станут тушить нас!
и станут душить вас!
и-ста-нут-объ-ем-ны-е-ли-ца-не-про-ни-ца-е-мой-плос-кость-ю:
поскольку война – непроницаема
жестокость воды – непорицаема
вода хладнокровна
воде не дается дышать:
законченылю-ди
заточенара-ма
заплакалмузейныйохран-ник
затрескалась грязь погибая в целебную скользкую глину
плос-кость уснула и побелела
соль-белая смерть и побелела
лицо побелело
и
охранника увез
ли
***
а лисица не поморщится
прожевав клубок смородины
потому что та соленая
потому что у пригорочка
где раскинулись три тополя
пыль летит-летит от топота
от копыт летит и плачется
"не хочу лететь" – иначится
если пыль ты – то лететь тебе
если ягода – смородина
если красная – соленая
чтоб лисица не поморщилась
Одинокий биллиард
***
По рассказам твоим
Первый раз мы встретились осеннею ночью
В руке твоей было ведро сосновых дров
Ты собирался печку топить на втором?
нет, на первом конечно же этаже
Но я не помню ни пе́чи, ни но́чи
Помню лишь бледность широкого твоего лица
Было ли то накануне
или в самую ночь твоей свадьбы?
Одеяния загородных гостей
А ты был одет в невнятный какой-то ватник
Благородство речи твоей перевитой
перелитой смехом
Не поможет-поможет вернуть тебя
из той темноты
Где в каждую следующую секунду
облик твой все менее бледен
Смывается-скрывается смысл
твоей неповторимой-повторимой речи
Но глубина ее не теряется в следующем
повороте Москва-реки
Там ил этой осени темной совсем стал прозрачный
***
Неназываемы предметы еды
Брезгуя ее созерцаньем
Пачка масла
Глаза отводишь
И возвращаешься снова видишь ее, но иную
Блеск от фольги обертки
Невидимая
Снова вернусь
Взгляд проскользит на ней
Снова лицо склоню
ГОЛОС ГОЛОСА́
Мирелла Френи умерла?
Мирелла Френи
Мирелла Френи что?
Я шел по следу зимних шин
Рядом отпечатались следы чьи-то
От ровных ботинок подошв
След безмолвнее еще безмолвнее чем голос на снегу
Не давись от голоса чужого поклянись нет не то или то
ОДИНОКИЙ БИЛЛИАРД
Под зеленым сукном…
Проходящие мимо неудачники жизни
Не заглядывают в лузы
И лишь в воображении их остались
ки́и и шары
И его в будущее на себе не потащишь
По колени, по пояс он врыт
в настоящее
Повторяемый и повторяемый, но
не стоп-кадр
Он глядит мимо нас
из настоящего, но иного
Настоящего – истинного настоящего
Подлинного, а не подло-сгорающего тут же
в глазах
Как сомнительный выигрыш
Ты ушел из настоящего как подросток
а он там остался
даже если ты не коснулся рукой вымышленной
его изумрудной травы
Биллиард под зеленым сукном и пустой
графин на нем
Твердо держится он на своих четырех ногах
Некто в нише немой держит в руке своей
единственный шар
Где алкогольные эмпиреи здешней-нездешней
мечты
Зимние сосновые стволы – в них корабельные
мачты гудят и телеграфные
кресты покривившись стоят
переговоры по проводам иссякли
Мой и твой диалог над зеленой травою сукна –
летящий наш разговор
Смеркается в апреле
***
под медицинским солнцем сентября
река черна кто вышел из себя
как из тюрьмы приходит к ней напиться
чтоб дальше побрести через поля
с собою прихватив только синицы
лимонный холод вескость снегиря
в бесснежный день, теленочьи ресницы
репейника, в пурпурном молоке
цветения плывущего по свалкам
дойдя до пустоты в березняке
он салютует горестным мигалкам
прощальных васильков. поскольку есть
душа пророчество рассказанное кем-то
кому-то на ночь то она вот здесь
среди сердцебиения и трав
и сбудется со сказанным совпав
впервые до последнего момента
***
обычный двор смонтированный из
чужих воспоминаний. на капоте
ниссана бродит свет звезды ардис
с которой каждый выживший в расчете
и та что здесь гуляла в джинсах клеш
с собачкой белой медленной настенной
и превратилась в галочий галдеж
в тот день в начале марта и вселенной
когда зернистый серебристый дым
из окон прямо в ясень относило –
та троечница что крадет сердца
отличников перед началом мира
из-под руки уснувшего Творца –
водя по моей памяти слепым
пиявочным зрачком проходит мимо
и я за ней когда-нибудь пойду
в оранжевое жерло снегопада
сминая хризантемную звезду
ардис в руках гудящую от яда
***
сначала парусинового ветра
хлопки на Воробьевых и сквозняк
потом из сердца выстрелила ветка
от Юго-Западной сквозь гарь и березняк
до Улицы Подбельского до снега
до площади где тренькает трамвай
и плавится фиалковая схема
метро в сугробе: ская театраль
какого-то писателя аллея
я знаю кое-что о той Москве
где навсегда остановилось время
и слабо бьется жилка на виске
где человек столкнулся с алфавитом
и выговорил страшную судьбу
и прожил каждый час ее – с разбитым
сердцем и испариной на лбу
в квартире где запала половица
как клавиша и звуку нет конца
ему после всего спокойно спится –
навряд ли уже что-нибудь случится
плохое с добежавшим до ловца
от точки где все это началось:
смеркается в апреле, серебрится
ночная Боровицкая насквозь
пропитанная инеем еловым
уходит покачнувшись за края
по линиям размоченным лиловым
весна в которой плавает ресница –
единственная истина моя
останется апрельская минута
азарта перламутра и скворца
где зверь дрожит в предчувствии маршрута
и не желает слушать про ловца
***
говорил образованный господин
с невыносимым сердцем
что нет никого среди ясных льдин
облаков идущих на север
...над Подмосковьем гудит как пчела
черный простор и рухнет
дождь в сухомятку еловых лап
ветреный день потухнет
над Наро-Фоминском над кирпичом
школьник откроет тело ключом
крови упав на стройке
чтобы очнуться в Апрелевке
встать не думая ни о чем –
сгусток небесного гула
бурелома дождя чистой сквозной воды
чтобы душа вильнула
в сторону вверх проломив громовые льды
самолет замигает в просторе где нет тебя
где снуют в темноте кровяные тельца ноября
***
1.
этот парень местный придурок
околачивается во дворе
колупает мокрую штукатурку
присматривается к детворе
он думает так: вот моя вера, мама –
кирпичная крошка на крапивном листе
жизнь проходящая мимо
без всякого там «прости»
он рассеянно рубит крапиву
палкой и думает так:
человек должен быть красивым
даже такой (взмах) дурак
как я. втянув голову в плечи
он наблюдает молча
как веселятся дети
не понимающие что вечер
длинный тоскливый осенний волчий
тридцать лет как наступил на свете
он думает так: холод скамейка
котенка втоптать в землю ногами
мне тридцать лет мне не страшно нисколько
здесь с вашим детством и с вами
с вороньем на замызганных ветках
с крысой за мусорным баком
девочка шла почти на конфетку
но ее испугала собака
этот парень долгими вечерами
сидит под окнами во дворе
или слоняется по переулку
и я шепчу прижимаясь к маме
шепчу задыхаясь: пожалуйста не
отпускай меня на прогулку
2.
отец умирал опрятно, спеша
в противовес тому как долго
ехала скорая. есть душа –
отец говорил – даже у волка
у мотылька у цветка у воды
как это было давно, ты подумай
сын выносил собакам еды –
маленький мальчик в куртке с поддувом –
и под рябиной они толклись
жирный пакет в землю вминая
и дождь начинался и мы подрались
когда-то потом никогда я не знаю
3.
иногда я сижу под окном с сигаретой и пивом
мимо проходит с детства знакомый псих
дети кричат и играют с собаками – что мне до них?
я давно всех собак покормил но не вырос счастливым
***
допустим жизнь не сложилась
остается необходимость
даже какая-то смелость
человеку без божьего знака
в запертом теле пережидать мрак
в детстве тебе не купили собаку
а потом расхотелось
стало не до собак:
антарктический черный апрель
глотающий электрички
выжить бы самому
хватаясь за рифму «дверь»
хватаясь за рифму «спички»
как тонущий за корму
кроме того в мире где кошка гнется
собака ломается – лучше тонуть одному
надеясь что рифма найдется
быстрей чем сгустится мрак
до фазы когда не разглядеть ботинок
а жизнь прожить надо так
чтоб без денег на птичий рынок
возле горелого зимнего березняка
прийти и купить только душой щенка
***
оттепель шатры из простыней
ходит волк за слезный бугорок –
дальше богоизбранных зверей
от которых отвернулся Бог
лезет в класс косой весенний лед
рассекая надвое рассудок
никогда из мыслей не уйдет
это небо ветка самолет
капающий кран и время суток
голубая школьная весна
мыльные разводы в слезной пленке
у меня по-прежнему блесна
между ребер и в кишках потемки
во дворе все утро с веток льет
воробей разгневанно клюет
что-то в пошатнувшемся сугробе
все пройдет а это не пройдет
до звезды поднимется в ознобе
и обратно в тело упадет
***
симфонический холод осени на Лесной
под фонарем вставляется сумрак в резной
футляр сентября до золотого щелчка
на рельсах лежит станционная тень от «пока» –
это слово к прощанию ближе чем злое «прощай»
как судьба показала
сквозь феврали утешительно светит май
тем кто живет словно стоит на посту
нехорошем, «пока» молча держа во рту
чтоб болеть перестало
***
пусть тот ребенок что особняком
стоял на фотографиях в альбоме
однажды станет летним сквозняком
и ящеркой в крошащемся разломе
травой на полевом аэродроме
да будет несгорающим зверьком
на солнцепеке в Видном или в Химках
кто никогда не думал ни о ком
кто никогда не жил на фотоснимках
где бледные вздымались колтуны
алоэ и журчали батареи
где на доске распахивалась ночь
в которую ученики глядели
и видели похожие точь-в-точь
на точки звезды. пусть он станет точкой
в конце непродолжительной строки
в конце гудящей северной реки
и в заморозки въехавшего сада
где пахнет лист железом и молчит
и проступает взятая из ада
последняя на свете тишина
и подступает к горлу лимфоцит
и падает на землю пелена
после которой зрения не надо
на старой фотке свет давно потух
тому к кому судьба не охладела
спустился в рот холодный птичий пух
и музыка из белого предела
***
в зябкую минуту между волком
и ребенком, в перекрестных балках
недостроя где во мгле железа
зимнего белеют фонари
о себе прочтешь в учебнике зари
и пойдешь по стеклам перелеска
повторяя «это бесполезно»
к отдаленной станции любви
но они опустят занавеску
эту из стального полотна
снова – и закуришь, забывая
отдаленных станций имена
я скажу «прикрой меня, пока я...»
но меня прикроет тишина
***
как зима на угольной разгрузочной площадке
в середине лета играющего в волки-зайчатки
как письмо которое сам написал и отнес
идиот не тому адресату
когда он стал писать ответ
ты не умер а лишь изменился оттенок заката –
во дворе запускали петарды и не было слез
их и сейчас нет
этот ответ, которого хватит надолго,
присылают сюда по частям –
то окликнут во тьме, то во сне зазнобит
как когда наконец-то пустили на верхнюю полку
а там тени пришиты к теням
внахлест и сквозняк волосы теребит
Красная Голова
***
1.
мостовая пахнет тревожным снегом, ржаным, подовым,
грузная осень спускается вниз по горам и долам,
серым ледком подёргивается река,
синий парок поднимается от ледка,
зажатая в локте, немеет рука, и запах
лука и хлеба поднимается от лотка;
площадь полна докембрийским ужасом; громадья
сытого мяса теснится к булочной: попадья
прислоняется к двери, прижав к груди городскую.
от причала отчаливает ладья.
зазывалы и плакальщики, разодетые в прах и пух,
красные бубенцы, чёрный дёготь, кабацкий дух,
золотая каурка в грязной попоне,
нервная женщина на балконе.
каравай-каравай, кто хочет, тот отрывай:
в столице помирает Красная Голова.
2.
помирает
тот
чьё имя
гремело грохотом
отдавало хохотом
по простенкам
а потом
скребком скребло
и метлой мело
по застенкам,
одним только именем! —
а с другой стороны, что кроме имени?
если б не имя, разве б вы меня
убоялись?
безымянные не страшны, —
пил из тучного вымени,
золотой мошны,
обобрал десятину,
воздал сторицей,
чтобы в городе воцариться,
а ныне помер;
эх, реви, столица
безголо
ва
я
3.
лежит, бедный,
как пепел, бледный.
сбросили ниц его —
даже имя выцвело.
собрались вместе,
порешили судить по чести.
не суд, — судок
эмалированный:
присвистни —
звякнет
клуши
в коричневом
кликуши
в сером
судьи
в чёрном
одна Аннушка в голубом, и та сиротка
судят, судят мертвеца —
спали, бедные, с лица
решено:
обезглавить гидру закона
убить дракона
выбросить прежнюю власть с балкона
ламца дрица
гоп цаца.
прежний уклад нынче в опале.
гонцы под окнами ждут вестей, —
разделили тело на сто частей,
вывезли в сто земель
да каждую
прикопали.
4.
а на нашей улице
яблоня сутулится
когда наш господь серди́тся
яблок без счета родится
раз в три года господь сердит —
так повсюду яблоками смердит
нищенка на паперти хлеба просит,
господу прямо в уши доносит
на лице язвочка —
подай ей яблочка.
— сам ешь своё простое яблоко,
а у нашего батюшки
и райские не ядятся!
5.
каравай, каравай,
кто захочешь, отрывай!
мышка бежала,
хвостиком махнула,
слюнкою капнула,
коготком царапнула.
ящер приносит ящур —
чур меня, ящур, чур!
у чумы на ножках красные черевички,
не просит чума ни проса ни чечевички,
у неё на плечах золотые лычки,
а на щёчках бачки.
эй, говорит, народ, открывай-ка нычки,
доставай заначки!
каравай каравай,
стой в сенях и остывай,
зерно дорожает,
надо б нам ужаться.
урожай урожай,
уродился — не пожать:
жать-то некому,
хоть ты урожайся.
6.
каждой твари по памяти,
прочего не дано.
воспоминание опускается в прошлое,
как на дно:
Анну на шею —
и в речку.
человек, наделенный памятью, не жилец,
а скорее, живец:
нанижут — и подыхай,
важно ли, чтит он святцы или зурхай,
пшено или гречку, —
рыба, глотая, не спросит у червяка,
из какого такого он выведен черенка.
7.
так, я боюсь покинуть свой подвал: а ну
как мы, у осторожности в плену,
избрали сей незавидный обычай
в правители — ни красной головы,
ни белой головы, ни сор-травы,
но осторожность в тысяче обличий?
(газетам я не верю: так печать
умеет оглушительно молчать,
что гласность не сравнится с ней добычей)
мне снится, что на площади толпа,
и я в толпе, и мной овечий ступор,
как прочими, владеет. если лечь —
затопчут заживо. все в белом. проводник
мой, мой вергилий, в голубом:
то, безусловно, Аннушка-сиротка.
толпу ведут авгуры: десный — бык
от пояса, а у второго выше плеч
латунный рупор.
из рупора грохочут письмена,
слова — в печати, рукопись — нема.
Из архива Литературного института (с предисловием Екатерины Дробязко)
Михаил Бордуновский. ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В настоящей подборке представлены несколько стихотворений из Литинститутской творческой папки Алексея Парщикова: часть из них, насколько мне удалось выяснить, никогда не публиковалась, некоторые – публиковались, но требуют актуализации.
Обзор документов, найденных в архиве Литературного института и связанных с именем Алексея Максимовича Парщикова, должен был быть представлен 4-го апреля на Парщиковской конференции в РГГУ, но теперь, из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, эта конференция перенесена на осень. Работа с архивом Парщикова, безусловно, будет мною продолжена: документы требуют систематизации и комментирования. Но считаю необходимым открыть доступ к архиву для всех желающих, поэтому ссылку на скачивание материалов вы найдёте в конце подборки.
Надеюсь, что эта публикация не будет лишней. Обширное, исключительно богатое и важное для поэзии явление русского метареализма сейчас, на мой взгляд, часто – и незаслуженно – обходят стороной.
Выражаю благодарность администрации Литературного института за помощь в подготовке публикации. Благодарю за поддержку аспиранта кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Алексея Масалова, своих друзей по «За Стеной» – Владимира Кошелева, Юлия Хороших, Василия Савельева – а также Екатерину Дробязко, без чуткости и отзывчивости которой эта публикация не состоялась бы.
Екатерина Дробязко. К ПУБЛИКАЦИИ МИХАИЛА БОРДУНОВСКОГО
У Алексея Парщикова всегда под рукой: в компьютере, на дисках, флешке, был файл, его он своевременно обновлял. Сборники стихотворений, эпистолярия, прозы, который он переносил из рукописей – в машинопись, из старого компьютера – в новый.
Коллаж из писем, эссе, расположенных в порядке, им созданном, подчиненных его выбору и логике, а также отдельных стихотворений, составил книгу «Кельнское время», показав творческое настроение Парщикова. Эту книгу, состояние его рабочего стола, мы собрали с прозаиком Андреем Левкиным – вышла она в 2019 году в издательстве «Новое литературное обозрение».
Парщиков, часто намеренно, не оставлял датировки, и можно только представлять, к какому периоду относятся те или иные стихи; по сборникам, от самого первого, «Днепровский август» – до последнего прижизненного, «Землетрясение в Бухте Цэ». Для подготовки книги «Дирижабли», вышедшей в издательстве «Время» в 2014 году, я сравнивала стихотворения в каждой из его книг. Иногда в «теле» стиха было видоизменено буквально слово, и я указывала редакцию.
Михаил Бордуновский в своей публикации из архива Литинститута помогает восстановить хронологию.
Редактирование ранних стихов, а также писавшихся в актуальное время, – своеобразный авто-рерайт, эта работа поэта осталась не только в дигитальном виде. Блокноты Парщикова, где он постоянно вносил правки в сочиняемые на тот момент стихи – старые версии зачеркнуты большим косым крестом, и записывался финал – это его излюбленное обращение к аналогу, тактильные практики. Все это было так же своеобычно для него, как самому печатать фотографии и не использовать цифровые камеры и принтеры. Потому так интересно встретиться с его юными машинописными опусами, которые Михаил Бордуновский нам представляет своей колоссальной архивной работой.
Мы можем обратить внимание на то, что стихотворение «Статуи», написанное во время учебы, исчезло, а под таким же названием вышли совсем другие строки. Вот первое и второе стихотворения:
СТАТУИ
Когда мы больны,
когда ангины скребут нас серебряной ложкой,
когда за окном медовая осень,
засыпая,
мы думаем о статуях.
Как фамильные сервизы, они расставлены по саду.
Одни – с вымытыми глазами без ресниц, под воображаемым дождём,
другие – с побитыми летательными аппаратами за плечами.
Математическая песенка!
Ваятель
напомнил тебя
пятью пальцами,
пятью пальцами.
Внешние статуи предполагают машину времени.
Ручные часы столбенеют и лопаются,
когда с камнем на шее мы выныриваем на пляж,
где кроме Гомера… ни одного завсегдатая.
Внутренне – это аккумуляторы Духа,
где токи,
как сумасшедшие,
как орбитальные спутники,
как телеги с ушами,
маются,
бесхозные.
Сдвинуться с места – эмбриональная мечта каждой фигуры.
С К О Р О
первый взмах будут нянчить
каменные весы статуи Справедливости.
Как подводные валуны морочат себе голову несколько мгновений,
прежде чем упасть,
статуи,
стоящие в саду,
всю жизнь в мерцающей тревоге канатоходца,
пока мы спим,
пока мы больны,
пока ангины скребут нас серебряной ложкой.
(не позднее 1977 г.)
СТАТУИ
Истуканы в саду на приколе,
как мужчина плюс вермут – пьяны,
и в рассыпанном комьями горле
арматуру щекочут вьюны.
Лишь неонка вспорхнёт на фасаде,
обращаясь к витрине мясной,
две развалины белые сзади
закрепятся зрачками за мной.
А строфа из стихотворения «Фото II» –
Как голый в колючках, ты резкостью сжат до упора,
швырни иголку через плечо – она распахнётся, как штора,
за нею – в размыве – развёртка и блеск пустыря,
надзор отстающего,
младшего бытия.
– превратились в знакомую уже «Фотографию к "Выбранному"», где изменена последняя строчка:
Как голый в колючках, ты резкостью сжат до упора,
швырни иголку через плечо – она распахнётся, как штора.
За нею – в размыве – развёртка и блеск пустыря,
откуда душа возвращается на запах нашатыря.
В своей работе Михаил Бордуновский обращает внимание на «Осень» и «Осень в Киеве» (также неопубликованные) и на вторую часть диптиха «Поэзия для старой девы», первая часть которого стала известным стихотворением «Степь» («Пряжкой хмельной стрельнёт Волноваха…»).
Не все стихотворения Алексей Парщиков брал с собой в будущее.
Илья Кутик на юбилейном вечере, посвященном 60-летию Парщикова на Новой сцене Александринки в 2014 году, рассказал о видении и энергии в его стихах и прочел одно из своих любимых ранних стихотворений поэта – «Вариация». Оно напечатано в сборнике «Выбранное» 1996 года, но не вошло ни в одну из последующих книг.
ВАРИАЦИЯ
Нас ли время обокрало
и, боясь своих примет,
соболями до Урала
заметает санный след?
Сколько ходиков со звоном
расстилает сеть путин, –
тёмен сонник тех законов:
мы – одни и я – один.
Еду, еду, крестит поле
дикий воздух питьевой,
цепкий месяц входит в долю –
грызть от тучи мозговой.
Всё смещается отныне.
Дух к обочине теснит.
Циферблаты вязнут в глине,
образуя семь орбит.
И на стрелках, как актриса,
сидя в позе заказной,
запредельная виллиса
вертит веер костяной.
Почему Парщикову не захотелось включить это стихотворение в свою обновляемую папку? Возможно, потому, что слишком обычен хорей, или он выбрал другие метрические изображения, пользовался иным инструментарием?
По кропотливой работе Бордуновского в архиве Литинститута мы видим стихотворения, которые экранизируют рост, развитие поэтики Парщикова, а это сейчас – отдельный род литературы.
Впоследствии публикация будет сохранена на сайте www.parshchikov.ru.
СТАТУИ
Когда мы больны,
когда ангины скребут нас серебряной ложкой,
когда за окном медовая осень,
засыпая,
мы думаем о статуях.
Как фамильные сервизы, они расставлены по саду.
Одни – с вымытыми глазами без ресниц, под воображаемым дождём,
другие – с побитыми летательными аппаратами за плечами.
Математическая песенка!
Ваятель
напомнил тебя
пятью пальцами,
пятью пальцами.
Внешние статуи предполагают машину времени.
Ручные часы столбенеют и лопаются,
когда с камнем на шее мы выныриваем на пляж,
где кроме Гомера… ни одного завсегдатая.
Внутренне – это аккумуляторы Духа,
где токи,
как сумасшедшие,
как орбитальные спутники,
как телеги с ушами,
маются,
бесхозные.
Сдвинуться с места – эмбриональная мечта каждой фигуры.
С К О Р О
первый взмах будут нянчить
каменные весы статуи Справедливости.
Как подводные валуны морочат себе голову несколько мгновений,
прежде чем упасть,
статуи,
стоящие в саду,
всю жизнь в мерцающей тревоге канатоходца,
пока мы спим,
пока мы больны,
пока ангины скребут нас серебряной ложкой.
(не позднее 1977 г.)
***
Все стабильно в моей галактике,
еле различим известный стук,
наводимый правилами грамматики.
Ничего не случится вдруг.
Сперва Земля была в форме конуса,
поставленного на острие,
потом – в форме шара. В позе «лотос»
стабилизировалось бытие.
Валяемся на дне бассейна,
высохшего тому миллион лет,
кидаем бутылку желтого портвейна,
может – выпьем, может – нет.
Такая ровная, что тянет замахнуться
на эту землю, ровная земля
напряжена, как место для клейма.
Клеймо висит, не смея шелохнуться.
Тянущий овчарку за ошейник,
или волочащий свой портфель,
уравнены в движениях
натравливающих, указывающих на дверь.
Василевсы, которым верить
нельзя /такова их цель/,
любовь и убийство запараллелив,
взрывают стабилизирующий центр.
Их разорванные шинели
летят вверх, как завитушки
у мадонны Боттичелли.
Взорванные спят на воздушной подушке.
(не позднее 1978 г.)
ОСЕНЬ (Позднее – «Осень в Киеве»)
Тебя у окошка простуды держали,
И руки отталкивал жаром камин,
Природу на зоркий запрут карантин,
Повторы пустот, вот и всё содержание.
Слоны, как раздутые противогазы,
Качая ушами, въезжают в ангары.
Эмблемою вписан в окружности лужи,
Лист самодержавен и безоружен.
Закостенеет на кортах песок,
Словно паяцы – двуцветные корты;
От крепатуры, сезона и спорта
С собственным сердцем любой волосок.
Взойдёт, атлетический воздух расправив,
Бицепс гимнаста подводною лодкой,
Став рукопожатием воли и ловкости,
Усердием поз он исполнит алфавит.
Сгустятся пропеллером признаки плоти –
Цитрус в разрезе с зерном на оси.
За светофильтром литых оборотов
Осень по партам листвой колесит.
Медным ребром и натёрт и нагрет
Прочный, как пластик, сиреневый холод.
В мёрзлом пространстве, когда он уходит,
Тлеет краями пустой трафарет.
Звенят погремушки рябин после встряски,
И кляксы каштанов разломятся звонко,
Из равных скорлупок, из круглых колясок
Вдруг выпадут два загорелых ребёнка.
Пробьют концентрический город, как в тире,
Багряный и жёлтый, в надежде на синий.
(не позднее 1975 г.)
ОСЕНЬ В КИЕВЕ
Звенят погремушки рябин после встряски,
и кляксы каштанов разломятся звонко –
из равных скорлупок, из круглых колясок
вдруг выпадут два загорелых ребёнка.
Слоны, как раздутые противогазы,
качая ушами, въезжают в ангары,
эмблемою вписан в окружности лужи
лист – самодержавный и безоружный!
Закостенеет на кортах песок,
словно паяцы – двуцветные корты,
от крепатуры, сезона и спорта
с собственным сердцем любой волосок.
Пробьют концентрический город, как в тире,
багровый и жёлтый в надежде на синий!
(не позднее 1980 г.)
II-ая часть стихотворения «ПОЭЗИЯ ДЛЯ СТАРОЙ ДЕВЫ»
(первая часть стихотворения позднее стала стихотворением «Степь» – «Пряжкой хмельной стрельнёт Волноваха…»)
И в этот час – простыня твоя из фольги.
Голубь, фиолетовый как чесночная головка,
над ложем твоим сушит круги,
путает жилы снотворной веревкой,
Тьма накрывает промышленную округу.
Звенят – кто-то кому-то деньги отдает.
Шепчутся – уговаривают нервную подругу.
Топоры сосут из колод пот.
Как обрывок магнитной ленты хрустящей,
над мусорной свалкой рыба плывет,
ей в ответ шевелятся позвонки спящей –
33 глотка допотопных вод.
А ты прислушиваешься, мученица,
дни загадываешь наперед,
ждешь любовника, как домушника.
Ни тот ни другой нейдет.
Твои руки красивы, а бедра твои некрасивы.
И это тебе прощает степь,
с видом соперницы молчаливой
небо занявшая на треть.
(не позднее 1978 г.)
***
В сахарном тулупе он выходит, переступая таракана,
из коммунальной чадильницы,
а заморозки, если чай уже выпит, – это подстаканник,
на черном табло вечность мылится.
Инстинкты его подхватывают под мышки
и тащат через вселенную, хранящую про запас,
как в рассоле для опохмелки, увечья и шишки,
подарочные опухоли, пузырчатый шизоидный балласт.
А пронзило бы его серебряное сатори /от лба до паха/,
чтоб забыл он бумажный свой арт,
Солнце пикирует, размагничивая сердечник страха,
но он увидит море в рубашке игральных карт.
Так, он идет, а искуситель напарывается на акацию,
висит и той души не тормошит,
которая знает: Земля – сон Адама во время операции,
помнит: ужас был к любви подшит.
Не избегнуть ему машинистку с базальтовой улыбкой на щеке,
ее военную тягу к лесам;
силовую игру с зеркалами, когда, словно жук в песке
карабкаясь, он себя побеждает сам.
Как заснять бы его из-за мусорных ящиков!
Ядовитая чалма. Червонный камзол.
Чтобы мимо нас – умников и переодевальщиков –
он, как сотенный, пошел.
Пошел! в паутине винтового алкоголя,
но не доставшийся этому ловцу.
Мы к шлемам парики Горгоны прикололи.
Он бешеней столба на круговом плацу!
(не позднее 1978 г.)
***
Раскисшая труба взошла и перестала,
И месть была хрупка, как амфора, когда,
Вращая корабли, солёная вода
Арканила в прыжках нахохленные скалы.
Сменились имена, пока, сверкая каской,
Оглядывал холмы ленивый Ахиллес,
Промасленный шатун с копьём наперевес,
Плутает без тебя небесная коляска!
Качаясь на цепях, пылала котловина
Зеркальная впотьмах, и первые ряды
Обваливались вдоль и лущились, как льды.
Лоснились облака и пахли, как резина.
Опять сама с собой ребячится Эллада,
И воет, и скорбит, заламывая глаз,
И женские хоры, спокойные как газ,
Несут на головах сосуды сна и яда.
Печальные ключи за пазухой у страха,
Печальный от костров вкруг города дымок,
И времени в обрез и безвременья впрок,
И хохот, хохот горного размаха.
(не позднее 1976 г.)
ФОТО II
На животе болтаясь, косой сугроб,
моток сияния с липким стрекалом –
фотоаппарат
улавливает, как гроб
с днищем зеркальным.
И выброс тьмы осыпается на висок,
посадку,
гранёным застольем над тобой диафрагма – чок!
На плоскости ты будоражишь глухой порошок.
Вижу костяк в дебрях крючков, полукружий,
и задатки без любви,
всё дело в завязях, в породе ос кольчужных,
чтоб дыбу рассмешить и молвить:
удиви!
Как голый в колючках, ты резкостью сжат до упора,
швырни иголку через плечо – она распахнётся, как штора,
за нею – в размыве – развёртка и блеск пустыря,
надзор отстающего,
младшего бытия.
И ты выходишь, как из ожины,
с лицом Орфея,
бесповоротно оживая,
благославляя пружины
фотоаппарата, которым я заслонюсь
от зияния нейтронных сот,
засвечивающих твой род.
(не позднее 1980 г.)
ОБВИНЕНИЕ /по мотивам В. Гроссу/
Ты обвиняем в том, что, бросив дом,
теперь твердишь, мол горизонтов дуги
распрямлены, а мышцы от натуги,
кривясь, рвут всё, что связано трудом.
Бывает, что пока вообразишь
высокий путь, а дух уже виновен.
Он волшебству, наркозу равнокровен.
Виновный, силам тяжести ты мстишь!
Ты говоришь, что тело есть кувшин.
Ты осуждён за это потому что
упившимся под утро станет скушно.
Ты разряжён, как воздух у вершин.
Когда хрустит сиреневая ночь,
и луч заломлен за спину планеты,
ты осуждён за то, что у поэта
хватило арфу через грязь волочь.
За одиночество ты осуждён,
похож на тех, кто имя потеряли,
ты, как улитка бродишь по спирали,
ища свой дом. Улитку ищет дом.
И если бы ты мог, ты был бы рад
проткнуть себя каким-нибудь железом,
ты вырастил бы нож в снегу чудесном.
Ты виноват. Ты только виноват.
(не позднее 1980 г.)
Скачать документы Алексея Парщикова из архива Литературного института
Пчела номер восемнадцать «Б»
А. Парщикову
…Но пчела оказалась нема
Лишь дрожала, как пульс
под придавленным мозгом.
Я себя ощущал до того грандиозным,
Что была и пчела от меня без ума.
На иголку часов
наступило горячее тело зачатья.
Все лучи собирая в единый пучок,
Над ячейкой раздвинулись стены объятий,
Обнажив потолок.
Он был бел, как и все потолки.
И казался похожим на саван,
На киноэкран.
И просвечивал мутно и скучно.
А сверху
беззвучно
трещал аппарат сновидений.
А сверху и рядом
был заметен скрюченный
силуэт киномеханика
который подглядывал в щелку за нами −
жизнелюбиво и кинолюбиво.
Щелкала музыка перфоленты.
Били сухие молоточки без звука.
Иногда по программе эксперимента
Я пчелу обнимал
и подносил к уху,
как японский брелок-игрушку.
Пчела была замкнута, как фасоль.
И непредсказуема, как сифилис.
Она могла укусить меня в руку,
покамест ножки её не вытянулись.
А я открывал ладонь,
и вытягивал руку,
и поднимал её все выше и выше −
почти любуясь,
откровенно любуясь
пчелою,
её золотым телом…
Между делом поглядывая на часы.
Но, конечно же, исключительно
м е ж д у д е л о м.
А пчела трепетала.
Её золотое тело
То дрожало в моих руках, то немело.
И сладчайший яд источало
напряженное, как антенна,
жало.
И, казалось, я – навсегда овладел пчелою.
И, казалось, пчела – навсегда овладела
мною.
Но сухая музыка царапнула в аппарате,
Оборвалась. И нас залило светом.
А киномеханик,
хоть и присутствовал при этом,
Но посапывал по-соседски
и посвистывал по-английски и по-немецки.
…А пчела оказалась нема.
Лишь дрожала, как пульс
под придавленным мозгом.
Я себя ощущал до того грандиозным,
Что была и пчела от меня без ума…
Свет пронизывал нас насквозь.
Туда и обратно.
И на том отрезке, что был нам дарован,
Мы взаимно уничтожали друг друга.
Как ответ и условия школьной задачки.
1989
Что это было?
***
посвящается Дарье Даниловой
Глаза-бурлаки к свету тянут Василия Филиппова,
Много-но-ногая тень под софитами –
Я, Ты и Василий уже Савельев –>
Modernae poeticae vitae.
Глаза утянули на свет.
Гроб уплыл.
Мерц-два герц-мерцание
In seinem Herzen und seiner Schwester, Schwarz Елены –
Моё поколение новых эллинов
Утянуло тело её в море Букв-на-Буквах,
Я в бухте Цэ. Стрекозы обретают власть скорпионов,
Поэты обрели власть пионеров,
Прыгаю на подножку ближнего своего –
Всё это не кровь, а закат на лезвии ножа.
Мы засыпаем в обнимку в летнюю ночь,
Точь-в-точь как засыпали вы и твои воспоминания в моей голове,
Осаживаясь отдавшими себя целиком чаинками.
Мы просыпаемся в красном тереме,
Где стих русский бессилен,
Поэтому придумаем раздвоение
И растворение в незримом варианте номер два.
Номер два.
Мы засыпаем в обнимку на паперти
Из импортированного китайского фарфора.
Фанфары, фонтаны, фейерверки, тайфуны –
Всё перед глазами безродных.
%*@#!
Миша: всё ясно!
Ты не учитываешь мой ракурс, когда загораживаешь очевидное.
Мандельштамовское проседание, например, и сложенных нас до кучи.
Всё ещё лежим два дня, не надеясь на солнце,
Только тьма и температурная память о нём в адском холоде.
«О дочь, красою мать превзошедшая,
Сама придумай казнь надлежащую...»
– Гораций Флакк, XVI
О, о, о мой женский двойник,
Ты хранишь в себе вариант номер три,
Я боюсь быть голым, босым и без шапки,
Бессовестным, жадным и шатко
Ходить по лезвию любви.
Но мои ступни, как слышно, все ещё шархают,
Значит всё хорошо, моё солнышко, продолжаем.
[из воспоминаний бывших людей]
Тротиловый цвет крови
Бурлит, бур-бур-бурлит.
А твой – пурпурный
Не перелить в меня, не перелить.
Но это не кровь, а закат на лезвии ножа отражается.
– Зря!
– И его, И она.
ва во мне, и в тебе.
Я один здесь в красках,
Единственный запахи различаю:
«Сосна зелена на высоком комке», – цитируя Хлебникова наугад в тему,
А если своими словами:
Чёрно-белый гражданин вышел из экрана шестидесятых,
Чёрно-белый гражданин ослеп.
Ты понимаешь, как здесь страшно?
Двухцветная армия с автоматами падала
С пределов мерцающего монитора,
Это в четвёртом варианте опишет Василий
Двадцатого мая дветысячи нашего года.
Я же буду писать о
продолжении следует
ЧТО ЭТО БЫЛО?
Здоровье вырастает скелетом коршуна, начиная когтями и заканчивая клювом. Он летает двадцать лет, оперевшись в трупы, найденные позади. Его, уверенного в своей орлоте, встречают прохожие по дорогам города. И невидимая связь устанавливается между подметающим дедом и пролетающим живодёром, пометающим в него. Есть два вида этих птиц: первые – просто бесы в оболочке искусственного интеллекта, вторые интереснее – это искусственные интеллекты в оболочке бесов. С ними мы ведём разговоры в кабинете школьного психолога, детской комнате полиции и последний раз – на пороге в дверь подъезда номер 6 большого дома на окраине Якобовского района, параллельной Лебедеву ветки метро.
Там был мальчик восьми лет. Лоб-в-лоб ему встретился сын Ирины, неблагодарной господу + её соседа. После того столкновения от мальчика остались только рожки да ножки и оголенная, как его предок на голгофе, нервная система. Его оперение забрал коршун, всё больше становившийся комом, как первый блин медведям – "ар-ар" – говорит коршун, (что, что, что? – говорит читатель). Тем не менее, это отфильтрованная метафорой физика, а потому честная правда. Я видел своими глазами, пряча ноги в бегу, как этого мальчика вымерщвили за одну встречу и пошли обратно, довольные, как ни в чем.
Мальчиком был знакомый (между нами) моего приятеля. Он отстриг себе волосы, забросил мамину опеку и свихнулся в кровати на третий месяц. До свидания.
МЫ ЛЮДИ, ВЫШЛИ В ЛЮДИ
Мне раздробили все кости, потом они срослись, но срослись неправильно, совсем неправильно. Обычно я сижу в комнате зашторенной, поэтому мои зрачки всегда расширены. Но раз в день приходится выходить на люди.
Хромая для общей земли нога и тремор правой руки, а ещё горб социальных наростов, в тени от которого я нахожусь всегда – такой портрет я рисую дрожащей рукой.
– Ты написал это правой рукой? – спрашивает меня неважно кто.
– Нет, не левой. – отвечаю я ему и жду реакции. Не дождавшись, я ухожу от аллегорий к алкоголю, и мы находим общий язык, упрощённый русский пиджин. Совсем не моя поэтическая речь. И тогда швы на моём горбу рвутся, из него просачивается тератома – опухоль комплексов, фобий и закопанных людей. Только тогда мой пьяный друг замечает горб, трясущуюся руку и даже несвойственную мне походку. Конечно это так, ведь я с первого знакомства своровал его отпечатки пальцев, сетчатку глаз и сердечный ритм тоже скопировал.
И когда я тебе сердечно говорю, ты меня понимаешь.
Наступает вечер
***
мир был "еш",
мир был "аин"
– я учился в школе
и знал имена всех учениц
наизусть.
мир был "еш ми еш"
– я пробудил школьниц
ото сна и от имен их,
словно вынул из скелета сердце.
мир стал "еш ми аин"
– я баюкал их имена
на руках на своих,
на ладонях.
ОТРЫВОК
...и вот нападение цеппелинов
скрывающихся под тенью друг друга
воздушные драконы и надувные жабы
с ласковыми именами
гигант акрон гинденбург
резвятся как овцы в кошаре
и почти невесомы
парящие самоубийцы
оставляют лишь сладкий воздух
после себя
в морозное утро
ЧЕРНОЗЕМ
1.
тепличный сад апатией проникся
гордый гладиолус отвоевывает
реальность кусочек за кусочком
как нож но не справляется и укатывается
обратно в луковицу
лишь чернозем недвижим и спокоен
как облако ранней осенью
ведь память возвращает время
натягивая вожжи
2.
чернозем не знающий как жить
взращивает цветы в своём сердце как рубцы
полугнилые листья притворяются
прожилками влажного воздуха
а вот и зима и добродетельный снег
согретый в теплице
***
девочка за шторкой –
тонкая эмоция,
словно инок ночи,
наклонись ко мне.
я впервые чувствую боль-любовь
и не знаю, как реагировать;
утка крякает по-разному
от боли и от любви,
а мне впервые приходится плакать
(как человеку),
ведь ты прекраснее даже,
чем в этом стихотворении.
вот бы я был не человек,
а остров-василий-савельев…
***
Я: в наблюдении –
плотность высаженных собак
в закольцованном воздухе
ушла восвояси.
что ждёт нас теперь? –
только ветер, который крепчает;
зелёный ветер.
***
вот веточка
наклоняется ко мне,
как дождик из тумана –
а я уже несу стихотворение,
словно целебный торт,
для сердца своего.
ПТИЧКА-СПИЧКА
слеза моя напомнила о птичке
мне хочется за птичкой подсмотреть
о птичка догорающая спичка
мне хочется с тобою улететь
вот я без птички
грустный обозленный
лежу как провод оголенный
***
распечатана птица на небе –
фотокарточка, hd-павильон.
фотокарточка: фиолетовое небо,
птица застряла – тупиковый
путь.
...
обчелся
– дважды – и трижды...
***
посв.
окно; ветка; окно;
– дерганые ставни –
слушай малышку
и прячься за большими экранами, –
большое даровано;
несбыточное опознано;
садик и дерево
– древо –
прощай;
я опомнился
...
смутился
***
как ветер
бегают сонные девочки
и разрезают свои
молодые пятки
о нежное морское дно
кто вернется спасать их?
может быть я
наблюдающий из-за угла?
может быть я
наблюдающий из-за угла
***
несколько ангелов в сизой темени
переводят рильке минуя его самого
летящего меж звезд и материй
аве небесный рильке
простись с милкой своею
чтобы рожать стихотворения
собирать как урожай
и оплакивать как следует
в губы ангелов ложатся
рильке нежные стихи
сам он всматривается в ветер
наступает вечер
аве-
аве
Вполне съедобные яблочки. Рассказ из цикла «Жизнь незамечаемых людей»
Один, кажется, довольно известный, но уже не слишком молодой человек, переживший в душе далеко не первую юность, приехал на свой дачный участок, чтобы там в уединении о чем-то подумать.
Но при виде богатства яблок в том году не удержался и перестал думать; мысли его разбежались, и он невольно стал собирать яблоки, срывая их с деревьев или поднимая с земли из листьев. Он был так долго поглощен природой, что понял, что ни о чем не подумал, а ему уже надо было собираться обратно. Поэтому он все же решил собрать свои мысли в кулак и, наполнив яблоками довольно приличный рюкзак, поспешил с ним на станцию.
На этот раз мысль его захватила, и он многого не замечал вокруг. Когда он взбежал на платформу – а она была центральной, так что пути огибали ее, как раз подошла электричка, и он запрыгнул в нее, радуясь, что ему повезло. Но когда поезд тронулся, он взглянул за окно и заметался мыслью внутри себя: он понял, что, вместо того, чтобы сесть на электричку в Москву, второпях сел в противоположную сторону. Подумал он даже и о стоп-кране, но потом усмехнулся, вспомнив, что ситуация его похожа на такую же, как у одного из героев Набокова. Только тот не подозревал долго о том, что движется не в том направлении, а он-то сразу все осознал. Но это его не особенно порадовало; к тому же он не мог вспомнить фамилию героя, и это его стало почему-то мучать.
В вагоне почти никого не было – через несколько скамеек к нему лицом сидела какая-то одинокая женщина, по виду его ровесница. Вдруг она поднялась с места, возможно, заметив его мелкие метания и движения лицом во все стороны; она подошла с улыбкой и села напротив него. Потом произнесла тихо:
– Я сразу вошла в вашу ситуацию… сели… то есть поехали не в ту сторону… Не вы первый, но и не последний… Но теперь можете успокоиться… Поезд сейчас будет идти без остановки… Так что полчаса свободного времени у вас есть. Потом вдруг она спросила его:
– Вы любите деньги?
Немолодой уже человек задумался, и это явно понравилось дачнице:
– Вы первый, кто замолчал после подобного вопроса. Обычно отвечают, произнося какую-нибудь банальность вроде: «без взаимности» или что-то такое… Вы внушаете мне доверие.
– Я рад за себя… и за вас.
– Хочу вам предложить, раз вы оказались в такой ситуации… Конечно, не за просто так… Помочь починить мне крышу, а то она протекает…
Он опять молча смотрел на нее.
– Понимаю… Вы смотрите недоверчиво… Опасаетесь, что слабая женщина заманит вас в ловушку… Когда будете на крыше, уберет приставную лестницу.
– Нет, думаю, ловушка меня поджидает раньше… в саду.
– Ну разве что яблоко вас зашибет… Больше, уверяю, никаких опасностей…
– Впрочем, да… Чего опасаться, я яблоками столько раз за сегодня травмирован… Столько раз они били меня по макушке… Учили уму-разуму… Хотите яблочка?
Теперь она молча посмотрела на него.
– Да вот, если сомневаетесь в свежести и незапятнанности яблока…
Он достал большой носовой платок, вытер им яблоко, которое тут же крупно надкусил - и взглянул на попутчицу. Затем взял за уголки платок, как фокусник, демонстрирующий, что никакого обмана нет.
– Вот, можете убедиться, что чистый абсолютно.
– Но наверняка на нем много болезнетворных бактерий.
– Думаю, на нем бактерий полно, но почему сразу болезнетворных?
Он тут же достал из бокового кармана рюкзака сложенную газету «Метро»:
– Ну, вот можно взять газету… Сегодня утром при входе в метро мне вручили. Она абсолютно чистая, не читанная мной.
– Но когда ее выпускали, ее же читали.
– Не думаю.
Она взяла один газетный лист и понюхала его с сомнением:
– Типографской краской не пахнет. Вот это подозрительно…
Но все же она взяла этот лист и тщательно обтерла им большое румяное яблоко. Потом взяла уже другой листок, плеснула на него водой из маленькой бутылки, которую достала из сумочки, и вытерла яблоко листком, так, что оно стало блестеть. И затем окончательно вытерла фрукт третьим листом газеты. Потом посмотрела яблоко на просвет. И хотела его уже укусить, но взглянула еще раз на попутчика:
– Что вы так пристально смотрите на меня - ждете, что съем и засну, как царевна?
– Да вы не бойтесь, от него еще никто не засыпал.
– Хотите сказать, что я не похожа на спящую красавицу?
– Вовсе этого не хотел сказать… Вы еще Белоснежку вспомните… Все это литературщина какая-то…
Тут она усмехнулась и, держа яблоко в руке, сказала:
– Ну если уж кому протестовать против литературщины, то точно не вам… Вы же чисто литературный персонаж… Как набоковский Пнин, севший в поезд не в ту сторону.
Тут он вздрогнул – имя, которое он искал, явилось совершенно неожиданно:
– Неужели вы читали Набокова… Встретить в пустой электричке любительницу литературы…
– Я не только Набокова, но и Пнина читала.
– Поэта Ивана Пнина?.. Откуда?
– Да, мой литучитель Тузов… мы еще звали его в классе Тузенбах… Много нам кого из того времени читал.
– Подождите… У меня тоже был учитель Тузов… Вы что, тоже 2158-ую школу заканчивали?
– Именно… Я училась в 10-м «З», а вы?
– В 10-м «Ц»… Понимаю теперь, почему мы с вами не сталкивались… Только Тузов у нас проходил как Рейтузов, а в 10-м «М», я знаю, у него было прозвище Бутузов.
И тут «З» и «Ц», не сговариваясь, стали читать стихи из разных веков, которые, как они помнили, читал им Тузенбах, он же Рейтузов.
Они немного расшумелись и заметили, что из дальнего конца вагона поднялась и приблизилась к ним чета, судя по всему, пенсионеров и сразу же предложила им поучаствовать в бесплатной лотерее. Выпускник 10-го «Ц» спросил:
– Имеете в виду, что ничего нам не выплатите, даже если мы выиграем?
– Да нет, это вообще бескорыстная лотерея.
– Тут же бывший 10-й «Ц» предложил им два яблока, обтерев их оставшейся страницей газеты. Они охотно согласились и присели к ним на деревянные лавочки. Видно было, что они давно ничего не ели, но вкушали яблоки, никуда не торопясь – и с нескрываемым достоинством.
Выпускница 10-го «З» смотрела на них напряженно, ожидая результата, но с ними ровным счетом ничего не произошло, если не считать, что каждый после восьмого яблока слегка зарумянился. И тогда «З» поднесла ко рту то большое яблочко, что держала в руке, и съела его, в этот раз не задумываясь.
В вагон вошла гармоника, появление которой почти никто не заметил. Но все же, повернув на секунду голову в сторону музыки, пенсионеры сказали:
– Мы слышали, что вы тут стихи декламировали… Слышали, что вы и из нашего любимого восемнадцатого века читали… Но только вот то, что вы прочли: «А весна, как струна, занывает в груди…» – это совсем из другой оперы… Это какой-то уж слишком явный девятнадцатый… Да еще его середина, сердцевина… Его мякоть… подгнившая…
– Ну, конечно, это Крестовский… Всеволод, – сказал человек с яблочным рюкзаком. – Могу и еще что-нибудь из таких же прочесть… Из Розенгейма, Курочкина, Щиглева, Буренина, Шумахера, Алмазова… Из кого хотите. Вот, пожалуйста, поэт Иволгин… Александр, которого вроде бы в «Искре» знали под псевдонимом А. Волгин, а в «Будильнике» он был известен как Чижик. Вот, например, из него:
И долго я слушал ту песню печальную,
Глубоко тоскуя и слезы тая…
И вспомнил я с грустию родину дальную
И синюю Волгу и песни ея!
– Ну чего вы в противный девятнадцатый потащились – насколько осьмнадцатое столетье благородней, очищенней и лучше… Насколько лучше их всех Иван Пнин. Вот как раз его «Терновник и Яблоня», – произнес пенсионер, глядя на рюкзак с яблоками. – Я же знал наизусть… Но и сейчас что-то из него помню:
Вблизи дороги небольшой
Терновник с Яблонью росли;
И все, кто по дороге той
Иль ехали, иль шли,
Покою Яблоне нимало не давали:
То яблоки срывали,
То листья обивали.
В несчастье зря себя таком,
Довольно Яблоня с собою рассуждала;
Потом
Накрепко предприняла
Обиды все переносить
И всем за зло добром платить.
– Дальше вроде что-то такое, – и он стал, уже невольно согласуясь с музыкальными тактами звучащей гармоники, слегка нараспев читать:
Терновник, Яблоне слова сии твердя,
Над муками её язвительно смеялся.
Но вдруг – откуда, как, совсем не знаю – взялся
Прохожий на дороге той
И, Яблони прельстясь плодами,
Вдруг исполинскими шагами
Подходит к ней и мощною рукой
Всё древо потрясает;
Валятся яблоки сюда, туда,
К ногам Терновника иное упадает.
– Дальше не уверен, что дословно… Про прохожего:
И как-то невзначай за терн он зацепляет –
Мгновенно чувствует он боль в руке своей,
Зрит рану и зрит кровь, текущую из ней,
И чает,
Что сея злее раны не бывает.
Правдива ль мысль сия?
Кто хочет, тот о том пускай и рассуждает:
Рука его, а не моя.
Но это пусть всяк знает,
Что в гневе, в ярости своей
Прохожий до корня
Терновник отсекает.
– Мораль не помню дословно, но окончание вроде бы близко к точному:
Что люди добрые хоть терпят и ужасно,
Хоть сильно гонят их, однако ж почитают,
Злодеев же тотчас немедля истребляют.
– Да откуда вы это знаете? – спросила, по-видимому, почти похолодев от неожиданной догадки, попутчица. Неужели… Неужели у вас тоже Тузенбах учителем был?
– Только наш Тузов был… Почему Тузенбах? Да, это он нам внушил любовь к поэтам рубежа восемнадцатого и девятнадцатого столетий.
– Значит, вы тоже из тех же десятых классов, – почти хором сказали «З» и «Ц». Но все же вы-то как называли Тузова?
– Да, мы из 10-го «Я»… За одной партой сидели, – растерянно сказали пенсионеры. – Но как мы называли Тузова, не помним… Да мы его самого можем спросить. Он сейчас в соседнем вагоне едет.
– Не может быть, – тихо воскликнули первые попутчики. – Но почему же не в этом? Брезгует?
– Нет, дело не в этом… а в силу особой деликатности. К тому же, может быть, он не хочет, чтобы через сорок лет после выпуска ему предъявили претензии в особых взглядах на школьников и школьниц.
– Тогда идем к нему туда сейчас же и немедленно, – закричал 10-й «Ц». – У меня еще полрюкзака яблок осталось. Мы его буквально закидаем ими. Заставим его их все съесть и зачитаем его стихами Пнина, Востокова и Василия Попугаева.
Гармонист, хотя был в отдаленье, словно бы их услышал и, завершив про любовь, начал что-то про яблоки. Все взглянули на него, понемногу о чем-то догадываясь.
Гармонист медленно пошел между пустых скамеек и, когда поравнялся с ними, все, не сговариваясь, положили по яблочку в его подставленную большую шляпу.
Когда он тихо прошел мимо, пенсионеры встали и так же тихо сказали всем:
– Да он же идет в вагон к Тузову. Айда за ним.
И все медленно поднялись и пошли вслед за музыкой, глядя на прошедшего гармониста и смутно узнавая спину выпускника 10-го «Ю» класса.
Фрагментация бытия в новой книге Анатолия Кудрявицкого
Кудрявицкий А. Очертания: Книга новых стихов. Чебоксары, Москва: Free poetry, 2020. 68 с.
Новая книга стихов Анатолия Кудрявицкого, поэта, прозаика, переводчика, основателя поэтической группы мелоимажинистов, показывает работу с фрагментами бытия, воспроизводя своеобразный «лирический дневник» из деталей, ассоциаций, осколков прошлого и настоящего.
В помещенном в первую часть книги заглавном стихотворении строка «царства внутри тела / молятся структуре» подчеркивает внимание не к конкретно воспринимаемым предметам, а к их внутреннему содержанию, к их вещи-в-себе. Поэтому от телесного текст переходит к деталям пространства:
Следуй за мной мимо мокрых взглядов
по бескостной ряби крыш
Что спит перед сном?
Чувство вакуума
километры тьмы
глотательный рефлекс стен
с этой минуты мы ведем себя хорошо
Такое абстрактное изображение может связываться сразу с двумя традициями художественного письма: имажинистским «каталогом образов» и сюрреалистским сопряжением несопрягаемого (а-метафоры), благодаря чему эти «очертания» пространства представляют собой инверсию внешнего во внутреннее и внутреннего во внешнее – «инсайд-аут», по К. Кедрову, с которым Кудрявицкого связывает долгое творческое сотрудничество.
Образность в книге номинативна, такую поэзию можно назвать предметной, ведь выкладывая детали и ассоциации в эти каталоги поэт нащупывает их метафизическую глубину, ищет новые смыслы, при которых «кометы жонглируют предметами».
В его стихах посредством этих номинативных единиц, деталей выстраиваются и очертания мест и событий. Так, в «Реканати» не описывается география родины поэта Джакомо Леопарди и оперного певца Беньямино Джильи, а создается ассоциативный ряд, каталог образов, заново собирающий и реальность, и саму возможность ее восприятия.
Опера – мечта плотника
оперы рождаются без речи
оковрованными
Из керамического рта
облачко утр ангела
в дверях
смесь сознания и тела
Дай мне дымного леопарда
окружи гвардией гардений
пусть расплывается желтизна
Каменные плиты
здороваются с подошвами
монастырская лестница дышит
изгнанием
Голос
шаг –
один из них слеп
В этом стихотворении выражается сквозная тема сборника, тема изгнания, в связи с чем «лирический дневник» книги обретает и смысл путевых заметок изгнанника, человека без родины, которому «матерью стала Природа, / а вовсе не Родина-мать», как писал Анатолий Кудрявицкий в 90-е, и путь его лежит через «Пески Сендикукоува», «Тибет», «Кавказ», «Финляндию» и т.д. Однако изгнание изображается не прямолинейно, а остраненно, в сопряжении внешнего и внутреннего. Как, например, в стихотворении «Девяносто девятый выдох изгнания»:
В этих лесах к северу от спокойствия
за горами причин
деревья растят глазные яблоки
под каждым листом
Искры искренности
дневная соль на вечерней коже
университет вселенной
Сюрреальная метафорика здесь служит способом воспроизведения ассоциаций, конструирования поэтической биографии как вещи-в-себе, контуры которой являют «Жизнь в слепоте молока / рядом с маяком направлений», а познавать бытие – значит «пить соки времени / чтобы убить время».
Отчасти этому же посвящена и вторая часть книги, отведенная для стихов 1990-1993 гг, в которой метафора медиума-полароида позволяет выхватить из реальности мгновение в его «первозданном базальтовом хаосе», как например в одноименном с разделом стихотворении «Моментальные фотографии»:
Ножницы эскалатора
перекрещиваются
в точке моего взгляда
выхватывают моментальные фотографии
бледных лиц
жизни
жизни
жизни
проплывают мимо
Так и в стихотворении «Сон о Париже» изображаемое бытие застывает в фотографических ассоциациях через имагинацию сна, что открывает читателю возможность сугубо личных, индивидуальных интерпретаций:
На мокрой мостовой
холодный пожар парижских огней
радуга другой жизни
Утром – снег
белые стеклышки
рассыпаются фотографиями
тают на чернильном асфальте
Третья часть «Зву-чары» представлена экспериментами в области формы, обращенными к магии выражения, о чем свидетельствует само название части. Здесь поэтическая заумь стремится воспроизводить синкретическое камлание, графический эксперимент соединяется со звуковым, благодаря чему создается особый мелос стиха:
ветер зеленых звезд
звездесущ
за окном
антенны елей
в окне
антенатально
елейно
комнатно
оплывает лавой
розовосвеч
сон висков
сок високосного
года
Эксперименты со стихом Анатолия Кудрявицкого выражаются и в тексте, написанном с элементами компьютерного языка perl, и в транспозиционном стихе, и в трех минимизированных стихах, представляющих собой переосмысление классических текстов через «сито логического отбора»:
Помню: явилась
снилась
любил
забыл
скучал
опять явилась
упоенье!
(Экс – Пушкин)
Именно синтез различных способов поэтического письма, представленный в трех частях «Очертаний» Анатолия Кудрявицкого, позволяет изобразить бытие-в-себе через его фрагменты и ассоциации, переосмыслить саму природу художественного высказывания через «лирический дневник» скитаний изгнанника по различным географическим топосам и культурным эпохам. Саму книгу можно назвать «каталогом поэзий» Анатолия Кудрявицкого, т.к. в ней он представляет различные поэтические техники, которыми он пользуется: от «каталога образов» до зауми и комбинаторики, от сюрреалистической метафорики до политической поэзии (как в стихотворении «Красная книжечка»), что выражает характерную для современного (пост)авангарда тенденцию – попытку собирания из осколков мира новых смыслов, новой метафизической глубины.

