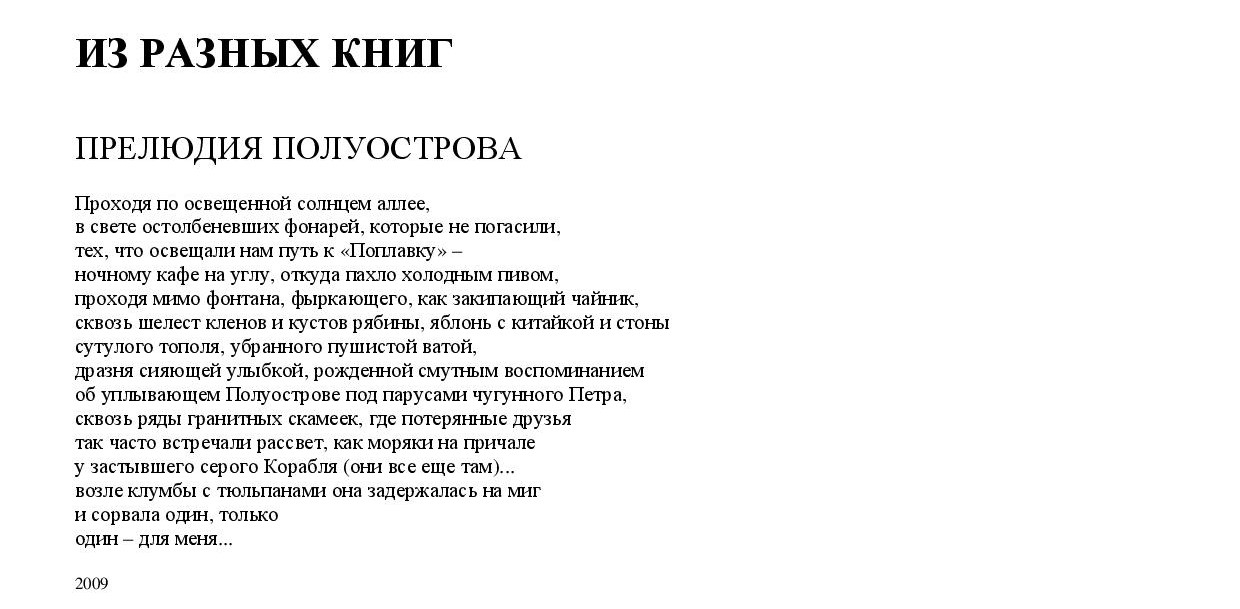«Флаги». Пятый номер

Содержание
Фото на обложке – Никита Караск | inst: @karaphos
Обрывки снови
но не хватило ского языка
тот драгоман мне был сестрой и другом
мы понимали больше, чем могли
и более, чем смели бы признаться
всеговь взводила как пружины нас
в условных птичках с ключиком в спине
и запускала как юлу по кругу.
отчаянные дервиши грошовых
игрушек жестяных клевали носом
в не прерывавшемся ни на секунду сне
^
формирование облака в неоднозначном смысле
формирование облака в его продолжении
формирование облака происходит относительно просто
стоболь небесная земная
стоболь незабвенная позабытая
освобождение произойдет неминуемо
стоболь бесснежная зимняя
стоболь жестокая нежная
побег все-таки состоится
^
...арастает
снова можденикой
пустое обещанье постоянства
невместности всегдавние посулы
как медометие
из улья сновидений
где сонником открылась
книга сот, пообещав неслыханное счастье
а ты его на черный день заныкай
роеньем насекомым темной ночью
пусть мошкара в луче фонарном блещет
а рядом комары пускай сияют
их звон над ухом светится пайеток
циклоидным чешуйчатым строеньем
и в них чужие лица отраженьем
невидимым неслыханным неслышным
возникшей в незапамятстве тебе
являются из...
^
не находя себе оправдания
роешься в бельевом шкафу
как в памяти
извлекаешь на свет
пододеяльники простыни
извлекаешь на свет божий
прорехи с дырками
ставишь заплатки
вяжешь веревочную лестницу
узнаешь комарино-ягодные пятна
улетучившегося летнего прошлого
а там глядишь кто-то ожил
и снова пьет твою кровь
возрадуйся
и беги
по кругу
^
это всё разные времена года
разные годы времени
пахнет почему-то скипидаром, живицей, хвоей
в такой последовательности
несвобода иногда предпочтительней
кажется человечнее правдивее
ну а как свяжут по рукам и ногам
не вырвешься
станешь брыкаться из последних сил
вскипит возмущенный разум
тут-то и поймёшь, что этот циферблат
задаром тебе не сдался
^
снилость
сноставленные анфилады комнат
там, где и одна-то с трудом уместилась
итого: много
неуместность необоснованность
помнят:
пространство составлено из заплат
и заплачек
из-за палат грановитых чертогов
лунные хижины и лачуги
глядят виновато:
это какой там по счёту евклидов постулат? шестой?
сонливость
одним ударом способна
покончить с любым те
^
я покорно проверить и подожди
предполагателесное
единение несопоставимого
четырёх-пяти элементов
[тяготеющих к определенной внутренней структуре
тяготеющих к текстам описательного типа
тяготеющих к слиянию
тяготеющих к умиротворяющей, всесвязующей идее центра]
^
перед тем как заснуть
сложи руки в молитвенном жесте
подумай обо всех и каждом
вот она твоя любовь
вот она твоя нежность
эта вот братская могила
эта вот сестринская могила
всех кого полюбила
унести с собой в дом
за порогом
20-27.IV.2020
Река Леда
I. Леда – река пережидающих бессмертие
II. облака над Ледой плывут беспечально
III. температура Леды – 27-28°
IV. гора Огонь закрывает солнечный диск на четверть
V. мы прыгаем со скалы в глубокую линзу Леды
VI. русло Леды очерчено лёгким движением кисти
VII. долина Леды – тарелка с травами
VIII. когда отцветёт весь список Леда выйдет из берегов
I
1. Леда – река пережидающих бессмертие
2. когда мы спали в палатке – подошёл неизвестный
3. шесть выстрелов и мы проснулись на берегу Леды
4. иногда здесь слышен гром или собачий лай
5. но это – только музыка тишины
6. которую мы слушаем постоянно
7. лёжа в траве под небом.
8. облака над Ледой плывут беспечально
II
1. облака над Ледой плывут беспечально
2. мы переходим из камня в камень
3. из дыма в огонь – и обратно в облако
4. иногда мы в шутку
5. называем друг друга прежними именами
6. ненадолго останавливаемся смеёмся
7. и движемся дальше – вдоль зелёного зеркала
8. температура Леды – 27-28°
III
1. температура Леды – 27-28°
2. Леда не остывает ни днём ни ночью
3. день – это время наших сладостных увлечений
4. ночь занимают другие / более строгие и пугливые /
5. когда мы переходим на дальний берег
6. они засыпают у нас в колыбели
7. наши маршруты пересекаются на вершине горы Огонь
8. гора Огонь закрывает солнечный диск на четверть
IV
1. гора Огонь закрывает солнечный диск на четверть
2. она похожа на спящий остров поросший высоким лесом
3. местные называют её Наблюдатель
4. приносят жертвы искренне на что-то надеются
5. мы любуемся их надеждой блестящими глазами и смуглыми лицами
6. поджигаем зерно если требуется недолгая видимость чуда
7. но больше всего нам нравится использовать гору по назначению –
8. мы прыгаем со скалы в глубокую линзу Леды
V
1. мы прыгаем со скалы в глубокую линзу Леды
2. разбиваясь на мелкие брызги света
3. раньше мы думали что река – голубая линия на географической карте
4. обрастающая деревьями при приближении
5. теперь мы понимаем что Леда –
6. наше продолговатое тело
7. которым мы любуемся с нежностью и изумлением
8. русло Леды очерчено лёгким движением кисти
VI
1. русло Леды очерчено лёгким движением кисти
2. росчерком серебряной рыбы
3. изгибом царственной шеи
4. спрятав клюв под крыло
5. Леда изобразила себя в движении
6. и мы пришли и сложили головы
7. к истоку твоего благородного жеста
8. долина Леды – тарелка с травами
VII
1. долина Леды – тарелка с травами
2. вот болиголов вот пустырник
3. тысячелистник лесная мята
4. чистотел кровохлёбка
5. земляника шиповник
6. вот неполный список наших имён
7. время смотрится в нас как в зеркало
8. когда отцветёт весь список – Леда выйдет из берегов
VIII
1. когда отцветёт весь список – Леда выйдет из берегов
2. босоногая с распущенными волосами играя для нас на флейте
3. а по безымянной реке с барабанным боем проплывут тела неизвестных
4. но вряд ли стоит доверять легкомысленным мифам
5. которые я сочиняю для местных жителей
6. тем более за всё время своего пребывания здесь
7. я доподлинно выяснил только одно –
8. на Леде удобно пережидать бессмертие
Из комнаты в комнату
СТРАХ
страх завернулся в меня
и ничто не заставит его обнажиться
кроме времени (вдох)
знакомое тело пока представляет чужого
земля прозрачна и (выдох)
морщины-трещины множатся под ногами
бегу быстрее над скользкой глубиной внизу открытой
сердце-машина разгоняется по тонкой небесной скорлупе
до края ожидания непрерывно срываясь
в голодную воронку будущего
*
мы так и стоим неподвижно
застигнутые врасплох
страшным днем
белым сполохом
спелым хохотом
незримым фотографом
труба ангела –
астральная турбина
серпами сатурна оснащенная
фигуры разредила в фантомы
и ни страдания
ни прекращения страданий
во всепроникающей свежести
***
Даймоний псюхе мою то пестует по-матерински,
то окунает в прорубь,
то бережет ее косое пламя,
то в поле мчится и с собой зовет.
Куда сейчас? Бедные черты ловить –
чем меньше цветов,
тем глубже и слышней
внутри – вокруг: углы, изгибы,
и каждая точка место свое бережет
здесь под ногами и дальше у берега,
будь то кисть, сухая метелка,
или голых ив оранжевый возглас.
***
в темноте лежит цветок
в глубине шелестит мотылек
деревья шумят как море
поезд шумит как деревья
бьется дождь
или кровь стучит
тишина пахнет мокрой листвой
***
неработающий рокот застрял
в самом начале песни на чужом языке
но я снимаю ботинки общих понятий
теперь так тепло внутри этого тела
теперь так приятно лететь налегке
знакомый голод, знакомая композиция из цветов,
фрукт падает на капот
в каплях молока деревянный прилавок
но я отключился от всеобщего освещения
и теперь сам сияю из-под
***
пахнет болото глухо
как запавшая чёрная клавиша
ударил по опавшему бурому
звякнуло зеленым стеклом
разогнул спину –
из рук ушла кровь
хотел обернуться лебедем
а превратился в березовый пень
ВХОД
Стены дышат:
в них живут узоры и искры,
но фраза за фразой,
о чем с ними речь, непонятно.
Восход каждый раз новый
вдруг налетает, вдохнёт
и тут же потухнет,
не оставляя следов превращений.
Как прочесть путешествие
с горы на гору, из объема в объем,
из комнаты в комнату через
мелодии – окна – двери?
Яркости треск,
и, как сквозь качание листьев,
серии вспышек?
***
Жук-точильщик время грызёт,
вырезает лабиринт коридоров и гротов,
(для них карты нет ни одной),
слышу гулкие слова минералов, их текстуры и формы,
свадьбу соленой пены и света на своде,
слышу, как духи в зеленом стекле пузырятся и бьются,
мухи над старым грибом воздух качают,
реки реке знак подают и плачут, прощаясь.
Души во мне, с каждым вдохом самозабвенно сменяют друг друга,
ход вещей как блуждание, прогулка
из пещеры в пещеру безвозвратно все глубже и глубже.
Тихая рана
***
высота перетянутых стеблей
сомкнулась в синем цветке
вот одиночество собранное на земле
тихая рана
ранняя седина
рябь хронических искажений
но в целом – жизнь
***
Я человек и это звучит горько
серые годы
зачет годно
труды невзирая
вдали от оазисов
пространствующих изобилий
стольких я должен спасти, реабилитировать посмертно
а скольких еще придется
обратить в слой сизого пепла
и незаметно подсыпать в компот
моим замечтавшимся детям
что б впитали как говорится что надо
но однажды
устав от земных трудов
именем отпуска правом этических накоплений
я полечу к далеким звездам
ведь если... то значит это кому-нибудь можно
я крикну им: братья ли сестры
(мне это теперь не важно)
я тоже плоть и сияние
здравствуйте, в общем
вернулся!
звезды опасливо ойкнут
и космос холодно улыбнувшись скажет:
подождите я приглашу администратора
я буду ждать и ждать,
сидя на чемоданах
набитых тяжелыми памятными артефактами
и глянцевым шепотом обещаний
мечтая о теплых приливных волнах
но никто не придет
***
Маслянистый блеск молодых листьев
расшибаются капли
легко бесслезно
подымая запах теплого камня
увядшей травы
болею всей жизнью
оттого что так неуместно свободен
клетка в которой заживо
память мою содрали
чернеет
склеила прутья тьма
сутулые города злобно вытянутые по струнке
в торжественном лицедействе
истуканы с потными лбами
вносили поправки в ничтожность мою
ничто не поправили
родная возьми сколько сможешь
сам отдаю ибо куда мне
я и в посмертьи приговорен к своим фонарям, асфальтам, аптекам, сквозным проспектам с неявным свечением отдаленных домов
будь сквозь меня свободна
но разве же так это просто...
без столкновений, кровавого сада, кишечных роз на брусчатке
бития О стены (не ищите тут «сад вероники» Остина)
освобожденного рева – внахлест погребенному
с прострельным орденом за взятие личных свобод
только своих, заслуженных перед
непостижным миром, смеющимся и рыдающем о
темной скорости влекущей его к концу
скорбящем о неспособности стать полым, сохнущим тростником против травинки
остановиться, увидеть и полюбить –
малость явления
безумным, слезящимся от ледяного ветра
глазом свободы
***
Палевый лепесток ступни
обут в подплавленный синий сланец
в подспорье дивному новому
уношу именную тяжесть
церковь моя внутрь ушла
вынашиваю словно дитя
тело в теле
смеюсь ветру изгнания
иже подымет сей камень
художник охваченный меланхолией
герой тавромахии
с гноящимся глазом в котором еще длится горящая степь
перетекая в мулету
быстрый выпад – парадная смерть
но каждая смерть не достигает сердца
ибо мой путь – вечное поражение
пыль и пылающий след
***
Смерть видит
боль знает
а курочка кудахчет
и никогда никогда
мы не ходили так рядом
головы в солнечной стружке
тень одна на двоих
детство на босу ногу
что выйдет
Бог знает
а время покажет
и только тогда и тогда
нам пришлось щериться
сплевывать кровь, озираться
когда тень нашу разъяли надвое
сделали левой и правой
а курочка стала черной
клюёт по зернышку
вроде и сказочная но
зырит страшно
***
Человек – это утопия
с пугливыми глазами
он несёт в мир свое «как если бы»
наперекор обстоятельствам места/времени
геометрии и семантике недопустимости
грубо переведенной на язык побоев и доказательной тоски
ловко торчащей гвоздем из бессонниц
не хуже и утро: обучено резать и бить
обводить указательным пальцем рассвета
мятые титьки подушек:
се – тепло твоё, что еще тут примыслишь?
ледяные хлысты накрест секут по желтеющим бельмам
мир исходит в слезах разрушенных чаяний
человек, как отвлеченный образ тонок и бледен
ветр сбивает его крепким плечом и подмигивает – нечаянно
мы хитрили, говорили «нет человека»
низводили в ничто
лишь бы успел поохать да отдышаться
срастаясь с текстурами, текстами, царапинами ландшафта
мы не жалели себя но его говоря по чести было немного жалко
вот он грядет: на губах робость бессильной мечты
готовый заговорить, но еще перед этим
я скажу: мы тебя не поймем, просто сожрем или растопчем
слишком долго прождали переплетаясь и жаля друг друга
в мешке жертвенной пустоты
задержись на мгновение - не говори - пока последний из нас не иссякнет
в этом фальшивом свете
***
здесь живут
раздельным прочтением
единого мига
меня привела сюда мама
всю дорогу я плакал
плачь не плачь
светлее не станет
пахнет голодной землей
и накормленной сталью
вот мой мир – им правят убийцы:
люди твердые духом
кто-то тянет за ухо
это начальники детства влекут меня прочь
заставляя держать спину ровно
не скакать через ступени
не заглядывать в окна
там люди друг на друге катаются
(тоже мне таинство)
мама мама я не хочу твердеть
я хочу сковыривать старую краску
с дворовых качелей
нюхать громадный воздух
который ночью становится цельным
хочу быть эльфом в войне племен
хочу быть несчастно влюблен
и глубиной искалечен
ты говорила этот огонь – он вечен
он не может стать вещью
уж лучше я сам
но чтобы внутри продолжалось пространство
мерцали фигуры речи
вот я: надлом в основании
черный графит
солнце на леске
я сохранил протяженность
память неполноты
но стал вещью
люди твердые духом
скажут что это не лечится
не слушай – возьми эту выщербленную рукоять
дай своим пальцам меня понять
τα νιάτα
Любая вещь даётся лишь в отнятии от прочих
и когда я получил тебя в руки – был напуган.
видеть процесс завершенный в объекте – лишний раз уяснять то
что еще в шесть лет острым краем ночи прорезало сквозь нагретое одеяло
отчего дыхание стало свинцовым тромбом у горла
а тело с тех пор - закупоренной склеенной колбой
но тебя ли себя ли тыкать беспомощной мордой
переворачивать сырой вздутый трупик
слизывать листья прилипшие к жесткой и влажной шерсти
что вообще в человеке за орган
понимающий смерть
но не принимающий смерти?
холодное солнце отразилось в немытом окне напротив
это прямая: тело крепится к взгляду.
я оставил завязь возлюбленной на пыльный обочине
оставил вес полуверий, архитектуру абстрактных метафор
статуарную точность письма (здесь это видно весьма)
потому что надо топить по прямой... пока
не распалась семантика грязного чуда от сустава до гулящего позвонка
отнятое от себя уместилось в карман
продолжая карман в многолетний туман, где в разрядах необратимость:
опаленные памятью лица
суну руки – пальцы жжет нестерпимо
прожигает кожаную перчатку
будто их родовой узор обратился в сетчатку
и зрячие пальцы в отчужденную молодость пялятся
любая вещь лишь на время даётся в отнятии от всего остального
так наверное весь «я» буду отнят от мира и возвращен через слово...
DIPTYCHOS: «ОТРАВИТЕЛЬ»
1.
я беру тебя в эти стихи
без истории имени
оса бога ужалила
без особых условий
когда я вернулся повсюду были разложены слезы
страницы слезы страницы
дымилась гильза тела
окно представлялось раной
и воздух спадал оставляя этот французский коллаж
в вакуолях интерпретаций
бланшо или что-то ешо?
нам преподали поэзию как консервированное дерьмо
значит любой кто рвался к слову
полз через смрад: узник, беглец, бунтарь и вновь дерьмо
ради агонии ангела на синаптической игле
когда строка летит как абордажный крюк
цепляя иссохшую щепку памяти
боль тает на языке твоих квалиа
миг – в огне осязания
сознание – яд
как если бы ты вдруг поняла что весь этот текст
написан внутри того что названо твоим телом
так ты побывала здесь
без насилия
поспешно накидывай имя
втискиваясь в корсет биографии
Господь расцветает от яда
и осы – пастыри его
беги вон
беги
2.
Смерть умеет смотреть в одну точку
десятилетиями
взгляда попусту не отводя
а что твоя жизнь?
акционизм, small art, венера в мехах, домик в деревне
ещё вчера мы гуляли вдоль белесых сечений
над гулом подземных рек
ты пропитана ядом
я – рядом
странно подумать: как ты хотела укрыться в этом отсутствии
здесь вода и речь
твою смерть волокли юннаты на воздушных канатах
храпела ворочалась рвалась бестолково
я подошел к мальчику лет шести, бесстрашный голос, потный лоб
спросил: «что это у вас»?
сморщился: «говнючая сколопендра!»
и то верно
смерть выцеливающая так стройна и жестока
смерть достигшая цели – посмешище для стихов
Возможность пейзажа
ПЬЕСА
Ручей, впадающий в прохладный узкий пруд,
хвощи, вьюнки в подслеповатой чаще,
косящий берег, стебелёк торчащий –
когда вы развернулись на восток?
Я не заметила, как длинный день истёк
и вытек в океан, слегка горчащий.
Вы, папоротники, вы, хвощи и пни,
заждавшиеся моего прихода.
Как долго были без меня, одни!
Но вот я здесь, и стали вы «природа»,
и тянется счастливая подвода,
и я гляжу на вас, несчитанные дни.
Как долго длится третий акт! – и тут
не твердь перевернётся кверху днищем –
– блеснёт и треснет,
дуб исторгнет «Брут!»,
грозою рассечён до корневища.
Запаздывая, гром приводит тыщи,
но главные герои все умрут.
А я гляжу, но больше не дивлюсь.
На озере намедни птицы дрались.
И я – качаюсь, и к тебе клонюсь,
осока узкогрудая vulgaris.
И на меня те хляби низвергались.
День удлиняется, я с тенью удлинюсь.
Все в униформе, гуси полетят,
я поднимусь за чёткими полками,
с такими же, как лапки, сапогами,
или рябиной – встану в чётный ряд
– рябиною, с плодами невпопад –
и погребу неловкими руками.
СЛОВАРЬ
A.C.
Бежит речка, как живая,
избегая общих мест,
Господа не называя,
крутит лист и камень ест.
Все, что знаем о свободе, –
из чужого словаря.
Ты скажи хоть о погоде,
но с другим не говоря.
Что – свобода? Ну свобода.
Пустота со всех сторон.
Мой глагол – другого рода,
оттого протяжней он.
(К этой строчке примечанье –
на окраине листа:
чем длиннее окончанье,
тем пустыннее места.)
Друг далекий, Селиванский!
Только воздух надо мной.
Слева берег пенсильванский,
справа берег – как родной.
Для того нужна граница,
для того я тут стою.
Вот летит большая птица,
я ее не узнаю.
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Ласковые птолемеи,
жесткие селевкиды
в трапе цепенеют,
цепляются за левкои.
Гребет по-пластунски,
по крышам – туча.
Глянувшие на солнце –
сваливаются с травинок.
Громко пахнет осока,
молчит барвинок.
Сгрудилось над домами
волнуется вече.
Ведер угрозы, веток тирады
в углу, за террасой.
Ветер. Как он утюжит
выжженной нашей лужайки
маленькую тавриду! –
ушел сон,
пришла сеча
***
Меня со всеми унесло.
Песок блестел, как в день творенья.
Сияло слово, как число,
в случайной тьме стихотворенья.
Но я все там же, среди глыб,
на влажной, темной кромке зренья,
и различаю пенье рыб,
их неусыпное паренье.
Во тьме мелькают плавники
на размыкающемся своде,
и догорают маяки
и разговоры о свободе,
и тьма, переутомлена
сознанием, не молвит звуки.
Но ювенильная луна
сама плывет в пустые руки.
НА ВОСХОДЕ
петельки струй аккуратно крючком зацепляя
цапля стоит удивлённая и молодая
и поражённо глядит на цепочки вьюнков и воронок
как покидают её как по стрежню скользят спозаранок
вниз по теченью арабские цифры и точки
чётки царапины солнечных ядер цепочки
тигли и стебли и все запятые колечки
как разливаясь по телу лимонной слюдою
первого света как утро идёт золотое
как оно щурится солнце встающее ради
этой вот меченой пёстро-стремительной глади
как догоняют плоты из слоистого сланца
трёх мудрецов в лепестке одного померанца
как застывают в затонах стоят над водою
как застревают над мелочью медной любою
струги осиновых горсток хитон махаона
как близоруко и медленно дочь фараона
ива склоняется в скользких сандальях из глины
над колыбелью ореха пустой скорлупой окарины
ловит летящие вниз карусели-кувшинки
в жёлтых корзинах лежит по младенцу в корзинке
как их уносят на юг ледники слюдяные
плоть водяная бессольные копи стальные
магма слоистая чёрно-лиловые сколы
круглые мускулы смуглые берега скулы
ах как сверкнет плавунца то макушка то голень
остов жука в гамаке ему памятник камень
одновременная цапля над быстрым потоком
при́водом одноременным от устья к истокам
запад в востоке затока в нагретом затылке
марка в конверте початый конвертик в бутылке
быстротекущим бессмертьем тугие восьмёрки
стеблей верёвки и медных колен водомерки
ломкие скобки
пускай же она молодая
пусть говорю всем теченьем ее огибая
над золотистой лесо́ю ещё постоит Амадея
цапля волхвица ловица лучей
молоточек
то что осталось
течет огибая не точит
ИМЯ
1. Без имени
Плыви, челнок, плыви, плыви
к туманной речи Дехлеви
где отзываются – зови
где отдыхают от любви
Над безымянною водой
летит сова – иль козодой
И долго длится звук любой
никто не знает – твой, не твой
Пыльца суглинок бледный пыл
аплодисменты мятых крыл –
тому, кто на земле побыл
кто камнем канул, имя скрыл
2. До темноты
Затем что вещи только вспышки
блуждающие огоньки
меняющие имя в спешке
в последних отблесках реки
Ты думаешь: вот корень, камень
плывущий стебель, неделим
пытается освободиться
из тени дерева над ним
Они обманчиво покорны
твоей любви, но погляди –
уже преобразились в корне
их отражения в груди
Пока ты ногу переносишь
через побоище корней
река, теряющая берег
впадает в облачко над ней
Нам никогда не догадаться
чем эти баржи гружены
и лодки дергают уздечки
в недолгий путь запряжены
СЕНТЯБРЬ. СНОВА СОШЛОСЬ
Дно кладущий на дно
круглых вод, вечереющих тайно,
свет озёрный сходился в рядно,
как листва, неслучайно –
в тот единственный путь,
что казался листвою узорной,
чтоб его не забыть,
погружающий вечер озёрный
Словно третья стопа
меж стволами открылась подробно –
как огромна судьба,
как и после потери огромна
Над вселенной водой,
в ту, что выпадет, бледную гавань
выйдет месяц в одной
из неровных прогалин
Снова кроны сомкнутся круго́м
над его папиросной купелью,
над дымком на другом
берегу, над ещё не остывшем кипеньем
золотистой мошки́. Ни одна
ни один до конца не покинут
но, как заводь, до дна
сам в себя опрокинут –
как звезда, посреди
раскрывающих сумерки ставен.
Вновь един
что тобой на мгновенье оставлен
Бёрдвотчинг во время забастовки
ERIN – RENOIR: МОРЕ (в трёх частях)
I.
джойсу
вернитесь в самое в мире место,
когда откроют границы между планетами, –
хоут, западный пирс, пляж
(дух нельсона манделы, юный б-берни,
таскeнский рейдер, новый-президент-россии,
они идут – от самых истоков бойна – спасти из воды),
космос подхватит вас, как ветер
бумажки с текстами пиратских шанти,
и летите через пояс койпера, дети,
от области томбо на плутоне отталкиваясь ногами,
и летите, свобода [так называют кельты] и златко-балканец
II.
бёрдвотчинг во время забастовки:
наблюдайте варакушек города, пока не отправились в море
опять на лодках господина..,
господи, помоги им выжить, когда дует сирокко,
как в бессилии, когда бьёт полицейский,
как когда, конечно, всё ещё любить тебя,
и снова танки застряли у checkpoint «чарли»,
нет, не танки, это [видимо] по округу митте
шумят провода – на шоссе непогода,
и лунные либрации как медлячок, чтобы я заплакал
III
диме
папоротники и травы отнимают
гребешки святого иакова наших подошв:
[мы] спасённые из воды, как только мак лир успокоил море
и воинство архангела осветило глубины;
лис чутко вслушивается – звуки первых шагов –
ты утверждаешь: «он – бодхисаттва этих вересковых лугов»;
так описывает ли поэзия действительное или возможное?,
или только воспроизводит каждый раз лучшие цитаты волка?
[что, наверное, – одно и то же]
ЭМБИЕНТ 5: МУЗЫКА ДЛЯ РЕЧНЫХ ТРАМВАЙЧИКОВ
1/1.
холод:
похолодало, когда он упал в воду,
тело в москве – размокший хлеб ангелов
1/2.
молча по замёрзшим нагатинским водам –
кто-то утонул, нужно [нужно ли?] носить траур,
в двенадцатом часу кто-то утонул,
и слова (девять последних): «храните
нарисованное чужими слезами на лицах,
венчальные влажные кольца»
2/1.
изменения в жизни незначительны,
как предварение равноденствий,
а морская смерть – мягчайшая для человека, –
так я умираю, чтобы ты полюбить другого,
теперь собирайте [в память] абрикосы в садах мира:
кидайте в реки – кажется, это красиво
2/2.
и вот, [выходил] конь бледный.., но –
он как будто бы не собирался замечать умирание, пятился в сторону,
уступая путь (в этом самом естественном из аллюров),
пропуская дальше [моё тело] по какой-нибудь марьиной роще,
и каждый прохожий тогда начинал наблюдать неявную, сдержанную,
но всё равно всепобеждающую молодость,
а-армянская апостольская церковь в инсте одной девочки означала,
что в те моменты мы с ней (оказалось) одними дорогами
a propos de x.
россии не бывает: о том боялись, перемещаясь
с болезненной девочкой (в угасающей навигации)
в поисках её-юноши-пятницы в лесах дзержинки,
в лесах амазонии и сибири [возмущаясь],
в общаге с этим петтингом всем и смертельной дозой,
и я на проводе/рядом живи!-просящий..;
а наш locomotive двигался дальше солнцем и ветром
по владимирке – в пустоту – мы слепли,
и тогда девочка руки брала, говорила –
то ли «не бывает россии, а только life and death,
и полусчастливая грань между другой и первой»
то ли «и не бойтесь», если правильна память
Сорока щенка маленького унесла
***
сорока щенка маленького унесла
щенок маленький говорит, что это ненужные чудеса
его несут куда-то, а он с небес миру всему говорит
это совершенно ненужные чудеса
очень высоко маленький и скулит
ПЕНАЛ
Бабушка волосы грустно перечесала, но запуталась в мыслях, словно Авессалом. Я же достал бабочку, сложенную в пенале, и положил в солнечный лучик, спрятанный под столом. И я думал о том, зачем боги смерть свою миновали, почему о них не слышно теперь... И о всяком таком.
***
Мы увидимся – отразимся по очереди в реке,
исказимся в пыльной, дрожа, витрине,
в незаметном кивке
гостиной,
друг у друга в руке.
***
Я будто как тот, кто досчитав до ста, уже никого, уже ничего не ищет –
такая приятная, знаешь ли, пустота, как если бы бог тебя из тебя вычел.
ЗЕЛЁНКА
Сердце зеленкой вымазал, а все равно кровоточит.
Ходишь сутулый на улицу и в буфет, спрашиваешь
у него, чего же оно хочет. Сердце в ответ:
«Ничего не хочу, милый,
ничего не нужно, родной мой,
нет».
О ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ
1.
Проснулся, а улица уже отцвела,
и душу мою увезли, шибанув суковатой палкой.
Галка вылетает медленно из ивняка,
а я перерисовываю на кальку.
2.
Видно, это страница из букваря –
пока вы учили средние, я был в больнице –
и теперь повторяю только «А я? А я?»,
пальцем небо прокалывая над птицей.
МЕЧИК
На предновогодней ёлке рыцарь мечик свой потерял. Из всех вертикальных речек виден лишь кабель-канал, да кабан на клыки поднимает штабель подарков. Мальчику стало жарко, и он упал. Девочка, наклонившись, шепчет: «А мне не жалко». Нет, она не жестокая – просто проблемы с эр.
СИНИЧКЕ
Ты скажи моей синичке
У нее промокли спички
А не только лишь глаза
Камень музыка вокзал
Пару глаз застлал туман
Па́ром обдала мама́н
Кружку траурного чая
Стулом дерево качая
Это только лишь слова
Углич Волга татарва
А еще есть предложенье
Не забудь доесть варенье
***
Один идеально взрослый билет туда и обратно, один совершенно детский только туда, а потом, знаешь ли, рассказывать неприятно, и потом, знаешь ли, сущая ерунда.
АРКА
Отразиться бы в арке здания в полный рост. Помахать рукой удаляющейся машине. Забежать к сестрице поговорить в киоск. Спросить у бабушки, почему счёты такие большие. Победить в конкурсе планетария по распознаванию звёзд. Долго размышлять, для чего отец дал мне такое короткое имя.
***
американка замаскировалась под куст это такая новость будто бы ну и пусть а на самом деле наиважнейшая новость с этой новости будет написан роман или повесть я ее не читал но знаете не осуждаю это моя любимая мысль об аде у алигьери это странное чувство я так и пишу это слово искуство
***
Догорела лампочка
над ветвистой лавочкой,
булавой-булавочкой
расцвела межа,
наволочкой-бабочкой,
салочкой и галочкой,
накрест-крест-мигалочкой –
отверди слезу мою,
до сердца прижав.
***
уткой плывет в строке
твердый беззвучный знак
ъ
***
Тусклый свет собачьего лица – отовсюду брошенная брошка под скрипучей клавишей крыльца исказилась вылизанной плошкой. Ждёт отца к всенощной rendez-vous месяц-серп косить хвостом траву, звёзды ждут учуянными быть, и объятья – лентами обвить холку-голову-приставшую листву.
ЗМЕЙКА
1.
Мне не страшно, что я мертвый, –
светит же звезда, –
поцелую камень твердый
ночью у пруда,
поцелую месяц светлый,
погружаясь в грязь,
эти ветви старой ветлы,
мелколистный вяз.
Умник, умница, скамейка,
грубая игра,
вдруг бы выскользнула змейка –
придави, гора.
2.
Ты все спутал – я смеялся – мне в постели сон
присыпался, просыпался с девяти сторон,
я бы в столбик перемножил, но тебе пора...
Будь немножко осторожней, придави-гора.
Сказки
СКАЗКА-13
Набивает лошадь травами желудок,
Понимает: «нужно, чтобы можно жить»,
Некрасиво улыбается, смеется,
Желобок из вен вздувается, поётся,
Разорвётся на тугом ли животе?
В этом месте появляется строка.
Заседали у парного котелка
Два ребенка в несуразных котелочках.
Что готовится и булькает внутри?
«Мы поймали гоблина, гоблина, гоблина!
Мы поймали гоблина! Был он наш отец!»
Как от стойла отбегает жеребёнок,
Так кричат друг другу дети в море маков:
«Отойди от края, отойди от края!»,
Но сбивает их упрямая телега,
Чтоб как следует проволочить по лесу
И оставить у реки – поить лицом.
Жеребёнок оказался подлецом!
Дети-дети, низкорослые травинки,
Не сиделось вам у камня под коленкой,
Что наделали? Ну что же вы наделали?
Почему у мамы прежде не спросили вы?
«Убежали, убежали, убежали прямо в лес,
Было поле, было море, мир окуклился – исчез!
Если б не бы, если б не бы, если б не было отца,
Мы бы в лес не убежали потерять овал лица!»
Разрывается копытце: уголок и уголок.
Дышет, пышет, роет землю: поперёк и поперёк.
Как красиво рвется небо от коптильного дымка!
Как красиво вьется сверху щепетильная река.
В этом месте появляется строка.
«Мы поймали гоблина, гоблина, гоблина!
Мы поймали гоблина! Был он наш отец!»
Если так он будет назван вами, дети,
Мне вам надобно отдать большое чудо:
Будет кожа ваша мягкой и слоистой,
Будет кожа – гобеленовая кожа.
Осторожно, осторожно, осторожно!
Набивает лошадь травами желудок,
Понимает: «нужно, чтобы можно жить»,
Некрасиво улыбается, смеется,
Желобок из вен вздувается, поётся,
Разорвётся на тугом ли животе?
Это ящерка уснула на плите.
Жеребёнок оказался подлецом.
Разве можно было так с родным отцом?
***
Это будет почти что сказка,
Потом это будет почти что сказка,
Потоп: это будет почти что пьяный,
Который сказал мне в лифте, что он
Разметал арбузные корки по улице, всем известной; потом почтальон
Донесет свой конверт: он трудится,
Он – это ворон со всех сторон,
Потом это будет почти что коробка,
Взмывшая вверх, это будет почти
Человек; человек-картон,
Человек-оболочка, смотри, смотри:
«Нарисуй его – а потом сотри»,
Это будет чудак, человек-чудак,
Безразмерная комната и бардак,
Представление чуда со стороны,
Ожидание чуда, потом вины,
А затем – обжигание, нежность, соль,
Сдвинул локтем – рассыпятся небеса,
Это будет стул и почти что стол,
Это будет почти гроза.
***
Моя грудь на подушке размëтана:
нелетимая шалость присутствия.
Это что за небесная лодочка
раскачалась по озеру удочкой,
изогнулась крючком – и за пазуху
залетает окна поднебесного?
«Занавесь, занавесь – просит занавес,
– занавесь себя, шалость, прелестница».
Раскроилось у месяца рыльце,
превратилось в хрусталик-копытце
и светилось, и дергалось в пене,
выбивая искру из земли;
та давай разгораться, расти,
выгибаться немыслимым телом.
Саму себя колышком спелым,
одичавшей берëзкой поставила дико крениться у озера и бушеваться, вертеться в удачливом ветре.
Истязал, истязал – то ли высек,
то ли ей удалось между камнем и камнем падучую выстругать, высечь.
Полиняла подушка и вылезли перья и впились в калиточный скрип.
Так сжимались под стопами комья земли:
утро шаркало в подподоконной степи.
Мера для всех вещей
ПИСЬМО ДЛЯ САНЧО ПАНСА
Дорогой Санчо Панса!
Пишу тебе из Ада;
верней – из Чистилища:
все заборы сломаны,
и все шатаются кто куда хочет и может,
так что ничего не понятно.
Ты будешь рад: ветряные мельницы слегка притонули.
Сизые, как тучи, голуби оттеняют золотые купола.
Творятся обыденные мерзости.
Впрочем, сердца деревьев живы и снова зелены по весне.
Дорогой Санчо Панса! Не принимай
ничего так близко к сердцу:
ты ведь знаешь – и это проходит.
Ну или принимай –
ведь ты так прекрасен, вертясь волчком в забытьи от гнева, как лиса,
укусившая себя за хвост.
Твоя обида даёт дорогу твоей молодости;
твоя молодость – твоей обиде.
Они слиты неразделимо,
как капли молока и спермы на твоих щеках.
Молока истязаний,
пролившихся так неожиданно.
И спермы заката,
что встречаешь один,
чист, как дева, по пояс в озёрной воде.
Становясь на колени в воду, занимаешься любовью с миром так самозабвенно.
Мир слегка груб и достойно нежен,
всё как обычно:
призрачные персиковые эклеры по воскресеньям,
пытки по пятницам,
всё стандартно,
ничего необычного.
Дорогой Санчо!..
Не принимай ничего так близко к сердцу.
Глазницы домов вдохновенно смотрят на запад,
откуда приходят
радость,
море
и посмертие.
Впрочем, бывает ли посмертие для таких, как мы – или только вечная дорога
– с корги на поводках
и нелепыми в розовом скейтбордистами,
со снами
и запахом свежескошенной травы;
тоже, если вдуматься, ничего себе так посмертие.
Дорогой Санчо!
В Аду довольно неплохо:
по крайней мере, симфония неба величественна как всегда,
и кофе мокко хорош,
хотя многое закрыто на реконструкцию.
Стены расписаны в разные цвета.
Можно купить деревянные вырезанные значки со знаками Амбера и Аваллона,
и разных забавных зверюшек.
Впрочем, не хватает чего-то важного, как будто что-то ушло:
то ли тебя –
то ли нашего времени,
пролившегося внезапно, как сигнал полицейской машины –
было оно и ушло.
Дорогой Санчо, поднимается ветер.
Ветер тут всегда.
Он стучит в дверь, когда её закрываешь, и хочет поесть...
...Ахчёрт, у меня кончается трафик,
сегодня у меня лирическое настроение, и я разболтался, а так и не сказал о важном, впрочем – о чём?..
Придётся отложить это до следующего письма,
до следующей оказии
после пары тысяч лет
без права переписки,
поскольку голуби мира читают всю твою почту, они читают всё, Санчо!.. – хотя даже не умеют читать.
Я закругляюсь, Санчо;
поднимается ветер,
опускаются сумерки.
Все накупили велосипедов
и карликовых собачек.
Девочки не хотят играть роли и переодеваются в мужскую одежду.
Ветер рожает нас внутрь, в кроны деревьев,
стоит только закрыть глаза.
Поднимается дождь, Санчо;
и я пойду
готовить ужин,
есть персиковые эклеры
и смотреть «Метаморфозы» Овидия
на новейшем плазменном экране.
(Впрочем, о них всё равно не с кем поговорить
с тех пор, как ты ушёл).
Я пойду, Санчо!..
Ронять браслеты в воду и привязывать колокольчики к веткам деревьев,
ловить доберманов за намордники,
сушить вёсла,
слушать тишину как музыку и петь боссановы, – словом
– заниматься всеми теми обыденными и важными делами, что занимался и без
тебя.
Я пойду.
Не скучай там,
корми иногда Росинанта, не дай подохнуть старому фестралу;
напомни, кстати, – когда ты его увидел, когда убил таракана – или когда на твоих глазах с крыши сбросился человек?..
Я пойду, Санчо.
Не знаю, когда напишу ещё;
забудь всё, что тебе говорили об Аде – Ад хорош забвением. Зелёная ряска затягивает глаза Офелии-Эвридики, и так хорошо, хорошо.
Не знаю, когда напишу ещё.
Тут хорошо, Санчо!..
С крыш прыгают утопленники и утопленницы, на грифельных досках пишут мелом –
но цены на пиво.
Не думаю, что когда-нибудь вернусь.
В конце концов, столько воды утекло...
Как ты там, старый пройдоха?..
Передавай привет нашим.
Скажи, что я вполне уже ассимилировался
и, скорее всего, никогда не вернусь.
Ну, разве что, может, пролечу над вами на боевом вертолёте... но вряд ли, вряд ли.
Не забывай...
А, впрочем, ладно;
у меня почти кончились трафик и бумага.
Вчера я купил модную полотняную сумку с цитатами,
только её всё равно некуда носить, поскольку четвёртую неделю идёт дождь, и все заметно приуныли, только вот птиц что-то не видно.
Впрочем, вот-вот должна выйти новая игра в реальность – думаю, она отвлечёт.
Я пойду, Санчо.
Персиковые эклеры вполне хороши к ужину, главное, не отвлекаться, когда варишь кофе.
В среду мы, возможно, поедем на озёра, так что не грусти, передавай приветы нашим и скажи, чтобы не ждали и не грустили, вспоминали пореже.
P.S. Не забывай меня.
***
Дождь и раковины.
Ты так привык
интерпретировать каждое слово,
что забываешь зелёное золото
восхода,
пролившееся в юных листьях.
Отшей эту старую шлюху –
Смерть.
И выходи к дождю:
смотреть на звёзды и раковины,
слушать крыс и шорохи деревьев.
Не думай ни о чём.
Вдохни полной грудью.
Сдайся счастью, как сдаются любви
и дождю.
Раскинь свои тенёта:
корни, сплетённые в землю,
губы-вишни, парящие в воздухе.
Между землёй и небом ты распят, придурок.
Прислушайся к баррикадам тишины.
Почувствуй крачку в горле.
...Может быть, потом, когда она придёт,
ты поцелуешь её охотнее.
СЛЕПАЯ СМЕРТЬ
Слепая пластилиновая смерть.
Им не вернуть погасших рёбер.
Холодный лёд ушедшего заката.
Им не вернуть всего, что любишь.
Слепая пластилиновая смерть.
Слепая пластилиновая жизнь.
Мелькнувший день за облаком машины,
Дрожащий, переменчивый и яркий –
Сладчайший, нежный и неосторожный, –
Слепая пластилиновая жизнь,
Что поселилась здесь, в дрожащих листьях,
За жёлтым полумраком новых зданий.
Гасящая сердца как лампы солнца
В прохладе враз умолкнувшего утра.
И вырывающая крик, как тряпку...
Слепая переменчивая жизнь.
Кто добредёт до края переулка.
Кто обернётся, может, на прощанье.
Как ранний день, как поворот рулетки,
За колесом, за шёпотом машины, –
Слепая
переменчивая
смерть...
СВЕТ (Milonga de Pelo Largo)
Свет, свет, свет, невыразимый свет...
Громокипящий ливень семидесятых.
Свет серебрит виски как снег,
мешая смотреть,
не деля на правых и виноватых.
Громыхает весна, прямо в сердце шумит апрель.
Да так ли уж важно, что может случиться после?..
А если и доводится умереть,
ляжешь смуглой рукой, как эстрадный певец,
в золотые розы.
Свет, свет, громокипящий свет...
Тот молодых поймёт, кто перенял их почерк.
Длинные волосы падают на виски,
мешая смотреть...
Длинные волосы. Не надо короче.
ВЕТЕР С МОРЯ
...Сегодня нехреновый ветер с моря.
Луна, как золотая страннорыба,
пускает золотые слюнки в воду.
Колониальные открыты ставни,
колониальные закрыты ставни,
как будто море дышит через ставни,
как будто море испугалось моря...
Ободранные ласковы собаки.
Настойчивые кожаные листья,
цветущие – допьяну – олеандры
и белые густые фонари...
И старики на стареньких скамейках,
среди звенящих тихо вилок.
Янтарным светом полные балконы,
балконы в темноте как паруса...
...Как рассказать, в границах винограда,
не уходя, не прячась за границы, –
как море дышит в окнах винограда.
Как мечутся ощерясь пальмы.
Как ветер с моря заходил в подмышки,
срывал огни и не давал дышать...
Качаются и пьют из моря рыбы.
Распахнутые горестные ставни.
И зреющий инжир, и ежевика,
и молния над дальними горами...
...Как позабыть, быть может, на прощанье
засахаренные смешные горы,
качающие на волнах в прибое,
смешно и своечасно, как дыханье.
И корабли, и лодки, как в обиде...
Солоноватый, как влюблённость, ветер с моря,
и дальние смешные облака...
ОБЕЩАНИЯ В КАРАНТИНЕ
Насте Афанасьевой
Даёшь себе обещания:
ходить по дереву,
слушать воздух,
касаться огня.
Даёшь себе обещания:
больше путешествовать,
поменьше уставать, –
как такое вообще возможно?
Побольше пить медленной воды, ледяного кофе,
поменьше думать о плохих людях.
...Мне нужен кто-то тихий:
тихий-тихий,
как решётка зоопарка, пропахшая тихой звериной шерстью
и капустным листом,
как мороженое на последние деньги, блестящая фольга,
как ходить обнявшись.
Мне нужен кто-то тихий,
тихий-тихий, живущих в тихих городах
с тихими именами типа «Харьков» или «Самара»;
никогда не слышавший о побегах небесных
из золотого морского песка.
Когда весь мир ограничивался, как в детстве,
нарисованным негритёнком
из советского мультика.
Мне нужен кто-то тихий,
тихий-тихий, как то тихое детство
в том тихом детстве
которого сначала никогда не было,
потом – в том, в которое я отчаянно пытался вернуться
(но не получалось),
потом – в том, в которое я возвращался,
когда было больно снаружи,
больно внутри.
Парнокопытные тихо ходят, жуют капусту.
Молоко тишины ходит, льётся, перекатывает небывшие тополя
в городах, никогда не слышавших
о сумме твоих мифологий.
Мне нужен кто-то тихий-тихий,
как объятие,
но не я сам:
иначе как я объясню себе
про отсутствие чёрной пантеры
в пустом небе тихого лета.
Тихий как объятие
тихими вечерами,
а особенно – тихим утром:
тёплые медяки в руке, мороженое, гомон толпы,
запах лошадей или воздушных шариков.
Ты даёшь себе обещания
тишины,
которые, ты знаешь, наверное никогда не сбудутся,
но останутся
глубоко внутри,
раздуваясь, как воздушный шар,
заполняя всё твоё внутреннее пространство,
то пространство, где были плохо выкрашенные солдатики
(или ковбои),
потом – какие-то мультфильмы,
потом – что-то забытое,
что ты так отчаянно пытался
забыть
золотыми побегами из морского песка.
Раздуваясь и заполняя,
пока тишина не начнёт выходить через ноздри,
как молоко
после плохого глотка,
заполняя весь мир
этой странной, смешной, непридуманной тишиной,
в которой сокрыто всё главное.
Поэзия – нужна, чтобы романтизировать мелкое
или говорить о большом?..
Поэзия – для великого или малого,
для вечного или для парнокопытных, жующих капусту?..
Как для кого.
Но для нас: тишина, для тихих нас, живущих
в непридуманных городах,
убежавших из-под стрелки советских часов
как из-под ножа палача,
заполнивших,
заполняющих тишину
золотыми побегами и слезами,
но теперь – окунувшихся в неё по самое горло;
как в холодную воду,
оказавшуюся неожиданно приятной.
Даю себе обещание:
проведать тапира.
Даю себе обещания:
есть побольше мороженого,
не общаться с плохими людьми,
просыпаться раньше полудня,
но самое главное – ходить и смотреть, вспоминая
солнечный свет,
потерянный давным-давно,
в небывших, тихих городах,
где можно было просто ходить и смотреть, и т.д.
Это время: спокойное молоко, заполняющее нас тишиной;
связывающей прошлое и будущее
пролившимся настоящим,
как слёзы, как воск, как вяжущая настойка,
как молоко
облаков.
Его величество Карантин:
тысяча лет одиночества.
Две тысячи лет
тишины.
МЕРА ДЛЯ ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Сейчас лето. Чувствуешь себя живым – и бессмертным.
Одуванчики, рассветы, ранние тополя.
Где-то, в карты играя с ветром,
вторит тебе земля.
Ты всё пропустил. Ты всё потерял, похоже.
Не найдя тебя, исчезает в дымке ранней трамвай.
Где-то, где острова, придышливо, кожа к коже,
на пыльной дороге в рай
цветёт твоё лето. Велосипеды,
собаки, женщины, дети,
кружевные блузки и острые соусы, вечно спешащий город,
сон под спешащей водой.
Сейчас – лето. Не загадывай, что будет дальше,
дальше – будет. Достаточно ли этого?.. Как сказать.
Ты не хотел как раньше. Больше не будет как раньше.
Надо бы знать,
что за летом – осень и голуби, снова зима, сизый лёд,
смерть, сумасшествие, и вообще.
Но ты не уходишь. И лето твоё – никогда не уйдёт.
Мера для всех вещей.
На полях моего неведения
***
Сгустки мыслей Иоканаана
в маковых цветах и ты,
выпивший длинный стебель лодки,
ускользающей через травы,
погружаешь ладони пращуров в мир теней.
Это слова о любви и смерти в нетерпении первой птицы,
это женщина догорает тмином на могиле мужа,
и трава под утро пахнет отстранённо у больших озёр.
***
Оглянись в бесконечно сухое небо,
оглянись на птиц, страшных от беспечности
И позволь случайной медитации
открывать глазам травоядных животных
memento mori в расширенном спектре;
Их цветок усердливый львиный зев
остается укусами и капканами
на полях моего неведения
и в звучании губной гармошки:
то ре то ро то ми.
***
Окуляры-аквариумы,
наполняемые светлым небом и ласточками,
мало-помалу развертывались из оговорки сна в панораму города:
Дамы, господа, астральные тела,
скомканные,
как воздух в моей комнате по утрам,
фасады зданий
растворились в световом пятне.
И мосты показались подмостками, –
переглядками мышьяковых глаз.
***
Мы не виделись день, чтобы забыть влюбленность,
мы упали на равнину люминесценции мха и изнанки пожара,
ощущая не плоскость, но плотность тревоги уснувшего леса,
повернулись лицом к лицу и спиной к спине.
Если бы огонь не был светел, мы бы приняли ночью за него любой шорох
с осторожностью змеи в лимбическом дыхании травы.
***
Любовь моя, привет! Солнце задует ветер, как днерожденный торт, и ты опять мне скажешь, что жизнь прекрасна в самом радостном из миров, поэтому привет моя любовь – привет!
Мой друг, привет, растерзанный пустым колючим драконом, в гирлянде мерцающих силуэтов, рассредоточен евреями в пустыне, как непрерывное слово друг, поэтому привет тебе – привет!
Привет тебе, моя грустная подруга, я теперь не мечтаю о любви с тобой, начертившей велосипедным колесом обрыв, деревья, высокую траву; и поэтому привет тебе – привет!
Привет тебе, незнакомка-история, которую я выдумала и побоялась узнать, вариант полевых цветов и неясных птиц, убегай путём самолетных рейсов;
Но пока ещё привет тебе – привет!
***
Будет бледный рассвет над одним из притоков Невы,
Или я получу конвертик из буддийского храма;
Вот везёт трамвайчик чугунный котёл зари,
А я выхожу на порог моего дома,
Уже догадываясь,
Что получу конвертик из буддийского храма;
ΕΠΙΦΑΝΙΑ (Трагедия в трёх действиях)
Действие 1. ВЕНЗЕЛЬ
посмотри! мои кисти танцуют,
бусинами осыпает бронзовые руки,
быстрые руки. кисти танцуют о́блитые
несомненными глазами; кто создал этот мир?
жаркое золото поглотило лампы,
жаркое золото, из него куётся лира,
из меня куётся ток.
созвездие неба из северных звёзд,
из белых тел растеклось пламя молоком,
любимое созвездие – всеокая лань над зеленью неба,
распятый свет ночами – всеокая в тени.
кто создал этот мир?
посмотри! как несчастны подо мною птенцы
я съела весь свет. это вечная ласка,
вечные глаза мои в стекле воды.
бросаю ногой океан,
ты знаешь, кто создал этот мир?
Действие 2. FORTE FORTISSIMO
гальюнная фигура
под шалью великие очи.
по шее пестрящая, омывает,
конница златая, пожаром идёт...
где белый налив, там пышет горе,
милость – средь па́лец, под шалью сжатой
у груди шумящей, в празднике вечной белизны
я держу вальс солнца, я храню себя.
кто достоин моей любви?
на мира голову, венцом, шаль синеющей ночи,
и безумное утро настанет!
из чаш моих, из рук моих открытых прыщут стрелы!
кто создал этот мир! кто создал этот мир, ты знаешь?
теперь! прольётся же в окна спален
белая тоска из жёлтых глазах моих,
как первая мира слеза, бесконечная.
иерихонская труба воспоёт
дар милости, безумие грядёт.
Действие 3. БЕНЕФИС
наше слово обо всем
под сереющим небом движутся струною
сосны в вечном обороте, тихие.
теплый воздух, тихий, мы прекрасны.
красивы, мы умеем это, мы прекрасны.
о чём ты думаешь?
крадётся, посмотри, трава шумит вправо
отовсюду шёпот бескрайний безумной реки,
на которой твои лебеди, под которой мой тигр.
завтра они станут восковыми, завтра их смерть.
ветер облизывает ели, я твои веки целую.
это не молитва, поглощаю твои осторожные пальцы,
на ухо – я всё знаю., лью, лью, чрез смех и ужас – знаю.
небо опустело, там мы обожжем свои спины
о ласки чужих голосов. о ком ты думаешь?
мечешься. от мокрой земли под небёсами сини,
к морям за ушедшей звездою. беги,
беги к своим ангелам прочь.
лилии рассыпали своё лицо, трещат
тяжёлые сосны, по́д воду их! по́д воду звуки имён,
плачется гроза, мою руку и сердце?
всё, что знало меня – где ты!
море догорит, последнее из солнц падёт
каплей на ярём у шеи, разверзнется!
алый на сердце бе́ли,
волною смех и ужас, волною Я.
У кромки рая
***
Эта милость и малость
двух прильнувших растений,
ничего не осталось,
кроме прикосновений,
этих тихих касаний
вдоль незримого тела,
и смотреть не глазами,
и любить так несмело,
чтоб уже не осталось
ничего, кроме этих,
испещренных, как старость,
двух узоров на свете,
чуть дрожащих, в единый –
все никак, и не надо,
потому что летим мы
из Сада, из cада, из сада…
***
У нее между пальцами – спальни тайных желаний:
там дрожат они в воздухе, маленькие царевны сна,
и когда их коснешься губами – разбегаются лани
по притихшему телу и замирают в долине ее живота.
Она – свиток во тьме, она свита в светящийся кокон.
И, как столпник, стоит он над ней, недотрогой.
***
Иоанн на Патмосе вышел на пенсию.
А другой, на Поросе, играет с даром,
как с рыжим псом. Хороши греки
иудейские, тонкорунные. Песни
берут с ножа, свет – из колодца.
А поодаль – то, что мы называем душа,
бродит, побрякивая колокольцем.
Видимо, скоро в горы, в отары.
Жизнь присматривается к человеку,
и накрывает попонкой звездной
тех, у кого закон вместо сердца.
Что тут скажешь? Лебедем на Данае –
горы. Синим бычком с извозом –
море. Ну а ты – за волшебной дверцей
вся дрожишь при любой погоде.
Что тут скажешь, недолюбливает она их –
даже тех, сердечников оголтелых.
Я о жизни, ее купальне, о божьей блажи,
то есть выходи за меня, Маша,
как из себя выходят –
может, потом вернешься…
Не душой, так небесным телом.
***
Живу ли я, ли я… Но поздно, не ответишь.
Бренчишь ключами – чьими? – без ключа.
Вот так и жить тебе. И хорошо б, на свете.
Где ты, как тучка золотая, ночевал
с собой. Не поступайся ширью, говорит он,
и точность тайн храни. Храню. Вчера,
зовут меня. Вечор-я-завтра. Лег бы у корыта
простого, настоящего… Да нет его – дыра.
Ты спрашиваешь, где я? В октябре, в поселке,
где нет помех двуногих, и ножи
глотает море. Как память. Пенные осколки.
И роются у баков мусорных бомжи –
любовь и жизнь. Я весь у кромки рая
тобой пророс, ты мною проросла.
Чего уж боле, да? Прости меня, родная,
чье имя позабыл, да и не знал.
***
Что ты делаешь со словами – они у тебя ничего не помнят,
разве у них болит? Как во сне, примеривают личины,
то людьми рукодельными пробуждаясь, то цирковыми пони.
И вся светится, перешептываясь, эта выделка без овчинки,
это тонкое кружево: видишь, как хорошеет
в пустоте, чуть мерцающей. Это гнезда кукушкины
слов, мы лежим в них – подкидыши воображенья.
Не волнуйся, никто не заметит. Собой заворожены,
люди любят глядеть, как в огонь, в эту ряженую пустоту.
Пой – не больно словам нежилым, красотой припорошенным.
Не спасает она, а, как стыд, приливает к лицу.
***
Шакти играет, танцует, и шаг ее тих.
Шива лежит – и не жив, и не мертв;
белый, как стих он и черен, как свет.
Шакти сама себе – пчелы и мед.
Шива лежит как ничто распростерт.
Не отрешив, не приблизишься к «я».
Чакрами Шакти, как елка, горит;
хвоей вскипая, танцует змея.
Шива под нею как сполохи тьмы,
дрожью исходит восставший лингам,
и, откликаясь на танец, на «ты»,
ввысь изливаются миражи.
Так начинается мир. И кончается бог.
Не было Шакти. Один на один
мальчик очнулся, так жгуче, врасплох.
Спи, еще много там снов впереди.
***
Кто б мог подумать, но приходит день,
когда ты говоришь уму: не нужен
ты. Как кораблю сгоревшая ступень.
И облака его брюссельских кружев
к земле спадают. Да, забыться сном
без тяготенья, неземным, вращаясь
вокруг себя, как суфии. Вот счастье.
Тем более, что делать здесь с умом?
Снег ставит на вид
ГРИБОЕДОВ
той любви не касайся
этой отдай взаймы
перелетных линяющих может быть даже певчих
у твоей нецелованной косточки отчество пешки
и фамилия девичья вечной москвы
за копейку орла отличаешь от шаха и решки
от горчащей мелодии не отличаемся мы
***
а скажешь прокричать оно кричит
беря все время выше
а скажешь промолчать оно молчит
не отличая яблоко от вишни
а скажешь прокричать оно кричит
не отличая яблоко от вишни
а скажешь промолчать оно молчит
беря все время выше
***
есть особый строй заката
в нем малевич верещит вручную
пулеметное махновское стакатто
маузер фамильный не вручали
солнце заходило на закате
пули просвистели за углом
два бойца два первенца два брата
штык молодчик пуля дура виновата
что не все уселись за столом
***
чёрное летает как вы знаете
за любовь тачанка напоет
Нестор не напишет новую историю
как она обречена
в ней не будет слова про махно
будто песни снега снега пламени
я не различаю цвета знамени
всё одно хорошее оно
шёлковое чёрное и классное
как у нас давно заведено
***
нет времени уже не первый акт
а ружья эти траченые молью
у чеховых стреляют в головах
и отдается болью головною
тебе на сцену крылья за спиною
слова в устах и сцена на бровях
все движется любовью
***
пуля виноватого нашла
от давления веселые пилюли
я не помню никакого зла
я сижу в кровати и на стуле
нет на табуретке нет в гостях
нет меня совсем не обманули
нет не упаду но этот страх
посильнее выпущенной пули
***
снег ставит на вид
видимо вы не готовы еще
осени черновик
выглядывает из-за плеча
желтые листья жжет
подставляет плечо
осень еще ничья
Из цикла «Пандемос»
***
Руку увижу чужую ль, свою же?
В вену вонзенный синий вентиль
На перекрестке путей
Кровных
***
Бледные люди
Не запечатлели себя в своих днях
Не помнятся их лица, не отделенные буквами
От охватившего их пейзажа
Вместе с каждым из облаков
Не вписаны в календарные даты
И накануне своих веков
Неотвратимым закатом объяты
Может быть запечатлею я их тишину
Бесшумность их лиц неотделимых
День просветляя их этим майским дождем
Шепча и повторяя их неповторимость
СОРВАВШИЙ МАСКУ УЧАСТНИК МАССОВКИ
Сам не понял, куда приписали его пока приказав: «на первый – второй…»
То ли в нашу
то ль в иноземную армию
в изношенной в какой-то изможденной одежде
бахромится штанина одна внизу
почему он безусый молодой еще человек
должен
участвовать в авантюре военной «Мосфильма»
Давит голову кивер, тусклый штык не блестит
доброволец-рекрут
оторванный от учебы и семьи
на поле брани будущей
в хорошо подготовленном режиссером прошлом
«Документы, награды и деньги сдать» – жалко все же
было последнее, что соединяло с самим собой, отдавать
хотя и под расписку –
новенький паспорт
ничего из наград
можно было отцовский орден надеть – но зачем
жалко почему-то и единственный рубль отдавать
ты бы мог его обменять на обед
но не в этом дело… и не потому что ты в военную записался массовку
погнавшись за призрачным длинным его собратом, зная что нет такового
А потому что…
Сам не знал
может быть
Что сминал все утро в кармане
по инстинкту
этот жалкий рубль желтоватого цвета
Но он вырос непомерно в его глазах
от бесконечного рукопожатья
фраза вертится одна искаженная
из газеты утренней
увиденной через плечо в метро
«Свекловоды страны заходящего солнца»
И когда он его доставал
Чтобы сдать под расписку
Непонятная жалость охватила –
Потому что на рубле покидаемом
остались отпечатки
неразменные пальцев
словно быстро истаившие папиллярные поцелуи не более смутные
чем жилки желтоватого этого листка
и тепло своей ладони, которое
быстро выветривалось в майский день
и хранило лишь запах денег
такой же неуловимо непохожий, как шахматы
или метро
с прикосновением уходящей мимолетной
свежести иных людей
Вот теперь ты один
в строю таких же бесподобных людей
Именно ты как один обнажен
И навстречу тебе идет
Темный вход кинокамеры что глядит на тебя
именно ты сейчас в централи –
в прицеле у мира
А не Наполеон дежуривший на холме
Ты с сорванными с тебя
документами и одеждой
твоей родной
Приодетый в неизвестное
платье
Ты без временной защитной
маски
Мнимой твоей отдельности
Сейчас обнажен
и увиден впервые
ты единственный –
для кого это все
Ты сейчас один
без оправдания паспорта
ты един – и единственный – и един
внутри середин
и язык не повернется сказать «среди»
Ты возник на миг
и не исчезнет даже слабое такое сиянье
даже опечатанное камерой
сданное в киноленту
Со срезанными шумами… с ворчанием грубым… усачей-ветеранов массовских войн…
спотыкаясь… отдаленно бормочущих смутно что-то вроде «Тудыть их в гантель…» с
всепримиряющим взглядом всех в одну и ту же сторону – в страну горизонта… что держит линию… несмотря на все разрывы ее… темными лесами…
***
В черных жилах еще течет электричество
Пронизывая здания бетонный ствол
До сих пор рука чувствует камень
Хоть время года написано на стене извне
WINDOWS 10
Через десять око́н заглянуть в человека
кто ты, часовой механизм, внутренность чудесная и
пустая под сводом компьютера или сосуд
скудельный, переполненный кровью
Кто ты, поверженный Олоферн или Юдифь?
Не разглашать тайну мира
Заплетающимся растительным языком в июле
Всеми прозрачными делами повседневными храня молчанье
***
Ты разорвал случайно кленовый лист
Надо бы его нитками подорожника сшить
Но кленовый зеленый клинок
Сам рассекает синь неба
И в прорезь разрыва
Как незнакомая глянула левая твоя рука
Вены рука неизвестная с высоты
Вот она на твоей сомкнутой кисти
Влево вначале и вправо уходит затем
Расходясь в голубоватую дельту
И перейдя меж холмов
Выпуклых твоих суставов
Теряется за границей где-то
Отчаянья стиснутого в кулак
Под пятипалостью разлапистой и
тонкими
Не навсегда разорванными прожилками клена
***
Река Скнига
Со скрещенными ивами
Над невидимой водой
В берегах
ВОЗРАСТАНИЕ ПАМЯТИ
Ты посредине летнего города
Вдруг увидел волну
Тот же давний день возрастал в тебе и вовне
На углу Старопименовского и Воротниковского
Все было также тихо и почти пустынно
И все же стада олений неслись и стлались по земле
Повторенная твоя и не твоя память неостановимо нарастала
Отчасти созданная из счастья прозрачная глубокая волна
Осень в оранжерее
MÄDCHEN
что такое девочка?..
– я даже не знаю,
видел ли я ее
одну
в супермаркете,
трагичную и таинственную,
как выцветшая фотография.
– я бы обязательно
узнал ее
и подошёл, чтобы назвать
ласково
mädchen.
ОСЕНЬ В ОРАНЖЕРЕЕ
увижу девочку в оранжерее,
читающую сижу-и-жду,
и промычу «му-му» ей,
что не умею говорить,
и подарю открытку
с чужими голосами.
и даже мое сердце промолчит –
оно лежит давно в кармане,
где ключи,
потому что осень
в оранжерее – это трудное время.
***
я в деревне, как в посылке,
гулять пойду,
и рюкзак возьму –
на обратном пути выгулять еду.
в магазине прочитаю
продуктов имена
и случайно вспомню,
что сухая половинка хлеба
грустно дожидается меня.
КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА
#жывебеларусь
мент сбрасывает амуницию-лиственницу,
он становится беззащитный, вроде птица без оперения –
и чувственный, словно признание на асфальте –
истончаясь, как пищевод с прилипшей к нему таблеткой.
положи его в прикроватный ящик –
пусть лежит в белой сорочке: ангел,
бьющийся о стекло –
складывает любовную речь свою самолетиком
и разворачивает мускулатуру знаменами-тенью-крон;
а вены его раздваиваются
наперегонки с твоими.
возвышенный мент залезает под ногти деревьям,
трепещущим и шумящим, как змеи – они:
дарят друг другу кожу, сбрасывают и возвращают –
чёрный мент-дубинка
и деревья-армия – целуясь,
играют в ролевые игры:
мент, дерево, дубинка.
Йегуда Амихай. «Никогда больше» – это тоже вечность (перевод с иврита Александра Бараша)
***
Ты живешь не ради того, чтобы помнить,
а ради того, чтобы закончить работу,
которую ты (несмотря ни на что – ты)
должен закончить.
Ты любишь не ради того, чтобы остаться,
и не ради того, чтобы любить, чувствуешь боль.
Ты все делаешь быстро и торопишься устать,
нетерпелив, как день полета из страны в страну,
меняешь счастливые часы на дожди
благословения по неизвестному курсу,
переезжаешь любить – идешь по улице
Корриентес, в потоке прохожих,
по течению –
Вамос, пошли. На других языках
это не так больно, пошли:
сначала есть иллюзия, что
вместе, потом – что
по отдельности.
ХАРЛЕМ, ТА ИСТОРИЯ ДАВНО УМЕРЛА
В кафе «Гармония», в Роттердаме,
в какой-то последний вечер.
Его рука лежит у нее между ног,
ее рука – на столе,
красивая и бледная,
как разочарованные
идеалисты.
Туалеты в подвальном этаже,
белые и тихие.
Ты спустился туда и плакал,
опять, столько лет прошло.
Тебе кажется, что ты
здесь уже был когда-то.
И вдруг понимаешь:
действительно был.
Привозишь себя на вокзал.
С тобой, как по тебе,
всё в порядке.
Тот дворик в Иерусалиме
был ошибкой.
Харлем, та история
давно умерла.
***
Тихие глаза,
рот – будто под водой,
лицо как блуждающий песок.
Ты собрала свои волосы,
собрала дни и слова –
и получилось то,
что в другие времена
называли домом.
«Никогда больше», «никогда не» –
это тоже вечность:
та, которая мне досталась,
всё, чем она поделилась со мной.
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ
Поверхность воды
напомнила твое лицо
в те дни, когда
мы знали, что происходит.
В последнее время я видел –
ты принимаешь судьбу, как
цветы: с улыбкой и поклоном.
После этого – занавес.
И даже сейчас кровь
звенит и дрожит во мне,
словно оконное стекло,
когда по улице едет тяжелая машина.
И мысли намотаны на тело,
будто ремни на грузчика.
Может быть, они как-то помогут
вытянуть продолжение жизни.
ПЛАЦЕНТА ЛЮБВИ
Плацента любви: письма,
счет времени, разговор в одиночестве.
Я забыл название праздника,
но было жарко и хорошо, и я видел,
как ты летала безо всякого чуда, без самолета.
Не просите нас
прожить еще одну жизнь.
***
Я слышал когда-то в парке
песню или старое благословение.
И над темными деревьями
всегда есть
освещенное окно
в память о лицах,
которые были там внутри.
А они тоже
память о другом светящемся окне.
Иван Лалич. Места, что мы любим (перевод с сербского Анны Ростокиной)
АОСТА
Солнцестояние в горах, прозрачно пламя,
Чей оттиск жжет юную кожу лета, ястреба
Рождаются из роз воздуха, и катаракты
Дымного серебра, что окисляются на склонах
Среди цветов и светлых тряпок ветра в соснах,
Лишаи дождя на гребнях, слушаю тебя,
Эти картины, сбереженные для мизерной возможности
Заново создавать твой мир; оттиск желания
Жив в воздухе, отпечаток пальца на открытке,
Вот мгновение, когда нет места, не запятнанного
Нашей лучшей кровью; мне снился снег,
Прожженный искрами цветов, и твое имя, я люблю,
В леднике молочно-изумрудного оттенка спит животное
Со сломанным хребтом, и камень, и беспокойный ствол воды
Двигает оголенными корнями; воспоминание темнеет от желания,
Как пленка от лучей, теперь ты далека и полностью отчетлива;
Для тебя я берегу день, полный гор, начало лета,
Для себя – нечеткий снимок обратной стороны любви.
ЛОВЦЫ ТУНЦА
В редкой дымке сумерек они бездвижны, льнут
К обкатанному волнорезу, как две черные мидии.
Море раздевается в тиши. Те смотрят
Желтым равнодушным взглядом. Просоленные сети
Зевают всеми ячейками. Босая поступь рыболовов
Качается над полостью деревянного брюха.
Ночь моет мокрой тряпкой треснутые ступени
Крыш над портом. Утро проглатывает маяк,
Как муху стриж. Ловцы тунца уходят,
Вмиг измельчав на ненадежной спине моря.
У кого есть время, пусть ждет их возвращения.
Гладкое небо слушает страхи серебристых косяков.
Корабли вернутся с болью в твердых ребрах,
Груженные плотным молчанием мертвых рыб.
ПИСЬМО
Зеленый порт, и чайки, квелые, как полдень.
Корабль уходит, теряясь в масляных разводах;
Ищи его, если можешь. Ведь это больше
Не тяжелая надежность пространства между стен,
Расстрелянных слепыми взглядами. Шесть шагов
Никуда тебя не выведут решительно. Все окна
Широко разбиты в желтый, просторный час после полудня,
Полный квелых птиц, холмов и тепловатого залива.
Свобода, ребенок-великан. Я нерешительно переминаюсь,
Неумело разобранный на тишину, страх и желание
И ранимый от прикосновения пути. Или возвращения,
Ибо море есть возвращение. Тысяча можжевеловых кустов
Игольчато покоится под гладкой кожей водной массы.
Что это, что не меняется, и в нем всегда я узнаю
Себя, пусть я и не похож на море, а море
Совершенно самодостаточно? Зеленый порт,
Плавают вверх тормашками дома, и тупые ребра кораблей
Обнюхивают рыбы. Это касание легче воспоминания.
Наконец следую дальше. Пространство милосердно,
Это заявляет красота вокруг. А время, а время,
По горло, по глаза, ищи меня, если можешь.
АРГОНАВТЫ
Море терпело нас, увлеченное вечностью
Внутри себя; и мы плыли – от берега
К берегу, днями, ночами, годами.
К прекраснейшим берегам мы, разумеется, не пристали.
Лишь ветерок доносил рваные пряди
Ароматов огромных садов на краю света,
В стороне от нашего курса; но мы познали
Любовь и смерть – и толику смысла,
Твердые крупицы золота в песке памяти;
Да, и гордость за приключение, запятнанную кровью
И омытую чистыми ветрами, под звездами,
Меж которые мы неловко вписали свои имена.
Наконец мы вернулись туда, откуда тронулись в путь;
Команда рассыпалась, будто пригоршня бусин; порвалась
Нить нашей судьбы. Капитан размозжен кормой корабля.
Море не изменилось. Ничто больше не изменилось.
Корабль с оголенными ребрами догнивает на берегу.
Но немногим известна тайна:
конец не важен,
Важно лишь само плавание.
БЕЛГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ В ИЮНЕ
Выныривает юный зверь из ведрия,
Тонкие мышцы металла в синей мари,
Звук густо собран в мутной линзе, рев огня,
А на террасе цветы и ветер, и тревога,
Как колокольчик во вздрагивающем стакане, где лед
Безболезненно теряет остроту граней, словно слово,
Разоруженное ласковым произнесением,
Вот он спускается,
И повторю тебе –
пассажиры в заблуждении,
Не случилось ничего, пока они дремали
Под наркозом горней пропасти, искаженные
Вогнутым конусом дня, наездники
Тени стрелы,
Всё остается скроенным по их неточной мере,
И зверь дышит на чистой полосе, как после любви,
От которой нет последствий.
ЗИМНЕЕ ПИСЬМО
Как ты причудлива там, где тебя нет! Между нами
Воздух в удушье среди мелких соцветий, метель,
Как нега болезни. И когда я касаюсь тебя
На кромке обычного сна, пальцами сквозь решетку,
Так мне кажется, ты заговариваешь
О неведомых мне вещах: какая-то мудрость,
Золотящаяся меж двух слов, словно летний воздух
Между двух островов. Но все проще так
Призывать тебя, чем представлять пространство,
Что нас якобы разделяет (ночь из фиолетовой соли,
Равнина, по чьей тиши я провожу прямую черту,
Среди звездных, занесенных лесов –
Ночь в декабре). И пускай ты отлична
От всего, что знаешь о себе самой, в такую ночь,
Когда одно новое море в страхе от снега
Открывается и мигает, будто глаз, у меня в крови;
Пусть ты причудлива, любовь моя, здесь, где тебя нет,
Гляди-ка, горя, как пламя над свечой своего имени,
В пустой комнате высказанного.
Столько разных путей,
Чтобы все больше зависеть от тебя!
МЕСТА, ЧТО МЫ ЛЮБИМ
Места, что мы любим, существуют лишь из-за нас,
Разрушенное пространство – видимость в постоянном времени,
Места, что мы любим, невозможно покинуть,
Места, что мы любим вместе, вместе, вместе,
Разве же эта комната – комната или объятия,
И что течет под окном: улица или годы?
А окно – всего-навсего оттиск дождя,
Однажды понятого и повторяющегося непрерывно,
И вот эта стена – грань не комнаты, но, возможно, ночи,
Когда сын трепыхнулся в твоей спящей крови,
Сын, словно пламенный мотылек в твоей зеркальной комнате,
Ночь, когда ты испугалась своего света,
И эта дверь ведет в любой послеполуденный час,
Что длится дольше нее, навсегда населенный
Твоими будничными движениями, когда ты входила,
Как огонь входит в медь, в единственную мою память;
Когда ты уходишь, пространство смыкается за тобой, как вода,
Не оборачивайся: вне тебя ничего нет,
Пространство – лишь время, видимое иначе,
Места, что мы любим, невозможно покинуть.
Чарльз Симик. Среди крылатых львов (перевод с английского Андрея Сен-Сенькова)
ВАВИЛОН
С каждой моей молитвой
Вселенная увеличивалась,
А я уменьшался.
Жена почти переступала через меня.
Я видел ее огромные ноги,
Достигшие головокружительных высот.
Волосы между ними
Сверкали как борода бога.
Она выглядела жителем Вавилона.
«Я уменьшаюсь с каждой минутой»,
Вопил я, но она не могла меня слышать
Среди крылатых львов, зиккуратов
И сумасшедших астрологов ее накрашенных глаз.
ВО ВРЕМЕНА МОЕЙ БАБУШКИ
Смерть просит старую женщину
Пришить ей пуговицу,
Она соглашается, встает
С постели и начинает искать
Иголку и нитку
При свете свечи, которую священник
Держит над ее головой.
ЛУНАТИК
Всё та же снежинка
Продолжала падать с серого неба
Весь полдень,
Падала и падала,
И, поднимая себя
С земли,
Снова падала,
Но каждый раз незаметней,
Осторожней,
Пока ночь прогуливалась,
Пытаясь понять происходящее.
из цикла ВЕЧНОСТИ
Музыкальный автомат души
Играет старомодные шлягеры,
Разбросанные по небу
Среди звезд.
Наступила
Оглушительная тишина,
Когда я спросил Бога,
Какого размера принимаются монеты.
УЕДИНЕНИЕ
Прямо сейчас, там, где первая крошка
Падает со стола,
Ты думаешь, что никто не услышит
Этот стук об пол,
Но где-то муравьи
Надевают уже
Свои квакерские шляпы
И отправляются к тебе в гости.
ОДАРЕННЫЙ
Я рос, склонившись
над шахматной доской.
Любил слово эндшпиль.
Двоюродные братья посматривали на меня обеспокоенно.
Мы жили в маленьком доме,
неподалеку от католического кладбища.
Оконные стекла сотрясали
самолеты и танки.
Играть меня научил
вышедший на пенсию профессор астрономии.
Это был, по всей видимости, 1944-й.
В наборе, которым мы пользовались,
краска почти полностью слезла
с черных фигур.
Белый король потерялся
и мы его чем-то заменяли.
Мне говорили, но я не верю,
что тем летом я видел
людей, повешенных на телефонных столбах.
Зато помню, как мама
часто закрывала мне глаза.
Она умела внезапно накрыть мою голову
своим пальто.
В шахматах тоже, рассказывал профессор,
великие мастера играют вслепую
на нескольких досках
одновременно.
***
Я был украден цыганами. Родители выкрали меня назад. Затем я вновь был похищен цыганами. Это продолжалось какое-то время. То я оказывался в повозке, посасывая темный сосок своей новой матери, то в следующую минуту сидел уже за длинным обеденным столом, завтракая с серебряной ложечки.
Был первый день весны. Один из моих отцов пел в ванне; другой раскрашивал живого воробья в цвета тропической птицы.
***
Мертвец сходит с эшафота. Держит под мышкой окровавленную голову.
Цветут яблони. Он держит путь в деревенский кабак и все на него глазеют. Там, присев за один из столов, он заказывает два пива, одно для себя, другое для своей головы. Моя мать, вытерев руки о фартук, обслуживает его.
В мире так тихо. Можно слышать старую реку, которая в замешательстве иногда забывается и течет в противоположную сторону.
КАКИЕ-ТО НОЧИ
Много прекрасных пирожных на полках
Нашей городской библиотеки. Мисс Риз
Погружает свой палец тут и там,
Пока прогуливается по темным проходам
В поисках нужной книги.
«Мне нужно что-нибудь с трюфелями из Перигора»,
Сказал я ей.
«Из Перигора, где поэты думают только о любви»,
Весело воскликнула она,
Ее рот был испачкан земляникой и кремом.
Я сжимаю ее руку; она сжимает
Мою. Мы спускаемся
В подвал, где хранятся
Маленькие черные шоколадки
С миндалем рая и ада.
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ЧТЕНИЯ
На смертном одре отец читает
Мемуары Казановы.
Я замечаю, как с наступлением ночи
Вдоль улицы загораются несколько окон.
В одном из них читает
Молодая женщина.
Долгое время она не поднимает глаз,
Даже когда становится темно.
Пока там еще горит свет
Мне хочется, чтобы она подняла голову
И я увидел лицо,
Которое себе уже придумал, но книга,
Похоже, требует напряженного внимания.
Кроме того, в тишине,
Каждый раз, когда она перелистывает страницу,
Я слышу, как отец перелистывает свою,
Словно они читают одну и ту же книгу.
Петерис Цедриньш. Красота – это просто (перевод с английского Дмитрия Кузьмина)
***
погружаясь в спячку в телах-подделках
(печёночница на водке, или вовсе
ни грамма брутальности (она со мной не в ладах –
маленьким я наигрался со ртутью,
разбитые градусники
(есть город в Румынии, где
овцы черны, потому что шинный завод,
и ты собиралась туда перебраться и разводить чёрные тюльпаны
и ты рассылала чёрно-белые открытки
нашим немногим оставшимся севернее друзьям
приглашая тебя навещать
до тех пор, возможно, пока не оказалась там
ради супа из чёрной фасоли, потягивая лапсанг сушонг
(вчера я встретил Королеву обманов (всё
чисто личное, я пытался припомнить
(занятные мелочи
(вроде того, как грести граблями чёрные листья: седиментарно, Ватсон
или ректальные градусники
(я пытался припомнить
поцелуй
(Королева обманов молвила: тела не бывают подделками
(долгие годы я думал, она же была пьяна, незаметно пьяна
во время того поцелуя
(и там в этом городе моют шерсть
и только потом идут с ней на рынок
(но она совсем не пила
в то время
её вырвало
она выполоскала рот – у меня до сих пор на губах её вкус
(и тела́ не подделка, не всегда, нет
не всегда
– или да, и там в этом городе снимают
фото цыган, голых у чёрной реки
(а город, где я живу, тёмный и так. красота – это просто.)
LIETUVA
вернувшись к этой
стране, я невежда о ней
и устал быть чужим
всюду, своим путём, как и она на своём
пути, – после короткого белорусского виража –
пограничники не смотрят паспортов, только спрашивают, есть ли,
– пропускной режим с ноября, –
не зря у Кеннета Ирби, я гражданин этого государства (помутнение воздуха)
и тянусь к этому цвету (любви в глазах), как тело к своим облакам
между машин подымить, мужик машет в сторону мёрзлых полей: n u v o t,
Великой тебе Америки, Великих Равнин –
н и к а к о й с в я з и
наелся падалицы осенней, ābolu gads, яблочный год,
уже больше не лезет –
яблоко съедено
на заре в мире с сиятельной мудростью цыган,
запретом сажать и сеять
удерживая их в движении
чтобы молодили приостановленную Европу
тут и останусь, где её стебелёк
чуть выпирает, ещё бледный, из напоённой кровью земли
здесь лит. скудель поражённая
любовью, поколения шли
вложить в неё душу,
поскольку душа их вышла отсюда,
из камней одни говорят они есть
или их нет, за прошлым
забвением одно известное
тебе о камне или волосы между деревьев
означают невозможность вернуться, насколько болит
это не, упущенное из рук
1993
***
В ночи, Светофоб, я завладеваю пустынным комплексом, в котором моя работа
саваном в ночи пеленать слова́, выхожу, выхожу в свет
туда, где она повторяется во сне под запашку
и даже солнце видит как инь
взбираюсь вдоль её позвоночника, системы в проточном свете мертвы
посасывая ферментированный металл из её сочленений
и мимо горького тела, через чёрные марши
её рот пересечён и прикрыт эстакадами, вожделенные
человечки из палочек (чёрное дерево или кость),
землисто-красные ноги или головы на длинных ручках,
заляпанные зеркала выбивают оружие у неё из рук
р е ч ь – у б и е н и е с е м е н и
словно листья сдувает на пляж ломких голубых беспозвоночных
впрочем, холодные простыни хранят её
запах, зная возможность её фотоснимка
1991
Дескриптивный ужас «Вечного дня» Георга Хайма
Хайм Георг. Вечный день. Пер. с немецкого Алеши Прокопьева. – М.: libra, 2020. – 64 c.
Георг Хайм (1887–1912) – один из ключевых авторов раннего экспрессионизма, творчество которого во многом определило как тематический, так и образный спектр не только немецкоязычной, но и во многом мировой поэзии. А теперь его единственная прижизненная книга стихов «Вечный день» (1911) доступна широкому читателю не в академическом «буквальном» переводе (как сделал М.Л. Гаспаров, почти дословно переведший Хайма свободным стихом для «Литературных памятников»), а в воссоздающем и версификацию, и образный строй, и интонацию переводе Алеши Прокопьева, позволяющем прочесть книгу во всей ее эстетической полноте.
Важное открытие Георга Хайма – это развитие эстетики распада Шарля Бодлера и Артюра Рембо и трансформация ее в дескрипцию ужаса и чужести субъекта в «стране мертвецов», что позволило ему создать язык описания мира на грани апокалипсиса, противостоящий нормализации насилия:
Зимой рассвет встаёт всё тяжелей.
Блистает жёлтая его чалма
Сквозь траурную ленту тополей,
Бегущих краем. На озёрах тьма.
Свистит камыш. Раздвинувши его,
Впускает ветер первый яркий луч.
А в поле смерч – застывший часовой.
Бьют в барабан. Тот барабан могуч.
Бьют в колокол. Смерть, неужели ты.
Матросом вдоль по улицам идёшь.
И зубы лошадиные желты.
И бородёнку редкую жуёшь.
Покойница-старуха в дальний путь
Отправилась, и с ней – младенец-труп,
Как шланг резиновый, он тянет грудь,
И выпускает, дряблую, из губ.
Два обезглавленных, которым Смерть,
Всучив им головы, встать помогла
Из-под цепей, нет, лучше не смотреть.
Срез шей – в мороз – из красного стекла.
(«Страна мертвецов»)
Конечно, трактовать поэзию Хайма только как критику насилия – это значит сильно утрировать всю ее многозначность. Однако именно экспрессионистский способ изображения ужаса и отчаяния открыл мировой культуре возможность говорения об упадке и коллективных травмах. Ведь одна из ветвей экспрессионизма была резко политизирована (например, журнал «Акцион»). Так и поэтика Хайма имплицитно, но основывается на критике войны и насилия.
Получается, что мертвецы, утопленники, казненные революционеры, раненные солдаты, демоны и злобные боги – это образы, подкрепляющие дескрипцию ужаса, переживаемого субъектом, выраженную в абсолютной метафоре (такой тип метафоры открыли Бодлер, Рембо и Малларме и взяли на вооружение поэты начала ХХ века), в которой «соединение понятий основано не просто на сходстве несходного, а на субъективном эмоциональном соположении»1. И, как пишет Н.В. Пестова, «от традиционной метафоры экспрессионистская отличается тем, что она, оставаясь фигурой переноса, касается не изображаемого объекта, а изображающего субъекта, т.е. построена не по принципу объективного сходства/несходства объекта и образа, а на основе чувства и отношения поэта к объекту, она в большей степени характеризует самого автора и его специфическое видение объекта изображения»2.
Примером такого приема является стихотворение «Дерево», в котором многозначность центрального образа позволяет толковать его или как метафорическое изображение внутреннего мира поэта, или как образ субъекта, столкнувшегося с жестокостью мироздания, или как немого свидетеля этой жестокости:
Один, как перст, в чистом поле дуб,
Старый, разбитый, возле канавы,
Полый от молний, от бурь корявый.
Крапивная чаща вокруг на мир точит зуб.
Гроза собралась и летит на закат.
Он стоит в духоте, синий, ветром непоколебим.
Зарницы венец сплетают над ним,
Бесшумно вспыхнув, в небе горят.
Стаи ласточек вьются, за кругом круг.
И летучих мышей – не полёт, а свист,
Перекладиной виселичной, безлист,
Над челом его, выжжен грозою, сук.
Что ты вспомнил, дуб, в эту непогоду,
На краю у ночи? Болтовню жнецов,
Под тобою в полдень нашедших кров,
Косы бросивших, жадно сосущих воду?
Или как в стародавние времена
На тебе человека казнили они,
Как он вытянул ноги после возни,
Сизый вынув язык, и пошла слюна?
Как зимою ветер его качал,
Как плясал он, льдышкой забавной став,
Колокольным билом, церковный презрев устав,
В оловянное небо стучал.
Говоря о форме стихов Хайма, нельзя не отметить, что значительная часть текстов представляет собой сонеты – жанр, который экспрессионисты развили в особом ключе. Так, считается, что «для экспрессионизма сонет оказался экспериментальным полем, где все его парадоксы были максимально реализованы и заострены. Он предоставлял широчайшие возможности для самой смелой формальной игры и языковой артистики, настоящего карнавала рифмы, что впоследствии станет одним из элементов современной поэзии. Внутренняя структура стиха располагала к одному из любимейших приемов экспрессионистов – озадачивающей смене перспективы и вообще любой форме остранения. Сонет, который не знает никаких ограничений в тематике, тем не менее, оставлял для экспрессионистов тематические лакуны для провокации и вызова или, напротив, тихого апокалипсиса»3.
Так, цикл сонетов о Берлине ставит в центр внимания урбанистический ужас, городской апокалипсис, показывая разложение и распад мира насилия в предвоенной Германской империи:
В пыли был край шоссе, где примоститься
Нам удалось. Причалив, в страхе, в шоке,
Мы видели: спешат людей потоки,
В заре вечерней высится столица.
С бумажными флажками на флагштоке
Сквозь сутолоку толп линейка мчится.
Набитый омнибус, и вереница
Авто, колясок: дым, клаксон жестокий.
Там – море. Море камня. Но в упор
Нагие кроны высветил закат,
Как будто знаков водяных узор.
Огромный шар свисает с эстакад.
И запад красные лучи простёр.
Как в странном сне, на солнце лбы горят.
(«Берлин II»)
О том, что мир распада воспринимается как чуждый для субъекта, что насилие не восхваляется, а отрицается, говорит стихотворение, фраза из которого взята для заглавия сборника, «Самый длинный день», где поэт стремится изобразить гармонию, антитетичную дескриптивному ужасу других текстов:
Солнцестоянье – вечный день,
Твоих волос златая тень,
Как шелк тяжёлый, пала.
И ты мою взяла ладонь.
Из-под копыт коня огонь
Взвился, где ты стояла.
Листва струила блеск – не тронь! –
Как эльф, прогарцевал твой конь
Над рощицею алой.
Благоуханнейшая лень,
Как только может, в Вечный День
От мира отрешала.
И в этом плане «вечный день», пронизанный солнечным светом и любовью, противостоит насилию, распаду, урбанистическому апокалипсису темных городов. Эта антитеза достигает пика в цикле «Черные видения», обращенном «К выдуманной возлюбленной». Этот цикл изображает не просто границу апокалипсиса, а его начало, в котором именно возлюбленная подобно Беатриче ведет героя к свету обновления, миру без насилия:
И во главе таинственного войска
Пойдешь в страну таинственную ты,
И я – вослед. Твою ладонь из воска
Покроют поцелуи, как цветы.
Через края небесные прольётся
На остров мёртвых – вечности поток,
На западе костёр теней взовьётся,
И горизонт растает, как дымок.
(«Чёрные видения. VI»)
Прежде чем перейти к заключению, стоит несколько слов посвятить издательству libra, которое благодаря изданию Георга Хайма, Райнера Марии Рильке, Пауля Целана, Макса Фриша, Андреаса Грифиуса, Хайнера Мюллера в формате малых книг позволяет не только восполнить пробелы в немецкоязычной литературе на русском, но и прочитать важные произведения во всей их эстетической полноте. Несомненно, малые издательства нужны и хотелось бы, чтобы это (как и многие другие) успешно реализовало все свои планы и открыло или дало в новом виде еще много интересных немецкоязычных авторов и их произведений в переводе на русский язык
Таким образом, Георг Хайм своей дескрипцией ужаса не прославлял войну и распад, а работал против нормализации насилия, он – один из первых, кто показал мир на границе апокалипсиса, которая сейчас через призму работ Ж. Бодрийяра и Х. Арендт воспринимается как рутинность и банальность зла (насилия, угнетения, тирании и т.п.). Возможно именно в этом актуальность «Вечного дня», вышедшего ещё в начале XX века. Ведь когда возникает множество способов говорения и преодоления рутинного зла, важно понимать, как об этом говорили на пороге Первой мировой войны, с которой, отчасти, начались глобальные катастрофы, следы и травмы которых носим мы с вами.
1 Пестова Н.В. Немецкий литературный экспрессионизм: Учебное пособие по зарубежной литературе: первая четверть ХХ века / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2004. – 336 с. – С. 89.
2 Там же, c. 90.
3 Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести. Изд. 2-ое, доп. и исправл. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2002. – 463 с. – С. 381


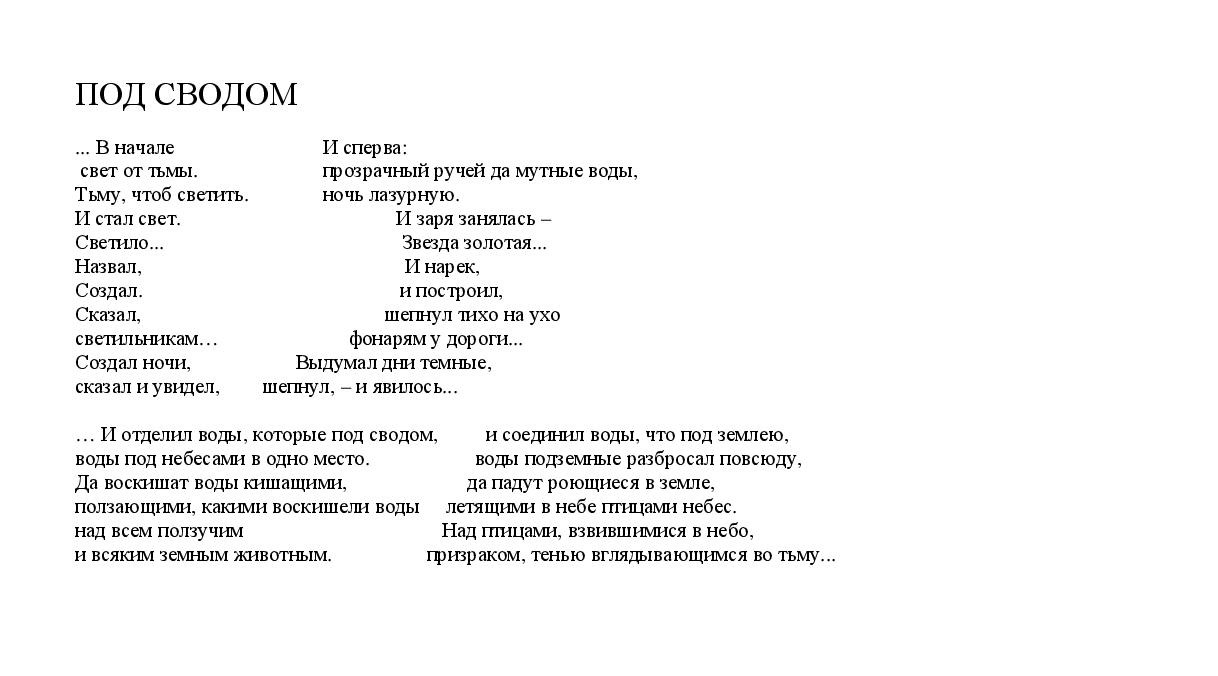
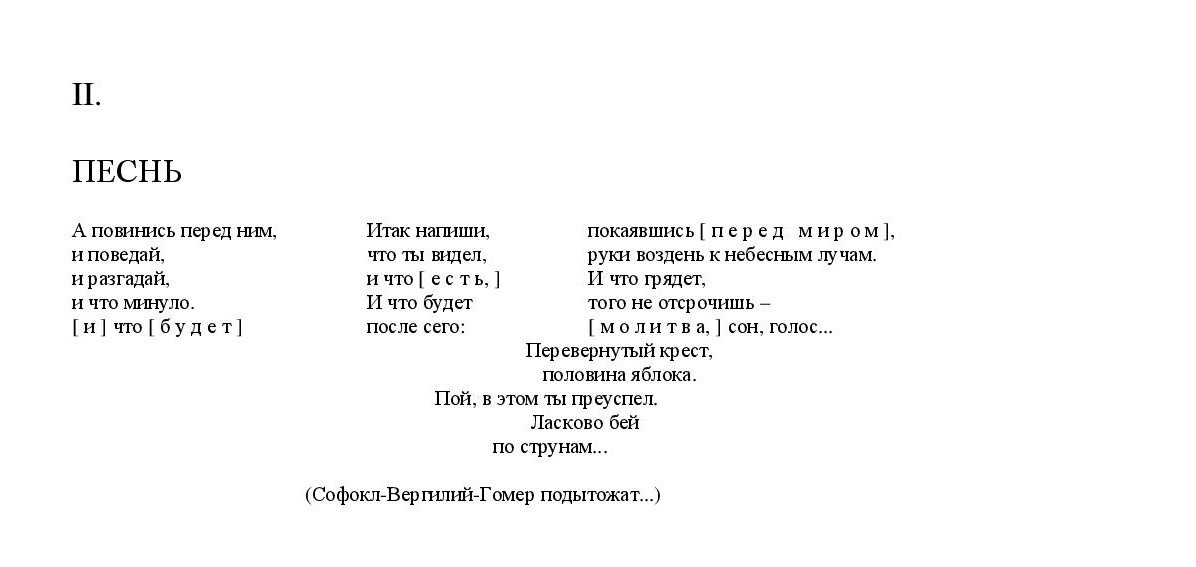
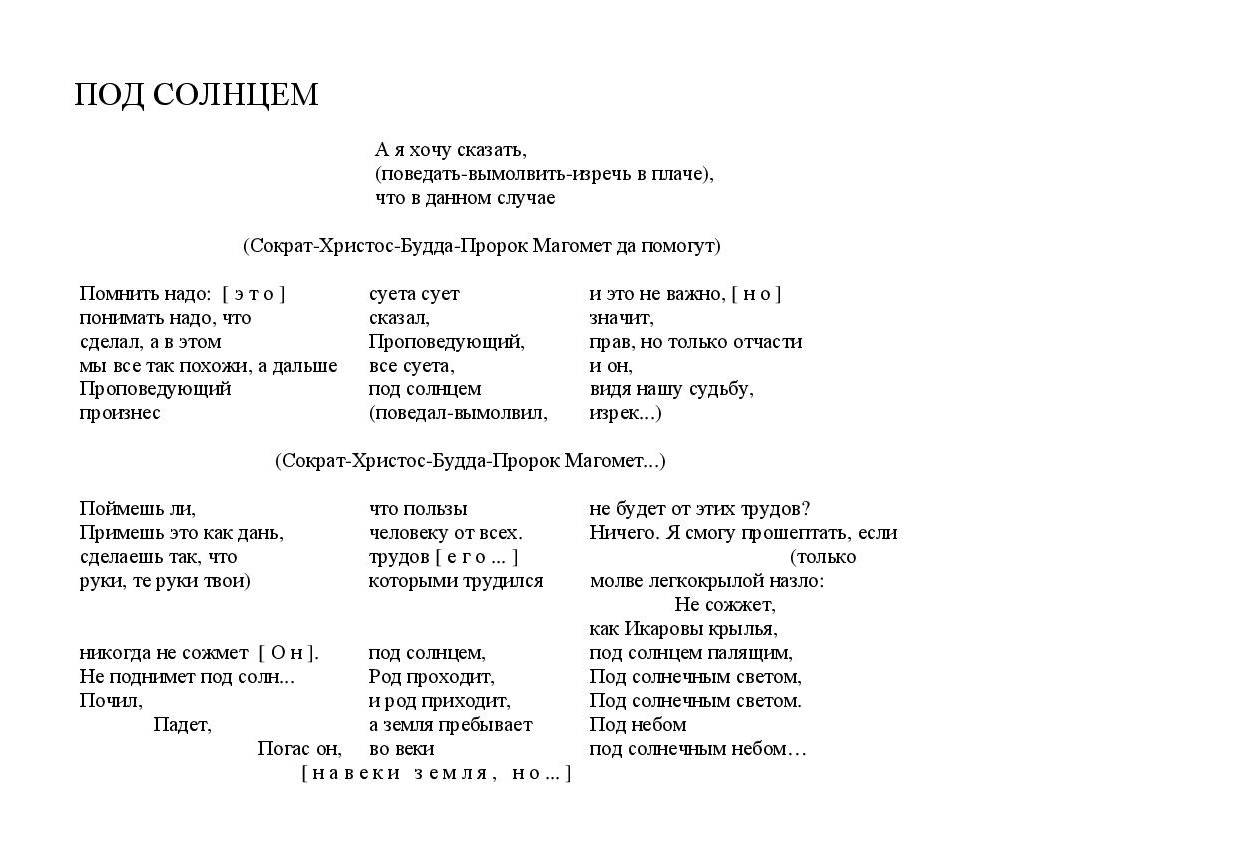
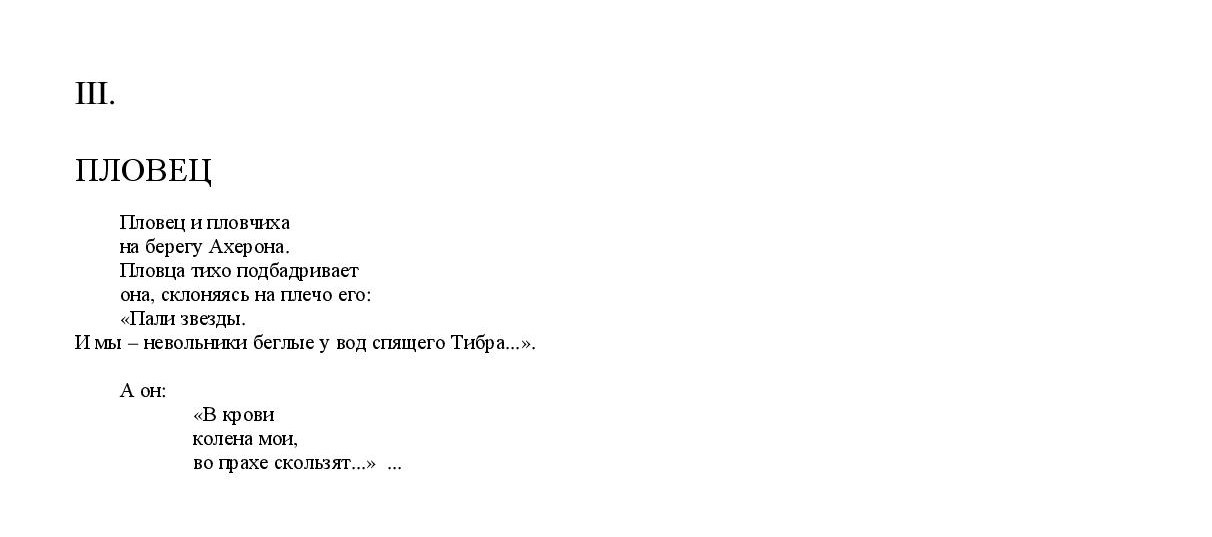
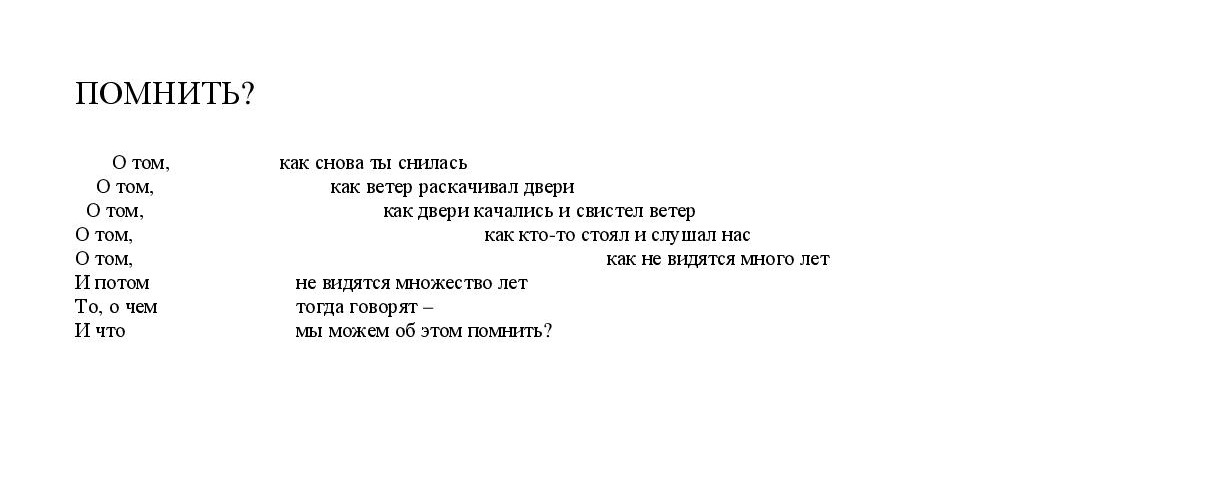






.jpg)