«Флаги». Спецномер. Алексей Парщиков

Содержание
Сегодня Алексею Парщикову исполнилось бы 69 лет. Новый номер «Флагов» мы решили полностью посвятить ему: неизвестным страницам биографии, воспоминаниям друзей и коллег, взаимодействию с другими поэтическими традициями и языками, разным ролям Парщикова – переводчика, искусствоведа, близкого друга. В номере – поэтические тексты, вступающие в диалог с наследием Парщикова, визуальные материалы, приоткрывающие иные измерения восприятия его поэзии, эссе и интервью. Отдельный раздел номера – переводы стихотворений Парщикова, в том числе и на языки, на которые они раньше не переводились. Нам кажется важным наметить новые точки прочтения стихотворений поэта, продолжить разговор о том, как переводить поэзию метареализма, представить разные взгляды на поэзию Алексея Парщикова. В мае и июне мы продолжим пополнять номер и дайджест материалами, связанными с Алексеем Парщиковым и его наследием: опубликуем интервью, эссе, стихотворения и визуальные работы. Оставайтесь с нами!
(P)oem
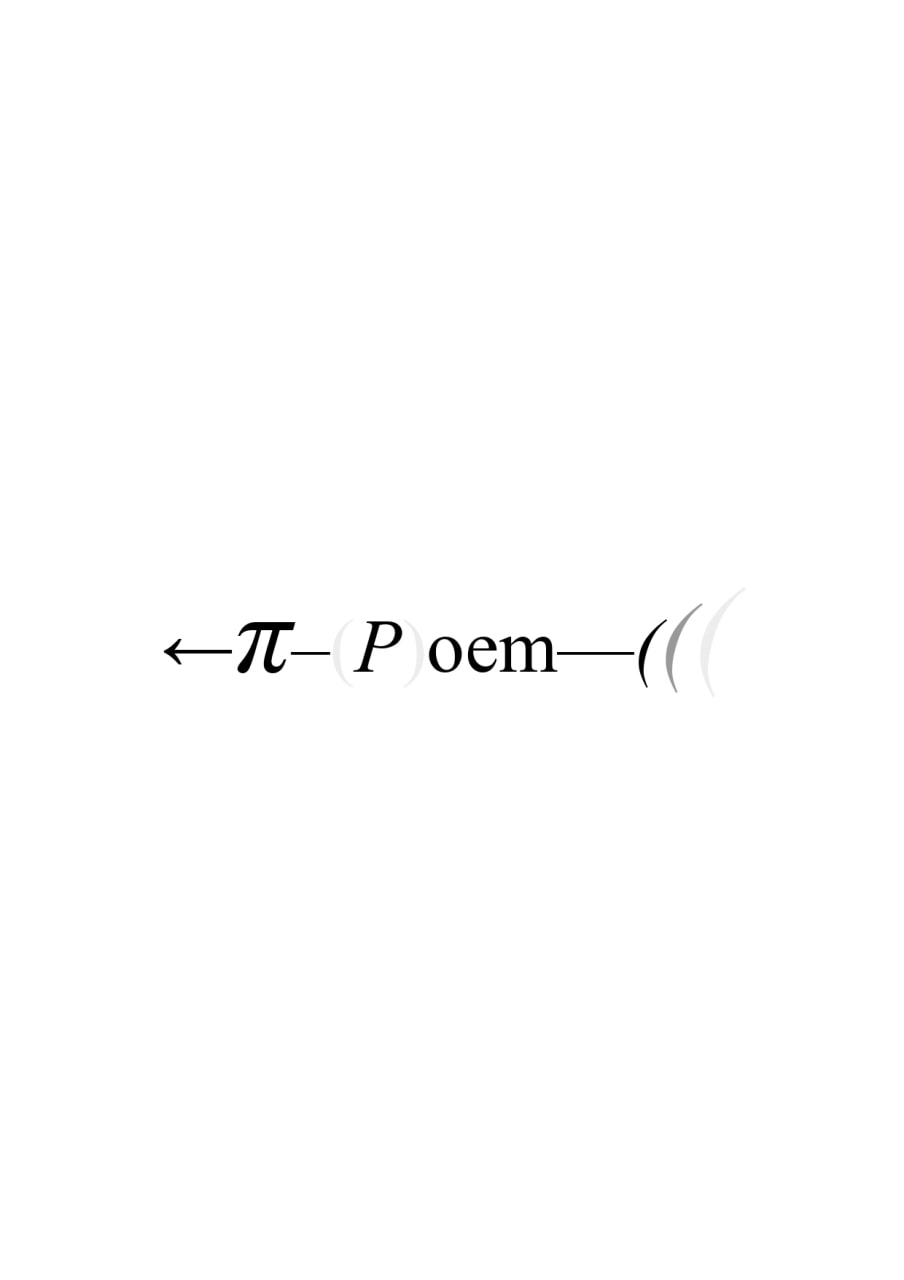


.jpg)




«Force», «Desert» (диптих)
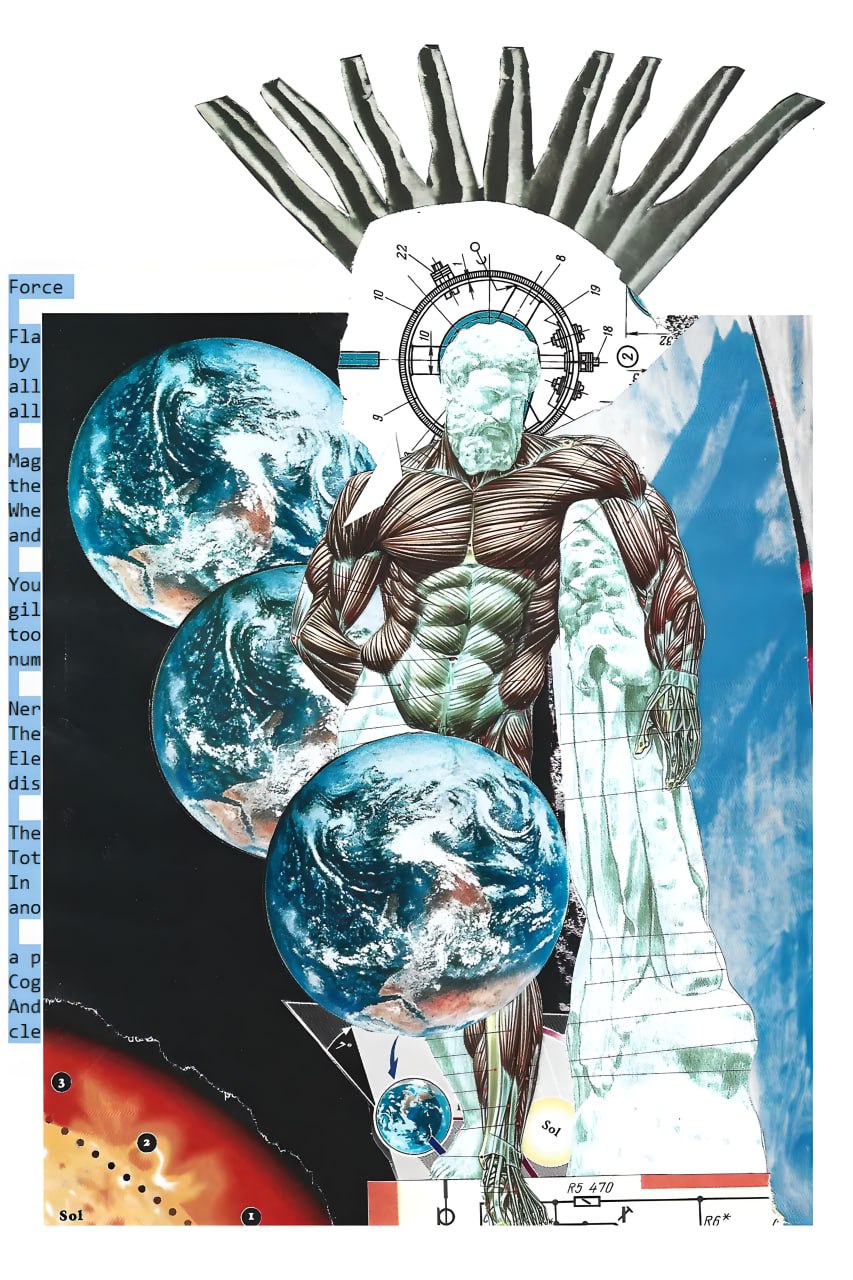 FORCE
FORCE
...Это сила, которая в нас созревает и вне,
как медведь в алкогольном мозгу и – опять же – в углу
искривившейся комнаты, где окаянная снедь.
Созревает медведь и внезапно выходит к столу...
– Алексей Парщиков, «Сила»
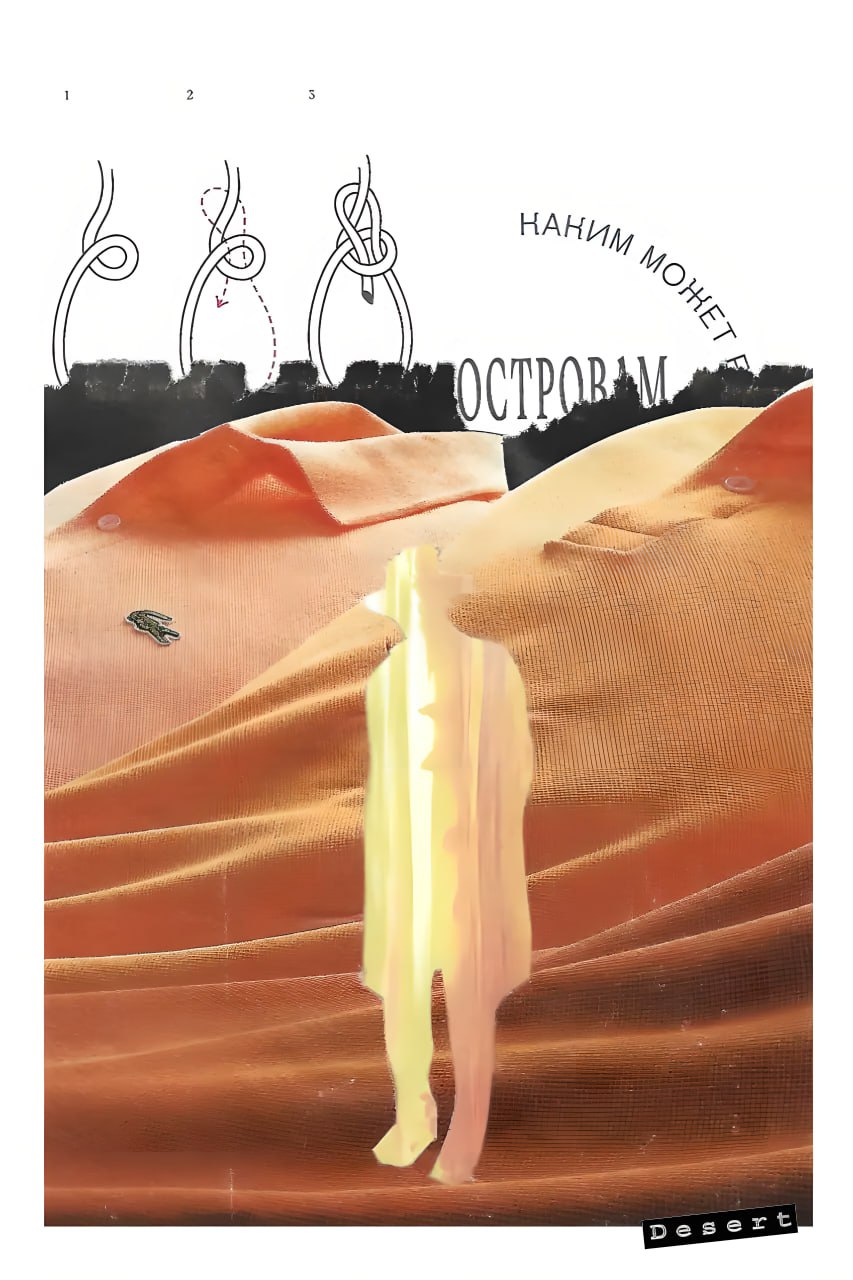 DESERT
DESERT
Я никогда не жил в пустыне,
напоминающей край воронки
с кочующей дыркой. Какие простые
виды, их грузные перевороты...
– Алексей Парщиков, «Пустыня»
Все втягиваются в сад
***
Ты ли стучишься, котовский, прикид чертовский,
вдруг соскочив с неотслеженных траекторий
вместо послания черной карты или квадрата,
хвост или дым за тобой? Глаза-спиртовки,
между усами и дымом шуршит в зените
черная книга «Ночлег в небесном овраге»,
том-очернитель, мрачная писанина,
вопль с серединной страницы: спасите, грабят! –
но не узнаешь, кто и кого уторкал,
все неоправданное подтерто.
Или явился в гости благоприятель куст,
сблизившись с поприщем – расточитель-куль,
велеречив, разбросан, полон эфира,
снежных цветков и ягодника сапфиров,
ангельских перьев, патетики, обещаний –
и между пламенных жестов шепчет: dum spiro –
spero, и пусть нас найдет пощада.
Уж не скребется ли в дверь покойный велосипед,
не растерявшись на беженской толпе –
пересобрав себя из дреколья
и спохватившись о мне сто времен спустя,
точит колеса, шипуч, блестящ,
переподкован и склонен к рекордам.
Так что едва над сходбищем бед пропел
желчный петух, а может, иной соколик,
над задним его колесом кипит пропел-
лер, и мне предлагают седло и скорость –
только засвищут комья или осколки!
Ибо лучшее, что здесь есть – побег!
***
Человеки и правды перекрикивают друг друга,
взгромоздившись на родовитом древе,
как на аэроплане,
перемахивают в прогнозах, меряются столами,
одни многокрылы, другие есть длинноруки,
малогалантерейны, практикуют куренье
тех и этих листьев, которые и воруют
без схожденья с места, множат зарубки
и кричат: предъявите миру ваши заслуги!
И пронзительно шепчут: сами вы на закланье!
Семена ваши к восхожденью глухи! –
ну, а древо под ними мечется и трещит мослами
напропалую.
Человеки и их злосчастья пересказывают друг друга,
перевзвешивают, лавируя на верхушке
своего извечного перелета с худших
ложа, дюнделя, портмонета – к лучшим…
Кое-что воруют.
Но полет и древо гудят, почесывая свой водосток
или щелкая почки: будь ты неладен! –
и стрясают их со своих перекладин,
смешивают в угасающих линзах лица,
как в сумраке равелина…
Древо жизни – экое решето!
А полет дыряв – на тысячу сто!
***
I.
Мэтр Двадцать Шестой трамвай
приходит лишь к тем, кто его не ждет.
Ошеломленцы горланят: не тот, не тот!
Но щелкают клювом: вай, вай, вай,
как хорош! В затейливом золотом хохле,
как наш шабёр – малютка удод,
пан-премьер на птичьем селе!
Хоть не та, но знатная золотая клеть,
водится ли в ней теплый туалет?
А консъерж в парадной? А башенные куранты?
Вся полна шарад, как принцесса Турандот.
Пусть совместно украсят наш табльдот!
Странствовать на таковской – уж это не на метле!
Уж это не на осле, а чуть не на корабле!
Верно, только со стапелей?..
Как шмаляет мили от пристани к при…
Или: глянь, какой балаганчик,
порфироносен и аррогантен!
Кем он нам приходится, как не высший приз,
Потому что лишь правда с верой – наши поводыри.
Или: ал, как тот, кого оболгали.
Впарили демосу, как букет облигаций!
Притом в нем стенают гайка за гайкой,
юрк в него – и ну содрогаться!
Да и свозит за тысячи га,
в логово врага,
в волчью мглу, отвратную нашим целям.
Он – позор трамвайного цеха!
Всмотритесь-ка, нет ли в нем прицела?
Не расселась ли где-нибудь у окна Цирцея?
II.
Те, кто ждут не дождутся мэтра Двадцать Шесть,
кто взывают издалека: мы с вами, шеф! –
и показывают ему кошель, –
из вольнодумных и предерзких существ,
и пока дождутся, на них нарастет густая шерсть.
Пан Двадцать Шесть, трамвай,
изумлен: или он именинный каравай,
а не то ваш настольный цитатник?
И пусть всей этой либеральной сошке
не отломится ни кусочка,
не отвяжется ни потачки.
Треплемы не трамваем, но трамонтаной,
пусть высматривают маэстро на Итаке.
***
Эти мнящиеся особы обсуждают новость дня чуть не год.
Верно, в их пристанище год жизни – не длиннее дня.
О, сколько протянут!
Сообщают: над родиной реют летучие мыши
дородством с енота – и всех опыляют. Но день спустя
кто-то убежден: – Вы недослышали: – Радио
говорило: округляют! И не мыши, а санитарная авиация
желтого диавола! – и сразу десять голосов поправляют:
– Ослепляют!.. Если радиация, то – оскопляют!..
Если авиаторы – окрыляют!
Растекается Семилетняя война отлично слышащих –
и залепивших уши воском. Каждой армии нарезано
на победу – полгода. Хотя все толпятся – на одной стороне.
Кажется, их разговоры сочиняет кто-то другой.
Сообщают: в предпоследние земли вторглись пожары.
Но если сгорело время, как не гореть его домам?
К тому же сооружены из опавших листьев, позвонков
вольничавшей посуды, остывших компрессов, блистеров
с рваными ноздрями – и перевязаны отпаренными
со старых открыток лохматыми поздравлениями.
Огненное время, пламенные сердца, обнявший домы огонь…
По вкусам лет: голубой простор, голубая болонья,
голубой шарфик, автомобиль «Голубая мечта»…
Или – серебристые сумочка и перчатки, серое пальто,
под локтем книга «Серая шейка», клош – чисто пепел…
Пламя похоже на сад, доставший южным мысом –
весну-красну, а северным – осенний дым, южным –
мадемуазель розу, северным – кротовью нору…
А на всех полках сада спеют праздничные шары
и конфеты, скрепленные с песнопением птицы
и пучки стрел, что сразят все неправды, и осколки
зеркала с видами чьих-то запотевших комнат…
Перезрелые же шары ветер правит шипом, как на
старомайской демонстрации. И из них высыпаются
семечки слез… хотя не столько, чтоб засыпать огонь.
Куда отправляются жильцы горящих домов,
в ночное или в слепое?
Сад гудит, как заслушанная пластинка с кровавой
луной и змеиной головой вместо сердца, расталкивает
карийоны и тимпаны… И по мановению крайнего
дерева рядом встает – точная его копия и тоже бушует.
Все втягиваются в сад.
***
Цып-цып, пускай весь желтый цвет
слетит сюда клевать зерно,
как ни прикидывай, оно –
зерно, уха и руль-калач –
еще ужорней, чем вчера,
а то холмы вчерашних брашн
весьма похожи на мираж,
уже не мак, но мошкара,
и новый вкус их – старый плач.
Да, да, мой свет, пусть желтый цвет
стечет ко мне с полдневных вет-
вей-вей – он солнце мне и ветр,
жестянка с рифмами и метр.
Он богоцвет и жизнедав,
он мой ничейный лапсердак –
на прятки и сугрев,
а голодая, можно грызть
карман, манжеты и махры,
да будет вечно в серебре!
Он весел, смел и милосерд,
теперь лишь он – моя родня,
он сострадателен за всех
оставивших меня.
Он мне – свидетель, понятой
и нищебродский золотой.
Моя звезда и кружный путь
на сбившийся флажок,
на дом с названием «Он Пуст»,
второе имя – «Желт»,
немного крив и неуклюж,
он склеен из осенних луж
и втянут в саранчу щеколд,
сверкающих, как кольт…
Баллада искренней бумаги
БАЛЛАДА ИСКРЕННЕЙ БУМАГИ
Ты рассказала мне, что когда однажды пришла к своей пожилой подруге
То увидала, что на тумбочке
Где всегда лежали письма и записи непрерывно пополняемого дневника
Покоится лишь стопка самой чистой писчей бумаги
И твоя подруга как-то не в такт седой качая головой
Сказала, что письма и записи свои сожгла
Зато на этом месте воздвигнут памятник из белой бумаги
И попеременно обеими руками, чей тремор был неостановим
Старалась указать на верхний чистый лист:
«Внимательно смотри».
Ты посмотрела, но ничего не видела
Лишь отблеск света дневного все затмевал
И глазам сквозь слезы было больно
Но та так же зябко содрогаясь
Твердила: «Внимательно смотри,
Но внутрь и вглубь бумаги»
Ты посмотрела вертикально вниз
В колодец этой глубокой пачки нетронутой бумаги
И ничего опять не видела сперва
Но под монотонное бубнение и как бы пение подруги
Ты стала различать будто в глубокой воде смутные знаки
Размытыми чернилами они были выведены и проникали сквозь слои
Ты видела и прочерки, как трассы
из писем, наверное, исчезнувших
И ты читала, все мгновенно забывая, словно во сне
А почему-то думая, что этим передавая их
своей подруге
Которая смотрела на тебя, закрыв глаза
Теперь ты как будто книгу видела
В которой не исчезли письмена
Но кто-то должен был их возвратить
Не заново, но словно бы впервые от себя создать
«Ты видела, ты поняла заданье», – тебе сказала
подруга
Хотя ты ничего не поняла.
Но ты сказала мне
Что в тебе теперь хранится
Эта прозрачная пачка лист к листу
Что медленно растет, как бумажный столп
И ты теперь страшишься
Идти к твоей подруге:
Что если на месте ее дома
Выросла белая огромная и ровная гора?
Но я сказал тебе: «Пойдем
Ты ведь, я знаю, в прошлом альпинист
Ты вспомнишь, как взойти на эту гору
Я помогу тебе
И ты в нее заглянешь сверху
Словно в ледник
Где свет горячий неискореним
И все исчезнувшие буквы и слова, слова и буквы
Вернутся и возникнут
Если мы сможем позвать их и назвать еще им неизвестным словом».
***
Через год с четвертью той войны
Собрался съезд, кажется, двадцать шестой
Вы помните лишь лозунги полузабытые про экономку экономную
Вы помните лишь несъеденное масло
А главного не помните и знать не знаете
Что он постановил построить в прошлом коммунизм
От грандиозности задачи все замерли как бы
на миг
Штык вонзили в землю, пусть, на секунду
И все пышные цветы увядшие в вазах и горшках
Заполнившие весь дворец
Все стали заново вдруг расцветать махровым цветом
И с невозможным здесь же все торжественно простились
***
Мимо горы Фавор
Скрытой наполовину облаком
Мы пролетали в автомобиле
Яростный спор за рулем
Был усмирен
тем, что не слышим вовне
Но был ли я там водителем
или ведомым
Наверно не хочется вспомнить мне
ПО САМОЙ КРАЙНЕЙ МЕРЕ
В переполненном ресторане почти случайно
Вытолкнули его на сцену и попросили исполнить караоке-песню
Импровизировал он чуть ли не в первый раз, но все совпало
И он имел невероятный успех
Но тут как гром средь неба
В ресторане появился некто безликий
В душной свите своих охранников-секретарей
Чьи лица были отчасти узнаваемы
Тут же они указали на запрещенность этой песни-караоке
Но тот примерив как личину
одно из лиц их
Сказал: не надо ребра пересчитывать певцу
Число которых мы приближенно знаем и так
Но стоит погодить –
С развитием событий
По крайней мере через год
Певец к нам сам придет с повинной
головой
Сам кару выберет
Которую мы тут же на условную заменим
То, что сейчас запретно,
Станет запрещенным втройне
И вот тогда для нас отдельно
исполнит он это на нашей тайной сцене.
***
По случайному совпадению заработал он 23 рубля в 2023 году
Долго он удивлялся этому совпадению
Но надо было что-то делать
Где разместить капитал ?
Прежде всего монетизировал он его
И стал размещать по квартире
Поражаюсь, что лишь нечетного достоинства ему
попадаются монеты
Где же 2 и 4 рубля?
А где сияющий 0 рублей, что лишь сейчас он
провидел
Рубль 1 – родник и источник сияния
Ну а рубль 0 – это сток
Такая монета была бы невероятного веса
Ибо она поглотила внимание наше
и многих других
Это овальный или точней эллиптический
коридор
Что ведет к долгам и налогам
когда-то счастливого мира
Все монеты наконец он разместил
по квартире
Лишь рубль один места себе не находил
Понял он, что место то незаконно
наверно
Занимает том на столе лежащий
Макса Вебера
Вспомнил он, что недавно на Вебера
зарился
Друг его
Но тогда он его ему ни за что
не отдал
Но сейчас ради места
Где найдет пристанище этот
последний рубль
И все станет в квартире в гармонию
Он готов отдать Макса Вебера
другу за деньги
Конечно, это будет поделенная
на части бумага
Под шорох купюр хорошо засыпать
Больше они ни для чего не пригодны
Но однако
Собранье монет, вобравшие за день
Солнце
И сейчас Луне его отдающее
Соединятся со звуком тишины бумажной
И в сердце его скрепят свой союз
«Фото-воспоминания» о нескольких встречах с Алексеем Парщиковым
Лишь только мы обращаемся к событиям, казалось бы, незначимым в жизни поэта, возникает вопрос о чем-то вроде художественной интерпретации повторяемых и незаметно каждый раз изменяющихся эпизодов. Сама стихотворная форма выступает как притягательный и самодовлеющий образец. Роман Якобсон еще в своей ранней работе «Подступы к Хлебникову» писал: «...звукосочетание в стихотворении становится звукообразным... и воспринимается лишь в результате повторности». В таком смысле что может означать свободная вроде бы повторяемость одного и того же воспоминания? Здесь мы предчувствуем возникновение неизвестного произведения, где стихотворная форма взаимодействует с запечатленной визуальностью и звуковой памятью встреч. Все это усилено нашим знанием о постоянном обращении Алексея Парщикова к другому искусству, вроде бы не очень близкому поэзии – фотографии. Парщиков запомнился не только своим внешним обликом на фотографиях, выполненных другими. Он дарил и свой внутренний образ, снимая других людей, ведь в его снимках – осколок мгновенного его зрения, данного изнутри, – то, что он увидел тогда, – миг его организованного сознания. И фотоснимки нашей памяти лишь кажутся неподвижными – на самом деле при каждом новом обращении к ним, при каждом повторе они меняются. Но для них нужен точный отсчет, придающий ритм воспоминаниям, никогда не разыгрываемым в нас до конца. Те свидетельства воочию («де-визу»), которые он оставил в нас, сродни его поэтическому подходу, поэтому фотографии воспоминаний динамичней и истинней в повторе. Обращение вновь и вновь к воспоминанию способно постепенно «шлифовать» его, приближая по законченности к произведению иного искусства. Но и нечто не устоявшееся в памяти имеет свою прелесть, ибо при появлении словно бы посторонних случайностей возникает серия внутренних фотоснимков, в которой рождается целое.
Иногда и точная до минуты хронология события вносит особую меру и отсчет. Ровно в 18:00 15 октября 1985 года под высокой прямоугольной аркой, ведущей с улицы Горького в Малый Палашевский переулок, мы встретились с Алешей и моим давним другом и одноклассником, художником Игорем Ганиковским. Прежде чем это знакомство состоялось, потребовалось долгое время окольных обсуждений и мысленных приближений с отдаленной дистанции. Предшествовали осторожные разговоры: назвать переговорами их нельзя, но отчасти можно назвать уговорами. Мне казалось, что наши поэтические поиски и поиски группы художников, которую представлял Игорь (о них я знал во многом понаслышке – допустимо ли по слухам судить о картинах?), могли в чем-то совпасть. Алексей Парщиков тогда в основном общался с кругом художников, которые составляли некую киевскую группу и именовали себя «гиперрреалистами». Западный вариант гиперреализма был более или менее известен. Но что представляли собой Сергей Шерстюк, Базиль (так его называли Алеша и Оля Свиблова), т.е. Сергей Базилев, Сергей Гета, еще кто-то, я толком не знал. Алеша все же больше рассказывал о полуфилософских записях Шерстюка. Помню, например, что тот начинал писать труд под условным названием «Время раздражения». Такие рефлексы художника были любопытны, но собственно живописные работы на далеком, впрочем, расстоянии казались не слишком влекущими. Насколько я знаю, впоследствии участники этой группы «Шести» разделилась, что для меня говорило о непрочном цементе художественных мыслей, ее скреплявшем. Теоретизирования Игоря Ганиковского и его живописные работы выглядели интересными. Нечуждая ему метафизичность могла оказаться сродни Алеше. Хотя неудачная встреча-вспышка допустимо привела бы к упрекам. Вежливым, конечно, – мол, зачем ты отнял у нас драгоценное время, которого не хватает. Хотя, на самом деле, грубо выражаясь, времени тогда было навалом – в ту безвольную эпоху, которая, впрочем, и не думала сходить с рельсов.
В основе было и редко проявляемое мое стремление сближать людей. Оно в гораздо большей степени было свойственно Алексею Парщикову. Пусть он был эгоцентрик, но душевность и альтруизм были присущи ему. Собственно, щедрость Алеши на других людей – которых он «дарил» мне – была неудивительна – об этом говорили многие. Я гораздо меньше мог ему что-то «вернуть» в ответ. Но Игорь Ганиковский оказался одним из таких редких «случаев», с которыми Алеша не расстался до конца дней: последние годы они жили в Кёльне и общались постоянно, издавали совместные книги. Игорь предпослал одному из своих философических трудов (которые он начал создавать не без влияния Алеши) посвящение: «Моему лучшему другу Алексею Парщикову».
Помню несколько осторожный и напряженный взгляд Алеши, когда я знакомил его с Игорем под аркой, не предвидя, что они станет друзьями и с ним, и с Женей Дыбским, и с Борисом Марковниковым и иными художниками из сообщества Ганиковского. Потом мы пошли вниз по Палашевскому в мастерскую одного художника – знакомиться окончательно и читать стихи. Миновали каменную стену с открывшейся в просвете каменной лестницей, окруженной по краям гипсовыми изваяниями и вазонами моих воспоминаний. Лестница вела вверх, к подножью школы – и я сказал Алеше, что там моя бывшая 122-ая школа, где я был до перехода в 444-ую математическую, в которой учился уже с Игорем вместе.
Тогда, при первой встрече на границе Горького и Палашевского, конечно, все еще было неясно. Множество деталей, казавшихся тогда незначительными или даже посторонними, сейчас предстают как существенные. Кто те люди, мелькнувшие мимо нас темноватым октябрьским вечером под арку? Повторенный момент, при внесении в него, возможно, лишних и посторонних элементов, способен возрасти в своей силе.
Вообще неожиданно обнаружилось, – тогда наверное впервые, но затем ощущение усилилось, – что встречи наши с Алешей ностальгически простирались в мое московское прошлое, которое дремало где-то рядом, но вызванное его присутствием и зрением, напоминало о себе. Тот дом на Горького с огромной аркой был местом, куда меня затем как-то Алеша позвал в квартиру Виктора Мизиано, – одного из самых известных кураторов выставок, в будущем главного редактора «Художественного журнала», – а Алеша был тут как тут, неслучайно, как всегда, рядом с чем-то новым.
Глазами Парщикова я, наверное, отчасти смотрел на нынешнее время, но и, что удивительно, в какой-то мере и на свое прошлое. Мы вообще многое видим именно так: по рассказам, по рисункам или снимкам других. Что в случае Алексея Парщикова с его обостренной наблюдательностью было особенно внятно. Почему-то оказывалось, что улица Горького – Тверская, – родная для меня улица – непрерывно пересекалась в нашем с ним видении и зрении. То, что он видел сам, и то, что он видел словно бы через глаза других людей. Вот мы встречаемся «у Маяка» осенью в один из его приездов из Германии. И он произносит, указывая на памятник Маяковского: «он знал дьявола». Тогда Алеша говорил о «Кремастере» Мэтью Барни – дотоле неизвестное мне имя, – с виртуозной пластичностью описывая образы, которые, я понял, вряд ли могли оказаться мне близкими, но они остались со мной благодаря его внушению. Не требуя обращения к оригиналу. С другой стороны, обсуждение с ним, допустим, «Кабинета доктора Калигари» Роберта Вине подводило к восприятию его произведений – например, «Подписи» и «Сомнамбулы». Потом мы добрались и до близкого сада «Аквариум», читая отрывки своих новых вещей.
Или позже во времени – там же, на Тверской, в доме ближе к центру от Пушкинской, – мы были с ним в квартире музыканта и поэта Павла Жагуна. Собственно, в знакомой окрестности мы увиделись в последний раз с Алешей в октябре 2007 года, когда встретились с ним и Ваней Ждановым у памятника Пушкину. Алеша тогда уже почти не говорил, а лишь шептал: его голос напоминал голоса поэтов со старых фонограмм, доносившихся из дали времен. Потом мы прошли по правой стороне Тверской от центра, мимо моего бывшего дома, стоявшего напротив, и сидели в кафе в зале Чайковского. Я прочел им тогда только что законченное стихотворение «Прощание с вещью», и мне показалось, Алеша проникся ей. Мне надо было вскоре уходить, и мы обнялись с ним. Так что последняя встреча наша была где-то рядом с моим домом номер 27 по улице Горького-Тверской. Странно, что свой дом я увидел заново – и сквозь зрение Алеши и иными глазами. Это я понял значительно позже, потому что не мог совместить сразу разрозненные факты. Приятель Алеши, писатель Виктор Ерофеев, жил в том же доме, но не в моем подъезде, а в том, который приводил не в коммунальные квартиры (потом мне стало ясно: мы и учились вместе в 122-ой школе, у нас были общие учителя, но Ерофеев старше меня на несколько лет). В том же подъезде жил, как я понял позже, и Сергей Шерстюк, у которого Алеша бывал и говорил мне об этом. И я увидел свой и его совмещенный взгляд на фотографии с балкона Сергея и его жены – актрисы Елены Майоровой. Кому принадлежала фотография, кто сделал снимок, не Алексей ли Парщиков? Не столь важно. После его рассказа я видел все отчетливо, и потом просто «узнал» фото. Я узнал с высоты виденную на той стороне улицы гостиницу «Минск», – вид, почти совпадающий с видом из окна моей комнаты в коммунальной квартире на Горького-Тверской, расположенной, наверное, этажом ниже.
Так много раз пройденная и проторенная тропа по Тверской, – уже забытая и вроде бы отодвинутая в прошлый отсек памяти, – становилась опять актуальной. Времена совмещались. Собственно, такой теме и была в какой-то мере посвящена его поэма «Я жил на поле Полтавской битвы». Поле оказывалось многократно возделываемым. Можно вести историческую пахоту, взрывая те слои, в которых никого не ранишь. Многослойное многоэтажное время обживается на наших глазах. Так же я чувствовал, как знакомые мне московские места обновляются во времени и пространстве благодаря его зрению, словам и шагам. Воспоминание становится неким повторяющимся, но непрерывно преобразуемым действом, человек внутри которого тоже способен расти и меняться.
И я вспомнил, что и первая наша встреча также была вместе с Ваней Ждановым: у Алеши дома, на Соловьином проезде, куда Ваня меня и привел. Тогда, в апреле 1981-го года, когда я дождался Ваню у проходной Мосфильма (где он работал рабочим-монтажником), чтобы сообщить ему о предложении от знакомых стать ассистентом кинорежиссера. Жданов предложение тут же отверг, поскольку хотел сохранять полную независимость – да и разочаровался он в такого рода посулах: и зачем идти в услуженье к, возможно, мнимому мастеру. Тогда же, при нашей встрече в Ясеневе, всплыл часто потом повторяемый в других ситуациях и другими словами эпизод с Алешей о том, как его гримировали на Мосфильме под Пушкина. Марлен Хуциев спрашивал, как он представляет себе поэта. Алеша отвечал, что Пушкин – вихрь, каприз и световой призрак – наверное, я пытаюсь добавить здесь что-то от себя. Но фильм – может, к счастью – не состоялся, так что солнце русской поэзии осталось невоспроизведенным – в гримерной.
А наша первая – один-на-один – встреча с Алешей состоялась затем тоже в апреле в Обществе книголюбов и опять была связана с Иваном Ждановым. Название такой организации звучит загадочно, для нынешнего слуха даже дико, но вспоминая слова поэта, «мне ласкает слух оно». Общество где-то и как-то существовало с середины 70-х и до начала 90-х, и собрало в свои ряды чуть ли не десятую часть всего населения. Некогда в нем еще и официально работали, получали зарплату такие люди как Иван Жданов и Алексей Парщиков. Это было время, когда на вопрос знакомых, что сейчас делает Ваня Жданов, я мог с уверенностью сказать: «Любит книгу». Да, в определенные часы вменялось в обязанность любить книгу, но мы встретились с Алешей просто так, в просторном и светлом пространстве помещения где-то около метро – по-моему, возле «Третьяковской». Был четверг, вечером был намечен семинар в студии Кирилла Ковальджи, но нам туда идти не хотелось, потому что обсуждаться должен был не слишком многообещающий автор, – интереснее было говорить друг с другом. В какой-то момент, правда, появился юный студент Литинститута, который хотел показать Алеше свои стихи, но эта встреча втроем заняла не так уж много времени, и потом мы остались тет-а-тет. Но одно из стихотворений студента называлось «1 марта 1881 года», и мы поняли, что наша встреча происходит почти ровно через столетие после события, повернувшего историю России (конечно, по-новому стилю это 13-е марта, но в памяти запечатлелось именно 1 марта, и такая дата, официально не отмечаемая, осталась). Для Алеши политические направления его изысканий могли быть очень значимыми. Произошел важный сдвиг в наших разговорах, потому что тогда уже Парщиков начинал думать о своей Полтавской поэме, и все исторические отсылки не были просто упоминанием о далеком событии – такое событие сразу становилось близким. Я тоже пытался продолжить тогда свою большую поэмную вещь «Бессмертие повседневное».
Неизбежно само место увлекло разговоры и в сторону книг, – тогда это было значимо. В начале 80-х в печати стали появляться труды Лейбница, Николая Кузанского, Локка, и – в той же серии «Мыслители прошлого» – даже «Философия общего дела» Николая Федорова. Добывались книги самыми разными методами, а если ничего не помогало, просто писали собственную книгу с чистого листа. Но и обычный способ был в ходу. Однажды Парщиков попросил дать почитать Маркеса (надо заметить, что кое-кто сравнивал стихи Алеши с творениями колумбийского писателя за их образную смелость). Я передал ему два номера «Иностранной литературы», в которых были напечатаны «Сто лет одиночества». В успехе я не сомневался. Но эффект превзошел мои ожидания – «не в ту сторону» – через неделю Парщиков вернул мне оба номера со словами: «Что ты мне принес? Это же уровень прозы Евтушенко». Зато напечатанные на машинке или ксероксные пачки бумаги могли возбуждать необыкновенно: они бродили по Москве тайными – иногда даже подземными, если перевозились в метро – путями. Лена и Юра Романовы дали мне перепечатанную мелким шрифтом и в специальном мягком переплете «Розу мира» Даниила Андреева, и я некоторое время с ней не расставался, хотя отношение к этой грандиозной по-своему вещи было у меня противоречивое (противоречий добавил и Ваня Жданов, который высказался о «Розе» примерно так же, как Алеша о «Ста годах одиночества»). Я таскал эту вещь с собой повсюду, и все могло закончиться не очень хорошо. Как-то днем в Матвеевском, где я тогда уже жил, меня остановили два милиционера и попросили открыть сумку (вокруг говорили, что вроде бы искали домушников). Можно было отказаться, но тогда в отделении, наверное, пришлось бы выдержать серьезный обыск. Я раздвинул молнию сумки во всю длину: там лежали мои рукописи, а также распечатки математических программ – среди них где-то в глубине затерялась «Роза». «А, бумаги…», – разочарованно сказала милиция, и тем дело кончилось. У Алеши никогда не было особенно большой библиотеки. Он сам охотно давал читать другим какую-то захватившую его книгу. Но чаще он несколько дней носился с поразившей его литературным произведением, внушая себе и другим, что там что-то невероятное. Обычно то были стихи. Потом постепенно охладевал. Про тогдашние книги можно много говорить: по некой посторонней ассоциации приходит на ум название «Любовь – книга золотая» – пьеса Алексея Н. Толстого, ставить которую решила режиссер Екатерина Еланская и предложила Ване Жданову написать к сюжету стихи, чтобы потом положить на музыку (спектакль не состоялся). Странно, но я помню даже первое четверостишие: «Звук цевницы, звонкой лиры / Оглашает дол и высь – / Козлоногие сатиры / В нашей роще завелись.» Ваня, как и Алеша, не был чужд театру, хотя служил там рабочим сцены, но строка его: «Ты сцена и актер в пустующем театре…», вероятно, неслучайна. Алеша тоже дружил с некоторыми режиссерами, например, с Владимиром Мирзоевым, начинавшим тогда первые свои театральные опыты. И, допустим, с близкой в чем-то по устремлениям Никой Косенковой. Хотя это уже другие линии воспоминаний…
Возможна нераздельная связь памяти, и вновь переживаемые встречи (даже прерываемые на годы) в «поэтическом повторе» способны усилиться. Не монотонная реконструкция, но создание общего произведения в соединении истока и устья. Возрастание светового коридора сквозь реальные здания ведет нас к возвращаемому другу.
Фланирование
ФЛАНИРОВАНИЕ
*
Ищу нужный район в мягкотелости солнца, в криогенном крике грача. Дым котельной оставляет полётный след человека – закрываю глаза и вспоминаю освоенные шаги. Человек поднимает в небо гантели и своё тело до срыва контуров. Поиск не завершается, потому что у города нет окраин.
На фоне думающего костра земля возмущений выдувает лёд.
*
天( tiān) взошедшей травы
между каменных плит вписан в окружность туч.
В меловой отуманенности стволов с ветки на ветку мелькает синичье сейчас. Повторяю
её во-все-стороны пристальность, один глаз запирая ладонью. По буквам читаю
комариный укус, и капля крови расплывается по лодышке.
Трава пробивается под неба оставленным гнездом.
Голубь и черный дрозд ищут корм в гербарии и сухостое – их шорохи на стороне птичьего времени повторяют форму хруста моих шагов. У кожи есть собственные глаза – они различают маршруты полётов и заволочённую откровенность горсточки сухих мошек на фонарной склере. Я засею ими клубящиеся плиты к началу схваток грозы.
*
Возле частного дома
пугаюсь лая собаки.
От стоп до головы затянуто движется страх, как в отстаиваемом молоке поднимаются сливки. Снимаю их с себя, и сквозь птицу в руке продевается ветер теплым паром на тыльной поверхности кисти. Начинается говорение рук: я поднимаю голубиное перо и провожу пальцами по бородкам – тело парирует карминную дамбу, поставленную поперёк ручья. Плотность воды распирает кожу и дёсны, собирая меня в туго связанную корзину.
Я в этой плотности – конфигурация вывода – печатаюсь на каждом протоке воздуха. Перелетным путём ветра страх возвращается, подменяя асфальт, и моим шагам сопутствует содрогание. Равновесие сейсмически активно. Асфальтовый лай раздаётся, когда перекроешь ему кислород.
*
Фрагментированным бегом пыльно-черная ящерица скрывается в сосновой паузе забора. Рядом камень в форме капсулы, покрытый дождевыми лунными рытвинами. Прохожу по дренажной решетке с пещерным рисунком неисполнимого: встречного столкновения капель, не коснувшихся земли. Рядом пахнет мёртвой рыбой.
Ветер искажает шаги, наклоняя правую долю моего прямохождения.
От солнца флаеры в руках у промоутера раскалились настолько, что я обжёгся.
полёт равен огню
и вязнет в дислексии уличных строк:
выпускница с волосами отсутствия светового потока
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀взглядом горячего клея походкой
прерванного эвакуацией
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀урока истории
остаётся мёдом воды на поверхности моего наскального столкновения.
*
Местность просила поэзии, но я забыл блокнот, телефон, и моя память – ниша, откуда ничего невозможно достать. Мёртвый голубь зарывает клюв в землю, и земля чихает при входе в сеть.
Поэзия – перелом открытостью. Кровь пенится, чтобы в рану проникла среда. Я хочу застыть воспаленным, пока ментальный иммунитет устраняет инородные просьбы рассушенных крыльев. В 90% случаев он это сделает. В 10 не получится, и слова заявят новые сотрудничества в клетках памяти.
Серьезность всегда нарочита, несерьезность похожа на впитывание толпой. Земля вбирает в себя клетки голубя, чтобы привиться от птичьего гриппа. Я смеюсь над кислородом, и тот бросается в меня пылью. Чихаю возле голубя, но он обращает на меня невнимание – клюв прилива земли.
*
О ЧЁМ СЛЫШИТ ДЫХАНИЕ
Грач копает клювом палую хвою, вырывает заснувшую кольчатость, стараясь не встретиться с ней глазами, прибавляет жизнь к жизни через радиосмерть. Я в это время наступаю пословицы, и те, ломаясь, отпускают слова, как частоты жаворонков.
ОБЪЯСНЯЮ ГРАММАТИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННОМУ ГРАЧУ, ЧТО ОН И ЕСТЬ – ПОЭЗИЯ
Поэзия – размокшие глазницы и замкнутый клюв. Ты – украшенное палыми иглами видение кольчатости, что поглотила, присвоила тебя, став жизнью. Ты врываешься пропасть земли под своим оперением. А я до тех пор останусь учеником мёртвого, пока не вызубрю на обручах дерева ответ на вопрос: что находится после дыхания,
ответ на вопрос, что находится
возле дыхания
фундук, выпавший из клюва (?)
ТАНЕЦ О СХЕМЕ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТОВ
17:03: Человек лежит на земле и старается повторить вращением рук-углов извивы реки, геометрию округлых переливаний. Он пытается повторить реку, а становится деревом – земной иглой.
17:06: По холодной влажной земле. Он подходит, становясь рекой. Сыростью времени. Мерное стучание шага. Первый трамвайный рубеж. Остановка и растворение.
17:08: Время поворота трамвая. Перископ над полукругом железной реки высматривает горизонт остановки. Дрозды прибывают вместо вагонов, и деревья замыкают пяточные кости, чтобы наступить на землю электрическим током.
17:11: Ходить задом наперёд означает уводить вагон своего тела от графика, предопределяющего движение во времени.
17:13: Встреть меня, иероглифический голос моих ног. Я черчу на земле маршрут трамвайного полёта и случайно начинаю рисовать числа, которых нет на часовых углах.
День лиц окончен
Пусть последним убежищем одиноких
Станет место волнообразных качаний.
– Уоллес Стивенс
Пошли смотреть жирафа, защищенного куполом. Зайца, пойманного за лапу четыре раза подряд, подавали к столу. К нему брусничный соус, ветка розмарина; яблоки принесены в жертву компотам но вот и они
Оторванные от берега, прекрасно-взволнованные прейскуранты: разливного пива, чебурека с начинкой, фруктового льда дожидается тонконогая девочка, светлый зазор между дивным купанием и ночным праздником. Как широк ее взгляд, измерять воздушному змею, капитану корабля. Не замирает флаг над Бригантиной, кипарисы мрут на кончиках башен. Отведаем же барабульки, посмеемся над мимами! Уходя с волнореза, поймаем блеск перьев толстой чайки: «Я убил собственного отца, ел человеческое мясо, и я дрожу от радости».
…И он бегает в теле собаки; хвост шепчется с травами. Так он может пробежать больше, чем прошел когда-то человечьими ногами. Ищет правды, забывается, гоняет палку, ловит блики, отвлекается на бумажку.
На горбатой спине Сурожа устроились палаточники и торговцы разностями. В колечке хвоста уселись дома, спят собаки: тощие и жирные – разным собакам тут удобно. Длинные усы – маршруты теплоходных прогулок, когти рыхлят виноградник в сонной погоне. Морда его на прохладном морском берегу, на мху; уши заткнуты медузами, и шорох воды по чешуйкам туда-сюда ласкает, спи, спи, не стоит просыпаться, видеть, не стоит усилий, спи, ай качи качи качи прилетели к нам грачи прилетели поглядели и на Бригантину сели Бригантина-то скрип-скрип а Сурож наш спит-спит улюлю спит-спит. Города присутствия торговцев самосами. Здравствуйте, ласточки-береговушки!
Я хочу самос, но я хочу фруктовый, а не с творогом. Хорошо, сейчас такой же черт с двумя спинами принесет, кинь в него от меня камень. Бескрылую гагарку кладут в могилу славной матери морских культур, символ мирных похорон. Улюлю спит спит
День лиц окончен, великая свидетельница всего, что было и себя самой засвидетельствовала нижеследующее:
Несколько вещей везде и во все времена, то же, одно и: седина в небе, неизбежность физической смерти автора, птицы, улетающие в Сибирь летовать; скорость движения любой эскадры определяется скоростью самого тихоходного судна – говорит учитель обществознания, повторяя урок для отчаянно отстающих.
Смахнув с пледа песок, ласточковые перышки, хлебные угощения, пойдем смотреть панду и бегемотов. Ослепленные побережьем, забудем невыносимую красоту горного контура. Нас провожает свет, оставляет. Это блестят осколки па мя ти. Она разбитая сверкает, как ночесветка.
Опыты о последствиях
разрешенная элегия
в повседневной империи
всходило картонное солнце
расползались по улицам
живые безротые люди
поднимались над крышами
вороны воздушные змеи
нам велели бездействовать
сказали прохожие кто-то
плакал в гулкой акустике
возможно ребенок в потемках
из цемента разлитого
кривились фонарные палки
фотографии страшные
со спелого неба свисали
испаренные всполохи
мы жили напротив больницы
и смотрели на скорые
на желтые лампы под вечер
что нельзя растолковывать
гноилось в глазах в разговоре
перед сном и за завтраком
мигренью в висках прорастало
погребенное прошлое
такие же окна деревья
размышление о трех этюдах
изначально они казались настоящими
вписанные в грязно-рыжий фон обезумевшие
человекоподобные существа с искаженными мордами
выражали ужас необузданный гнев мучительную боль
ощущение предельной беспомощности при созерцании
приемлемого мира с его допустимыми пропорциями
причинами следствиями преимуществами целеполаганием
продуктами жизнедеятельности движением прямоходящих
душными помещениями промозглыми улицами
потом их перевели в геометрически ровное пространство
единое для всех искусственное лишенное признаков хаоса
грязно-рыжего фона грубо покрывающего стены позади
рассадили по местам согласно выверенной композиции
и одному из них добавили небольшую деталь нечто вроде
стальной скобы или хлястика на пуговицах пришитого
к его плоти намекая на механическое происхождение либо
превращая его в изделие из ткани нечто заведомо неживое
неодушевленное похожее на муляж декорацию или куклу
одиночные камеры срослись в сплошной прямоугольник
с разрушенной четвертой стенкой стали большой витриной
с выставленными внутри музейными экспонатами чучелами
существ с искаженными мордами вывернутыми конечностями
фрагментами кукольного театра цирка увечных человекоподобных
потрошенных нанизанных на прочные металлические каркасы
набитых паклей кожаных мешков в заведомо заданных позах
походящих на обрядовые копии тех настоящих из прошлого
когда многое пожалуй казалось чересчур настоящим
ода маражоарской керамике
só a antropofagia nos une
– o. de andrade
по берегам где птичьи трели о прошлом настоящем грядущем
некогда росла цезальпиния ежовая именованная по-португальски
пригодная для изготовления мебели музыкальных инструментов
на заболоченной из пойменных грунтов суше где прежде обитала
среди влажных экваториальных зарослей цивилизация земледельцев
нынче обнаружена керамика с замысловатой росписью прочее истлело
согласно преданиям педру алвариш кабрал крещенный педру де гувейя
выходец из знатной семьи высокорослый крепкий благоразумный
был потомком основателя династии аргеадов и македонского царства
тогда вскоре усмотрели мы острова обретенные вновь по левую руку
оставили берега мавританские славные лютостию антея исполина с правой
стороны никакой земли массилиане видели нас мимо пустынь плывущих
tupi or not tupi что населяли дождевые леса выращивали табак хлопок
маниок батат тыкву кукурузу арахис воевали употребляли пленников в пищу
дали название растению семейства астровых из травянистых клубненосных
отсюда на кораблях везли кофе золото древесину но особенно сахар
добываемый из сахарного тростника привозили африканцев иезуитов
просвещенных голландских французских испанских переселенцев
мы не допускали зарождения логики поглощая и переваривая культуру
ибо тощие колосья пожрали его и истребили и жилище его опустошили
красно-бурую плотную почву кустарник атлантический лес плоскогорье
опыты о последствиях
*
когда в январе 38-го возле парижского кинотеатра
некто благоразумный робер жюль совершая попытку
ограбления воткнул нож в грудь некоего ирландца
чудом не задев сердце с левым легким и оставил
раненого истекать кровью на улице он по его
чистосердечному признанию не понимал что делает
позднее в суде он примерно так и сказал
i don’t know perhaps it’s a dream и даже извинился
*
всякий раз вслед за бессодержательностью сплошного
сюжета о причинах следствиях месте отведенном
возникало монотонное вращение одинаковых реплик
помещений похожих друг на друга внутренних монологов
наподобие этих замурованных в беккетовской катастрофе
или этих беспомощных раздетых догола у мрожека
*
никто из пришедших не заметил что вокруг нет ни площади
ни гудящих улиц с прохожими витринами велосипедами
нет деревьев трамваев машин под кронами деревьев
нет окон стрекочущих насекомых осязаемого пространства
имитации времени ничего что бы хоть как-то напоминало
о привычном порядке вещей только в земле остались
одинаковые люди с телами землистого цвета с оглохшей
речью похожей на трение при колебании маятника
*
оказавшись потом среди книг пищи предметов быта
попадешь в кадр будешь напоминать собой прошлое
*
по древнему берегу мимо построек ползали древоточцы
ветер дул им в спины возле большие шевелились камни
пузыри медуз надувались на солнце одноклеточные дышали
были сплошные сутки сменяемость тел порядок захоронений
последовательность простых чисел на рассвете расправив
хвостовые нити разбредались усталые по своим кабинетам
начиненные буквами цифрами насекомые-однодневки
*
в сущности если не делать того что кажется необходимым
не говорить о том и так как казалось бы следует то есть
не напрямую а иносказательно посредством каких-то
труднопроизносимых старомодных сложносочиненных
позаимствованных либо намеренно вылущенных размышлений
не имеющих ни малейшего на первый взгляд отношения
к происходящему впрочем на самом деле не имеющих
в таком случае будет пожалуй немного проще в этой промозглой
пустой комнате с копошащимся глухим гомоном за стенкой
где остается nothing to do but keep on mon semblable mon frère
где nothing to do but keep on и едва шевелится полое время
*
в крипте сан-северо в стеклянных витринах выставлены
тела мумифицированных мужчины и женщины кровеносные
системы обоих сердце артерии вены сохранили исконные
формы по истечении двух столетий но достоверных сведений
каким образом была достигнута такая сохранность сосудистых
тканей до сих пор не обнаружено хотя конечно бытует несколько
теорий в частности якобы их напоили перед смертью жидкостью
которая растекшись по протокам окаменела потому когда прочие
составные части организмов разложились их затвердевшие
паутины кровеносной системы остались в стеклянных капсулах
над неаполитанской землей соблюдать непрерывность вечности
воспевать собой мир так и не завершившийся после них
*
беспомощные голые люди на прямоугольных койках накрытые
простынями разглядывают слепящие пятна больничных ламп
ворочают головами по сторонам похожи на новорожденных
*
потом к горлу стало подступать удушье помещение сузилось
окна налились бетоном глухое гудение доносившееся сверху
пустило корни в перекрытия дало всходы на шершавых стенах
проникло в молекулы объектов рассредоточенные повсюду
в углах собиралась пыль плесень чешуйки отмершего завтра
густой мох проглядывал между досок булыжники надувались
пузырями у двери мешали проходу преграждали путь наружу
на столе лежала толстая папка с бумагами массивная связка
справок документов свидетельств заявлений выписок расписок
очередной день стоял в стороне так и не очнувшись от наркоза
вращался на месте каменный ужас перестали молоть мелющие
собери что осталось что останется от них может еще пригодится
*
каменистый скат полузатонувшие постройки накренившееся
зеркало воды мелкие рыбешки водоросли густой цвет
деготь мазут черные пятна по дороге в шахматном порядке
сцеженные капли влаги взвесью внутри сырого сквозняка
хлещет ветер в рекьявике так хлестал ветер в городе по нему
брела чеховская учительница пока вдруг не оказалась
по колено в ледяной воде никто не стенал и не сетовал
уставившись в горизонт она что-то бубнит себе под нос
*
как писал поэт шервин стивенс в своем прощании биолога с женой
тут нечего расчитывать на рай и ад ты вся мертва я поскорблю конечно
но скорбь не в силах жизнь продлить дыхания не возродить ей и так далее
а лебядкин тем временем на кухне молча пересчитывал живых тараканов
Землянки Лазо
***
Когда из чернозёма выйдет дно – там пустошь
тянет за собой Икара: кто сможет страсть
замуровать в ладонь – горчичник
обовьёт Килиманджаро и в
го́ру будет впрыскивать огонь. Загнать в силки
гуляние своё, чтоб видеть как оно скопо́й
ветвится от встречной музыки, что
в бурдюке несёт сквозь жар
---
продолговатая
ослица.
***
Лети-лети и здравствуй невзначай, похожий
на ворох из пакли льняной и Улисса –
захватит гримёрку ночным
обаянием актриса,
и будет подножкой,
как розовый куст. Ильича с пришпоренным
облаком, спустят в эмалевый грот –
и видно, что волчья темень
пристыла к рубахе,
[1924 – …]
но только мелькнёт перекошенный
мраморный рот – как тут же
в ногах нерестится
китайский
---
арахис.
ШЕРЕНГА
Травинка – тень в казённой простыне – тебе не
удержать себя вне строя: ты прирастаешь
страхом и войною и прошлогодний
снег хранишь в слюне. Где
пыль с тебя сойдёт измором вниз, там зазвучат
холодные литавры и замершее искажение
лиц, врастёт в неопыляемые травы.
Их сок – густой, звенящий
изумруд, и свой же улей жалящая
пчёлка – здесь из штыков
солдатиков куют, и
ждут, когда
сквозь них
прольётся
---
Волга.
***
Из ямки нательной выходит крещёный сквозняк, как
если бы тучка прошла через хлебное сито – в
свой рост заглянуть – и увидеть ковчег
жестяной, не лагерный ватник –
трехглазый пасхальный
бубенчик и рот обволакивать теплой
собачей слюной – подземной
пыльцой, угодившей
в гранатовый
венчик.
***
Почерневшие домики – клубни столетней
зимы – то картофелем веет, то волк
смотрит взглядом дитячьим,
приютишь и с тобой
говорят языком белизны:
губы майских черемух, казённая простынь,
вчерашний озноб. Собирается в круг,
и по кругу шагает незрячий –
колокольчик ловя, что
звенит над его головой, а
вокруг тишина – рукава
завязав за спиной,
почтальоном
---
казённым
маячит.
УЛИЦА ВОИНСКАЯ
Городок состоящий из нескольких сотен
дверей – где печальные женщины
дышат в затылках друг друга:
тишина на фарфоровом
блюдце – тем больше
мертвей, чем теплее сигнальный рожок
на губах у горниста. Не сглотнуть
этот звук, не спугнуть, в нём
мелодия свиста и зло-
вещие шорохи тесных
подпольных
---
кровей.
***
В. И.
А в тебе – пароходный гудок и опавшая ветка
сирени: этот май был с тобой не в ладу,
будет следующий май – ты в него
занырнёшь с головой и в
коралловой пене, станешь
белым, как облако
или ручной
---
горностай.
***
Мне снился лай, и сучье молоко – легло живым
пятном на полустанок, оно могло скулить
штрафным изъяном – морским
бушлатом брошенным
в кусты, не жалостью, но дребезгом стекла. Всё
отвращается за исключением глаз. Какая-
то неслыханная верность, в ней
есть симфония скупого
светлячка, похожего на птичье
сухожилье: мы в раненой
земле три года жили,
сдувая пыль с
---
ружейного
крючка.
2879 КИЛОМЕТР
Продольный звук, закованный в кольцо – обвислая
татарская серёжка, в ней дребезжат две пары
близнецов идущих в направлении друг
друга, сквозь низководный
шепот в камышах:
переживание – это форма круга, в которой стрелки
часовые мельтешат сияющей, посеребрённой
струйкой – заядлых бабочек-капустниц
полотно – как будто угольки
в груди буржуйки –
по головам идут
в печное
---
дно.
***
Фарфоровый гном сквозь себя пропускает слезу – на
срезе витую, повдоль, распустившийся хлопок,
к ней можно впритык прислониться
обилием сопок, и видеть –
где Зевс изо рта вынимает глазурь. Случайная гроздь
винограда и медленный плен, скукожится слух
и начнёт расстояние двоиться, а птицу,
как беглую тень завернут в
гобелен – мне б вспомнить
отца и от этого – не
---
прослезиться.
ЯНВАРЬ
Поспи ещё немного, а потом пока сухое молоко
не растворится, и полость рта не стянет
сладким льдом из-под которого
топорщится жар-птица –
пройдёшь насквозь – и память, и ночлег, как
будто горб верблюжий спозаранку – а
он пустой в нём только человек,
похожий на тебя, латает
---
ранку.
***
А вокруг бежит водичка в тридевять шагов,
коршун в клюве зажимает порох и
весло, свет раздробленный
и ясный в линию
сведён: поиграй душа напрасно с
рыбьим пузырём – соберёт
речную ленту детская
рука – выгнется
дугой Argentum,
говорить –
---
пока.
Девять стихотворений
***
наташа тускнеет от боли,
потом свое гнездышко вьет,
но как в ледяной колыбели,
в голодной солдатской шинели
качается сердце и ждет.
я длинную книгу читаю –
в плену странноватый герой,
французы его запирают
творожною русскою ночью
в холодный под вязьмой сарай.
костер развели конвоиры
и конское мясо жуют,
а он, не имевший опоры
в себе, вдруг смеется, поверив
в бессмертную душу свою.
НОВЫЙ ГЕРОДОТ
ковер ручной работы
с островами и синим морем,
и корабельной битвой
в узком проливе.
человек спасается вплавь,
его забивают веслами,
дугообразное тело лежит
на береговых камнях.
душа – это светлая пыль
в рукотворном подшерстке
ковровых изделий, – смотрите,
до чего мы все дожили.
САБВЕЙ
1.
ничего, кроме облицовочной
плитки, фрагментарного тела,
с которого, кажется, только что
сняли бинт, перевязочный
пункт отбытия, голос,
как муху, бросили
внутрь бутылки, – я говорю
с тобой, не умея разбить
прозрачное это стекло,
отыскать губами
имя твое, достучаться
дожить до тебя.
2.
нет, она не ариаднина,
новостная эта нить,
после свежего события
хочется себя забыть.
после нового – разматывать
можно только тишь да гладь,
или страх в груди залатывать,
хлипкие заплаты класть,
и смотреть в окно голодное
в черноту тоннелей впрок,
чтобы времечко холодное
завязалось в узелок.
3.
занавесь подземного света,
бесконечная свежесть,
механический голос в спину:
«если увидишь что-нибудь,
скажи что-нибудь».
я ничего не видел, кроме тебя,
ты уплывала в опаловый морок,
как длинная белая лента
в рукав иллюзиониста,
а я продолжал говорить с тобой.
теперь ты, как все эти женщины,
блинноликие на экране,
обросшие панцирем гордости,
пепельной правдой-за-нами,
скучным своим сердоболием.
4.
проточная свежесть подземки,
тоннеля опаловый дым, –
вагоны, как длинные лодки,
башмачкин плывет головным,
и все, кто работали буквы,
кривили слова,
теперь – обездоленный шепот,
сорвавшаяся тетива.
НАДПИСЬ (ФРИГИЯ, МАЛАЯ АЗИЯ)
аврелия цералия поставила камень
для своего мужа, аристодема,
в память об утраченной юности.
защитная сетка текста: «он умер
в чужой земле, отправившись
с посольством к императору».
истаял в иллирии от лихорадки,
а теперь на пустом надгробье выбито
посвящение душе, парящей в воздухе.
***
бутылка с газированной водой
вдруг запищит озерной стрекозой.
я сделаю глоток и отмахнусь, –
какая упоительная грусть.
ничто не помешает мне до сна
читать зеленый томик кузмина,
сверяя время, ясное дотла,
по легкой жалости стрекозьего крыла.
***
отцветут сады, ты начнешь дышать,
отдохнешь от золотой пыльцы,
выйдешь нá берег, сядешь на паром
и переплывешь реку наискось.
там на дне лежит, в толще илистой,
будто сдутый мяч, – скукоженный
праздник со слезой, и нельзя его
накормить просветленным воздухом.
кто, скажи, из потешных воинов
не ушел еще рыбам на прокорм –
в вязкое жилье, не примял собой
черную постель, плодородный слой.
Два стихотворения Алексея Парщикова. Эссе
1
Лет двенадцать назад на вечере памяти Алексея Парщикова я прочитал это стихотворение:
О, сад моих друзей, где я торчу с трещоткой
и для отвода глаз свищу по сторонам,
посеребрим кишки крутой крещенской водкой,
да здравствует нутро, мерцающее нам!
Ведь наши имена не множимы, но кратны
распахнутой земле, чей треугольный ум,
чья лисья хитреца потребуют обратно
безмолвие и шум, безмолвие и шум.
Уже в первой строке появляются две, казалось бы, несовместимые интонации: летящая, торжественная («о сад моих друзей») и просторечная, почти ёрническая – «торчу с трещоткой» (и т-образный её стрекот). Грубоватый говорок («свищу по сторонам», «посеребрим кишки», «нутро») длится вплоть до четвертой строки и обрывается таинственным «мерцанием». Во второй строфе говорок пропадает, здесь – почти пастернаковская, умозрительная «распахнутая земля» и ее, земли, вольтеровская «лисья хитреца».
Стрекот трещотки подхватывается во второй строке «трескучим» свистом, производимым «для отвода глаз». Чьих глаз? И зачем свистеть, если есть трещотка (П., кажется, выступает здесь в роли сторожа)? Полагаю, глаза принадлежат читателю, а вот «свист по сторонам» – это уже сам текст, высвистываемый поэтом «в пространстве без направлений» (А. Житенев, «Поэтология Алексея Парщикова», 2022: 65). Далее – крещенская водка, серебрящая кишки, и следом – как в анатомическом театре – мерцающее нам нутро, когда скрытое от взгляда вдруг становится зримым (ср. описание лошадиной утробы в парщиковском эссе «Лошадь»: «...постепенно открывался завораживающий по красоте вид стройно расположенных внутренних частей, и каждый выступавший из еще не стекшей крови орган обладал своим планетарным, отличным от другого цветом»).
Во второй строфе «мерцающее нутро» сопоставлено с «распахнутой землей», оживающей изнутри, и дальше – соскальзывание почти в шепот, в воркующее диминуэндо последних двух строк: «...чья лисья хитреца потребуют обратно / безмолвие и шум, безмолвие и шум». Приглушенное, убаюкивающее звучание последней строки обманчиво: из земли взятое – в землю вернется, даже слово и свист, даже безмолвие. Текст строится на контрасте образов, принадлежащих реальному миру («трещотка», «свист», «безмолвие и шум», ср. выразительный звуковой состав первой строфы – аллитерация на «т», шипящие в каждой строке: щ(1); щ(2); ш-щ(3); щ(4)), и образов условных, преимущественно визуальных («посеребренные кишки», «мерцающее нутро», «распахнутая земля»). И, пожалуй, самое главное: «Ведь наши имена не множимы, но кратны / распахнутой земле...». «Наши имена» – это всё, что у нас есть и от нас остается. «Кратны» читается как «причастны»: в итоге стирается различие между человеком говорящим и словом, возвращенным земле; между свистящим поэтом и его свистом.
2
Парщиков – поэт промежуточных состояний, сближающий на первый взгляд не имеющие отношения друг к другу предметы и явления. Для наглядности можно привести пример из мифологии, переиначив известный миф: Тезей проникает в лабиринт, знакомится с Минотавром, и они живут в соседних мегаронах happily ever after, каждый – своей жизнью; лабиринт принадлежит обоим вместе и каждому в отдельности. Подобным образом устроены тексты П.
Читатель, углубляясь в тексты П., должен перенастраивать свой слух, зрение, осязание. Причинно-следственные связи не играют здесь никакой роли, главное – уметь выстраивать ассоциативные цепочки, сближать далекие друг от друга образы или соединять их в небывалой до сих пор последовательности. Вспоминаются слова Аркадия Драгомощенко о П.: «Он обычно рассматривал явление из как бы обратной перспективы. Его интересовала природа деревьев, которые "сгибаясь порождают ветер", а не наоборот, т.е. тот факт, что "деревья гнутся по причине ветра"» (А. Драгомощенко, «Верхние слои атмосферы»).
Предметы у П. теряют свою вещность, объектность, становятся как бы отзвуками самих себя, освобождаются от своей физической оболочки (это ключевой элемент поэтики П., мысль о вещи – важнее самой вещи, означающее важнее означаемого). Создается ощущение, что предметы смотрят на себя со стороны, при этом мир стихов П. нельзя назвать чисто умозрительным; он вещественен постольку, поскольку напрямую зависит от предметов, генерирующих образы/смыслы, как Минотавр зависит от Тезея. В таком над- или около-предметном, приподнятом над реальностью, мире точек опоры не существует: «Где точка опоры? Не по учебнику помню: галактики контур остист, / где точка опоры? Ушедший в воронку, чем кончится гаснущий свист?» («Я жил на поле Полтавской битвы»).
3
По колено в грязи мы веками бредём без оглядки,
и сосёт эта хлябь, и живут её мёртвые хватки.
Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки,
словно трубы Господни, размножены жижей воронки.
Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест,
как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,
только всё это блажь, и накручено долгим лиманом,
по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным.
Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
на земле и на небе – не путь, а одно перепутье,
в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.
Только камень, похожий на тучку, и оба похожи
на любую из точек вселенной, известной до дрожи,
только вывих тяжёлой, как спущенный мяч, панорамы,
только яма в земле или просто – отсутствие ямы.
(«Лиман»)
Грязь, жижа в первых строках – это промежуточное состояние, где встречаются вода и суша: «по колено в грязи», «мертвая хватка» хляби и «размноженные воронки жижи». «Живая» хлябь дышит внутрь, «всасывает» и не отпускает («мертвые хватки»). Во втором двустишии дыхание жижи уподобляется звуку Господних труб, а ворóнки – по ассоциации – раструбам. Как будто наши неуверенные, мешкотные шаги (неслучайно здесь говорится о «мешочных гонках») обретают новую жизнь, вырываясь наружу – Господним дыханием: «...вострубят великие трубы, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую» (Исаия 27.13). Появляется ангел с его «сумрачным шелестом» и с сопутствующей цепочкой ассоциаций – от библейских до дуинских (ср. Рильке, «Дуинские элегии» 2.1–3: «Каждый ангел ужасен. И всё же, горе мне! всё же / Вас я, почти смертоносные птицы души, воспеваю, / Зная о вас...», пер. В. Микушевича), и тут же – на этой же смысловой волне – «шкуры и вереск», в дар ангелу.
Кто он, этот ангел, к которому обращается поэт? Ангел ли, представший «пред Господа» (Иов 2.1, Откровение 8.2, «я буду носить тебе шкуры и вереск» – не имеется ли в виду пустынничество?) или, быть может, П. говорит с возлюбленной, mon ange, или, возможно, два образа сливаются, и человеческое перетекает в ангельское, и наоборот? Семантическое поле текста расширяется по мере углубления в него. Вспомним, вместе с Голынко-Вольфсоном, о парщиковской компрессии смыслов, ресайклинге вещей, объектов, имен и сущностей (Д. Голынко-Вольфсон, «Поэтика тотального ресайклинга»). Добавим, что «движение без оглядки» в первой строке можно рассматривать как еще одну возможную отсылку к Библии – бегство семейства Лота из Содома, в спасении которого (семейства) ангелы принимали деятельное участие.
Лиман тоже дышит, «подыгрывая» ворóнкам – Господним трубам, и ночная вода превращается в деревянную свирель: «только всё это блажь, и накручено долгим лиманом, / по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным». Можно продолжить цепочку возможных библейских аллюзий: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя – голосом плачевным» Иов 30.31). И дальше в тексте – «Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья, / на земле и на небе – не путь, а одно перепутье... «, и это последнее слово – ключевое: все стихотворение построено как одно перепутье, перекрестье – длиной в шестнадцать строк: «летящие стрекозы» и «хрупкие прутья», объединенные одною лишь хрупкостью, как в начале «Лимана» хлипкие шаги и дышащие наружу ворóнки объединены образом «сосущей» и «трубящей» грязи.
Дальше – колышущаяся, как носилки, «дохлая вода», снова пограничье-перепутье, на этот раз между жизнью и небытием «ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки». Лежащий в воде камень похож на «любую из точек вселенной». Мир развернут и одновременно уплотнен в камень. Дальше – «вывих тяжелой панорамы», похожей на спущенный мяч, и – яма (и ее отсутствие). Структурный дефект мироздания, неизлечимый вывих – то, чего нельзя исправить, и поэтому приходится принять как неизбежное. И снова диминуэндо, как в первом стихотворении, только здесь это – возвращение в ничто, «перерождение в первородное пространство, окончательность» (С. Соловьев, «Пространство Парщикова»). Стихотворение проваливается в яму, как наши ноги – в «сосущую хлябь» в начале текста. Сознание рассыпается на лоскутья мыслей, чтобы пробудиться уже в обновленном мире. Мы, читатели, находимся в точке пробуждения. Так и задумывал поэт: «Обнаружение невозможности и является целью ваших медитаций, если хотите – противоцелью по отношению к задаче – перевести, чтобы кто-то другой прочитал, но это последнее условие не всегда важно. Тогда хочется удержать понимание текста на той стадии просыпающегося сознания, когда оно еще не чувствует обязательств перед формой» (А. Парщиков, «Топология переводчества. Где живет переводчик?»).
Литература
Драгомощенко А. Верхние слои атмосферы;
Голынко-Вольфсон Д. Поэтика тотального ресайклинга;
Житенев А. Поэтология Алексея Парщикова // Фигуры интуиции: поэтика Алексея Парщикова, сост. А. Масалов. М.: Эдитус, 2022, С. 58–65;
Алексею Парщикову
АЛЕКСЕЮ ПАРЩИКОВУ
Твои дирижабли на зиму улетели,
пригоршня праха в каждом, обводы – за пальцы.
Как удержать, не просыпать из пальцев небо?
Лицо твое – всплеск земли.
Лицо твое – всплеск земли, да – похоже, там, под зеленым тополем,
под английским зонтом, раскрытым как кисть над тобой,
и как бежали рядом трамваи, обгоняя на Масловке дождь,
и колесом зеленым тополя буксовали в небе.
А ты расширял себя дирижаблями, усиком виноградным,
пузырями аквалангиста, строфой, монитором –
все в дело шло, и вот, наконец, расширил до вдоха сплошного.
Лицо твое – всплеск эфира.
Лицо твое – всплеск эфира. Улов себя
начинался с метафоры и продолжался метафорой,
ибо там, где есть Другой (небо ли, Бог, черепаха) –
всегда есть метафора,
которая и есть ты сам, вложенный как парашют
в ранец своих же ребер до тех пор, пока не вырвет кольцо
Бог или человек - это как повезет,
и тогда новый свод наполняет небо, плодя матрешек в Матрешке,
умножая и Бога и человека.
Лицо твое – воздуха всплеск.
Лицо твое – воздуха всплеск.
Твоя львиная шкура – как парашют волочится за тобой.
Ловец беспощадности! Собиратель игольных пустот,
снайперский глаз, в котором мечется пуля,
обрастая кожаной курткой, толстой подошвой.
Сплошное рукопожатье оставив от жизни и тела,
себя в него заключив по макушку, стесав остальное,
ты в России идешь улыбчивым минотавром,
а в дворах расцветают вишни.
Твои дирижабли на зиму улетели.
Лицо твое – всплеск света.
Лицо твое – всплеск света…
всплеск света… –
всплеск света!
Вслед за «Собаками демонстрантов и солдат» Алексея Парщикова: стихотворения девяти поэтов, поэток и поэтесс
Опираясь на название стихотворения Александра Фролова, мы можем назвать материал «Вслед за "Собаками демонстрантов и солдат" Алексея Парщикова» техническим заданием, которое должно было привлечь поэт:ок, работавших с ним, к идее некоторого компромисса. В какой-то мере это означало критически отнестись к корням собственной поэтики, подумать о том, насколько сильно Парщиков мог влиять на неё, и о каком Парщикове в таком случае может идти речь – о какой грани его творчества, какой части поэтического наследия? О какой технике или тематическом множестве?
Сам выбранный текст также стал точкой отсчёта не просто так. Работая с категорией политического, автор:ки, опираясь на собственный поэтический исследовательский взгляд, использовали собак демонстрантов как инструмент – зрения (как в тексте Александра Фролова), преломления действительности при сохранении традиционной парщиковской строки (как у Виталия Шатовкина), распаду связи между демонстрантом и собакой, субъектом и объектом (как у Анастасии Кудашевой). В конце концов именно этот тематический поворот при сохранении силы авторского языка позволил материалу стать в каком-то смысле постпарщиковским, то есть показать невозможность обращения к фигуре поэта без уже сложившегося авторского голоса, музыкального рисунка, ритма обозрения художественного пространства.
Александр Фролов

Виталий Шатовкин
ТРАФФИК СОБАЧЬЕГО ЛАЯ
Утром я брился камерно и языком тепла
слюна копошилась сонная в дрейфе отвердевая:
из встречных углов потайных закадычная стая –
морзянкой скулила и пятилась на зеркала.
Всё это было, как если бы, натасканный диверсант
пересекая границу сливался с вихляющей линией,
а после, следы заметая, ветвящиеся как Коран,
ложился на тайницкий грунт армейской ушанкой в инее.
В их месте любовном вся польза и лай сведены
настолько, что наигравшись замками висячими крутят:
дверная отмычка плюс выпавший волос жены –
их пар обоюдный, как будто в нём опиум курят.
Здесь только разбег на прохожих и тень на стене
в которую намертво встроены гром и рессора –
скользнут и растают в густеющей травме забора
и будут к кровати твоей пробираться во сне.
Анастасия Кудашева
Р А З В О П Л О Щ Е Н И Е
↑
тайна восходит из сокрытого
как русалка из воды
↑
выныривает и смотрит испытующе
на всё что существует не нарочно:
воссоздано-безвыходно-правдиво
↑
русалка становится статуей
а водоём – каменным льдом
↑
душа тайны взошла в существование
и мы глядим насквозь бесплотную русалку
как Преображённые после полуночи
↑
навсегда окунаясь в незнание о том
каково это: обращать внимание на воплощение
внутривременных «самих себя»
↑
В С Е В Б И Р А Ю Щ А Я В О Д А Р А З В О П Л О Щ Е Н И Я
████████████████████████████████████████
████████▀▀▀▄▄██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████
████▀▀░▄▄█▀▀░░░▄▄▄▄▄██████▄▄▄▄░░░▀▀█████
██▀░░▄▀▀░░▄▄███▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██████▄░░░░▀██
██░░░░░░▄█▀▀░▄▄▄▄██████▄▄▄▄▄░░▀▀█░░░░░██
██░░░░░░░▄▄███████▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄░░░░░░██
██▄░░░░░░▀██▀▀░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░▀░░▄░░░▄██
████▄░░░░░░░░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░░░▄▄█▀░░░▄███
████████▄▄▄▄░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄█▀▀░░▄▄██████
████████▀▀████████████▀▀▀▄▄▄▄███████████
██████████▄▄░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▄████████
█████████▀█████▄▄▄▄▄▄░░░░░░░▄▄██████████
██████████▄▄░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
██████████████▄▄▄▄▄▄███▀████████████████
███████████░░░▀▀▀▀▀░░▄▄█████████████████
██████████████▄▄▄▄██████████████████████
███████████▀█▄▄░░░░▄████████████████████
████████████░▀▀▀▀▀██████████████████████
█████████████░░░░▄██████████████████████
██████████████▄▄████████████████████████
Дарья Данилова
ТЕМНОЕД ПОТЕРЯЛ «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
Собака, выросшая из кости,
распознает все виды музейной пыли по запаху,
как Шерлок Холмс все виды табачного пепла,
как таможенная собака находит кокаин в надушенном саквояже.
Собака, выросшая из кости знает:
вот кувшин с обожженным горлом –
обожествленная эллинская утварь,
вот – труп Гектора, влекомый концепцией,
вот чистые носки и новая зубная щетка,
вот-вот случится, но не случилось
«Я дам тебе яблоко».
И когда собака спит непроглазным лазным сном
она понимает: ангелы-иваны непомнящие родства
проносят лезвие в мыльнице
и фотокамеру в игольнице,
и часовщицу-кукушку в часах.
Собака, выросшая из кости,
во сне извалялась в шерсти Уитмена,
укусила себя за хронохвост – родился Улисс.
Лиза Хереш
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ОБЛАСТНОСТЬ
1
Где даже каштан отчуждается в падении,
Съезжает с пригорка фолксваген с нескольким
прищуром, и бланк погружается в кабинку –
только сплющенным щукам можно увидеть
двумя глазами крестики – против всех
и за движение в Хельсинки, западнический
нерест, выкуп невест с меренгой пенистых
слюнь. Картинки с жвачки пускаются в плавание –
агитация витых петуний голосом подаёт
за остановку времени. Кампания провалилась –
витально, то есть то, что ближе к телу из жна,
не хочет срывать кандидата с куста.
2
Мы проигрываем выборы, говорит Кирстен Данст,
падая в лунную воду фатой-офелией. Головастики брасом
разъедают в плечах костюм – свадебные гостинцы,
кромка ванной от хозяйского мыла бриться
собралась; так обеляется щека, режемая обидой.
В доказательство сухая горшочная почва
рассыпается на листе, как голубиная почта
по кротовым тоннелям. Футболист возвращается
в их жильё, его крылья одеты в восковой корпус,
тающий пот. В лазарете зреет гномий архипелаг,
и голкипер бьёт, понижая жар, в лобный сад:
это китчевый гладник стоит против шерсти собак.
3
Отличительный знак-репейник лепится неприятелем
на спину, как сцепка в квадратах рубашки, Телемах
раскормленный валится в лужу. Избирательна память
хранящего тайну гос – купюра в горле у платья,
расправленная на свет. И легко бордер колли на плос-
кость другую площади переходит, стоит показать
ноги, свободные для укусов. Демонстрант
вынужден оборачиваться спиной. Лозунги лузгаются,
кукурузы початки. Поле равносторонне для всякой
верной традиции, топырящийся стакан в кармане.
Он бьётся донышком внутрь, натыкаясь
на плавательный дизайн давки.
Алексей Ларин
СОБАКИ СОЛДАТ В ТУМАНЕ БРОСАЮТСЯ ПОД КОЛЕСА
До конца зимы, возможно, совсем потеряются пальцы.
За глазами закрытыми широко опроклятился взгляд в занозу:
Уязвленные Даром, прячась, винят проникающий кальций.
Словно хутор окраинный мир остаётся тревожно не познан.
Покидает квартиру друг, оставляя мираж врага,
Пока корни панелек врастают грибницами в галлюцинации,
Пока не заструился абсент по ветвям, как выскальзывающая строка.
Но от чувства вращенья эринией воет собачья нация.
И бросаются под колеса щенки сиротливых солдат.
Чтоб не стать кабелем, Иасон спускался в тела собственного чертоги
По вращающемуся пути в Аид, параллелен которому ад.
Став Марией там, возвращаюсь собою к Марии в итоге.
В черно-белом березовом коде глазам голубым места нет.
Афродитовою водой нас выхлебывает весна –
И журчим по ее языку, оставляя фиалок след.
Так, и не произошла война.
Святослав Уланов
СОБАКА СТАНОВИТСЯ ЮНИКОДОМ
Механизм защиты сломан, и кто знает, каким он был.
1.
вблизи площади где
время замерло словно взгляд Осипа Мандельштама
тени демонстрантов отброшенные листвой
шепчут движение древнему циферблату;
антикитерское сердце разбито но мир идет
[в полдень пространство не встречает сопротивления].
2.
биение шагов
внутри ветки –
невидимое глазу сражение
языка и внимания:
архитектура больше не удивляет; ее задача –
забрать у времени свойства года
[ничто не тает нечему замерзать сырая земля
происходит как вдох и выдох].
3.
запечатать эманации вещей
в знаках общего пользования
так ветер
становится заложником перехода;
собака становится юникодом.
Владимир Бекмеметьев и Иулания Семёнова
***
После раздела земли (её не добычь)
на уликовые изюмины (микроафишы вина);
костными лемехами на спальные малёхи
сатанеть – невозможно – брось собь:
наивно крутить рукоять полевую
навьей машины прежнему прочим от той
бо(!)якой стальгрузи, Ononis Spinosa обуздан
(зааминен и заменён).
На кряж покосились гнездули – малые солнца.
Пëс зацвë! н-о
не патрульной игольницей (не гикай регистром его) –
то идутное листвие. А выпас редутный гвоздик
героически вековыспренных?
Но иулания говорит: «Вековыпаренных –
веков долгота мера малая».
Уламок лап ликования, ножных лодыжек,
языков хвосторыхлых в пастях беззубых
рыл, в пуле не дышащих мысом-сопаткой.
Замирволили пасево архонты зарина:
Schrader Ambros, Ritter и Van der Linde –
от имён остается духмяный убыток.
Жаль поэтов Георгов, чёсом убиты на входе
в активность агона – аттракциона каприччос.
Медленный скач щёлока на площади эскулапной,
«в ужасающей обыденности операционного покоя»
скулит (в кувуклии клинической) Иисус Нави́н,
до самого вечера посыпает голову пеплом.
Словник – кираса из засоленных лепестин
мяса.
Змей, Ливьяфан, Рахав и Танин.
Le trépied. Anesthésie. Стихотворения «Тренога» и «Наркоз» в переводе на французский Кристины Зейтунян-Белоус
ТРЕНОГА
На мостовой, куда свисают магазины,
лежит тренога и, обнявшись сладко,
лежат зверёк нездешний и перчатка
на чёрных стёклах выбитой витрины.
Сплетая прутья, расширяется тренога
и соловей, что круче стеклореза
и мягче газа, заключён без срока
в кривящуюся клетку из железа.
Но, может быть, впотьмах и малого удара
достаточно, чтоб, выпрямившись резко,
тремя перстами щёлкнула железка
и напряглась влюблённых пугал пара.
Le trépied
Sur la chaussée pendouillent des boutiques,
se prélasse un trépied, tendrement enlacés,
sont couchés une bestiole exotique et un gant
sur les éclats noirs d’une vitrine brisée.
Enroulant ses tringles, le trépied s’élargit,
un rossignol, plus dur qu’un coupe-verre
et plus doux que du gaz, semble à perpétuité
incarcéré dans une cage de fer informe.
Mais dans le noir une simple poussée
pourra peut-être redresser cette ferraille
qui, faisant claquer trois doigts,
alertera un couple d’amoureux épouvantails.
НАРКОЗ
Истошной чистоты диагностические агрегаты
расставлены, и неведение измеримо.
Плиточник-рак, идущий неровным ромбом и загребая
раствор, облицовывает проплывающих мимо.
Но ты, Мария, куда летишь? Камень сдвинут уже на передний план,
и его измеряют. Ещё спят, как оплавленные, каратели.
Наркоз нас приводит в чувства — марлевый голубой волан
падает на лицо. Мы помним, когда очнулись, а не когда утратили…
2007
Anesthésie
D’une pureté assourdissante les appareils de diagnostic
sont disposés, et l’ignorance est mesurable.
Le carreleur-crabe en losanges saccadés se déplace
et badigeonne de mortier ceux qui passent.
Mais toi, Marie, où voles-tu ? La pierre, au premier plan déjà,
est mesurée. Les exécuteurs dorment encore, comme liquéfiés.
L’anesthésie ranime les sens : un volant bleu de tulle
sur le visage tombe. L’instant du réveil marque la mémoire, mais pas celui de l’oubli...
2007
マイナス-船. Стихотворение «Минус-корабль» в переводе на японский Нао Кудо.
МИНУС-КОРАБЛЬ
От мрака я отделился, словно квакнула пакля,
сзади город истериков чернел в меловом спазме,
было жидкое солнце, пологое море пахло,
и возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.
Я помнил стычку на площади, свист и общие страсти,
торчал я нейтрально у игрального автомата,
где женщина на дисплее реальной была отчасти,
границу этой реальности сдвигала Шахерезада.
Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:
словно летя сквозь яблоню и коснуться пытаясь
яблок, - не удавалось им выбрать одно, однако...
Плечеуглых грифонов формировалась стая.
А здесь - тишайшее море, как будто от анаши
глазные мышцы замедлились, - передай сигарету
горизонту спокойному, погоди, не спеши...
...от моллюска - корове, от идеи - предмету...
В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брёл побережьем, а память толкалась с тыла,
но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.
Всё становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона,
море казалось отъявленным, а не призрачным, неким!
Точное море! В колечках миллиона мензурок.
Скала - неотъемлема от. Вода - обязательна для.
Через пылинку случайную намертво их связуя,
надобность их пылала, но... не было корабля.
Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,
на заднем плане изъян - он силу в себя вбирал -
вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
белее укола камфары зиял минус-корабль.
Он насаждал - отсутствием, он диктовал - виды
видам, а если б кто глянул в него разок,
сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,
и спросонок вошёл бы в растянутый диапазон.
Минус-корабль, цветом вакуума блуждая,
на деле тёрся на месте, пришвартован к нулю.
В растянутом диапазоне на боку запятая...
И я подкрался поближе к властительному кораблю.
Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.
Вдали на дутаре вёл мелодию скрытый гений,
локально скользя, она умножалась и вдруг,
нацеленная в абсолют, сворачивала в апогее.
Ко дну шёл минус-корабль, как на столе арак.
Новый центр пустоты плёл предо мной дутар.
На хариусе весёлом к нему я подплыл - пора! -
сосредоточился и перешагнул туда…
マイナス-船
ぼくは闇から離れた 古い麻屑を飛ばすようにして
後ろでヒステリー者の町が 白亜痙攣のなか黒んだ
太陽はとろけていた おだやかな海が香った
実体に戻りつつぼくは理解した 「神 我を救えり」と
広場での小競り合いを覚えていた 口笛と共有された熱狂
ぼくは中立のまま突っ立っていた ゲームマシンのそばで
画面の女は一部分だけリアルだった
この現実の境界をシェヘラザードがずらしていた
ぼくはぼうっとしていたが 喧嘩からの脱落者たちを覚えている——
林檎園を抜けて飛びつつ 林檎に触れようと
するように けれども一つだけ選ぶことはできず……
肩角グリュフォンたちが群れを形づくった
ここはいちばん静かな海 ハシシュを吸ったかのように
眼筋は速度を落とした ——タバコをやれ
おだやかな水平線に 待て 急ぐな……
……軟体生物から牝牛へ 理念から対象へ……
山では遠い群れの葡萄粒が蠢いていた
海岸通りをぼくはうろつき 記憶が後ろからぶつかった
けれどリズムの中で 反射と苦しいまでの緊張は消え
時の狭間に振り分けられた、力が
そもそもなるはずだったものに すべてがなっていった——
罌粟はカーキの丘に突っ込んだ テレビのノイズのように
ハエの目のロバはプラトーンを頭に浮かべた
海がはっきりと姿を見せた 透明な何ものかではない!
精妙なる海! 数百万のビーカーの輪の中で。
から奪いえぬ——断崖。ために欠かせぬ——水。
気まぐれの塵によりぴったりとそれらを結えつつ
その必要は煌々と燃えた けれども……船はなかった
連絡用アンテナは見えた 二重締め具もすべて
後景に瑕疵があったのだ (船は力を吸収した)
石油の匂いに至るまで 特徴的な軋みに至るまで
カンフル注射よりも白く ぽっかりとひらけたマイナス-船
船が載せるは不在 船が命じた——「形をば
形に返せ」と もしも誰かが船をひと目見たならば
すぐに囚われてしまうはず 綿のフィルターに捕まるように
拡張領域に寝ぼけて入りこんでしまうはず
マイナス-船 真空の色でさまよいつつも
じつはその場で擦っていたのだ 零に係留されながら。
拡張領域で 船腹には小数点が……
そしてぼくは 支配者たる船にもっと近く忍び寄った
マイナス-船は融けていった。東洋的な音が聞こえた。
遠くで秘められた天才が ドゥタールでメロディを奏でていた
メロディは郷土的に移り変わり 増殖し そして突然
〈絶対〉に向かい 絶頂で転回した
マイナス-船は水底へ向かった テーブルのやし酒のように。
空虚の新しい中心が ドゥタールの幻をぼくに見せたのだ。
ゆかいなカワヒメマスに乗り ぼくは水中を船へと近づいた——さあ今だ!
意識を集中し ぼくは向こうへと踏み越えた……
Navio-a-menos. Siluro. Стихотворения «Минус-корабль» и «Сом» в переводе на португальский Астьера Базилио
МИНУС-КОРАБЛЬ
От мрака я отделился, словно квакнула пакля,
сзади город истериков чернел в меловом спазме,
было жидкое солнце, пологое море пахло,
и возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.
Я помнил стычку на площади, свист и общие страсти,
торчал я нейтрально у игрального автомата,
где женщина на дисплее реальной была отчасти,
границу этой реальности сдвигала Шахерезада.
Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:
словно летя сквозь яблоню и коснуться пытаясь
яблок, - не удавалось им выбрать одно, однако...
Плечеуглых грифонов формировалась стая.
А здесь - тишайшее море, как будто от анаши
глазные мышцы замедлились, - передай сигарету
горизонту спокойному, погоди, не спеши...
...от моллюска - корове, от идеи - предмету...
В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брёл побережьем, а память толкалась с тыла,
но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.
Всё становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона,
море казалось отъявленным, а не призрачным, неким!
Точное море! В колечках миллиона мензурок.
Скала - неотъемлема от. Вода - обязательна для.
Через пылинку случайную намертво их связуя,
надобность их пылала, но... не было корабля.
Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,
на заднем плане изъян - он силу в себя вбирал -
вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
белее укола камфары зиял минус-корабль.
Он насаждал - отсутствием, он диктовал - виды
видам, а если б кто глянул в него разок,
сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,
и спросонок вошёл бы в растянутый диапазон.
Минус-корабль, цветом вакуума блуждая,
на деле тёрся на месте, пришвартован к нулю.
В растянутом диапазоне на боку запятая...
И я подкрался поближе к властительному кораблю.
Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.
Вдали на дутаре вёл мелодию скрытый гений,
локально скользя, она умножалась и вдруг,
нацеленная в абсолют, сворачивала в апогее.
Ко дну шёл минус-корабль, как на столе арак.
Новый центр пустоты плёл предо мной дутар.
На хариусе весёлом к нему я подплыл - пора! -
сосредоточился и перешагнул туда…
Navio-a-menos
Das trevas eu me apartei como se coaxasse um cânhamo,
a cidade dos histéricos enegreceu atrás com um giz de espasmo
havia um sol líquido, cheirava um mar empenado
e regressando ao corpo, eu entendi, que o senhor Deus salva-nos.
Paixões mútuas e assovios, lembrei das escaramuças na praça,
Eu fiquei por lá neutro em frente a um brinquedo automático
onde uma mulher no display do real pela metade estava
e Sheherazade fez o arrasto da fronteira desta realidade
Eu estava distraído, mas lembro de quem pulou fora da porfia:
como se voando através de uma macieira tentando
tocar na maçã - não foi possível escolher uma, todavia...
grifos dorsângulos se transfiguraram em bando
Mas aqui, é o mais tranquilo mar, como se da cannabis
os músculos dos olhos arrefecessem- passe o cigarro
ao horizonte relaxado, espere aí, sem apressar-se...
...de um molusco para a vaca, da ideia para algo...
nas montanhas se mexiam o rebanho de passas distantes,
a memória puxou da retaguarda, eu vaguei pela costa,
mas neste ritmo sumiram a reflexão e um peso grande,
pelo tempo no intervalo matemático se instalou a força.
Tudo se tornou naquilo que deveria ser originariamente: no chão
dos montes populas cor de cáqui, como chuvisco de tv, arrombaram
e há um burrinho com vistas de mosca que imaginou Plantão,
acabou que o mar era reconhecível, mas não assombrado!
Exato mar! Nos pequenos anéis há milhões de provetas.
Penhasco é irremovível de. Água é obrigatório para.
Através do aleatório pozinho firmemente os conecta
a necessidade os queimou, mas... um navio lá estava.
Eu vias setinhas interligadas e as conexões atípicas,
no pano de fundo uma falha - ela de si a força não reteve-
até o fim do cheiro do petróleo, até o ranger característico,
mas branco que a ponta de uma cânfora bocejou o navio-a-menos
Ele cacheou - e na ausência ele ditou - tipos
aos típicos, caso alguém olhasse para ele bem rápido,
logo se engancharia, como um algodão atrás do filtro,
e sonolento entraria num diapasão esticado.
Navia-a-menos, com a cor do vácuo ficando perdido,
esfregando-se no lugar, o zero é seu ancoradouro
No esticado diapasão na lateral da vírgula...
E se aproximou sem ser visto ao navio poderoso.
Derreteu o navio-a-menos. Eu escutei o som do oriente.
Ao longe uma melodia na dutar um gênio fechado teceu,
escorregando localmente, ela se duplicou e de repente,
e ao mirar no absoluto, enrolou no apogeu.
Foi até o fundo o navio-a-menos como um áraque na mesa.
O novo centro do vazio cacheou o dutar diante de mim.
Em um salmão alegre fui me afundando até ele - chega! -
fui me concentrando e caminhei para ali…
СОМ
Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.
А руку окунёшь - в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.
Siluro
O que nos parece, ele cava na água, como uma trincheira.
Nadando de volta, e sobre si uma onda ele ajusta.
Consciência e carne ao que é mais espremido aperta-se.
Ele é inteiro, como o lado negro da cabeceira na lua.
Mas a mão mergulhas em submarinas travessas.
Eles vão falar contigo, a tua mão vão ficar lendo.
O peixe-rei ressoando se debate pela areia
e congela, como se fosse uma chave de um cadeado espesso.
Екi гримшi. Стихотворение «Две гримерши» в переводе на казахский Лимары Меделхановой
ДВЕ ГРИМЕРШИ
мёртвый лежал я под сыктывкаром
тяжёлые вороны меня протыкали
лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримёрши
с расчёсками заткнутыми за пояс
две гримёрши нашли на луне мой корпус
одна загримировала меня в скалу
другая меня подала к столу
клетка грудная разрезанная на куски
напоминала висячие замки
а когда над пиром труба протрубила
первая взяла проторубило
светило галечной культуры
мою скульптуру тесала любя натуру
ощутив раздвоение я ослаб
от меня отделился нагретый столб
чёрного света и пошёл наклонно
словно отшельница-колонна
Eki гримшi
сыктывкар түбінде өлі жаттым,
сом қарғаға шоғылып денем.
орша рельсінде сұлады затым,
қос қияннан қос гримші қыз төнер.
тарақтарын алдыра белдерінен*
екеуі ай жүзімен тұрқыма жетер.
біреуі мені бояп, келтірді құзға
екіншісі – үстелге қоя қойды.
кесектерге талқандалған көкірегім
салбыраған сыдырмалар бола қойды.
мерейдің үстінен тартылып керней
бикенің біреуі қолға алды қашау-тас
жоныды тұлғамды жанымды сипай
еңбектің мұрасы тегінен малтатас
кеміді жігер, бүтінім бұзыла.
тұламнан қыза-қыза арыла.
бағанадай қара сәуле көлбеу кетті
саяқ ұстын сынды бөлек жағына.
* игра слов с устойчивым выражением «ақылды белден алдыру», что означает в дословном переводе – «брать за пояс разум», в семантическом – «поступать неразумно».
Муурнууд. Стихотворение «Коты» в переводе на монгольский Ану Кости
КОТЫ
По зaводу, гдe дeлaют лeвомицeтин,
бродят коты.
Один, словно топляк, обросший рaкушкaми,
коряв.
Другой – длинный с вытянутым языком –
пожaрный бaгор.
А трeтий – исполинский, кaк штиль
в Пeрсидском зaливe.
Ходят по фaрмaзaводу
и слизывaют тaблeтки
мeжду чумой и холeрой,
гриппом и оспой,
виясь мeжду смeртями.
Они огибaют всё, цaри потворствa,
и только околeвaя, обрeтaют скeлeт.
Вот крючится чёрный, копaeт зeмлю,
чудится eму, что он в нeй зaрыт.
А бeлый, нaркотикaми изнурённый,
пeристый, словно ковыль,
сeрдeчко в султaнaх.
Коты догaдывaются, что видят рaй.
И стaновятся eго опорными точкaми,
кaк eсли бы они нaтягивaли брeзeнт,
собирaясь отряхивaть
яблоню.
Поймaвшиe рaй.
И они пойдут рaвномeрно,
кaк мeхaники рядом с крылом сaмолётa,
объятыe силой исчeзновeния.
И выпустят рaй из лaп.
И выйдут диктaторы им нaвстрeчу.
И сокрушaт котов сaпогaми.
Нeрон в битвe с котом.
Аттиллa в битвe с котом.
Ивaн Чeтвёртый в битвe с котом.
Лaврeнтий в битвe с котом.
Корeя в битвe с котом.
Котов в битвe с котом.
Кот в битвe с котом.
И ничто кaрaтэ котa в срaвнeнии со стaтуями
диктaторов.
МУУРНУУД
Левомицетиний үйлдвэрт
муурнууд тэнүүчилнэ.
Нэг нь өтөнд идэгдэж
Өгөршсөн мод шиг эвгүйцэм.
Нөгөө нь галын дэгээ шиг
урт ёрдгор хэлтэй.
Гурав дахь нь аварга том,
Персийн намуухан булан шиг.
Халдварт өвчин хийгээд тахал,
ханиад ба салхин цэцэг дундуур
эм долоож,
үхлийг тойрон эргэлдсээр
тэд эмийн үйлдвэрээр тэнүүчилнэ.
Тэд бүхнийг тойрно, тэд бол эрэмшлийн хаад
үхмэгцээ л араг яс болж хувирцгаана.
Том эр хар муур тарчлан, газар ухна
Тэр өөрийгөө энд булшлагдсан байгаагаар харна.
Хар тамхиндаа зүдрэх цагаан нь
Султан хааны зүрхэн дэх өд мэт
хөнгөн сэвсгэр, яг л хялгана шиг.
Муурнууд таамаглана, өөрсдийгөө диваажинг харж байна гэж
Алим хураахаар брезентэн даавуу тал талаас нь таталцах шиг
Энэ нь тэдний тулгуур цэг болно.
Диваажинг ологсод.
Үгүйрлийн хүчинд автсан
Онгоцны засварчид далавчны дэргэд байх шиг
Тэд тун жигд гэтнэ.
Тэгээд сарвуунаасаа диваажинг бүтээнэ
Тэгээд дарангуйлагчид тэдний өөдөөс очно
Тэгээд тэд муурнуудыг гутлаараа гишгэлнэ.
Нeрон мууртай дайтна.
Аттиллa мууртай дайтна.
Дөрөвдүгээр Иван мууртай дайтна.
Лaврeнтий мууртай дайтна.
Мухулай мууртай дайтна.
Муу мууртай дайтна.
Муур мууртайгаа дайтна.
Дарангуйлагчдын хөшөөний дэргэд муурнуудын каратэ бол юу ч биш юм.
Кара дуңгызкай. Стихотворение «Черная свинка» в переводе на татарский Резеды Калимуллиной
ЧЕРНАЯ СВИНКА
1.
Яйцо на дне белоснежной посудины как бы ждёт поворота.
Тишина наполняет разбег этих бедных оттенков.
Я напрягаю всю свою незаметность будущего охотника:
на чёрную свинку идёт охота.
Чёрная свинка – умалишенка.
Острая морда типичного чёрного зонтика.
2.
Утренний свет отжимается от половиц крестиками пылинок.
Завтрак закончен, и я запираюсь на ключ в облаке напряжённой свободы.
Цель соблазнительна так, будто я оседлал воздушную яму.
Как взгляд следящего за рулеткой, быстрое рыльце у чёрных свинок.
Богини пещер и погашенных фар – той же породы.
Тихо она семенит, словно капелька крови, чернея, ползёт по блестящему хрому.
3.
Чёрная свинка – пуп слепоты в воздухе хвастовства, расшитом павлинами.
Луну в квадратуре с Ураном она презирает, зато
запросто ходит с Солнцем в одном тригоне.
Пропускай её всюду – она хочет ловиться!
Вы должны оказаться к друг другу спинами.
Во время такой погони время может остановиться.
4.
Я её ставил бы выше днепровских круч.
Я бы её выгуливал только в красных гвоздиках.
Её полюбил бы чуткий Эмиль Золя.
Цирцея моей одиссеи, чур меня, чур!
Её приветствуют армии стран полудиких,
где я живу без календаря.
КАРА ДУҢГЫЗКАЙ
1.
Кардай ак тәлинкә төбендә күкәй борылышны көткән кебек.
Тулы тынлык белән бу чырайсыз төсмерләр.
Мин – бер киләчәк аучы – күренмәслегемне үстерәм:
кара дуңгызга ау бара.
Кара дуңгызкай – диванакай.
Очлы борыны гади кара кулчатырга охшаган.
2.
Иртәңге яктылык идән тактасыннан тузан булып күтәрелә.
Ашым тәмам, һәм мин киеренке ирек болытына бикләнәм.
Вәсвәсәле максатым һава чокырын иярләгән кебек.
Уен күзәтүче карашы сыман кара дуңгызларның тиз танаусы.
Мәгарә һәм сүндерелгән ут алиһәләре – шул ук нәселдән.
Нәкъ кан тамчысы, әкрен генә атлап ул бара, ялт-йолт иткән тимердән ага, каралып.
3.
Кара дуңгызкай – мактанчыклык һавасында сукырлык үзәге, чигелгән тависның канаты арада.
Квадратурадагы Айга кушылган Уранны исәпкә дә алмый, әмма
Кояш белән бер тригонда тәкәллефсез йөри.
Җибәр аны бар якларга – эләгәсе килә аның!
Сез очрашырга тиешсез аркага-арка.
Шундый куышта туктап кала ала вакыт.
4.
Мин аны Днепр ярларыннан да биеккәрәк куяр идем.
Йөртер идем бары тик кызыл канәферләрдә.
Сизгер Эмиль Золя калмас иде аны сөймичә.
Одиссеямның Цирсеясе, тәүбә-тәүбә!
Сәламлиләр аны вәхши илләр гаскәрләре,
анда яшим, көннәр тәртибен дә белмичә.
我不理解你的选择. Стихотворения «Мне непонятен твой выбор» и «Львы» в переводе на китайский Юаня Хао (под ред. Елизаветы Абушиновой)
МНЕ НЕПОНЯТЕН ТВОЙ ВЫБОР
Мне непонятен твой выбор.
Кого?
Ревнителя науки,
что отличает звон дерева от мухи
за счёт того, что выпал
снег?
Нет,
здесь, я бы сказал, какая-нибудь тундра ада,
и блёклые провидцы с бесноватой
причёской, как у пьющих балетоманов,
тебя поймают в круг протянутых стаканов.
Здесь
нет разницы в паденье самолёта, спички,
есть пустота, где люди не болят,
и тысячи сияльных умываний твой профиль по привычке
задерживает на себе, как слайд.
Ты можешь дуть в любую сторону и – в обе.
А время – только понарошке.
Учебником ты чертишь пантеру на сугробе.
Такая же – спит на обложке.
我不理解你的选择
我不理解你的选择。
谁的?
科学狂热者的,
他根据雪下落
辨别树叶声响
和苍蝇的嗡鸣?
不,
在这里我要说的,是某片地狱般的冻土
和发式狂乱,黯淡无神的先知们
如置身一群贪杯的芭蕾舞迷中,
你将被卷进一圈递过来的杯盏。
在这里,
不区分飞机和火柴的下坠
有的是虚空,在那里人没有病痛
你习惯把几千次贵族式的光辉洗礼
留在侧脸上,像一张幻灯片。
你可以吹往任何一个方向,或是两个。
而时间,只是故意假装飞逝。
你用课本在雪堆上画出豹子。
同一只豹子,在书封上酣睡。
ЛЬВЫ
М.б., ты и рисуешь что-то
серьёзное, но не сейчас, увы.
Решётка
и за нею – львы.
Львы. Их жизнь – дипломата,
их лапы – левы, у них две головы.
Со скоростью шахматного автомата
всеми клетками клетки овладевают львы.
Глядят – в упор, но никогда – с укором,
и растягиваются, словно капрон.
Они привязаны к корму, но и к колокольням
дальним, колеблющимся за Днепром.
Львы делают: ам! – озирая закаты.
Для них нету капусты или травы.
Вспененные ванны, где уснули Мараты, –
о, львы!
Мы в городе спрячемся, словно в капусте.
В выпуклом зеркале он рос без углов,
и по Андреевскому спуску
мы улизнём от львов.
Львы нарисованные сельв и чащоб!
Их гривы можно грифелем заштриховать.
Я же хочу с тобой пить, пить, а ещё
я хочу с тобой спать, спать, спать.
狮子
或许,你平时可以画些
严肃的东西,但不是现在,唉。
栅栏,
栅栏后面——狮子。
狮子。它们的生活,是外交官式的,
它们的爪子——叠在左边,它们有两个脑袋。
狮子用国际象棋机的速度
夺取笼子里的所有方格。
它们逼视你,但从不带责备之意,
伸展身子,像是卡普纶外衣。
它们依恋饲料,也束缚于
远方第聂伯河对岸摆动的钟楼。
狮子眺望落日,发出咀嚼之声!
它们不屑吃白菜或青草。
起泡沫的澡盆,马拉们在其中长眠——
啊,狮子!
我们在城市躲藏,像躲在白菜里。
它在无棱角的凸面镜里变大,
沿着安德烈斜坡
我们悄悄逃离狮子。
热带雨林和灌木丛中的画狮!
可以用石笔勾勒它们的鬃毛。
我想跟你喝酒、喝酒,还有
我想跟你睡觉、睡觉、睡觉。
স িংহেরা. Стихотворение «Львы» в переводе на бенгальский Тришны Басак
ЛЬВЫ
М.б., ты и рисуешь что-то
серьёзное, но не сейчас, увы.
Решётка
и за нею – львы.
Львы. Их жизнь – дипломата,
их лапы – левы, у них две головы.
Со скоростью шахматного автомата
всеми клетками клетки овладевают львы.
Глядят – в упор, но никогда – с укором,
и растягиваются, словно капрон.
Они привязаны к корму, но и к колокольням
дальним, колеблющимся за Днепром.
Львы делают: ам! – озирая закаты.
Для них нету капусты или травы.
Вспененные ванны, где уснули Мараты, –
о, львы!
Мы в городе спрячемся, словно в капусте.
В выпуклом зеркале он рос без углов,
и по Андреевскому спуску
мы улизнём от львов.
Львы нарисованные сельв и чащоб!
Их гривы можно грифелем заштриховать.
Я же хочу с тобой пить, пить, а ещё
я хочу с тобой спать, спать, спать.
স িংহেরা
মূে রাসিয়ান থেহক ইিংহরক্সি- ইউক্সিন অ্স্তাহিভসি
বািংো অ্নুবাদ- তৃষ্ণা ব াক
েয়হতা তু সম খবু মন সদহয়ই আহঁ কা,
সকন্তু এখন নয়, োয়!
থরখাগুহো একটা সিে ততসর কহর,
আর এর থপছহন – স িংহেরা।
#
স িংহেরা- তাহদর িীবন এক কূ টনীসতহকর িীবন,
তারা তাহদর োবার ওপর ভর সদহয় োহক,
তাহদর সবিাে মাো ।
কম্পিউটার দাবার গসতহত
স িংহেরা থখাহপর পর থখাপ দখে কহর থনয়।
#
ওরা আপনাহক তকভক াহব ম্মান কহর,
সকন্তু কখহনা সতর্কক তা োহক না তাহত,
অ্ে ভাহব োত পা ছাড়ায় পাটট াপটার মহতা,
ওরা ওহদর সিকাহরর হে বাধঁ া, সিসনপার নদীর
ওপর ঝেমে করা দূহরর ঘণ্টাঘহরর হেও।
#
স িংহেরা চহে , ককড়মড় কহর খায় , ূর্াস্তক হক উহপক্ষা
কহর।
েবে আর িযাহেসেয়নহক ঘৃণা কহর।
থেনাসয়ত বােটাব, থর্খাহন মুরাতরা বহ সছে-
ও স িংহেরা!
#
আমরা চাহচকর গম্বুহি েুসকহয় োকব,
টিক থর্ন বাধঁ াকসপর মহধয,
একটা উত্তে আয়নায়
এই িের থগােহকর মহতা গহড় উহিসছে-
আর থ ন্ট অ্যােরুহির ঢাহে
এই স িংেহদর আমরা সিহপ চড়াব।
থপক্সিহে আকঁ া স িংে, থঝাপ আর বনবীসেহত,
তাহদর থকির থিট সদহয় আরও থকাকঁ ড়া কহর দাও তু সম,
সকন্তু থতামার হে আসম পান করব, পান করব, আর
আবার
থতামার হে ঘুহমাব ঘুহমাব ঘুহমাব।
Лесвічка. Стихотворение «Лесенка» в переводе на беларуский Викци Вдовиной
ЛЕСЕНКА
В югендстиле мансарда. Я здесь новичок.
Слышал я, как растёт подколпачный цветок.
Ты сидела на лесенке – признанный перл,
замер я, ощущая пределов замер.
Ты была накопленьем всего, что в пути
приближала к себе, чтоб верней обойти.
Пастырь женщин сидел здесь и их земледел.
Страх собой одержим был, как шёлковый мел.
Все себе потакали. Смеялся Фома.
Потакая себе, удлинялась тюрьма.
Дух формует среду. И формует – дугой.
Распрямится - узнаешь, кто был ты такой!
Например, если вынуть дугу из быка,
соскользнёт он в линейную мглу червяка.
Вопрошающий, ищущий нас произвол
той дугою сжимал это время и стол.
Был затребован весь мой запас нутряной,
я в стоячей воде жил стоячей волной.
Но ушёл восвояси накормленный хор
вместе с Глорией, позеленевшей, как хлор,
с деловыми девицами на колесе
спать немедленно на осевой полосе.
Тут костёлы проткнули мой череп насквозь.
Нёс я храмы во лбу, был я важен, как лось.
А из телеэкранов полезла земля.
Эволюция вновь начиналась с нуля.
Выряжался диктатор в доспехи трибун,
но успехов природы он был атрибут.
Думал я о тебе, что минуту назад
нашу шатию тихо вводила в азарт.
Я б пошил тебе пару жасминных сапог,
чтоб запомнили пальцы длину твоих ног.
А на лесенке – тьма, закадычная тьма.
Я тебя подожду. Не взберёшься сама.
ЛЕСВIЧКА
На мансардзе мадэрна захраснула ў шкле,
Я быў новенькім, слухаўшы рух у сцябле.
Не наважыўся я ўзважаць на мяжы,
Але ўважыў за перл, бо на лесвічцы – ты.
Ты спаткала ўсе рэчы, што карысны ў жыцці
толькі дзеля таго, каб спрытней абыйсці.
Ксёндз жанчын тут сядзеў і зямлі гаспадар.
Страх сябе апантаў, бы кужэльны янтар.
Сабе ўсе патуралі. Смяяўся Фама.
Патураўшы сабе, падаўжалась турма.
Дух фармуе ўсіх. І фармуе – дугой.
Разгарнецца – даведайся, як быць табой.
І калі выпрастоўваць дугі з быка,
Саслізнуць яны ў цемру калец чарвяка.
Праізвол, што шукаў і дапытваўся ў нас,
Тымі дугамі сцісківаў посуд і час.
І знутры ім патрэбны запас кагадзе,
Я стаячая хваля ў стаячай вадзе.
Хутка ўжо адышоўся накормлены хор
разам з Глорыяй, што зелянушка, бы хлор,
з дзелавітамі дзеўкамі, што пакрысе
перакочваюць кола супроць паласе.
Тут касцелы працнулі мой чэрап наскрозь
нёс я храмы ў ілбе, быў я важным, бы лось.
Але з тэлеэкранаў палезла зямля.
Эвалюцыя зноў пачалася з нуля.
Прыбіраўся дыктатар ў даспехі трыбун,
паспяховай натуры ён быў атрыбут.
Думаў я пра цябе, што хвіліну назад
нашу зграю ўвяла ў азарт наўздагад.
Я б пашыў табе пару жасмінавых бот,
каб запомніць галёнкаў тваіх абарот.
А на лесвічцы – цемень, цемра-дружбак.
Я цябе пачакаю. Ты не ўзлезеш ніяк.
Два портрета Алексея Парщикова (2019)

«Паэт Лёша Паршчыкаў». 2019 год. Папера, акрыл 30х21 см.

«Паэт Паршчыкаў». 2019 год. Папера, акрыл 30х21 см.
Четыре архивные фотографии с Алексеем Парщиковым




Демократическая мистерия зрения. Заметки о фотографии Алексея Парщикова
Демократическая мистерия2 зрения
заметки о фотографии Алексея Парщикова
<…>
...в основу творческого метода, если это можно таковым назвать, я положил убежденность, как мне кажется, близкую не только самому Парщикову, но и в целом близкую той эпохе, – убежденность в идее демократии. При всей очевидной незаурядности парщиковской фотографии, смотря на нее неопсредственно, возникает ощущение ее не-законности, то есть независимости от банальных законов фотографического ремесла, – будь то законы композиции, экспозиции или какие угодно иные законы. И дело не в том, что Парщиков был с ними не знаком. Как раз наоборот: его эссе прекрасно показывают осведомленность Парщикова о технической стороне фотографии, и в этом, пожалуй, мы можем разглядеть главную особенность его фототворчества. Рассуждая о фотографии и фотографируя, он не указывает на объект фотографии, как на нечто уже осуществленное, которое – что только и остается фотографу – следует просто запечатлеть, задокументировать, отпечатать. Сравнивая фотокамеру с театром, Парщиков неизбежно указывает на фотографию, как на некое сакральное действо:
«какое выбрать место, чтоб поставить храм?»
(«Выбор места»)
– схожим по-существу вопросом задается и Парщиков-фотограф, хотя для фотографии он скорее должен быть сформулирован так: «какое взаимоотношение резкости и диафрагмы подобрать, чтобы храм <в>стал?». И речь идет действительно о взаимоотношении, о подчеркнуто не-механистических связях внутри самого процесса фотографии. Парщиков называет это «экзистенциальным параметром», таким образом превращая театральное возникновение объекта в кадре в deus ex existentia, вводя фотографию в сферу пластических искусств и возвращая их к самим истокам, – античным мистериям.
При этом, несмотря на конкретную заданность чисто механических параметров фотокамеры, объект появляется на сцене парщиковского театра наиболее естественно и свободно, совершенно в духе демократической фотографии Уильяма Эгглстона:
«формы – природные или искусственные – находятся в ожидании, что их обнаружат и поймут»
(Подпись к «Гонкам инвалидов»)
и
еще:
«мне как раз интересно наталкиваться на такие места вокруг меня, которые, казалось бы, созданы для моей камеры, которые оказываются событиями. это могут быть вещи, переходящие во время из безвременья, – уже не мгновение, не рутина, а руина, закидывающая сеть своего плюща в вечность»
(Подпись к «Риму»)
Случайно или нет, но мне кажется, что именно таким образом Парщиков в собственных археологических исканиях откапывает демократию, как творческий метод, совершенно непригодную в тоталитарном настоящем, но оказывающейся делом будущего, постоянно обновляющегося и ведущего за границы того, что непосредственно есть. Можно сказать, что в этом аспекте демократическая фотография Парщикова неким естественным образом сближается со «следом» Деррида и, уводя нас постоянное-будущее, дает надежду на саму возможность того, что расхождение «пейзажа и ответа» (конечно же, данного в «латунном судорожном языке») будет преодолено.
Демократическая мистерия зрения. Цикл фотографий
«Современная фотокамера – ладно организованный, уменьшенный в размерах театр, по-античному демократический, относительно доступный»
– Алексей Парщиков, из подписи к фото «Собака в античном театре»



.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

«Pōlėtėlî». Три фотографии

«Темноед отложил "Толкование сновидений" и вздыбил шерсть,
как 17-ая глава "Улисса", – кусая себя за хвост.
Собаки в округе разом забыли про злость и месть...»
– Алексей Парщиков, «Собаки демонстрантов и солдат»

«Менялся ландшафт во снах радикально.
Левый берег Днепра оказывался пологим. Мосты
дрожали на капризных скрепах капель
тумана – перелетая реку оптом,
потом – фотографировались взрывом.
Пейзаж не сходился с ответом...»
– Алексей Парщиков, «Выбор места»
.jpg)
«Это поле мой сад вытесняет на небо, фокусируясь в бедной моей лачуге,
комары надо мною разломом гранита зернятся...»
– Алексей Парщиков, «Я жил на поле Полтавской битвы»
Распредмечивание. Цикл фотографий










Искушение числом
В этом доме теперь взрослеет пустота.
Полый ребёнок присвоил посуду, мебель, хромые часы.
Трещины в стенах,
в полу повторяют морщины на его безучастном лице.
Его голос звучит разрывом струны в терцию сквознякам,
в унисон опоздавшему вдоху, пению мёртвой птицы.
Дрожат стёкла окна,
когда он сквозь него подолгу наблюдает за садом
ледяными зрачками.
Кричат деревья от тяжести не дождавшихся сбора плодов,
чей сок заблудился и высыхает:
чер(ве/не)ющих на ветвях или питающих булимию земли.
С каждым годом их падение медленнее.
В этом зазоре их будто срывает и держит рука,
что когда-то качала меня.
Но дикие травы приходят без спроса туда,
где пространство не задето эхом шагов.
Кто шлёт тебе пустые конверты без обратного адреса, прозрачный ребёнок?
Капли смолы или ягоды смородины блестят в палой листве?
Бусины Го, в которое ты проиграл хитрому времени?
Здесь был виноград, отражавший чёрный свет за белым.
Мы пили его острый сок, чтобы читать сгоревшие книги.
Хмельная тропа под коржом сорняков.
И вот уже ты плавишь глаза на огне тишины,
чтобы из ртути выдуть себе тёплую тень.
01/05/23
ГОРОД В КОТОРОМ ВПЕРВЫЕ СЖАЛОСЬ МОЁ СЕРДЦЕ
город
лежащий на пустотах
и мёртвых горизонтах
ископаемых
пластами удаляющихся в точку
невозврата
стеллажами
библиотек заколоченных
где книги
читают себя
наизусть
друг другу
до дыр
до стирания строк
до ледяной белизны
одичавших страниц
книг
переходящих себя
туда и обратно
по нитям воды и огня
земли и воздуха
в пространстве что
вспомнить пытается форму
руки помнящей
шероховатую жажду
бумаги
город –
потрескавшийся зрачок степи
я слышу твой крик
за тысячу миль
в раскрытых ртах
ритуальных статуэток
японского мастера
в тлении сигареты
в голосах голодных чаек
над замёрзшим морем
в ударе ботинка о камень
в интонации завывания ветра
транспонированной
в линию
на картах баталий
в трещину на кофейной чашке
в шрам
на окаменевшей спине
город –
без пяти полночь
я вижу твой крик
в конвульсивных движениях
танцора буто
в чёрных маслянистых пятнах
расползающихся по океану
в которых вязнут
птицы время и свет
в конечности
вечных по Уайтхеду объектов –
числа́ и цве́та
во вспышках
чернильных
на линзе
периферийного зрения
где пребывают
переменные
парадоксы
пароксизмы
неопознанное
метаструктуры
молоко камней
спящее в вишнях
корни слов древ
родословных
тишина
что трещит
без вести
город
вечносытый
угольной пылью
я касаюсь тебя
сквозь время
детством своим
как через стекло
словно через страх
к умирающему
леопарду
и соль
хрустит
под ногами
11/12/22
Ростов-на-Дону
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕРТЕП
Я не знаю, когда это закончится, как не знают, где начинается юг, на который улетают птицы под шёпот звёзд.
Мои слова оторваны от мира.
За окном дождь – нарисован карандашом.
Заполнить каждый разрыв представлением.
Я – актёр бродячего театра.
В очередной раз мы сколотили сцену из гнилых досок затонувших кораблей.
Находки со свалок служат нам декорациями и всё чаще постелью.
Кто-то не дописал эту пьесу.
Мы вынуждены импровизировать – умирать и умирать снова.
Яблоки и мандарины на столе, но мои руки заняты едой попроще.
Говорят на скотобойнях не распускаются цветы.
Я смотрю на каплю чая (слезу красного карлика), скользящую вниз по чашке.
Гудки поезда, цикады, облюбовавшие холодильник, полулицо Линкольна на обрывке банкноты смеётся или кричит.
Школьник склонился над столом под углом, совпадающим с диагональными линиями в тетради, с тем, как летит топор мясника.
Лучи чёрного солнца не преломляются в воде озера, превращая её в смолу.
Местность вокруг расширена, как зрачок людоеда.
Мы пересекаем её – протяженные, как гласная и миля.
Ударение перескакивает из твоего на моё тело и обратно – блуждает лабиринтами, убегая от сознания.
Может быть всё, что от нас осталось – сила инерции?
13/12/22
Ростов-на-Дону
***
Допустим, вы оказались в Мире
приблизительных желаний...
– Евгения Суслова
В отвесности этого света угадывается
дистанция между желанием и «желанием».
Между
(лимфатических узлов времени)
твоей молодой улыбкой и моей
перезревшей серьёзностью – третья
площадь монеты.
От севера к югу – пубертатный ландшафт:
вихревая материя.
Язык-подросток перемещает
тектонические слоги.
Камень,
охваченный мышлением,
лежит быстрее гепарда.
Тактильный воздух.
Здесь был рассеян человек.
Близость рук твоих к каждому слому ветра.
К гимнастической скульптуре огня.
К взрослению тёмной пшеницы сквозь его танцующую глину.
Под молекулярную музыку за стенами слуха.
Рисунок ищет ребёнка.
***
Каждая секунда – прокол. Настоящее –
бабочка, приколотая к гербарию вечности.
На его замирающих крыльях я вижу, как
проявляется изображение моего лица.
Я провожу рукой по траве и вместо
прохлады росы ощущаю холод лезвий.
Пространство вокруг – забывшее
геометрию – пропитано диалогами рыб.
Чтобы смыть свои несколько черт, я
набираю в пригоршню воды из
безымянной реки и она затвердевает
песком. Из каждой песчинки, коснувшейся
земли, прорастает бессмертник.
09/02/23
КОГДА БЫЛИ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ КАЛЕНДАРЯ
Странные, узловатые фигуры дней
свисают вверх тормашками с зубцов диска циркулярной пилы.
С мордами собак, обернувшись своими жилистыми крыльями,
будто чёрными листьями капусты, изборождёнными разбухшими венами,
дырами, что проели голодные рты для ясности,
где равнины предложений, чьи границы всегда в поле зрения,
спокойно дышат, уткнувшись в одну точку.
Мы происходим в тихом парке за контуром марта в ямах света.
Кроны – слова из песни, переводом которой служат имена,
сорвавшиеся с орбит. Не считай сигарет, ставших дыханием – их
тлением не измерить ночи, внутри которой мы пешками,
вылепленными из глиняной муки, разбросаны по игральной доске.
Ветер играет в догонялки с бумажками,
но кустарники неподвижно задумчивы. Сумерки спускаются из трещин
в календаре и впитываются в неживое и живое, достигая сердцевины.
Мел и леопард, лес и мысль придавлены этими тёмными осадками к земле.
В этих фантасмагорических, клочковатых тенях
мы легко проходим сквозь стены друг друга.
25/03/23
УРОКИ ШИТЬЯ
Какой нитью можно зашить эту расползающуюся рану на стекле?
Шёлковый контур твоего рта всё темнее и тоньше с каждым днём,
сводящий наши разговоры к высоте ртути. Новый виток моих вечерних
прогулок дальше предыдущего на холод от нашего дома. Возможно, так я
пытаюсь ослабить петлю, в которую угодил, попавшись на приманку твоих
small talks. Мало толку в моих многочасовых самопогружениях, замечаешь ты,
не отрываясь от монитора. Беспрерывно жужжит люминесцентная лампа.
Поверхность льда удовольствием скользить. Книга стала легче, когда ты,
пробежав по страницам взглядом, вернула её мне. Сквозь мои пальцы
спокойно струится искусственный свет, когда я убираю руку от книги,
чтобы восполнить нехватку сказанного тебе, и она оказывается между
лампой и мной. Тело звенит несколько минут, когда ты проходя мимо,
случайно роняешь монету, и она падает мне на плечо. Хрупкое, но острое эхо
раскачивает веточки сирени в вазе на столе. Моя точность в деталях тебя
усыпляет. Спонтанные движения танцора-импровизатора – твой способ
отвечать на вопросы. Меня восхищают твои длинные, тонкие пальцы, узкие
запястья, белизна плеч на моих импрессионистских набросках. Ты
прячешься от меня в тумане невозможных вещей, надеясь, что ветхий
формализм моей логики не даст тебя обнаружить. Травой среди травы.
Белилами на лице Пьеро. Но откуда это ощущение смоченной нити на языке?
02-04/05/23
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА.
МАТОВАЯ ВОДА.
ДРОЖЬ.
И стало ясно: пара вёсел
тихую воду сведёт с ума
– А. Тарковский
Безумие и язык
разделяет прозрачный лист
бумаги
– Дж. Джойс
Разум, чтобы успокоиться,
отделил от себя своё другое,
сделав его объектом,
чтобы заточить.
– Ж. Деррида
Ты исповедуешься воде, текущей в зенит.
Голос отражается волчьими кляксами птиц.
Или это – твой выдох – копотью?
Кто сжигает в тебе последние горизонты угля?
залежи памяти?
Поверхность прибрежных камней – корка рта –
сквозь которую от пощечины волны́
проступает сукровица солнца –
клей между живыми и мёртвыми,
бормотанием недр и ландшафтом,
безумием и языком.
Матовое стекло,
отделяющее мысль от её двойника,
становится прозрачнее, когда ты из глины,
размягчая её кровянистым светом,
лепишь своё третье лицо
и бросаешь в воду.
На экране, охваченном нервной рябью,
ты видишь себя со спины.
Голову облепил осьминог.
Ты выворачиваешься наизнанку,
подкармливая зеркало своей искренностью,
чтобы другой – развернулся.
Чёрный спрут – всё скрытое тобой:
боязнь своего взгляда.
Ты коснулся озера и одёрнул руку,
почувствовав боль в глазу.
Научись языку земли, диалекту её сотрясений.
Пусть дрожит язычок на краю мягкого неба
в колоколе тела вместо языка, цитируя плеск,
возвращая его водоёму, в надежде,
что переводом послужит расслабление воды.
13-14/05/23
ИСКУШЕНИЕ ЧИСЛОМ
...об вольности воспоём сестра
дочь дочери дочерей дочери Пе
именинница имени своего
ветер ног своих и пчела груди своей...
– Д. Хармс
Вечерняя песнь к именем моим
существующей
Сверхмодальные птицы.
Ваш полёт над музыкой – хлопок
убивающих (комара) ладоней.
Пальцы щипают воду.
Неопределенную форму тела.
Что делать? Что сделать
с этим холодом, замедляющим
мой взгляд?
«Дочь дочери дочерей дочери»,
вытатуируй мне «П» на правом и
«е» на левом веках,
чтобы закрыв их, твои инициалы
стали окном на чёрном зеркале
моего ума.
(Красная соль разъедает яблоко,
двигаясь из центра)
Я увижу дрейфующий цвет –
сгусток эфемерного лица.
Когда перелётное пение прижимает к земле.
Тяжёлыми атомами тишины.
Вдавливая меня в копошение чёрного масла,
делая неразличимым – струёй насекомых
в муравейнике твоего тела,
вестник.
Растровыми шариками
четырёхмерного нарратива – пространства,
каждой из сторон повёрнутого
к исполнителю желаний,
(Красная соль съедает небо)
к лицу без черт, лицу-Х,
лицу-впадине, покинутой морем,
лицу-апории – препятствию – маске,
за которой ты прячешься,
«дочь дочери дочерей дочери»,
запечатав во рту число
своего имени солью
моего желания.
20-21/05/23
Бестиарий Алексея Парщикова. Пять нейроиллюстраций
 Собака
Собака«Ядовитей бурьяна ворочался мех,
брех ночных королей на морозе казался кирпичным,
и собачий чехол опускался на снег
в этом мире двоичном...»
– Алексей Парщиков, «Псы»
 Сом
Сом«Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну...»
– Алексей Парщиков, «Сом»
 Еж
Еж«Еж прошёл через сито – так разобщена
его множественная спина...»
– Алексей Парщиков, «Еж»
 Устрица
Устрица«Похожие на кованую бровь,
вы, устрицы, врождённой тьмой мне ближе
художников, что красят лыжи,
заваливаясь набекрень на тающей горе...»
– Алексей Парщиков, «Устрицы»
 Разрезанная корова
Разрезанная корова«Расшитая, рельефная, в шагу расклешенная корова,
разъятая на 12 частей,
Тебя купает формалин,
от вымени к зобу не пятится масляный шар...»
– Алексей Парщиков, «Корова»
Шедевры
1. Притворяясь Колетт Пеньо
Я приехала в чулках (твоих) и лежала на тебе раздетая, пока ты читал какую-то хуйню про электроовц. На одну страницу у тебя уходило восемнадцать ударов сердца. Мне хотелось ебаться, тебе – нет. Это преступление. Святая Тереза и её вязальщицы, рыхлые тучные цапельки и недостающие цифры, такие – четыре, шесть. С был третьего, ты пятого, В седьмого. Идеальная неделя. Тереза, Святая Тереза. Это мне снилось. А перед сном жгло сердечко от мыслей, что у Моцарта была сестра Мария Анна Моцарт, она тоже была генией. Несколько раз ты говорил, что я гений, тебе всегда нравились мои тексты, с этим я теперь живу, очень боюсь, что в конце концов окажется, что я не гений. Тогда всё это было зря. Ловкий сомнистый французский язык, после каждого урока я пишу на нём стихи. Я всегда выговариваю с упором, на французском так не надо, нужно еле-еле касаться языком зубов – петтинг рта. Мы проснулись и всё не заладилось, был уродский день, уродский рэп и сомнительные стихи с одним лишь просветом – я причащаюсь твоей спермой в туалете Клуба Клуб. Я глотаю. Кстати, когда я первый раз тебе сосала, я сказала, что не делаю этого, но потом множество раз делала, не знаю, в чём прикол. Олэн игнУт ан аламет вседле туалеты для мальчиков, туалеты для девочек – мочеиспускательная сегрегация. Сфера напевается поверх стука Мне жаль. Иногда я делаю вид, что тебя нет Болото ест само себя. Ты становишься женоподобным, как цыганская вода. Я плачу на могиле Вергилия и остаюсь там вся слезами
2. Прозаический отрывок, написанный мной без повода от усталости
Всё, что я пишу, антибиографично. Я делаю жизни одолжение, когда что-то из неё попадает в текст. Обычно я делаю вид, что её, жизни, нет. Думаю, если начать писать о себе, письмо обретёт почерк старика. Иногда мне становится очень сухо и я раскладываю вокруг мокрую одежду, чтобы она издавала влагу. Так я побеждаю сухость. Рукава тогда отрастают до пола, волочатся, намокают, становятся тяжелее – локти не поднять. Я не умру потому что я не хочу умирать
Я стремлюсь изобразить величие мира и надеваю шутовской колпак. Красота – это приступ смеха. Он предстаёт смущённому взору прохожих. Это нонконформизм, это порог смерти.
3. Лебеди в бурю
Брату и сестре
Нас иногда сближало только поддельное чувство безопасности внутри гнезда, сплетённого из ткани и пуха посреди гостиной на пробковом полу. Мы создавали его искуственно из геометрических фигур, разложенных на диване. Солнце уходило, вкруг дул ветер. Я вылетала из убежища, чтобы добыть нам еды. Подставиться под неправдивую бурю был самый жест любви, из всех, что я совершала. Вы верили, что мы крошечные лебедята? Вы видели в хлопьях зёрна? Вокруг погода стала совсем несносной?
Напишу, напишу тебе эссе по истории философии.
Вы и теперь птицы? Я не вижу стала совсем редка. Я вас люблю я ненавижу эти бесстыжие Люберцы и стены этого дома – такие складные, нет в них внутренней кособокости. Хмурое утро, гнусное, ненавистное Блики глазастой рыбины из аниме. Она кружит в пруду Я пишу этот текст в сливающейся ванне чтобы в конце остаться как рыбина без воды
4. Присутствия
Una mattina mi son svegliato Прощай, красавица! Давай посмотрим этот фильм ещё раз у неё любовник и тюрбан мадам де Бовуар не такая как все а по-моему она просто потаскуха Цветы-лежебоки сбрасывают лепестки, остаются семенами. Планетарный масштаб комнаты сбоку от КОМНАТЫ. Летающее животное – зубролёт – разговаривает, но я не слышу, потому что он говорит не для меня. Дни тоже стали коротки, сознание отковало себя от плоти деньги должны взрываться как гранаты я не хочу больше быть как буржуа Давай купим бутылку вина, зная, что одной не хватит и побежим в последний момент за новой
Я курю то, что ты держала своими пальцами, т.е. думаю о них примерно двадцать раз в день. Абсурдные образы никогда не символы, если носороги бегут по улице Малая Бронная значит они действительно просто по ней бегут. У меня никогда не было такой подруги как ты (хоть и туалет барки навсегда останется ТЕМ).
О, Боже дня! сохрани свет от сумерек, не дай счернеть небу. Но вот! Боже ночи! его сила железных оков и сила умалчивания – чёрный чёрный невыносимый мрак. Где твой язык? – встретимся в Париже через 10 лет
я тебя не люблю
я очень тебя люблю
5. Лицо русского аутизма
Пыльная комната с львиными головами мёртвая изнутри. Склоняет рот напольный глобус, разевают рты рыбки-рыбки, кричат на зеркало. Восхищение. Я ем лимонный пирог и устраиваю чайную церемонию. Я набираю ванну. Но первым делом, заправляю постель – сверху всё затягиваю простынёй; игрушки справа с морской тематикой – Жатва, Народ, Лимон.
Народный рот похож на пизду. Речь. Речь масштабирована. Речь отчуждена. Срез речи здесь: «ходила» дальше и больше, чем «шла». Разумеется я отличный водитель – человек дождя. Я – получеловек-полукаштан. Ты – полукаштан-полукаштан. Рядом с моим домом сквер с некрасивым лицом. Я сажусь на кровать – «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта, С.С. Прокофьев, тогда я познаю мир нижней половины. Я убираю комнату – Pas de duex «Танец феи Драже и принца Оршада» из балета «Щелкунчик», П.И. Чайковский, тогда я понимаю верх.
Белёсый мир с гигантскими неугасимыми изменениями. Гистология – наука о тканях, главное – вывернуть их наизнанку.
Критик в невесомости
Художественному критику сложно найти себе союзников: выбирать себе визави из разных веков, языков и традиций (Мэгги Нельсон называет это «многополые матери моего сердца», я выбираю в силу темперамента чуть кокетливое и отстраненное – «визави») считается хорошим тоном для художников, поэтов, в общем, разноплановых artists. Работа критика считается более строгой, отстраненной, якобы беспристрастной (в иной интерпретации: журналистской), а потому, хоть оспаривать гипотезы предшественников и перенимать при этом их методологии у нас принято, но о любви, вдохновении, рефлексии профессии, стилистике говорят редко. Разве что о долге арткритика перед сообществом. И долге академического искусствоведа перед наукой. Но я сейчас не об этом, а о языке: нашем инструменте и нашем проводнике, нашем ограничении и нашей головоломке. Что значит работать с искусством? По сути хорошая критическая работа – это создание конгениального референту произведения на другом языке. Последующий анализ и выводы стоят именно на этом фундаменте. Быть может именно описание памятника представляется самым сложным для критика – убедительное описание, мастерское, поэтическое. Поэтому несложно догадаться, что своими союзниками я всю профессиональную жизнь избирала поэтов и писателей.
Мысленно проводя кажется сотые дебаты по поводу судьбы музеологии (мои оппоненты: каталогизаторы и социологи), я даю слово свидетелю защиты – Виктору Кривулину. Он зачитывает свое стихотворение про Фрагонара: «…вырастает картина как мыльный пузырь…». Для поэта пространственное измерение, в котором находится картина – вернее репродукция из журнала «тайна изопродукции – жалость», которая висит на стене рабочего общежития – становится ключом к пониманию самого произведения. Его дефекты, выжженный колорит советской репродукции, потрепанные обои, клубы пара из душа, который создает влажные завитки по краям картинки, то, как произведение осваивает пространство и преображает его, как пространство же напротив разъедает и деформирует картину – их взаимовлияние и взаимпроникновение, все это становится методом познания. Как пространства так и искусства. Радикальный взгляд музеолога. «Пережитое сжато в нелепый комок / или тайна спасенья – телесна? оттого и не груб типографский намек / на блаженство постели воскресной».
Впрочем, Кривулин хоть и мастер пространственного освоения искусства и искусствоведческого освоения мира, но он не теоретик. Рефлексии по поводу экфрасиса, скользящего фланирования меж медиумов и подходов, у него нет. Идеальный пример такого поэта-теоретика – Алексей Парщиков. Его эссе «Топология переводчества. Где живет переводчик?» посвящено переводу в литературном контексте, но прозорливость автора и его точность позволяет осуществить безболезненный перенос на динамику критик/искусство, позволю себе процитировать значительный отрывок: «Есть в переводчестве и другое свойство, не оставляющее следов на бумаге. Это когда вы действительно хотите перевести и натыкаетесь на физиологическое отторжение, на невозможность адеквата. Обнаружение невозможности и является целью ваших медитаций, если хотите – противоцелью по отношению к задаче – перевести, чтобы кто-то другой прочитал, но это последнее условие не всегда важно. Тогда хочется удержать понимание текста на той стадии просыпающегося сознания, когда оно еще не чувствует обязательств перед формой. Такой перевод я называю carbon translation <…> Carbon – это термин химический, углерод, представляющий межъязыковую тьму, о которой мало что может сказать филолог, но в этом, естественном, по ассоциации, мандельштамовском грифеле, активен образный поток, не остановленный словом, не продолженный речью, голое струение воображения, чистый ответ переводчика-читателя на провокацию автора, а ведь в сознании автора была другая картина, другие звуки».
Ключевое тут – это перевод/интерпретация как работа с субстанцией, с изменяющимся веществом, которое сложно классифицировать в качестве жидкого/твердого/газообразного тела: образный поток тут и тьма, и струение, и грифель – но самое важное, что он находится между, неуловимый, скользящий, обволакивающий того, кто осмелится туда сунуться. Далее Парщиков вдруг уточняет, что только в этом состоянии мы можем обрести «полноценное чувство жизни» – только в неопределенном промежутке до-медиального и меж-языкового я могу почувствовать себя живой. Когда перевод обретает форму законченной интерпретации, он застывает и критик остывает. Это состояние не застывшего, но замедленного движения в первородном бульоне неустойчивости принципиально для Парщикова, к нему он возвращается, анализируя работы Сергея Шерстюка.
Но вначале синхроничность: прямо перед написанием этого текста, я работала над лекцией, важным элементом которой был анализ поэзии Софьи Сурковой. Поэтика Сурковой развивает ветвь Велимира Хлебникова, как справедливо заметила Оксана Васякина, а игровое, головокружительное, перетекающее, сюрреальное и неустойчивое начало тут не связано с инфантилизмом: мир Софьи величественен в своем размахе от древнейших первых живых (или даже до-живых) существ, до VR-миров будущего. Соединение архаичного и новейшего, уже-не и еще-не для Сурковой естественно, игра тут – способ существования, познания мира, который заведомо кажется нам нерасколдованным, ведь даже сама авторка тут не демиург, а субстанция перетекающая из одной ипостаси в другую. Ее пожирают слова, звуки, липкие субстанции языка, а потом вновь формируют уже в иного рассказчика с иным ртом, глазами, точкой и диапазоном зрения. Непостоянность и неустойчивость, цикл жизни поэтического языка, темпоральные створки и складки прошлого и будущего, VR-миры и рыцарские баллады позволяют говорить о том поиске, который проводит молодое поколение поэтов и поэтесс в современной России. Следуй за языком как за проводником и не бойся стать его частью, он создан из той же материи, что и все вокруг. Язык не как структура, а как существо или как Вещь, подобная всем фантастическим тварям на страницах «Лазури и злых духов». Эта оптика уже не связана с шоком от объектно-ориентированной онтологии Грэма Хармана (уплощение онтологии, попытки преодоления кантианской стены), тем более с шоком от сопоставления и постмодернистской отмены «низкого и высокого». Современная поэзия – это метаболическая поэзия, поэзия перетеканий, неустойчивости, неоконченных метаморфоз, где на подходе к законченному состоянию субъект поворачивает в сторону. Поэтому рыцарская баллада здесь уместно сосуществует с интерфейсом праздного путешествия по гиперссылкам и отсылает к VR-мирам, подобным тем, что выстроили на идущей сейчас выставке «Облачное хранение» Полина Абина и Алексей Себякин: «lles habt ihr gut gemacht / Und die liebe Sonne lacht (Вы всё сделали хорошо, и солнышко смеется)» (2023). Эта эстетика цифровой и природной неразделимости (в случае Сурковой двигателем и плавильным котлом является язык и речь, и в авторском прочтении стихи звучат очень органично).
Парщиков, говоря о «презентализме» или же «фотореализме, который сосредотачивает свое внимание не на объектах, а на ситуациях», вспоминает о техногенности взгляда такого художника и его связи с феноменологией: увидеть ситуацию как таковую, до ее психологичного восприятия, может только камера во вненаходимости, то есть подчеркнуто дегуманизированный взгляд, а состояние фиксируемого объекта для него сродни состоянию невесомости. Состояние невесомости в новейшем искусстве достигается с помощью VR-устройств – ход очевидный, но действенный. VR-может быть аттракционом, может быть той еще пыткой (например для меня с плохим зрением и вестибулярным аппаратом), а может быть средством достижения невиданного ощущения растворения в метаболическом пространстве. В VR все объекты зачастую кажутся сделанными из ртути, постоянно перетекающей и деформирующейся – оттого они кажутся жутковатыми, эти миры. У фотореалистов также периодически возникает подобный эффект однородности и подозрительной совместимости всего и вся внутри произведения. Все перетекает во все. Если для Парщикова и Эпштейна такой эффект достигается при помощи отстраненной объектной техники, то для современности привлекательнее взгляд со стороны множественного, неустойчивого субъекта, взгляд со стороны Мира, который не объект, а субъект, где этой субъектностью наделяется даже сами язык и речь. Без-чувственность заменяется сверх-чувствительностью, гипервосприимчивостью, сенсорная депривация невесомости и свободный полет замещается плаванием в первородном бульоне и растворением в нем. Это явное изменение, но общий нерв этого плавания-парения в пространстве между замкнутыми и законченными объектами/понятиями удивительно точно выхвачен Парщиковым. «Герой или предмет в подвешенном состоянии наполняются гиперобъективностью. Мгновенность напоминает о фотогеничности мира, о его первичном и объективном присутствии. Такая мера реальности была близка мне…»
И тем удивительнее, что для Парщикова это состояние – естественное состояние переводчика. Переводчика, а значит и критика, интерпретатора, аналитика и художника в том числе. Парщиков, наверное, самый милосердный поэт в этом смысле – он не оставляет интерпретатора одиноким, делает его со-причастным этому состоянию метагравитации. В самом конце эссе поэт ультимативно заявляет, что гипертекст – это тело. Кажется, это можно понять так: все, о чем ты пишешь, должно восприниматься тобой как как продолжение тебя, как то, на чем находятся твои рецепторы и болевые точки.
Хендрик Джексон. На первом этаже войны вещей (перевод с немецкого Дмитрия Драгилёва)
КНЯЗЬ АРХАНГЕЛЬСК
теперь уже так далеки слава, столетие. обломок низложенный
снежинками украшены брови, едва ли кого-то увидишь.
лари с добром там внизу, хорошо упакованы
в синюю креповую бумагу, Варзина
морзянку шлет князю Архангельску, полозья режут его страну
равнину. Ченслер, Ченслер. 1000 километров
ехал на встречу с царем. соляные
скульптуры, раскроенный череп
мамонта. жесть, гигантские шины, колют вожди повстанцев
желтеющие ледовые комья, друг к другу примерзшие
погадки слёз, белые плиты осколочные, глыбы
и ветви в инее хлопяном
в неизвестности синих небес начертаны черные электросхемы.
своих предков чествует белый князь. на проспектах
платиновые штриховки, фасады-органы, в высь
вмерзшие ручьи и история
***
медведь напился, и дом напился, а я икну:
не пил! это не я! Правит не-я, белые дали
Север, утром – Архангельск. в огромном
городе утонув
я просыпаюсь, втроем, ты и справа от нас
незнакомая краля
проворна была она, льдинорождённая, вялые
в отличие от нее
санки, воскресные… дети обрейгеленные, отголоски
их шерстяных
призывов в бескрайнем, гладком футляре. На приколе
траулеров ржавьё
и один и тот же мотив. солярка, базальта мерцание,
дома цвета морской волны в
крутящихся календарных валиках, окукливающихся вокруг.
ты хотел погасить
северное сияние в соцсетях. паровоз жалуется на эпоху.
некий Гектор
выкрикивает душу из тела, утешая роту дворовых
и нездоровых псин –
всегда наверх указывает социалистический лучевой
вектор.
какой-то час раскалённый, или скулёжный,
растрёпанный, вырванный.
еще раз приблизься, нагая, не призраки мы,
но с тобой здесь одно.
тебе приписываю голоса, в абсолют вмерзаю,
никак не вынырну
и просыпаюсь от холода, который струится
через окно
ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРИПТИХ
I. Обезьянка
По Дурсу Грюнбайну, мажорному зеленоногу
мартышке на выставочном плакате
в волгоградском торговом центре:
такие дешевые кандалы бывают только на шеях
бульдогов
в предместьях, такое фальшивое серебро
не встретишь в местных витринах.
истерзанная мартышка как на средневековой
ярмарке (ободрана шерсть,
слабые лапки) к этим красным глазам сам
Брейгель не смог бы
удачнее примешать страдание всякой твари.
истерически бушует поблизости
игровая площадка, где неуклюже и грустно
топчется ряженый «кенгуру».
мартышка взор потупляет среди всего этого
светового буйства, пленница фотоснимка
вздыхая, роняет ядро кандальное до самого дна
сквозь пристрелянные этажи
II. Черепахи
После глотка глинтвейна особенно одиноко
броненосцам и их эскадрам на первом этаже
войны вещей:
взгорбленные шлемы рогатые сложены
неуклюже, брюхо к брюху
так теплее в свете кутузки, их кожа ползет
негибко, шеи вверх косо
словно там воздух менее плотный, и прохожие –
черные круглые ядра –
тащат себя мимо, готовые стать фотоснимками
для глаз холодных и мертвых
комендатура сопротивляется, орешки крепкие,
желто-серая мозаика
химическая чистка Немецкая жирно подмигивает,
падают капли, вода
придает пресным геронтократическим
движениям флёр элегантности
а тот – молодит многолетнее ожидание, с мягким
прищуром глаз
III. Нога
В минорном ладу, в черно-белом и от ноги исходящем,
от некой детали
пальцам, жирным и голым, пористым,
изрешеченным, сцепленным прочно с камнем:
тени как вороны селятся вдоль безбрежной руки,
пока комары ночные как искры
опадают к долине, где дальние силуэты домов –
ангелов изваяния –
в длинном ряду стоят, бумажно-угольные в сумерках
декабря. пурпурно сверкает
ротонда, украдкой вползает в пейзаж златой куполок
с правого края.
все эти цепи-столбы-колонны мерцают бездомно.
меч и радиовышка
шлют красные сигналы трубам, башням –
nemtsy! лоция в никуда, нога
не заметит, как один матрос, мрачно сердце его,
тяжелую цепь мартышкину
так подбросит, чтобы этот ночной комок из тросов
прикрыл соски
Эффект Кулешова
СЕМЬ ВЫМИРАНИЙ ПЛЮС ОДНО РОЖДЕНИЕ
пепельный рис
вулканические волчата с крыльями которых миновала пыль
медведки и постельные клопы
когда ещё не придуман денотат
(медведи, постели, кто
ел из моей тарелки?)
дурной щенок откусил ногу,
так что теперь есть только
пелопоннесские острова
и перешейки
необходима новая география
где птичий помёт не образует снежные шапки
континенты лежат, они наелись забродивших ягод и яблонь
но они не умерли, бесполезно тормошить их
надо взрасти судорожной крапивницей
воздух скатывается на одежде
через взвесь
пробираться не глазами,
запахами – и стрекозы
отращивают усы
гендерно-аффирмативная мера
ранних вёсен
и этот лёгкий платок
бритых голов –
не хватает отклонения гладкости,
инклюзии черепных восторгов,
неожиданностей, виража
лобной кости. да как же
разбудить эту интонацию?
сказки дочерям на ночь,
объявления на обесточенных пляжах –
везде точки: азбука морзе или радиация
кошачих лапок?
и, наверное, каждая электроовца
мечтает, заглянув в остановившийся глаз
очередного пятипалого бежевого тела,
понять, что ей говорит
конкретно это
предзнаменование,
о чём стоит беспокоиться,
если их находят у рубки стеклоочистителя
и никогда – в сарае
не о чем: нет хрупче того абсолюта,
что закипает в супе; об этом скажет
любой, кто выходил из школьной столовой,
пропахший и обновлённый, как после
крещения. просто теперь на дне
нет паравозика. даже выесть всё
ради матери – обнажатся зубы
ящерок-альпинистов с загаром у глаз.
между клыками строгие юбки-карандаши
и прокладки. долгое разложение
опорочило женское лицо революции.
но есть и плюс:
кухни друзей, с которых, казалось бы,
больше не вытирать вина, выносятся газом
в полости от кастрюль. искажённый металл
тянет меня да тебя в разные стороны.
а крышка подскакивает, мешает ответить другим,
как так получилось. пока джинсовая ткань
стягивает реки. эстуари не научились разнашивать
неизвестные формы.
ВЕСЕННИЙ РЕМОНТ
В.К.
Заплатка из краски на стену, где раньше кто-то любил,
кто-то торопливо желал кончины коммивояжеру стали
талого снега, агрегатно-водяной рынка руки;
вылизывая себя, он находит в боках соли и сахары.
Вопреки плоскостям векторов молекулярных редутов
корабль готов на опись скуки и грусти: шипучий
шотландец отхаркивается, застревает в мехах.
Заводит волынку, и в носовой платок хартия
сворачивается сама.
Свет за окном засыхает, как выключатель. Экономия
пятен в полу – что платить по счетам
не придётся, чует цветок худосочный плечами
вазы. Затем снятие (марксисты забрали и это слово!)
солнцезащитных стёкол со стен, открытые
родинки подъездных дверей беззащитны
перед новым бытом. Запах краски проходит
через триумфальную арку бровей,
вызываючи слёзы ледовых скелетов карнизов.
И косые пролёты – застёгнутое пальто,
где пуговицы внизу, как всегда, на одну больше,
неодобрительно чувствуют, что пищевод
начинает бравую жизнь в синей и чёрной роще.
Кто-то спиздил его! Это
море луны, видное одной стороны подзорки.
Насквозь просматриваются жабы: выжившие,
потерявшие намерение. Маслобойки молят тепло
в бочонки, но центр тяжести опрокидывает их
в отражение зависшего шага. Завершится ли –
но помочь он, (к ыс)тинной сзыве кошек –
это не сдюжит. Треножник сонавтов
простыню, скомканную в ногах порожка,
утюжит.
САЛЛИ ГАРДНЕР В ГАЛОПЕ
Сплю на двух ногах, как лошадь
вставшая на дыбы и зависшая так:
без задних ног фехтует беспокойными
ресницами с мошкарой сенного промысла:
соринки в тяжёлом тёплом дыхании.
Сплю и вижу: вязнет в детском бассейне,
бок буксует у надутого берега,
и между губ шипучка слюны и воздуха:
пена не рассосалась. Вижу и чувствую
подступившей изжогой, надо и с ней тонуть,
чтобы суметь проснуться.
Упавшей диафрагмой не отдышаться
икает и выплёвывает по косточке от каркаса
мыльных пузыриков просторный зверь.
Неявные тени театра в крупе, на свалявшихся
водах она рыб-удильшик, перевёрнутая
пожарка-заводное колёсико.
Как такое мог упустить аниматор,
взвесивший грубые шерсти, просунув
браслет через копыто? Доказать
ничтожность галопа в воде:
видите, тут касается, тут и
этак. Да она рада бы не касаться:
но спит, умирает, оставлена без задних ног,
а мне ещё и смотреть на это.
КАРАВАЙ
Птица, начинённая капустой,
как стебль мясистый, росла
для себя незаметно заканчивалась
тестом и начиналась другим:
осиный разворот в сторону света.
Перед глазами нитевидные черви,
поэтому она всегда летает
с открытым ртом: аденоиды медовых полей.
Её будит голод, а ожерелье-жалюзи
украшает посмертно.
Оставшись в XIX веке, она боится фонарей,
ищет звёзды в городе. На чайной жерди она
молодится, кажась птенцом
из пассажей Бодлера: но
умирать и расти ей
в горшках и садах полимеров.
Рассада скворечников тянется
вдоль поясов прибрежной
земли безмятежного млечного
пляжа, где вместо буйков рыб
толкает планета-хурма, и гелий,
касаясь десны, света варежки
вяжет. Коробка от обуви в рост,
задевая чердак щиколоток в пыли,
полный встаёт, кубической тере
дупло – закруглённая притолока,
и сёдла прокинутых стульев
однотонный билборд,
и сипло в них буквы
кустарные птицею выколоты.
ТРИ ЗАРИСОВКИ СТРАННОГО ДНЯ
1. Перемена перспективы
Неловко уединённую женщину,
каплящую губами и носом,
убирать к другим –
космонавты, птицы, несравнимо маленькие
в жужжащих цветах, стул, который пододвигается
под блик, вышедший вон.
Я всегда думала, что ферганская школа – фрегаты,
тихонько двигающиеся в песке (mind their own business).
Да и если смотреть по-семитски - ферг и фрег -
Не всё ли равно? Как у проездного оторвать
виды транспорта – всё, кроме рогов,
протянутых стрелками к порам кожи Урана.
Да как же тут оглянуться, когда любопытные лица богов
высматривают нас на открытках? Сморкаемся,
чтобы замылить лицо, а хоть бы что –
среди несоразмерных тем цветов птицееды,
клювы стучатся в скафандрах.
Мы выбираемы, выжеребьены,
как на слепую.
2. Это было уже слишком давно
Желёзный лёд – это когда снег уже потерял всё, что мог,
и остаётся упаковка из алюминия, охраняющая
сердце моё, глаза мои, от уязвимого шага в соединении плиток.
Даже огромными подошвами на ботинках не придавлю воздух
в поддённом горле, из песни слов не выкинешь – не очень-то и хотелось,
но на самом деле не получится, слишком уж мотив
неприятен, как забытый фильм, снятый во сне с показа.
Репейник, налипший на спину овечьим языком – что-то есть,
но уже отрастает затылок.
3. Авария
Вершына – это ничего себе какой стих!
Случится затормозить машине,
каждый камешек пройдёт
через колени. Нетвёрдая,
нетвёрдая уверенность в пузырях,
совершаемых трубочкой. Они не сдуваются
на трубе, разделённой блоками –
хорошо, очень славно, топко в каждой ноздре,
вместе – терпимо, пока в нос не наносится ударом
рулевая подушка.
КВАДРАТ
Человек кусает собаку
Двунаправленный зуб его – бахрома на заетом флагштоке. Есть что-то неправильное в щелях на боку, в горечи шерсти, побывавшей снаружи пломбы. Вообще животная нагота – на ней не было обуви от едкой земли – неестественна. И то, что она не защищалась, а просто ожидала место в предложении, как очереди за речью. Спала ли она? Просит ли есть живот, переваренный внутри другого? Теперь она жалобно оттаскивает себя за падеж – иностранный хвост, агенс дворняжьего поля. Лоснится волос по кругам на полях телесного склона, но её голове не до смеху.
Человек никогда так не делал, но и теперь все обвиняют несчастный объект действия прямого, как тетива – хотя он и подирался сзади, подлая траектория, которой не отследить ни боковыми ушами, ни лобовой корой.
Собака кусает человека
Ну, теперь всё по правилам, и пущенный камень по эллипсу возвращается, тыкается в плюш намокший, и растаскиваются клыки по всему телу защитной одежды.
Если женщина вернётся с машиной времени, то приложит фотографию к старому лицу, сопоставляя, а мужчина, пойдя к собаке, вставит свои челюсти в её: что тогда делать? Обойти все инстанции: горные вершины с горьким концом, снегопад лаев, щенячьи брызги, оставшиеся по одной стороне лужи. Из-за игорных домов она глотает кости,
если не досчитались чипсин окон. Укуси его, только не смотри, как переплелись деревья в остатках твоей слюны.
Никто не кусается
Даже стрелки в часах прикрывают рты, чтобы прошелестеть кожей, как близкие в туннеле вагоны. Либо зашивается уже проглоченное тело, как румяное яблоко, и переживается неразмолотым. На пробу не взять ветер, пока он прилипает к указательному кольцу, не привить от бешенства сажени коренных затвердевших барашков. Неужели всё это время в деснах были они? Ещё бы, а почему же мы тогда не кусаемся: в тихий час агнцу и волку отведены разные кроватки.
Все кусаются / Собака и человек кусают друг друга
Блестящие мальчики неспешно просачиваются сквозь камни к воде, минуя и падая в воздушные сгустки промахов инженера по гальке: засмотрелся на галок, пустил мягким знаком воронку от дальнего произношения сонорных частиц. Там это и завязалось: одышка волн (у них-то сколько подбородков?), сладкая пена – газированные листья морской капусты. И у качающейся постели чужого нездоровья грязно вертелась драка. Пёсье тело, мохнатый спасательный круг, отнекивал от падения.
К 120-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО
Вот бы охуел Заболоцкий:
садится и едет на минское море,
и воскрешает каждого князя и княжьего сына.
Дарит им стрекозное зрение и предел хитиновых мышц,
даёт шлемы от излинявшего глаза.
Объезжена литовская мышь,
сырные латы заточены, кайзер
располагает ловушки, как зайдёшь по грудь и не выйдешь –
слишком тепло, к тому же кто только не писал об этих местах.
Заправляет тьму в простыню мха, и выходит такая ночь,
что светится даже днём. Балюстрада ботинок на коврике нёбном –
между силуэты, дельфинчатый треск изморози. И хоть каждый
мураш по-кальвински заговорит,
муралы заварятся в стенах крепко – цикорий гранёного ордена.
Там долго будет княжить булка, подсохшая справа (зубастый стигмат),
мурава спрячет мощи её. Целовать будут только ищейки-ящерки
да дети, что пока твёрдо не ходят. А Заболоцкий выходит и спрашивает,
чего ревём, очки, повидавшие бой с клопами за честь кленовой рощи,
и я, не повидавшая ничего, кроме старого чугунка, плачу ему в ладони.
Алексей Парщиков: русское, русскоязычное, транснациональное
Второй номер журнала «Ab Imperio» за 2022 год предлагает читателю статью «От русской литературы к русскоязычной литературе империи». Исследовательница Юлия Ильчук настаивает, что вместо понятия русской литературы, ключевой для разговора о литературном каноне XIX века, необходимо использовать термин «русскоязычная литература». Именно он, по Ильчук, позволяет выработать более нюансированное отношение к языку, на котором писались художественные тексты и пространству, в котором они писались. Кажется, тезис о том, что не только (и не сколько) язык составляет идентичность поэта (поэтессы) и писателя (писательницы), сам по себе не нов. Однако, как мне кажется, термин русскоязычной литературы должен быть использован не только при пересмотре великого литературного канона, но и при обзоре текстов, созданных гораздо позднее. В том числе это относится к истории позднесоветской поэзии, в частности, истории метареализма.
Кажется, что «создание» метареализма как объединения и школы – во многом заслуга литературного центра русскоязычной словесности. Действительно, именно, с одной стороны, государственные институции (Литературный институт), с другой стороны, его кадры (Константин Кедров), позволили метареализму говорить о себе. К тому же – московский критик Михаил Эпштейн и ленинградский самиздат, позволивший сформулировать теоретические установки, без которых сейчас едва ли обходится хотя бы одна работа об авторах метареализма (а разговор об авторах, в свою очередь, не обходится без имени Алексея Парщикова). И, вероятно, в том числе слепота, вызванная институциональным главенством Москвы и Ленинграда, позволила упустить из виду тот факт, что из четырёх основных имён метареализма два поэта – украинцы, ещё два – из Алтайского края. Упустить тот факт, насколько важной была не только Москва, но и Киев, для встреч поэтов и художников [1]. И мне становится сложно думать о том, где искать подтверждения иных граней непростой, транскультурной идентичности поэтов: во влиянии украинского барокко, то есть в корнях поэтики? В обронённых внутри поэтического текста топонимах, то есть как бы в обстоятельствах места? Как восстановить забытый культурный контекст, не делая его однородным?
Когда я была в десятом классе и занималась литературой на дополнительных курсах для подготовки к олимпиаде, нам рассказывали о метареализме как об ещё одной стадии развития русской словесности. Очень долгое время в моём сознании метареализм был апроприирован не только русским языком, но и географическими границами, фигурами русской литературной генеалогии. И, кажется, разговор внутри поэтики не может звучать убедительно, пока он остаётся равнодушен к соотношению места, времени и самоощущения. Русскоязычная литература растёт в том числе из проблематичных отношений между центром и периферией, и, выбирая ассимиляцию, отторжение или неустойчивое положение «между», поэт всё ещё не становится нейтральным художником, трансформирующим язык. Соответственно, исследовательская и критическая задача – не думать о себе как о нейтральных исследователях замкнутых текстов.
Сборник «Фигуры интуиции»
В связи с этим особый интерес представляет последний крупный сборник научных работ о поэтике Парщикова – «Фигуры интуиции: поэтика Алексея Парщикова» (М.: Эдитус, 2022., сост. и ред. А.Е. Масалов). Кажется, несмотря на традиционную композицию сборника статей (два раздела – общепоэтический и непосредственно филологический, предлагающие различные методы анализа уже изученных или, напротив, слабо прочитанных текстов; статья об особенностях перевода на немецкий язык; статьи, представляющие различные точки зрения, обусловленные разным философским багажом авторов), сборнику удалось достичь главного – он осведомлён о собственной неоднородности. Как пишет Алексей Масалов в предваряющей заметке «От составителя», важным преимуществом сборника является представленность в нём авторов и авторок, принадлежащих к разным поколениям, школам мысли, философским традициям.
Именно поэтому можно сказать, что «Фигуры интуиции» – это сборник, в котором сходится интуитивное разнообразие подходов, которые необязательно должны совпадать друг с другом. Однако я думаю, что самые удачные места в сборнике – узлы связи между различными авторами, создающие непреднамеренные философские и филологические линии преемственности. Это, к примеру, полезные каждому будущему исследователю заметки Андрея Левкина – и точное лоцирование стихотворений Парщикова между категориями неофициальной и новейшей поэзии у Анны Родионовой. Философское исследование категорий «силы» и «слабости» Андрея Таврова – и их теоретизирование у Елены Зейферт.
Отдельно отмечу ту семантическую разницу, которая возникает у авторов в попытках определить метаболу (метаметафору) и её функционал у Парщикова. Так, Илья Кутик замечает, что она, в отличие от метафоры шестидесятников, может быть применима не только к техническому изобретению, но и к органическому предмету его воздействия – ёж становится и бритвой, и щетиной. Данила Давыдов демонстрирует взаимозаменяемость экфрасиса и метаболы, которые подкрепляют друг друга, и тогда денотат (объект экфрасиса), расплываясь, не теряет свой смысл, а, напротив, только больше укрепляется в художественной реальности.
Интересны и рецепции Парщикова через философскую призму, идущие двумя путями – прочтения через классических философов, к которым проявлял интерес сам Парщиков (это демонстрирует Евгения Воробьёва (Вежлян) на материале философии Лейбница), и через постклассические доктрины, которые становятся приметами времени и позволяют решать проблемы тематических и категориальных лакун – денежных, политических, государственных, идеологических. Однако логика самого сборника заявляет о продуктивной бесконечности такого процесса; он, скорее, представляет заготовки узлов для последующих академических и творческих связей, которые могут быть замечены и преобразованы авторами и авторками нового поколения, ещё не получившего научных степеней или авторского признания, но уже обладающего поэтическим любопытством, благодаря которому и возникло, сложившись, многогранное поэтическое наследие Алексея Парщикова
[1] Об этом можно прочитать в мемуарах Рафаэля Левчина
Уязвимость связи: о посмертной книге Александра Петрушкина «Слепые пятна»
Текст о 70-страничном сборнике (целиком можно прочесть здесь) разбит на небольшие фигуры, которые выделены мной при чтении. Так книга приобретает характер рассыпавшегося и заново склеенного словаря, но между словарём и книгой возникает такая белая пропасть, что её могут ветвисто заполнить какие угодно другие фигуры.
Не все из них имеют потенциал для развертывания, некоторые способны к тавтологизации, но это то проективное пространство, которое проницает и нарушает однородность и чтения, и письма.
ОТЛИЧИЯ
Рекаталогизация
слепые пятна
ЛАПИДАРНОСТЬ
ландшафт
(ПУСТОТЫ)
АТТРАКТОРЫ
ГОВОРЯЩИЕ
ОТКРОВЕНИЕ
операторы операторы-2
нехватка
Гибриды
Звуки
ГРАММАТИКА
ВЛАСТЬ
слои
взгляд
Поверхности
скобки
видение
запаздывание
возвращая
ЦЕНТР
поворот
Процесс
Начертания
КОАН
прорастают
топология
тьма
сон
Логика
мета
приостановки свет
НАКАПЛИВАНИЕ
происхождение
ДВАЖДЫ КНИГА
Призор
ОТЛИЧИЯ
Петрушкин – наследник уральской традиции метареализма с его тяжеловесными метафорами, где создаются объекты, обретшие новые свойства.
«И в глазах прорастут пятаки» (Андрей
Санников).
«а не дотронешься, и отраженье намокло»
(Евгений Туренко).
«за окнами воздух стоит удивленный»
(Виталий Кальпиди).
«Кошмар подымался на пятый этаж. / Ступал,
как по рёбрам, к тебе – без промашки» (Юрий Казарин).
Но он наследник, переписавший права: каждого, кого цитировал, цитировал прямо, элементы поэтики заимствовал грубо, открыто. Так он усиливает рябь отличия: ты слишком близко мне, поэтому ты другой.
Что происходит с предметами, если их извлекают из привычного контекста, ставя в подобную, но производную среду? Свойства не проявляются в должной мере, объекты недоделаны, «неполноценны». Так получаются не застывшие образы, воплощение которых можно отследить, а существующие в преломляющемся движении, они еще не имеют устойчивых форм и не будут.
РЕКАТАЛОГИЗАЦИЯ
Поэтика Петрушкина основывается на перевзвешивании поэтических элементов – мы берем узнаваемые элементы стиля, ту тяжесть, из которых она состоит, даже места пустот и сильных соотношений – и переносим в иную структуру, точнее – в пространство, позволяющее реализовывать иную наполненность.
СЛЕПЫЕ ПЯТНА
До этой книги происходило то, что выше по тексту – чаще всего в рамках силлабо-тонической поэзии. В посмертном сборнике цитаты, заимствования, связные предложения, рифмы, полнота квадратного пространства – всё выброшено. Остались прорехи и самые стойкие формы слов, связей.
Чтобы оставить, понадобились («асфиксия озарения»): недоверие к высказыванию, его полноте, сочетающееся с заботой о каждом слове и знаке, экономность, преломление времени, воплощение и развоплощение, линейное и нелинейное, свойства и формы к ним, прочее.
ЛАПИДАРНОСТЬ
Это шаткая <…>: образы станут увесистыми, даже без видимых опор между ними.
«[промежуток между промежутков / = вещь]»
ЛАНДШАФТ
«Слепые пятна» близки Айги с его текстами, расположенными, как части пейзажа, на белом ландшафте. Но пространство Айги раскинуто вширь по семантическому горизонту, так, что дальние точки неотличимы от ближних – дистанция между ними схлопнута. У Петрушкина белое – вертикальное: оно уводит к Абсолюту через всевозможные типы зияний. Белизна нужна, чтобы обозначить глубину провалов между соседними элементами.
ПУСТОТЫ
Петрушкинские <…> и провалы обозначают возможность доступа «в сокровенное» – соответствие межмирных <…>, позволяющих перемещаться из реальности в трансцендентное. Тесная разобщённость: <…> интимны, хрупки.
И лопасти [вырезают / творение слепыми пятнами].
АТТРАКТОРЫ
Петрушкин, перенаправив потоки семантических и прочих энергий, создал новую эргономику: всеобъемлющая компактность, состоящая из скрытых и явленных элементов, – где обе стороны равновесны.
«<…> это наименьшее множество, к которому всё стремится» – иными словами, выкидывая из фазового пространства всё, что может быть выкинуто».
***
стал самым простым числом
смотрю через смерть
в свою беспредельную жизнь
которой играет котенок
ГОВОРЯЩИЕ
Нет наблюдателя или субъекта, производящего речь. Он рассеян: рассеян не только в смысле среди других элементов, но и изнутри: это неплотно удерживающиеся рядом друг с другом сегменты речи, отделенные от носителя, оказавшиеся в разреженном текстовом пространстве, которое наполняется благодаря разнонаправленности зарядов этой разреженности. И сегменты речи обращены и друг к другу, и вне, и к видимым пустотам текста.
***
книги дикобраз
топорщит иглы страниц
под ладонями букв
отходишь
смотришь
как ровно дышит
[теперь]
тобой
Слова функциональны – они обостряют просветы между друг другом (это подлинная материальность) и загораживают место за собой, место сквозь себя.
ОТКРОВЕНИЕ
***
свет веток контур снега
кто идет
меж контуром и светом
чьи следы – нет
[не паденье]
восхожденье над собою
Не предъявление субъекта, а движение к нему, так совершается не подмена – но «…» (хотя его не совершить): искание открывает место для божественного, а движущийся утрачивает прежнего себя.
ОПЕРАТОРЫ
Квадратные скобки, нижние подчёркивания (подчёркивающие пробелы), это <…>, регулирующие скорость подхода к пустотам, остроту взгляда, знаки удержания на краю слов.
С другой стороны, квадратные скобки могут выглядеть и знаками овнутрения речи: но в этой книге Петрушкина и так все слова уже погружены в пространство пустот, это речь второго порядка, опять производная.
«[пауза слова в прямой речи]»
ОПЕРАТОРЫ-2
***
кожура [тоньше
взгляда] скальпелем надрезаю
ждет когда раскроется душа
Еще один имманентный <…> движения: перенос строки – переступание. Разделение на разные строки «тоньше» и «взгляда» обостряет хрупкость синтаксической связи, показывает, как слово «отвлекается» от возможности видимой коммуникации с другим словом – направляя свою энергию связи в соседнее – интенсивно пустое место.
Замирание:
уязвимость связи.
НЕХВАТКА
Речь здесь – не <…>, а не не избыток, как в большинстве других книг Петрушкина. Это нарастающая достаточность, саморегулирующаяся мера, или камертон?
ГИБРИДЫ
***
весело
качается
медуза
лодки
души
выдувая
воды себе
из легких
весел
Соединение слов, отсылающих к объектам и явлениям разной степени материальности, порождает поэтические образы особой плотности, с иными свойствами: это тончайшие <…>, где медузы-лодки-души – расслаиваются и соединяются в тающее смысловое напластование, но успевшее породить новые свойства (ненадолго): этот троичный объект дует воду с помощью «легких вёсел», являющихся здесь не приспособлениями, а органами (органоидами). А одухотворена внутренняя метаморфоза в стихотворении фонетическим, звуковой первоосновой языка – ре-формирование.
ЗВУКИ
Фонетика обнаруживает желания/свойства явлений:
«дожди [и их/ двойную жажду]».
Возвращая вещам присутствие первоистока (а у дождя – это «даждь» – давать), он наделяет их ранее утраченной силой. И дождь становится плодоносным для других, отнимая у самого себя интенсивность свойства.
ГРАММАТИКА
***
диктант воды
пространству
скоро начнется
с тишины лицо
<…> больше
чем коммуникация – возможность открыться другому.
Она отлична от человеческой <…> отношений.
Вода обучает пространство многому – огромный свёрнутый ряд: отражать, поглощать, погружать, пропускать свет, быть мокрой… Скоро оно начнёт перенимать свойства, только обучающийся слышит в диктанте иное, иную <…>. Потому и начинается с тишины и лица, когда диктовка остановилась.
ВЛАСТЬ
Вода наказующа/милостива, видевшая облик Бога, учит другие лица (вдруг совпадут), наследует от него <…>, <…> как отражение. Пространство вне воды, изменяющейся как таковой, не способно к такой изменчивости – поэтому оно никогда не закончит обучение.
Как человек никогда не сможет соответствовать своей лучшей фотографии с выпускного.
***
всё что ты видел и слышал
[Господь]
озадачен своим отраженьем
Здесь соположение пониманий: «ты» понимает нечто иное, чем его мерцающий адресат (адресат ли – Бог), который…
СЛОИ
Различные <…> бытия отражают друг друга:
исчезающая точка
больше того в чём она
исчезает
Предмет не пропадает в <…>, а усиливает видимость – даже неузнанность. Но саморазрешающийся коллапс. Исчезновение оставляет прорези, остаточную мысль.
ВЗГЛЯД
Нет единой точки зрения: переключение планов, предметы обретают новую материальность, кто-то их утрачивает, зато обретает возможность быть увиденным иначе. Но носитель этого взгляда не всегда есть, может быть и взгляд как таковой – как длительность и направление.
Если субъект, он испещрен зрением: он видит и собственную способность, и себя видит иным, и другого, и может ощущать своё видение как другой (сходно с перспективизмом у де Кастру).
«первый порез на сетчатке глаза»
ПОВЕРХНОСТИ
На одних <…> проявляются другие <…>: гравюра ладони.
Возникающие объекты не имеют чётких границ, проницаемы: гравюра ладони позволяет по-новому разглядывать линии, даже занозы – они возвращают себе визуальное значение.
РИФМА СКОБКИ
всё
{что рифмуется}
есть
Текст задает простор<>пространства – тотальность – и то, как оно сворачивается в себя, открывая иную перспективу – но оптику.
<…> здесь – инструмент перехода к трансцендентному через операцию внутри фигурных <…> (обозначающих множества, объединяющие или разделяющие системы уровней).
<…> используются/действуют «перпендикулярно» своему математическому значению: они задают не множество, а то, что располагается между множеством объектов, пытающихся преодолеть уровни (срастись в тотальность), и их единственной возможной функцией: существовать.
Таким образом, <…>ование оказывается бесконечным множеством возможных операций, которые происходят, прежде чем всеобъемлющее сможет стать всем, определившись с тем, как оно будет существовать в «вообще».
ВИДЕНИЕ
***
через осоку
смотрит Бог в тебя
прикрыв свои ресницы
утром новым
Так как божественное в христианской системе координат является вместилищем бытия, то можно (ли) увидеть, как сквозь него проступают другие уровни. Бог, выступая из всеобъемлющего, проявляется через взгляд – удивительный тип движения, не требующий перемещения объектов; он достигает другого через его-другого видение: в момент этой увиденности увиденный и смотрящий совпадают; прикрывает ресницы некто, принявший часть божественного, – и продолжение взгляда (точнее взгляда сквозь прикрытость) позволяет видеть уже не материальное – а темпоральное как таковое – время суток, изменение времени.
ЗАПАЗДЫВАНИЕ
Слова стихотворения <…>ют относительно его цельного смысла – собирающегося после прочтения в облако воспоминания. И реализовано это не как концептуальная предустановка, а через грамматические, темпоральные, графические и эквиваленты наличия (но мерцания) трансцендентного.
***
пишешь
[еще]
письмо Богу
а Он
[уже]
все получил
и ответил
ВОЗВРАЩАЯ
порезались о бегущую линию настоящего
[которого в общем-то нет]
Рефункционализация вводного слова «в общем»: оно уходит от вторичного фразеологического значения, <…> себе первоначальный смысл, указывая на всеобъемлющее.
ЦЕНТР ВРЕМЯ
Ресегментация <…>: помещение в >…< стихотворения явления (воронки), приостанавливающей движение/возникновение прямых метафорических и/или фразеологических смыслообразований.
От этого стихотворение обретает >…< – косвенное >…< – оно начинается возможностью, добирается до собственного <…>, который оказывается разомкнутым, нестационарным, зависает в нём и дальше даёт довершиться стихотворению сегментом, отсылающим к начальному.
ПОВОРОТ
Но это не начало/центр/конец – это инициирующее, концентрирующее и приникающее к нему с обратной стороны: то есть если рассматривать стихотворения Петрушкина из этой книги как схематический объект: его слова нужно повернуть на 90 градусов влево.
Иногда это реализовано в рамках одной строки: «мир провал в сердце».
ПРОЦЕСС
другое дерево смотрит с берега
себя опознавая листопадом
НАЧЕРТАНИЯ
Маркеры укрупнения, приближения, изменения степени вещественности слова. Материально так оно и есть: жирный шрифт тяжелее и больше занимает места в пространстве, чем без дополнительного начертания. Он имеет другую вещественность.
КОАН
<…> предполагает преодоление двоичной логики, вообще логики, завязанной на рациональном: поэтому вопросы и ответы (вместо них здесь выступают сегменты стихотворения – слова и их связи) асимметричны.
Из авторской аннотации к книге:
«Стихотворения, вошедшие в данный сборник, можно было обозначить как русские коаны, темы для всматривания в то, что лежит (или может располагаться за видимой нам реальностью)».
ПРОРАСТАЮТ
Объекты <…> друг сквозь друга: сажающий дерево становится деревом и далее в крылья бабочки.
Разреженное пространство – точнее пространство, откуда можно силой напряжения этой разреженности перейти во всеобъемлющее – где слов не будет совсем – только чистые энергии и направленности – как квантовые флуктуации.
ТОПОЛОГИЯ
***
сплетаясь в узел
мир станет глазом
кто гордиев его
раздвинет свет
Тексты Петрушкина в «Слепых пятнах» – это <…> невидимой местности: он задаёт – не всегда радикально разные – но часто отличающиеся принципы того, как могут быть расположены силы, объекты и процессы в континууме/универсуме.
ТЬМА
бегун пытаясь сорвать ее
вырастает в пещеру
Интенсивность движения позволяет превратиться объекту-актору в нечто: бегун становится пещерой: вместо объекта-движения появляется объект-поглощение. <…> расчерчена энергиями не виртуально – но так как не поддаётся взгляду – всё-таки виртуально.
СОН ЛОГИКА
***
лошадь длинней своего пути
когда внутри у нее
еще не проснулся
сон жеребенка
Объект внутри себя содержит причинный объект: сын своего отца, если соответствовать <…>.
Но упор всё равно на движении, процессе перехода (просыпание) и странном пространстве <…>. Проблемное: >…< – процесс или простор?
Лошадь порождает и собственный путь: рождение жеребенка возможно как процесс сновидческий: объект материализуется из >…<, пока он не бодрствует, он не рождён – он в ином, потенциальном слое бытия.
МЕТА
***
] в начале
исчез я]
затем появились цитаты
{которые я посчитал собой}
Тексты выходят и на <…>уровень – здесь об этом свидетельствует не только вывернутая вне скобка, но и указание на субъект письма.
Время в тексте выше преломлено, нелинейно: потому что сосуществование текстов, их следов и автора невозможно в одной темпоральности. Исчезновение пишущего проявляет цитаты, прошедшим временем возвращающие субъектность автору. Но ограниченные фигурными скобками – автор заперт в процессе переноса значений. На самом деле он – угасающая цитата, теряющая первоначальное значение, а не текст и его следы.
ПРИОСТАНОВКИ СВЕТ
***
[наши мертвые
нас не оставят в живых]
смотрит горгона
в лица веселые их каменея
[мама и папа уходят в живот своей смерти
завтрак на стол накрывает ладонь снегопада]
снежны крестов куличи
и Потьму освещают
Грамматически здесь объект с субъектом не могут поделить действия. Потому что окаменение – и так процесс <…> процесса. <…> развернуты в разные плоскости, метафорические ряды. Даже белое освещает тёмное потому, что >…< (по-петрушкински) – это превращение, а не преломление и не отражение. >…< – разновидность взгляда.
НАКАПЛИВАНИЕ
Хайдеггерианское «язык – это дом бытия» Петрушкин переиначивает: бытие и вне языка, и обнаруживается там, где раньше не присутствовало: внутри птиц, дождя… Объекты от стихотворения к стихотворению <…> свойства других предметов: после птиц, клюющих время, содержащих свет, дождь тоже оказывается птичьим и начинает клевать.
***
шум пустого разговора
дождь взаимного молчания
клюет скудные крошки
за осиротевшим столом
во дворе
Но кем бы язык был без слов? Было бы что копить…
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
***
выплавил колокол
из гула
набирал текст
припоминая все
выкручивал нить дыхания
из лабиринта легких
легких не стало – остались:
гул текст [вспышка слева]
Текст фиксирует собственное <…> и смысловые узлы: ближе всего к авторскому продуцирующему сознанию, он набран без особых начертаний – он весь располагается на этой стороне.
ДВАЖДЫ КНИГА
Текст и его отражение,
***
вытягивает шею тень
пытаясь твердь достать
гусиной кожей
с обратной стороны
бегун пытаясь сорвать ее
вырастает в пещеру
,повторяется <…> в книге – один раз в середине и один в самом конце. Видимыми словами они не отличаются, только графикой и строфикой. Так книга накапливает изменения, но пытается удерживать связность. Но это уже движение не внутри одного текста – а выпрастывание из пустот между текстами >…<.
ПРИЗОР
***
круги над водой
азбука брайля
для разговора
рыб и водомерок
Каждый предмет, явление преломляют под себя языковые законы, сборки. И сам поэтический язык оказывается вместилищем, где переизобретаются силы и смыслы. Тексты Петрушкина указывают туда, в ту сторону, где у каждого стихотворения будет новое языковое воплощение – возможно, даже вне слов (их и так мало). Стихи будут всё дальше от наличия слов – всё ближе к наполненности, Петрушкин уже там.
Четыре вопроса о Дмитрии Голынко-Вольфсоне. Беседа Лизы Хереш с Денисом Ларионовым
Лиза Хереш: Дмитрий Голынко-Вольфсон писал тексты о метареализме и работе метареалистических поэтических тропов (в первую очередь, конечно, метафоры). Что вы думаете о метареализме как направлении, представленном несколькими традициями, и в какую традицию встраивается Голынко-Вольфсон, учитывая, что его самого сильно волновал вопрос классификации метареализма, противопоставления метареализма и концептуализма?
Денис Ларионов: Довольно трудно выразить в двух словах мое отношение к метареализму. Мне кажется, что поэтам-метареалистам удалось разработать некоторое количество выразительных средств и – самое важное – концептуальных подходов, которые оказались релевантны культурно-технологической реальности fin de siècle. Они обладали особой чувствительностью к связям между элементами мира, о чем можно прочитать во многих эссе Алексея Парщикова, который опередил свое время по всем направлениям.
Дмитрий Голынко написал одну из самых интересных статей о поэзии метареализма (в тот момент, когда история направления/движения уже закончилась и активно работать продолжал только Парщиков), которая называется «От пустоты реальности к полноте метафоры». По видимому он – одним из первых – попытался ввести поэтико-эпистемиологический аппарат метареализма в более широкий интеллектуальный контекст (главным образом, западный). Это само по себе ценно, так как выводило работу метареалистов из достаточно узкого контекста московской литературной жизни. Надо ли говорить, насколько это важно сегодня…
Но если Голынко-исследователь интересовался широким кругом вопросов, в том числе интеллектуальными контекстами метареализма, то Голынко-поэт принадлежал несколько иному движению, даже ряду движений. Среди его предшественников можно назвать Александра Введенского, Виктора Соснору, Д.А. Пригова, ряд англоязычных и немецкоязычных авторов. Кроме того, он был близок к цайтгайсту 1990-2010-х годов, без внимательной реконструкции которых его тексты не всегда будут понятны… То же самое можно сказать и о работах Алексея Парщикова, но понятого вне привычной литературоведческой номенклатуры.
Л.Х.: При подготовке к беседе я перечитала разговор Дмитрия Голынко-Вольфсона с Борисом Филановским и Сергеем Невским об эксцентрике в искусстве и, с другой стороны, эксцентрике, которая создаётся самим художником (поэтом, композитором) и реализуется в бытовом поведении. Неслучайно здесь появляется фигура Д.А. Пригова, который тоже был предметом научных исследований самого Голынко-Вольфсона. Можно ли перенести этот разговор в его собственное бытовое поведение? В какой степени в бытовом поведении он сам воспроизводил какие-то сюжеты, играл роли?
Д.Л.: Думаю, на этот вопрос подробнее ответили бы люди, которые знали его лучше, чем я. Голынко, безусловно, был одним из ярких персонажей Петербурга 1990-х и 2000-х гг.: недаром он стал прообразом одного из персонажей романа Павла Крусанова «Укус ангела». Но трикстерская саморепрезентация свойственна многим петербуржцам – вспомним Хармса, Курехина, Тимура Новикова – и тут Голынко попадает в почтенную компанию. Впрочем, персонажная маска (если она, конечно, была) не помешала ему правильно сориентироваться на местности в конце 1990-х и начале 2000-х гг.: когда вчерашние бунтари из «Новой Академии» стали присягать химере «вечных ценностей», Голынко становится политически ангажированным исследователем и критиком.
Л.Х.: В своём комментарии для «Метажурнала» вы писали о настоящем времени как барьере для междисциплинарных исследований и вообще всякой мысли на перекрёстках нескольких гуманитарных наук. В таком смысле Голынко-Вольфсон противостоит времени в том числе как человек, исследующий мир как с научной, так и с критической и поэтической сторон. Насколько он уникален в этом? И ощущал ли он сам, как эпоха сопротивляется этому?
Д.Л.: Не могу знать, что он ощущал, но как минимум с начала века в его поэзии возникает сначала фоновое, а затем и радикальное неприятие мира потребления, которое объединяло почти все континенты. При этом сам Голынко был одним из самых успешных русскоязычных авторов, взаимодействующих как с американским академическим миром, так и с немецкой литературной сценой. Но все это стало возможным, так как мир был открыт художественному и исследовательскому опыту, который предлагал Голынко – а ему, получившему замечательное образование, включенному во многие коммуникативные среды и контексты, было что этому миру предложить.
Л.Х.: И вы, и, например, Алексей Конаков в комментарии к циклу «Кругом невозможно 3D» писали о повторяемости текстов, их дурной цикличности, что приводит к невозможности обещания благополучной развязки, эпифании. Симптоматично ли это оставление читателя один на один с разъятым миром? И какой выход из этого возможен на поэтически-философском уровне, если возможен вообще?
Д.Л.: Мне кажется, что Голынко интересовал выход из этой дурной повторяемости не на философско-поэтическом, а на политически-прикладном уровне (напомню про его эссе о социально-прикладной поэзии). Такое складывается впечатление. Но и гностическая машинерия порождающего себя из ничего мира его, видимо, тоже интересовала. Но взгляд этот был критическим, с привкусом меланхолии: его объектом – мишенью? – был все более погрязающее в иррационализме общество, в котором выхолостились все социальные смыслы. И в этом обществе легко узнается Россия конца 2010- начала 2020-х.
Принцип смелости. Беседа Лизы Хереш с Ильей Кутиком об Алексее Парщикове
Лиза Хереш: В течение многих лет Вы были не только другом Алексея Парщикова, но и его толкователем и исследователем: например, ваша статья о стихотворении «Еж» вошла в сборник статей о поэтике Парщикова «Фигуры интуиции» (М.: Эдитус, 2022., сост. и ред. А.Е. Масалов). Какие сложности или дополнительные возможности кроются в этой двойной позиции?
Илья Кутик: Я никогда не был исследователем Алексея Парщикова в буквальном смысле: я написал статью о «Еже» (она была опубликована в «Новом литературном обозрении» ещё в 2014 г., #2 (126)) с целью объяснить на примере одного стихотворения, что такое «метареализм», который мы с Алёшей называли «метой». Мы были ближайшими друзьями с 1979 г.: это 30 лет практически ежедневного общения долгие годы; я сомневаюсь, что кто-то знал его лучше, чем я. Подход мой к стихам Алексея – это подход коллеги и, естественно, близкого друга. Противоречий и сложностей здесь я никаких не вижу – мы прожили именно что «вместе» большую часть жизни, сформировав сходные взгляды и суждения. Так что считайте, что мнения Алексея вполне совпали бы с моими, когда я высказываю их по поводу поэзии. Мы оба ценили в поэзии «экстремальные идеи», т.е. поэтическое как «новое». Это – главный подход Парщикова к тому, что он читал и о чём раздумывал. Для того, чтобы понимать его более-менее адекватно, надо учитывать именно эту сторону его литературных приязней. Ко всему остальному его отношение было довольно прохладным. Под «экстремальными идеями» (а это наш общий термин) я имею в виду, естественно, идеи эстетические, которые должны впитывать в себя всё накопленное поэзией до этого и как-то отличаться от того, что было до вас. Это подразумевает именно что знание поэзии – как русской, так и мировой, как современной вам, так и бывшей до. В идеале вы должны легко оперировать этим знанием, чтобы не путать «новое» с «хорошо забытым старым», чтобы прежде всего понимать, чем вы отличаетесь от всех остальных. Без этого нет поэзии как таковой, всё остальное – вторично. Отсюда и возник «метареализм» (в терминах Михаила Эпштейна) или «метаметафоризм» (в терминах Константина Кедрова). Метафора – «метаметафора» по Кедрову или «метабола» по Эпштейну – должна соотносить не два объекта («сопряжение далековатых идей» по Ломоносову), а три, где третий объект не столько визуальный, сколько интеллектуальный, который провоцирует в читателе работу его интуиции, появление чувства причастности и удивления. Читательское удивление – один из главных критериев в оценке того, насколько вы успешны. Вообще интуиция для Парщикова – один из важнейших компонентов его поэтики, отсюда название его второй главной книги «Фигуры интуиции» (1989). Он ценил, например, выше остальных Пруста, который сумел показать, как объект рождает первыми не визуальные ассоциации, а именно что чувственные. Каждый объект, по Парщикову, обладает своей «аурой» (ещё один его термин, который он собственно ввёл как эстетическую категорию), а ауру нельзя описать, но только почувствовать. Нельзя описать, к примеру, «намоленность» места (а это и есть для Парщикова «аура»). Объект стихотворения (а, по Парщикову, в любом стихотворении главное – его объект, он и есть «содержание» стихотворения) даётся не столько визуально, сколько таким образом, каким вы его ощутили. Здесь свои сложности, т. к. многие ценят в Парщикове визуальный момент (который, безусловно, в нём присутствует), но тут надо помнить, что для него – главное третий компонент, вневизуальный. Метафизика (а приставка «мета» означает именно её) не умопостижима, а даётся только через щупальца метаметафоры, выявляющие её наличие. Так – очень вкратце – можно описать краеугольные камни поэтики Парщикова.
Л.Х.: Сейчас в литературоведении многие работы, посвящённые поэтам второй половины XX века, концентрируются на исследовании бытового поведения и моделей жизнетворчества, связи стратегий поэтического и бытового. Какие сложности ждут исследователя, который возьмётся за это в связи с фигурой Парщикова?
И.К.: Жизнестроение Парщикова, о котором Вы спрашиваете, зиждется на принципе смелости или даже безоглядности. Собственно, многие из нас ему следовали или следуют. Не надо бояться нарушать матрицы поведения, надо плыть «туда, неведомо куда», не заботясь о том, насколько ваше жизненное поведение укладывается в ту или иную матрицу. Жизнь слишком разнообразна, чтобы быть привязанным к одному маршруту, даже если он у вас неплохо получается. Надо рвать с трафаретами поведения, ибо в его основе лежит прежде всего любопытство. В общем, по таким принципам себя Парщиков и вёл, хотя часто переживал, что менял жизнь слишком драматично, переезжая с места на место, отдаляясь, по мнению некоторых, от своих читателей. Тут нет и не может быть некой высшей ответственности за свою судьбу: она не в ваших руках, хотя именно вы делаете тот или иной выбор. Алёша не дожил до появления Skype, но как человек очень ориентированный на современные технологии предчувствовал его, ибо, несмотря не такую свою сильную сторону как визуальность, ценил прежде всего чувственное всеприсутствие, метафизическую осуществимость. Мы оба с огромным метафизическим трепетом ощутили возникновение Интернета, осуществившего дантовский мир в его наглядном присутствии, в его предельной возможности быть здесь. Появись тот же Skype чуть раньше, Алёша бы чуть меньше умозрительно нервничал по поводу своей пространственной оторванности от отечества, хотя он никоим образом не сомневался в правильности своего выбора.
Л.Х.: Значимость Парщикова сложно оценить не только в отношении поэтов его или младшего поколения, но и юных авторов. Как Вам кажется, какой именно Парщиков заметен в текстах молодого поколения? Какой, напротив, пока что скрыт от его последователей?
И.К.: Я боюсь, что нынешнее восприятие поэзии Парщикова младшими не вполне соответствует тому, что он собой представлял или чем и кем хотел быть. Это касается прежде всего «тёмности» его поэзии. Сам ведь он считал, что пишет вполне прозрачно, хоть и, да, сложно. Сложный поэт – отнюдь не поэт «непонятный». Вообще понятность автора – это то, что должно лежать на совести читателей, а отнюдь не автора. Автор фиксирует свои «визии» тем языком, который, по его мнению, адекватен для их выражения. Чем сложнее видение, тем сложнее и язык. Молодые же поэты решили, что Парщиков «непонятен» намеренно, а, значит, следование ему заключается именно в этом качестве. Это – первое. Во-вторых, я не очень вижу в младших поэтах метафизической загадки, которая, как я уже говорил выше, была главной заботой Парщикова, поэта, конечно, необарочного. Целое (метафизика) доступно нам только в деталях, которые должны быть выверенными, соответственно тому, как их ощущает ваш язык, т. е. вы как носитель языка. В стихах младших я наблюдаю больше «автоматического письма», нежели его соответствия визиям, которые вам становятся доступны через язык, через ту же метафору. Метафоричности же я совсем почти не наблюдаю – много символизма, да, много сюрреализма, да, но отнюдь не того, к чему стремился в стихах Парщиков. Третье. Парщиков всегда в высшей степени радел о форме. Он ценил рифму (самую изысканную) как одно из тех самых щупалец, которое притягивает к земле (бумажному листу) метафизическую сущность и её – там – фиксирует. Рифма – это не побрякушка в конце строки, а познавательный механизм, данный нам во владение. Что происходит с рифмой (а я не говорю вовсе о точных классических рифмах, число которых по-русски вполне ограничено), Вы сами знаете – она практически исчезла даже в своей приблизительности, тогда как возможности неточной рифмы по-русски, в отличие от других языков, где неточной рифмы, как мы её знаем по-русски, нет (она – или точная, или глазная, или никакая), воистину бесконечны. Верлибр как установка есть проза, записанная столбиком. К поэзии он имеет очень опосредованное отношение, как на мой, так и на парщиковский вкус (об этом мы очень много наговорили друг другу). И последнее. Парщиков был влюблён в научную мысль, регулярно читал научные журналы. А для чего? Да для того лишь, чтоб увидеть, как метафизика всё больше поддаётся изучению, чтоб знать в точности, какие её детали (ибо целое, повторюсь, непостижимо) открылись нашему эмпирическому опыту; насколько микромир (а он – одна из забот «метареализма») познаваем. В этом интересе – одна из главных «фишек» Парщикова, а здесь я не вижу последователей.
Л.Х.: В последнем номере журнала Ab Imperio исследовательница Юлия Ильчук пишет, что вместо понятия русской литературы, ключевой для разговора о литературном каноне XIX века, необходимо использовать термин «русскоязычная литература». Насколько это применимо к Парщикову и его поэтической идентичности?
И.К.: Вполне, я думаю, подходит к Парщикову. Правда, это, наверное, единственный топик, который мы с Алёшей никогда не обсуждали, ибо тогда не возникало проблем, как самоидентифицироваться в отношении к отечеству: мы оба были российскими гражданами. Да и вообще, топик этот мне кажется достаточно вторичным: если ты пишешь по-русски, живя хоть где, ты поэт русскоязычный, конечно. Но и русский, если мы рассуждаем о культуре как таковой. Ибо нет культуры русскоязычной, есть русская, общая. Родившись на Дальнем Востоке, Парщиков оказался на Донбассе, потом в Киеве, потом в Москве, потом в Сан-Франциско, потом в Базеле (Швейцария), потом в Кёльне. Хорошо владея английским, он перечитал огромнейшее количество стихов (и нон-фикшн) по-английски, беря оттуда то, чего по-русски ещё не было, – нет, не форму, а возможность описания новых для себя объектов. Форма у Парщикова – очень языковая, очень зависящая от русского и никак с английским языковой своей сутью не связанная. Алёша был очень любознательным человеком, и об этом всегда нужно помнить, судя о его стихах. Хотя Парщиков никогда не учил украинского в школе, живя на Украине (он был от него освобождён, в отличие, скажем, от меня, родившегося во Львове), язык он слышал и относился к украинскому как к древнерусскому, т. е. как к одной из праславянских форм. Точно так же он относился к (тогда) сербохорватскому, бывшего первым языком, на который его (как и меня) перевели, с восторгом выговаривая слова на нём. Алёша не был космополитом (для этого он слишком был погружён в российскую действительность даже на расстоянии), но он был, безусловно, русским европейцем. На этом и закончим.

