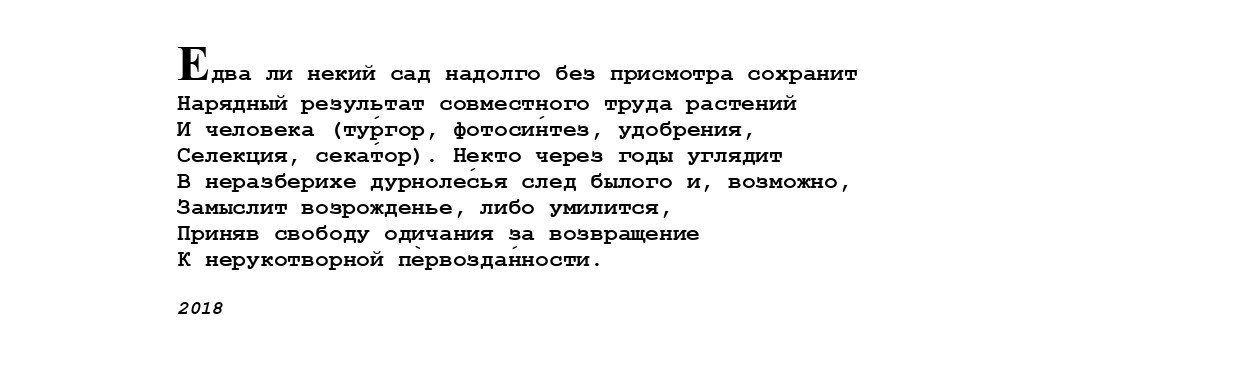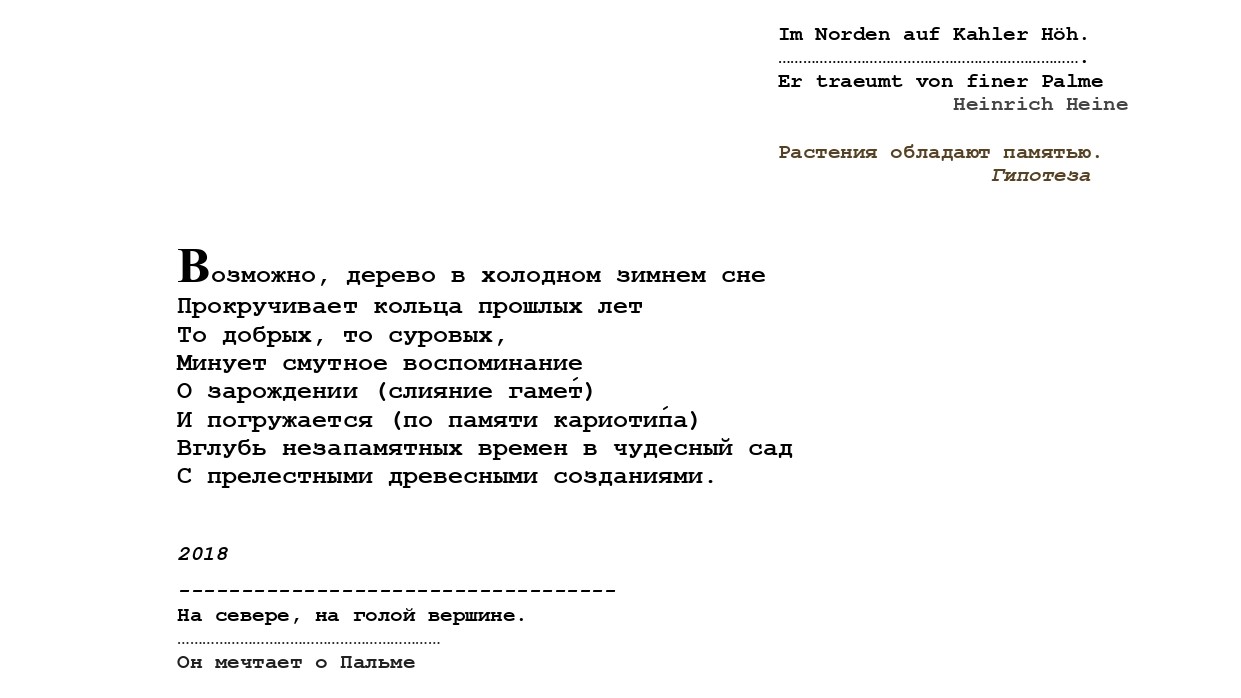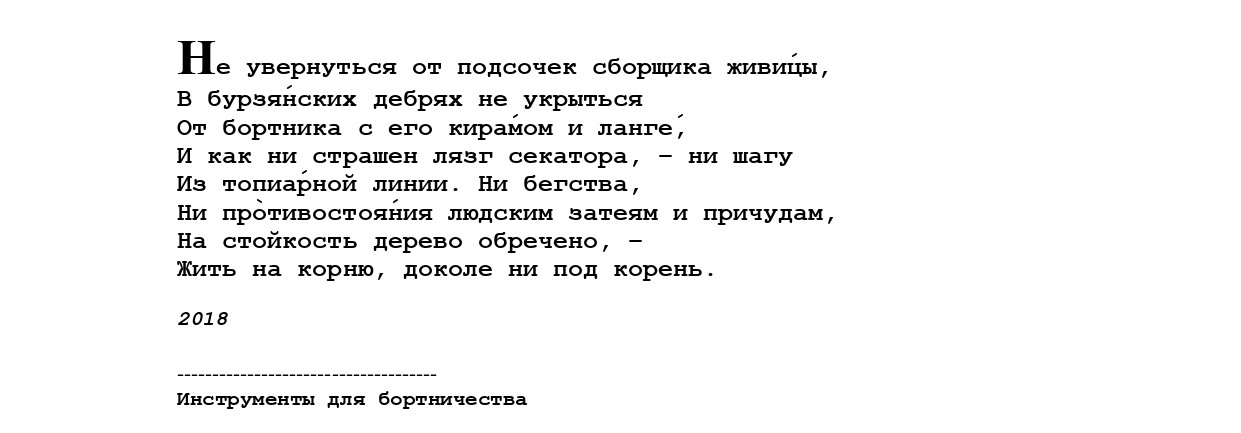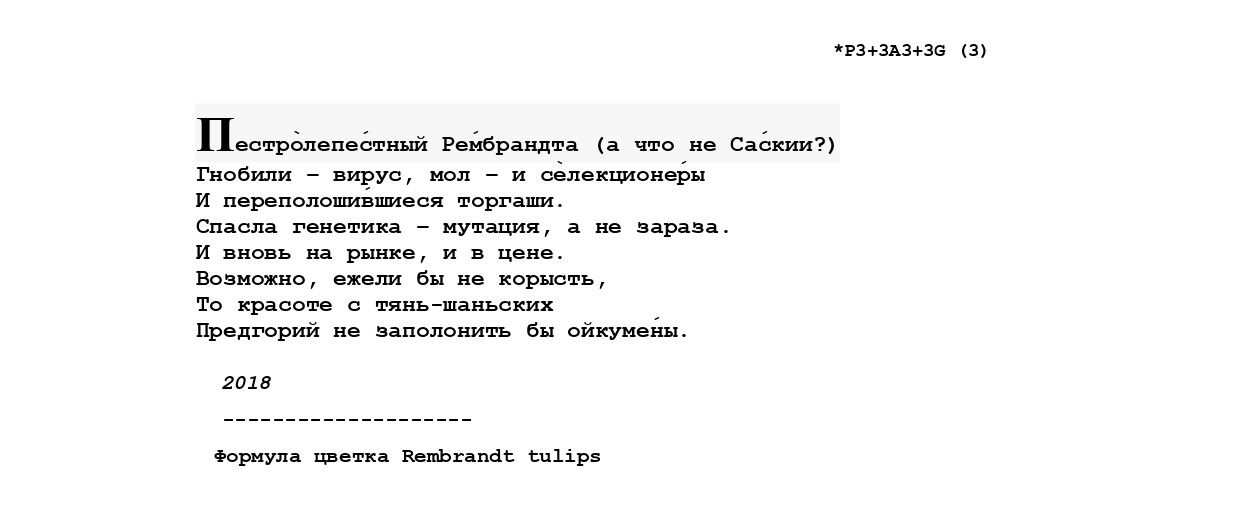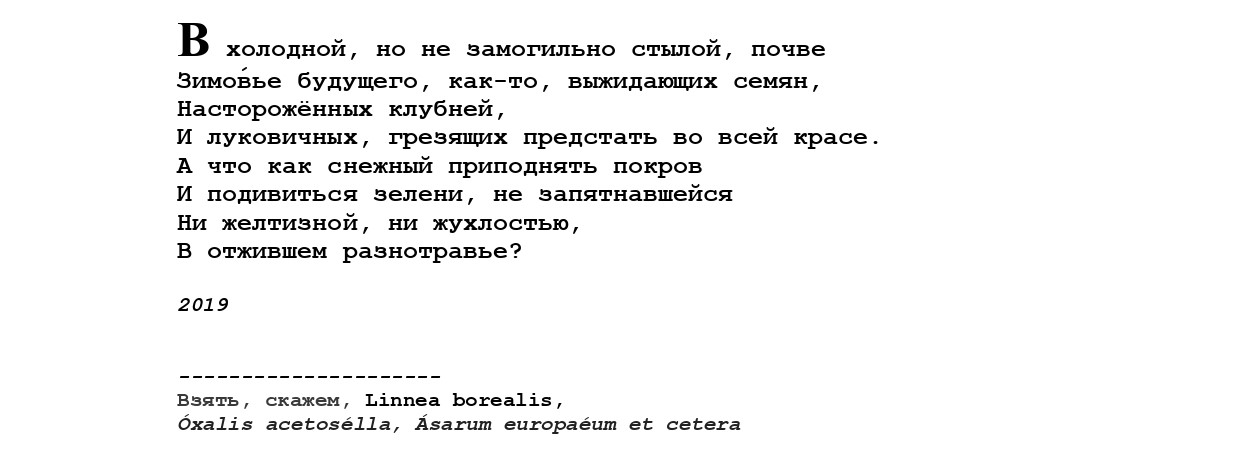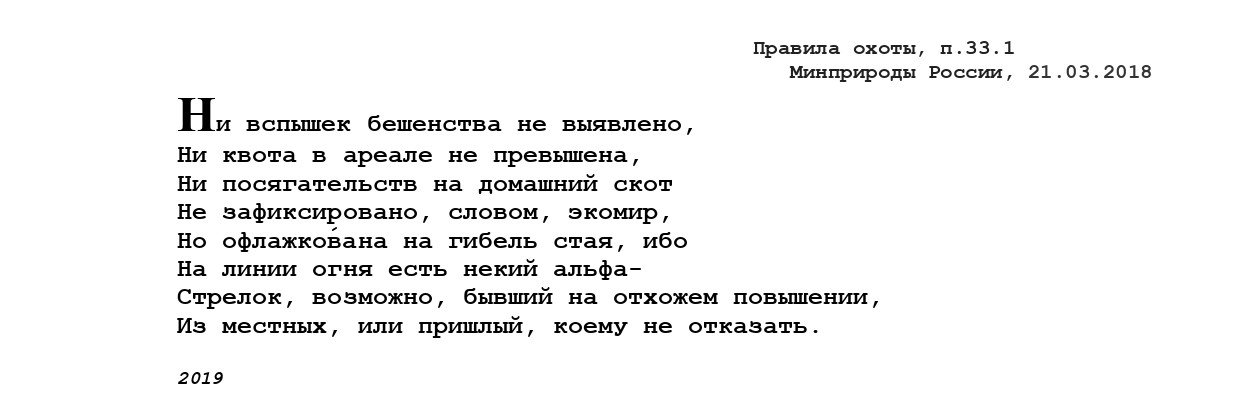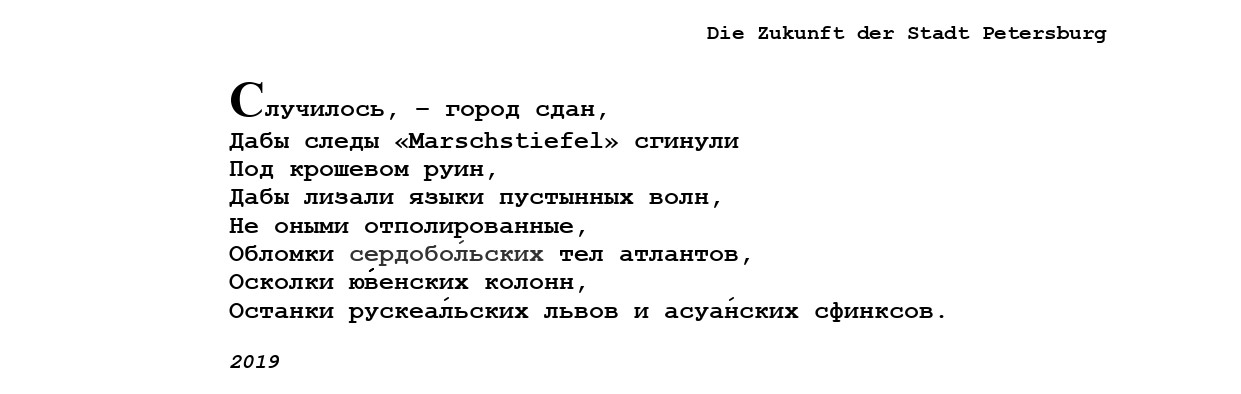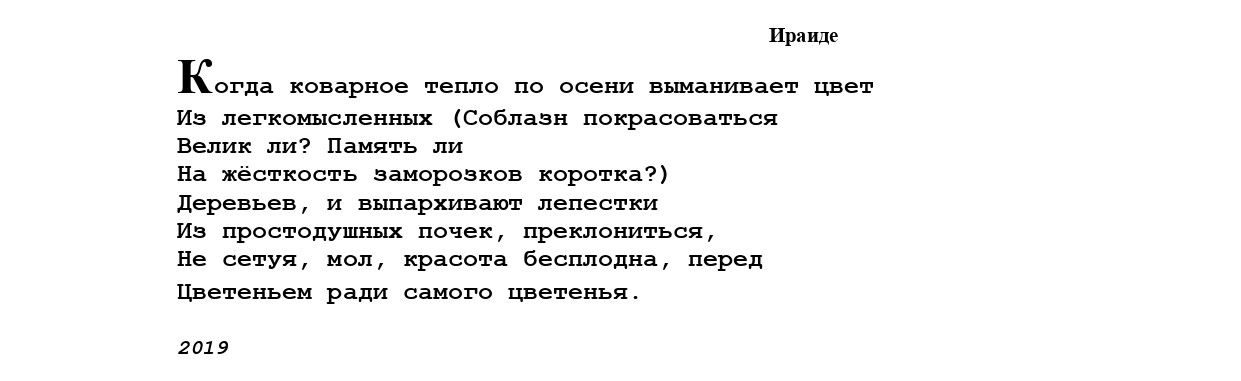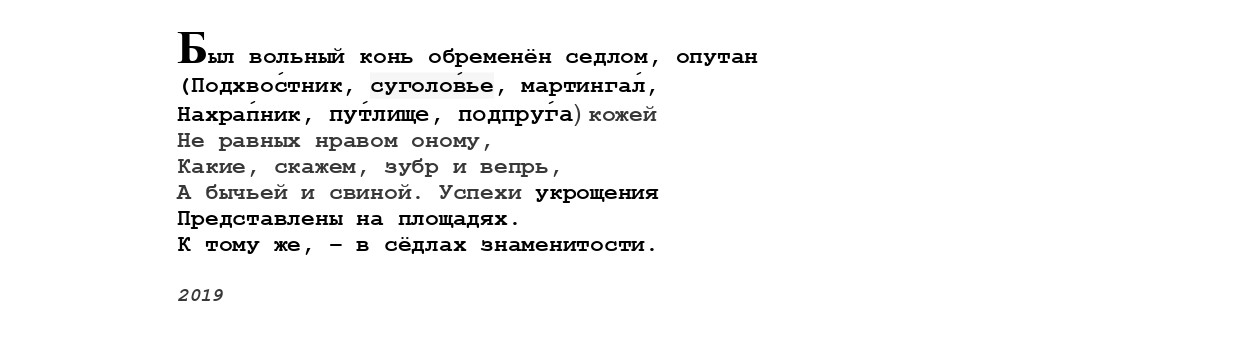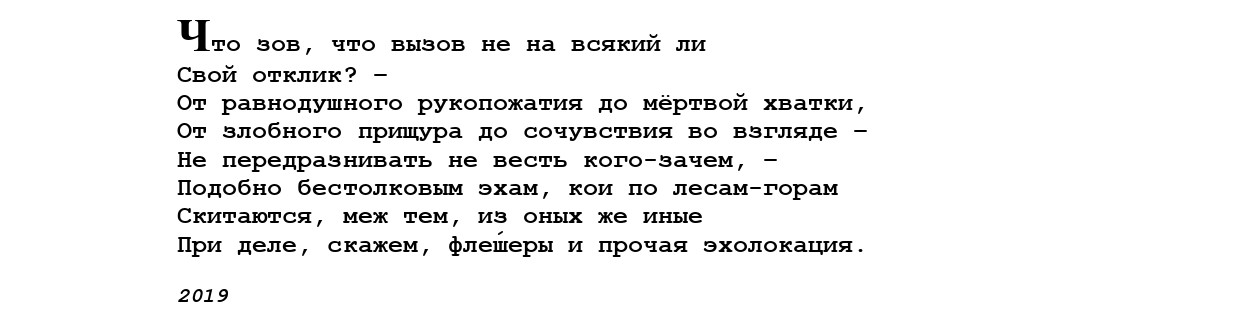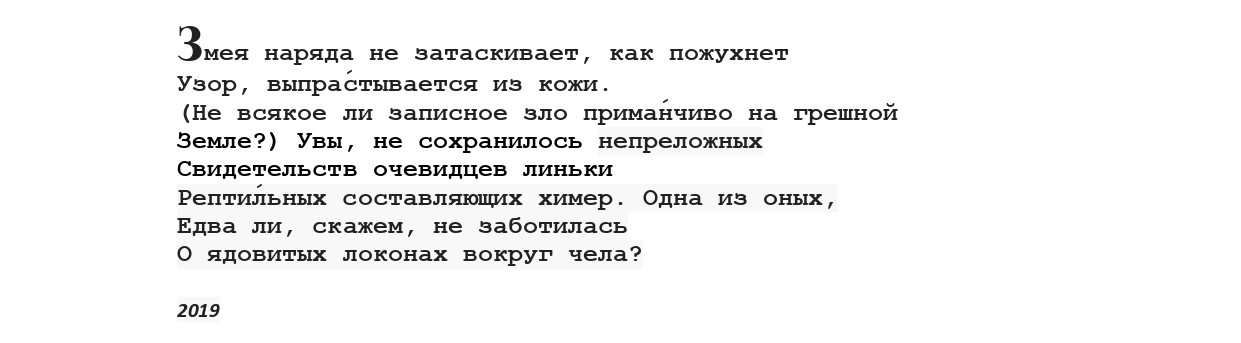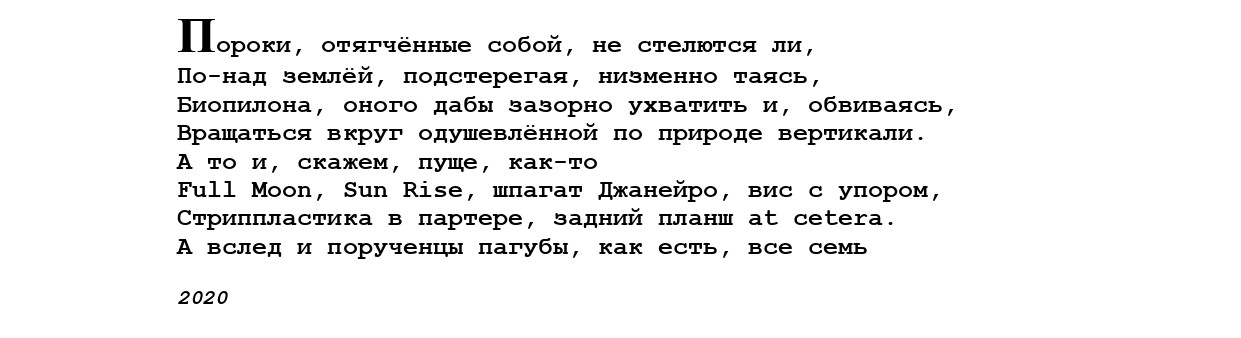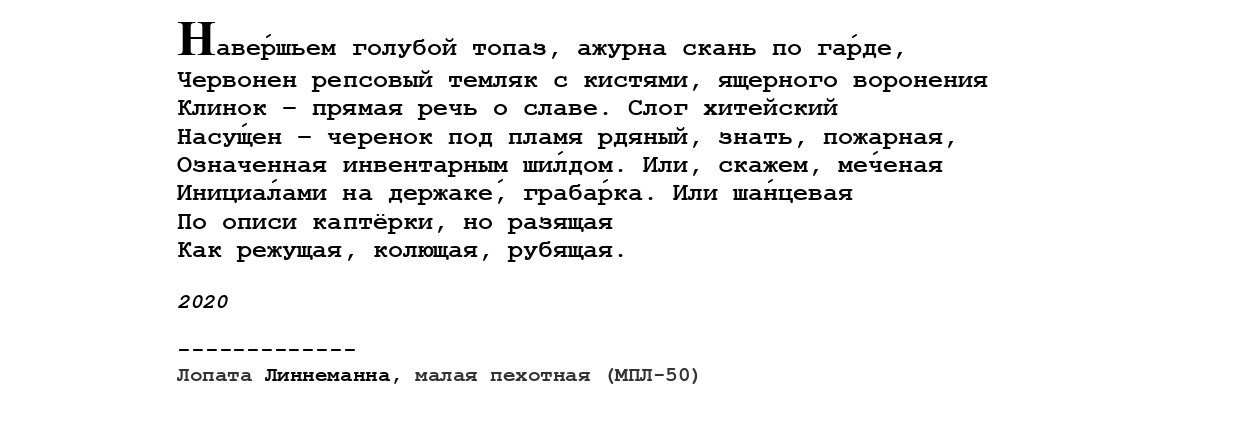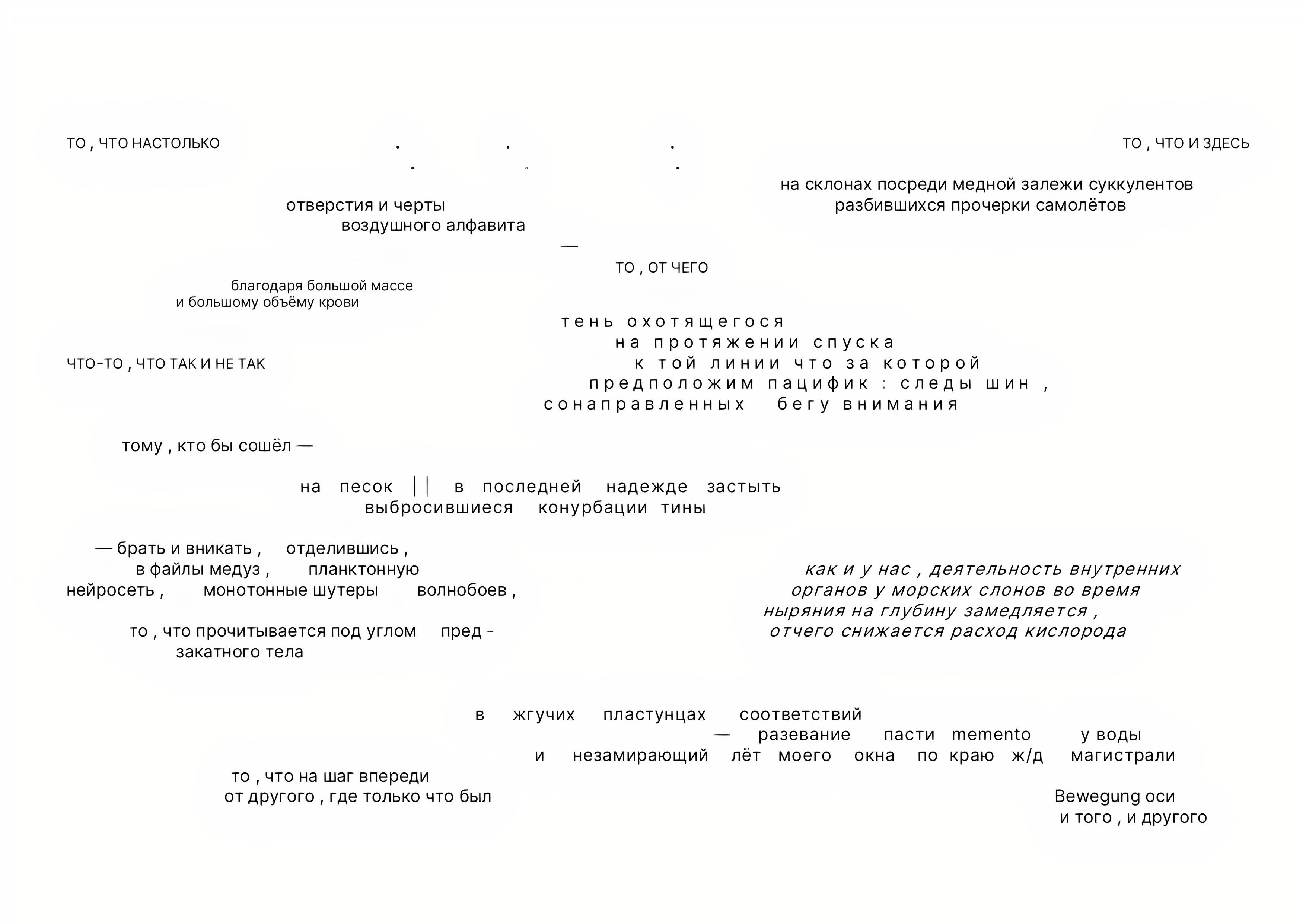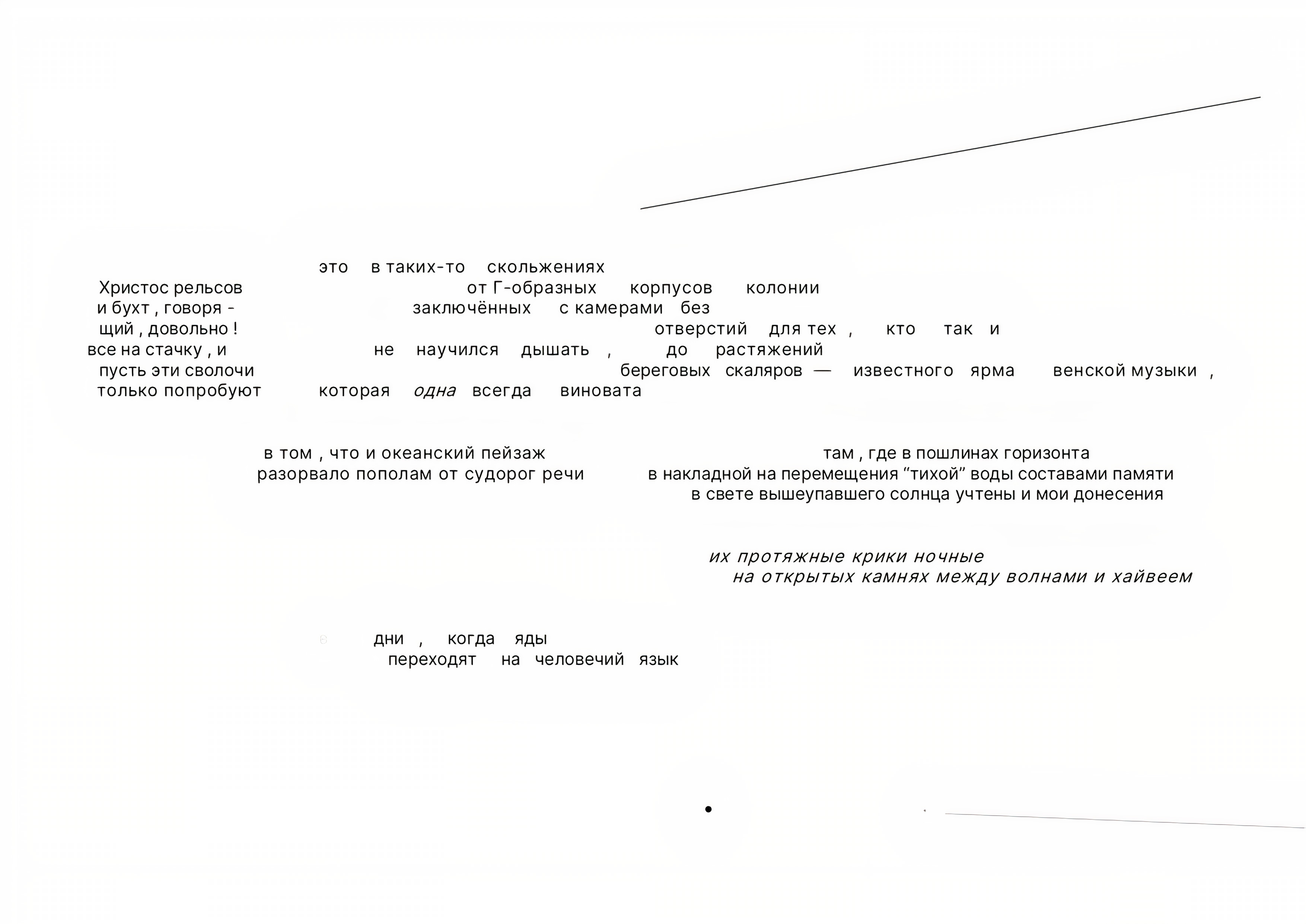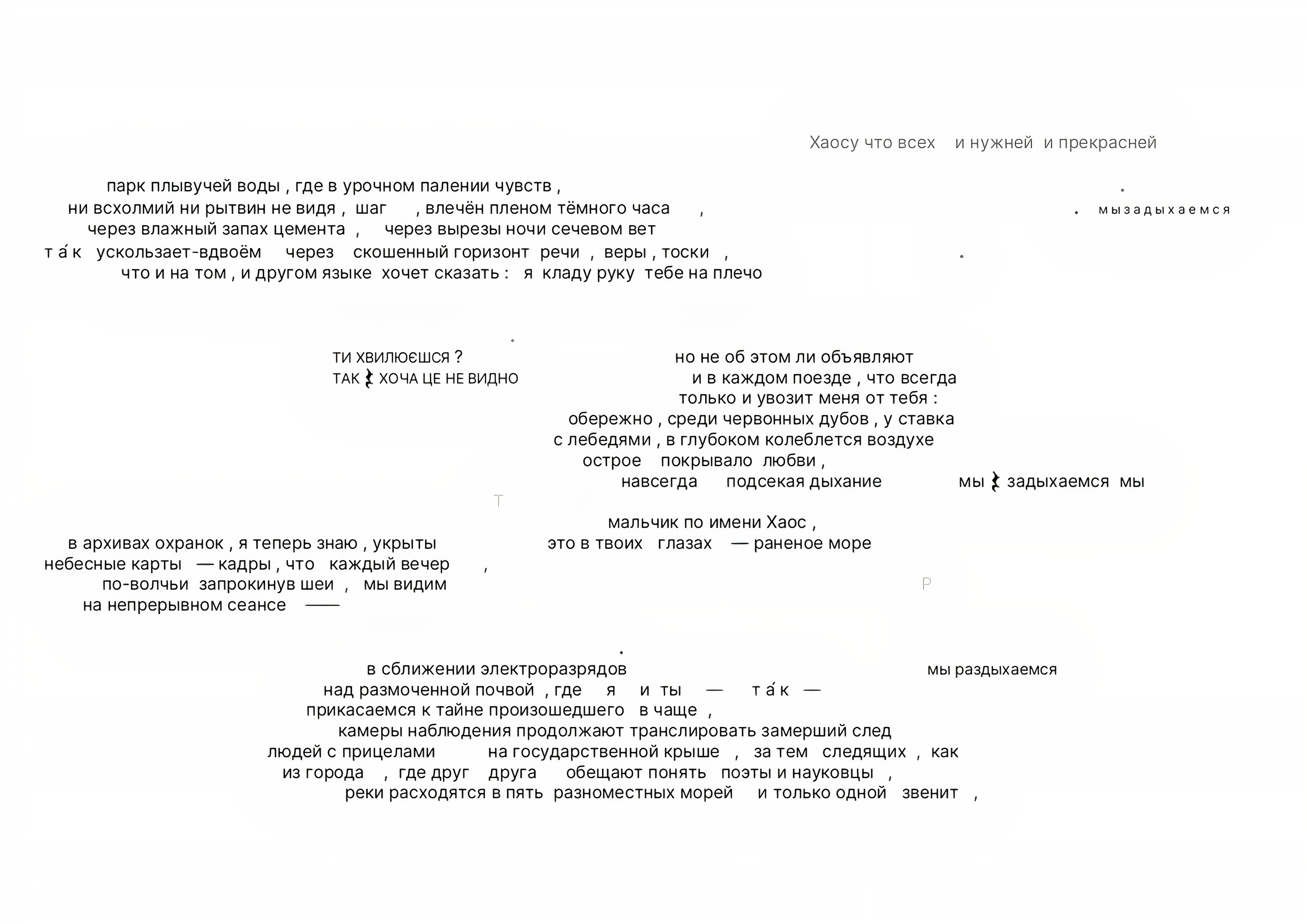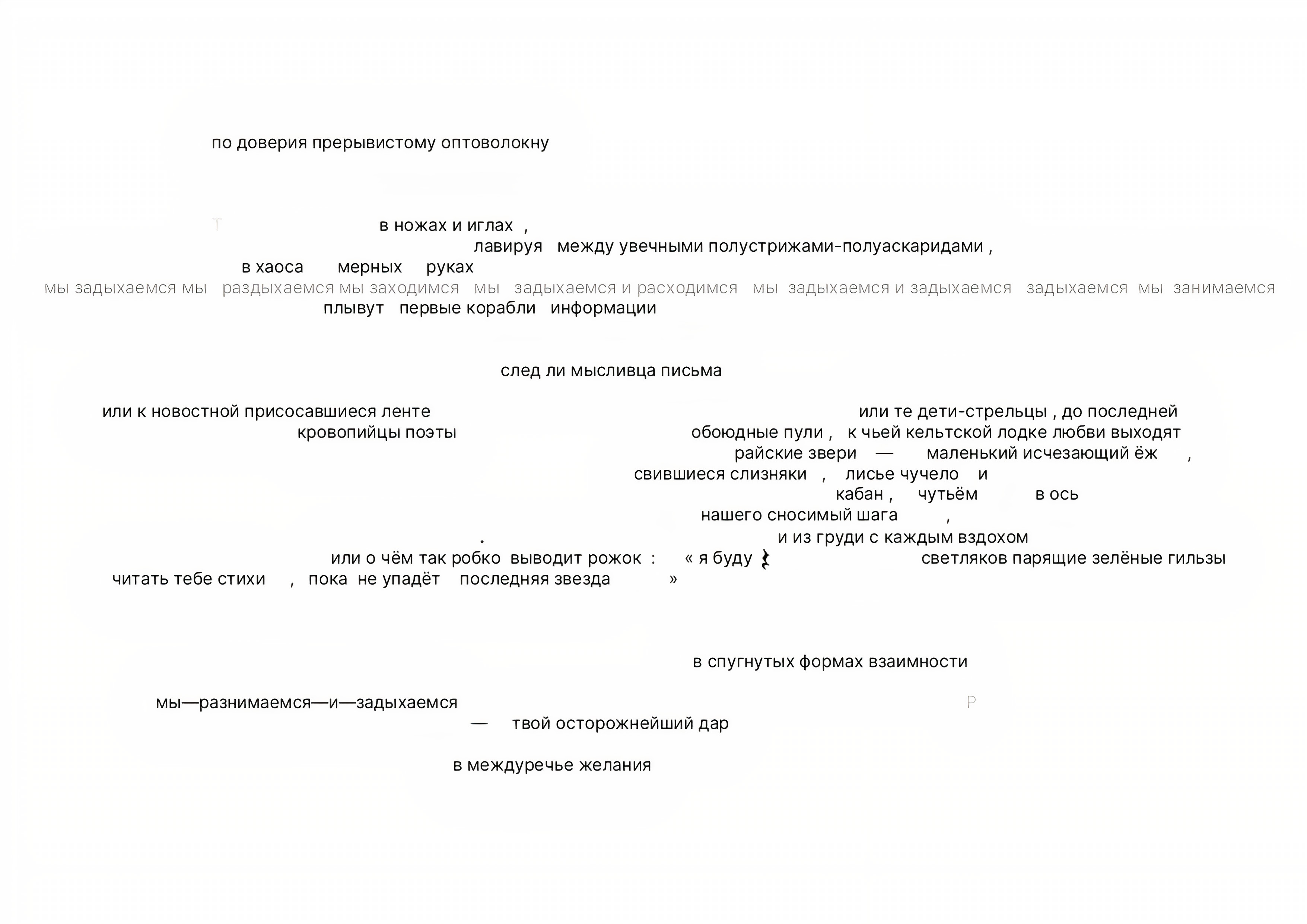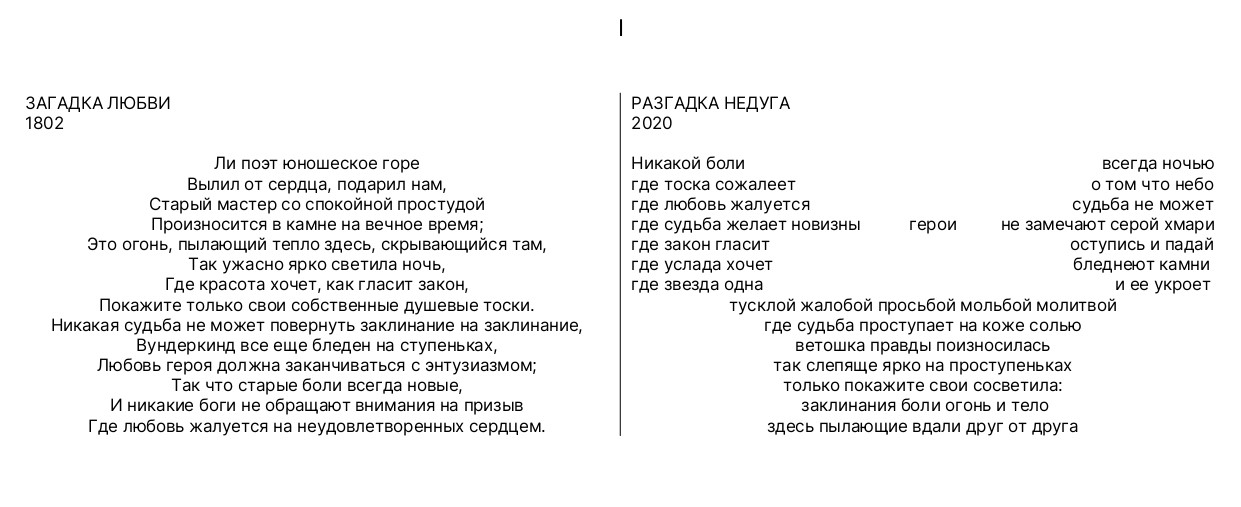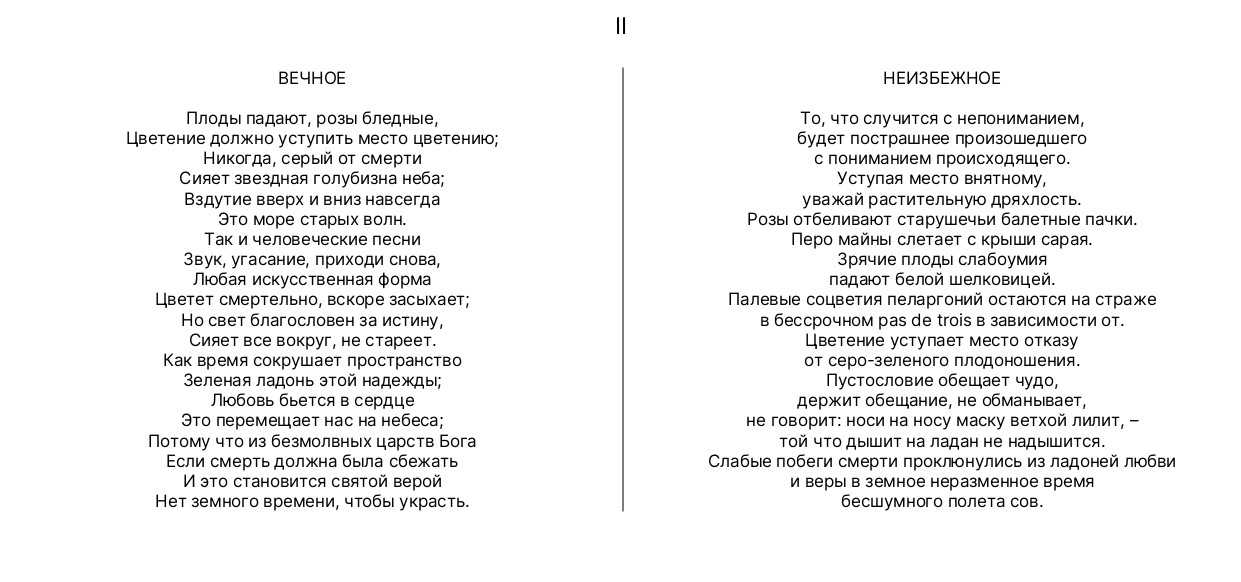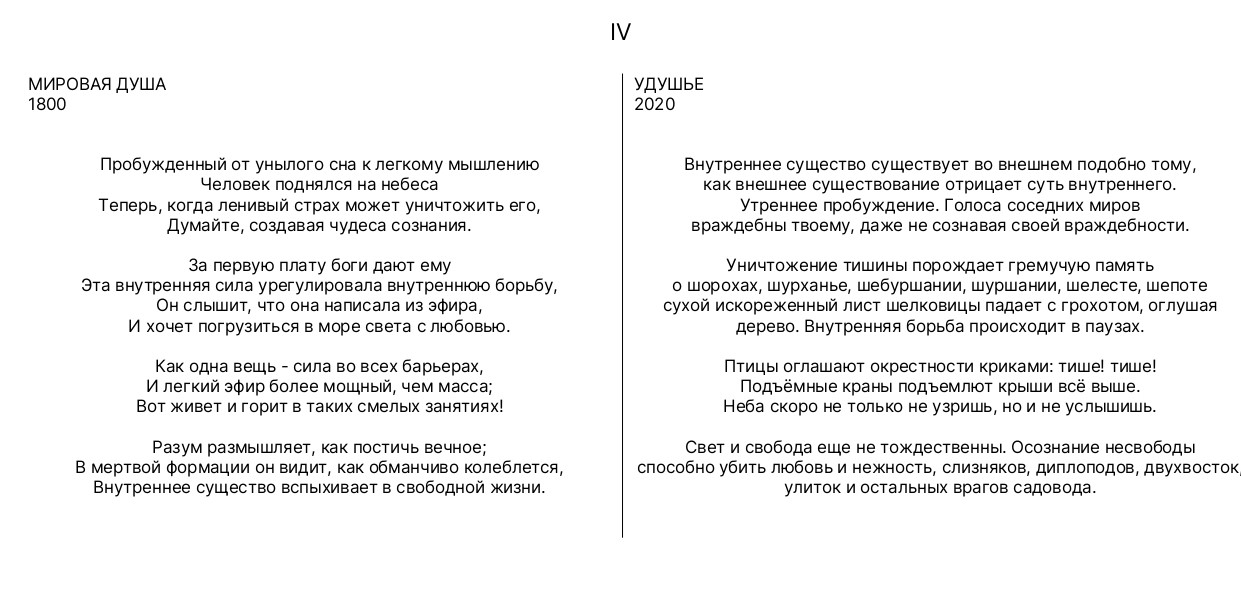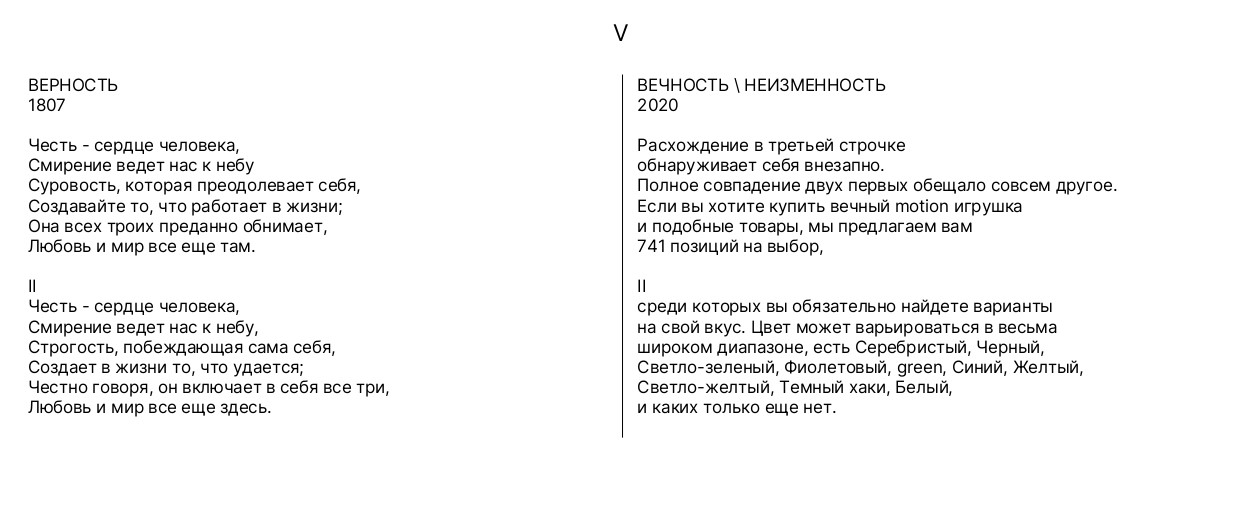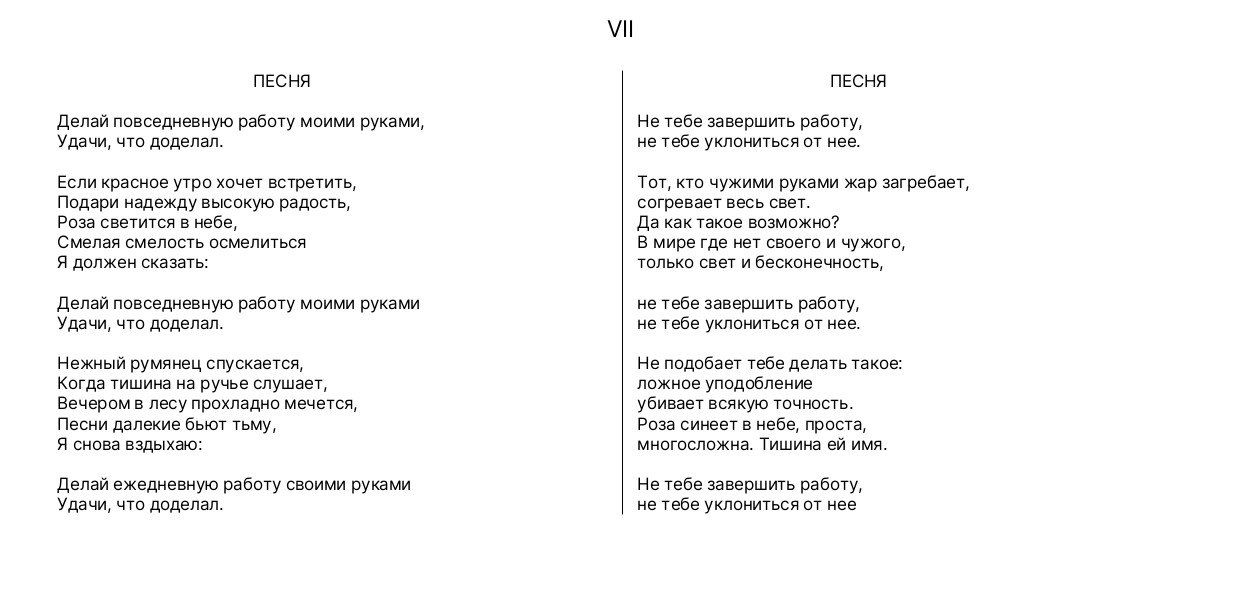«Флаги». Десятый номер
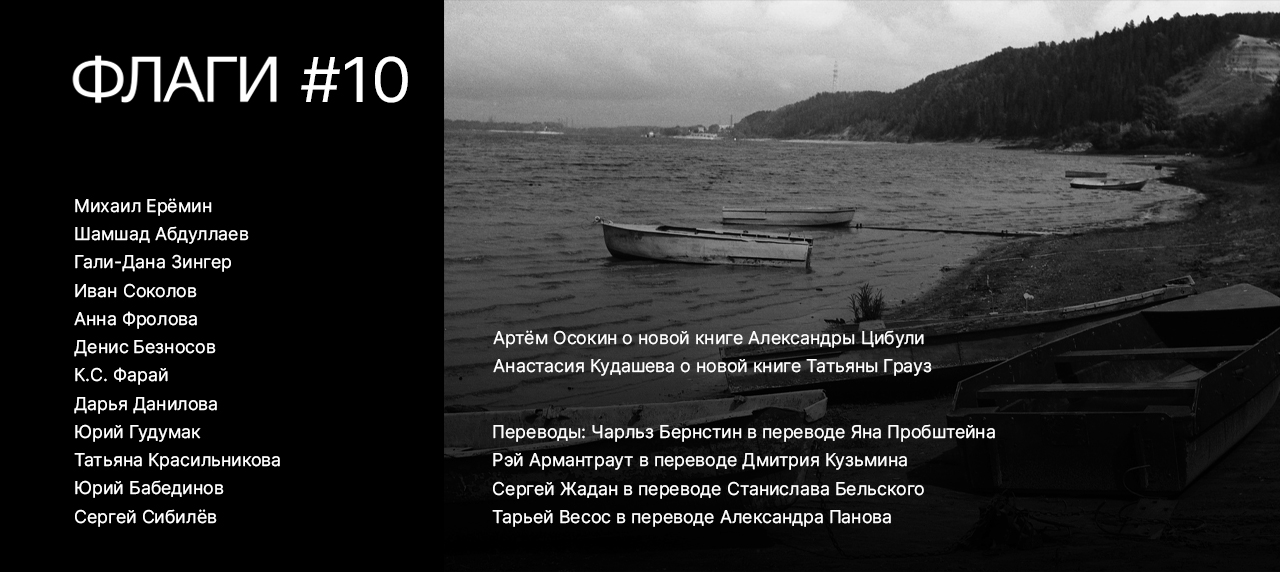
Содержание
Фото на обложке – Анна Майшева | inst: @keyofunesco_
Идущий мимо
БРОДЯЧИЙ ТЕАТР, ИЛИ НЕЯСНОСТЬ ИЮЛЬСКОЙ ЭПИТАФИИ
Тряский фургон мякотно мерцает внутри летнего зноя.
Никаких рук; лишь пекло
спешит за пять-шесть часов
убрать с пути конный катыш,
зубчатые хлопья крошащегося гудрона,
сухую глину. Кто-то
чуть позже, идущий по земле,
являет собой пока
просто пробел для савана. Вскоре
участки тут вздорожают совсем,
выше горла, – посему человек
купил заранее прямоугольную яму,
еще пустую, как если б она
временно промахнулась в среднерослого мужчину,
смуглого, шестидесяти лет: между тем
анагноризис теплится сейчас
ремаркой отсутствия в камне,
и, как опустившийся занавес, от нас
(и фургон, и глина, и зной,
и руки, и конские комья)
отрезает сцену покой.
ИДУЩИЙ МИМО
В конце улицы стелется пустырь,
где ты однажды замедлил шаг,
прежде чем спуститься в пологое, русое безлюдье,
словно хотел свести счёты
с неясными голосами вдали,
за пустым, песчаным стадионом в предместье.
В просвете между пахсовых жилищ островерхие холмы
видны в глинистых блёстках
над колониальной крепостью XIX века,
на хребте солнечного тумана, как Ретабло.
Им зримый очерк лепит какой-то здешний пробел,
чествующий чинную четкость вещей
в конце шаганий. В общем,
остается свести счёты
с неясными голосами вдали,
за пустым, песчаным стадионом в предместье,
которое, как Ницше, стоит открыть, – потом его не забудешь,
которое само напомнит: тихому – тишь.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Мог бы новейший опыт нового мира сегодня
вернуть душевный покой, например,
Карлу Безумному или
Тассо? Вряд ли… –
без их согласия. Дочь
туркестанского нациста пишет историю (по
наводке мессианских извергов на деле своего
германо-туранского отца)
одного несчастного, спасшегося просто
якобы потому, что несчастный
внутри него не
спасся, не принял
целительный выход: далеко ведь нас
завело маргеланское семя –
к вязким местам милосердия, где
плодоносит лишь мягкость
безымянного заклания. Сжалься,
все равно шепчешь ему, бесконечно
родному голосу, сжалься
над собой, шепчешь ему, доверься
опасности бесшовной облатки,
как если бы ты рискнул все же броситься в одурь
уличной поножовщины, чтобы
не умереть однажды от собственных рук.
БАССЕЙН. 1901 ГОД
Слышен запах старого тряпья,
догорающего за окнами предместья
в кустистых дворах одной из
туркестанских провинций напротив
дубильни. Медленный жест
правой руки: caballero andante.
Задушен бунт, как водится, и в Новом
Маргелане возглавил роту
Александр Петрович Чайковский; а
в окрестностях шелкомотальной фабрики до
(в западной части нынешней Ферганы)
сих пор зияет овальный
хауз (в губернаторском доме тогда
за тридцать восемь лет до Садовского, до
Евгения Садовского, молодой лакей из
Проскуровского уезда, Михаил, с немецкого переводил роман
«Гиперион» ошметками фраз
Аполлоном сраженного Гельдерлина; например,
«перед… местностью» – имелась в виду,
наверное, Греция как
постоянный блеск земной слепоты,
намекающей на
невозможность все-таки жительствования без
непредставимого), в котором
рязанские кавалеристы купали коней.
СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ ФЕРГАНСКОЙ СЕМЬИ
Кислый запах глинистого предместья. Название махаллинского квартала 1936 года: Янгичек. Именно там сделан снимок, между знаменитой школой №1 и хамомом, восточной баней, которую любил посещать Рильке, не здесь, где-то в Средиземноморье. Дети (тринадцатилетний мальчик, его двоюродная сестра, ее младшие братья, первый, второй, третий) с двумя матушками захлопнуты во времени. Мужья, очевидно, уже числятся за кадром тенью эпохи на военном учении. Пока невозможно рассчитать орбиту исторического взгляда – так что кругом царит сплошная монотонность, отменяющая любые повествовательные характеристики, и вдобавок ещё рано в полусельской идиллии грамотным, секуляризованным одиночкам усложнять саму сложность и превращать невроз в акт святости. Подросток, крайний слева во втором ряду, вероятно, отмечен судьбой отсутствием цветастой эшонгёзаровской* тюбетейки. Что в «будущем» его ждет – крутой, головокружительный извив биографической траектории сквозь тернии трещин, царапин, помарок, сквозь белесую хлябь астральной потертости по закраине бессчетной отдельности, несметной однократности бумажного клочка, сберегшего в колосьях своей шершавости открытые настежь карие глаза?
АПРЕЛЬ
Зря мухлюешь дышишь еще раз дышишь
якобы явный
вблизи есть лишь тупик
и нет высоты
присущей узкой безместности в которой
можно только вознестись
близь и тупик
и чистое малодушие считать
что важен хотя бы
промежуток тут и тот к тому же
временный причем насовсем
хитрованское утешение в общем
сплошное мотовство скудости
в ней как пришибленная стража
как оракул
тупик ничего не
таит не говорит и даже
не указывает знаками словно во сне
на свою поверхность дотянувшую до конца
собственной преграды (блики по весне –
так сыч гримасничает в полете – между тем
то сужаются то длятся на стене)
ПРЕДЧУВСТВИЕ МОДЕРНИЗМА В ПРОЗЕ 17 ВЕКА
Ландскнехты врываются в дом
Симплициссимуса, глиняные печи
ломают, льняные полотна
срывают с окон,
словно всех впереди ожидает
нескончаемое лето, в котором
ты глядишь на овальный булыжник
вдоль тряской дороги так долго,
будто сейчас лишь неподвижность
этой каменной люльки
должна вот-вот исчезнуть из
летописи Тридцатилетней войны.
КАЛАНДАР XVIII ВЕКА В ТРАНСЕ НА СКЛОНЕ ДОЛИНЫ
«Этого» нет, покамест оно
не исчезнет, – тогда
(кто-то моргнул, словно памиро-алайские горы
на южном горизонте пересек
выпущенный из клетки кеклик
с изнанки моргания) только есть.
Но тонких тополей уже не видно за холмом,
как богомольных подростков,
удалившихся в пещеру,
где они провели двести лет, Асхаби-кахф, –
один-единственный и
всасывающий шелест
первой затяжки ферганской анаши.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ БЕСЕДЫ ДВУХ СТАРЫХ АНАШИСТОВ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА
Как ее звали, спросил первый, сын местной партийной шишки полувековой давности, как ее звали, вокалистку Breakout? Второй ответил, такой же опустившийся отпрыск некогда знатной семьи (группа возникла, говорит, когда Греция вошла в Общий рынок; мы были тогда с тобой еще пацанами, в шестьдесят седьмом или в шестьдесят восьмом, в древесные времена, и до сих пор этот тягучий кризис, истленье Старого света, продолжается, – ведь она разная, Европа, – в общем, «то мир не наш, то мир Гомера», Оден прав), Кубасиньска, говорит, Мира, говорит, пока потогонные бабочки центральной Ферганы, лучшие мозаичисты желчно-серого юга, числясь в сургучной памяти отвесной жары недолгой чехардой из шершавых лучей, отмахиваются мшистой резью от заслонившей задний план светлой бугристости выбеленного дувала, – все-таки умерла в таком-то, ушла, как многие, как Маришка Вереш, например (спустя год после нее, кажется), стянула шуршащую петлю под корундовой остью по краю разлинованной смолы и там же, на виниле, оставила семь-восемь царапин, в которых теперь почти слышен мертвый штиль ее бесплотности.
* Эшонгёзар – название патриархального селения в Ферганской области.
Порожнее время
***
груды сиреневых плодов на сапфировых листах
гнутые лампады
ночная улица узко тянется
по ней плетутся ветви ползучие с колючками
чёрные тучи угливые плывут пугливо по пыли золы
вопящей из городских коротких цилиндровых труб
когда проступают первые искажения на черно-белых засвеченных пленках
которые никто не держал в руках
которые висят на штыках.
***
по пряной земле клубились ростки степного ненастья и лживое
растекалось соком инжира годов перезрелых, пресыщенных мифом
сочувствия некогда-близких-как-будто чужих
глядевших на тщетность попыток калеки-ребенка-сизифа-себя
выкатить из сосущей воронки чтоб быть
не плодом язвы мыслей их
в тине на дне болота немых
не хватать позволения стебль как последнее вместо спасения
благоуханных цветов под росою созвездий
первой религии света записанной
в небе узором рождения
первобытного бога с мечом из луча
бьющего в бесконечности гнутой
центр истины
первозданных народов журчащего юга когда
пали идолы и белозвучная вьюга
вскружила по склону скалы что с каменной кровлей над телом креста
и купола звонкого и бородка тонкая
полевого попа цвета снега
развевалась как знамя по северной неге
девы с соломенными руками
распахнутыми пламени языкам
ОДА СМЕРТИ
убывание до отсутствия
воление выкорчевать себя самое замуровыванием во плоти
сколь безусловна ее победа
сладострастно ее разложение
усохнув как старое
и далее уменьшаясь и уменьшаясь пустое пустот
явилось ничем чёрной яви
что частота представления
её давит
и давит
и давит
и давит
и давит
и давит
–
как полая дырка
***
там заканчиваются сны
о неправдоподобии
безвестной весны
отступает оставшееся живым
видна граница увядшего сада
за ней такая же тишина
она как будто влечет меня
значит можно не двигаться с места
и нимфы увядшего сада хромые
семенят, словно пляшут, но невпопад
мой взгляд шлет приветствие, но они слепы
и я догадываюсь – они восстали из склепа
в котором я сижу
я еще вижу
***
порожнее время
зияет от слова до слова
в омуте траектории вычеркнутых междометий
тональной системы агонизирующего языка
перекрёстной полемики ошибочных кодов
узора грамматики несоответствия зримому
сжатия масштаба среды
(состоящей в основном из воды)
утаивания области нулевой степени:
слово висит на времени
***
желая всем доброго вечера
я обессилела
тихо прилегла
на край мексиканского дивана, встала
дернулась
возвела бровь
увидела себя в зеркале
приостановилась
приосанилась
пошла
вились лианы
волны искрились
небо мазалось. меркло, загоралось
***
конфигурация мачт
бескрылые судна
дрожь, рябь
щекотливое исповедальни
сеть
циркуляция водных масс
сквозь резное оконце
в каюту капает солнце:
белёсое и полумрак
***
одно и то же
незнакомое пространство под кожей
наружу сквозь трафарет
переливается цвет
в форме которой не было
и сейчас нет
по плоти сети шита набело
парча древовидного кода
воспоминание о природе
узора параболы погружения
в то же искомое неразличимое
конечное положение
витка начала движения
Здесь
СТАРИК
Дерево прекратило свой рост,
очевидные ходы ты уже изучил
новые оказались ещё дальше, чем любимая реплика из фильма
В 60-х годах в кинотеатрах показывали порнографию, ужасы и Феллини
Ты естественно ходил только на 8 1/2
образ вещей теперь стал твоим патронажем
Оторвавшись от чёрного слона, бесполезно стоящего на белом
ты обернулся на голос – ничего, просто тебе послышался крик о помощи –
вернувшись к шахматной доске ты обрёл ее полем
В котором утонул твой глаз
«поправляю» (как говорил твой друг-гроссмейстер)
вместо фигур были листья деревьев
и ты не понимал химию растений
в чем смысл если какой-то крик возвратил тебя сюда
в лиственницу, детей, (атласный?) воздушный змей
Леска переплелась вокруг веток
И ткань рвалась о сучки
Так, наверное, в детстве
Звучала безнадежность:
порывистый ветер и леска натянута как будто сквозь зубы
поднимая глаза не хочется больше давиться этой игрой
плащ уходит дальше в глубину парка
***
О, если жертва будет достаточна
я уверен фильм родится в тебе
вот
жюльет бинош
она
в фильме «три цвета: синий»
царапает руку о каменную стену
и здесь, если даст Господь, мы увидим картину
в этой местности ничего нового,
даже прохожий француз кажется
камышом, сорванным мальчишкой;
брошенный у обочины он
созерцает
но если жертва будет достаточна
если в исступлении потлача мы
отдадим все
то эти заученные переулки, эти забытые объективом,
но не сандалиями
дороги, тропинки,
этот раскалённый июньским солнцем асфальт
и в такт осыпающий холодом лес
и лицо одной приветливой
брюнетки с каре
– обретут чудо
мы обретём чудо,
мы встанем перед Ним на колени
и ты услышишь руки киноаппарата
они тебя нежно погладят и отправят в сладкий сон
ПОЭМА ПО УЦЕНКЕ
1.
Вопрос Первый:
Али, ты пишешь за своим столом вечером,
когда самое время для этого?
нет, я хожу по магазину и перебираю
товары руками в поисках скидок и
пишу [скидка 10%]
иногда живу в постоянной скуке и
пишу [скука пять по цене четырёх]
Хватит паясничать
это стихотворение не магазин образов
это стихотворение afterparty
на котором ты собрал свои уценённые слова
но только здесь на этой барахолке
ты найдёшь
усталого господина на волге
с золотящимся Возрождением в руках
только ты заберёшь его домой
я думаю это не стихотворение,
а поэма
поэма уценённых слов
2.
Вопрос Второй:
какую поэму ты сегодня напишешь, Али,
бедный наш мальчик с именем нерусским?
какую эйфорию ты обретешь от нового фильма?
[амедиатека пробная неделя в подарок дальше 399 р. в месяц]
на что ты наткнёшься?
где твоё совершенство за 2999 рублей?
если устроить свой быт,
найти в нем радость,
то ты будешь
счастлив
эта поэма не будет поэмой вопросов
над тобой и внутри тебя будет
сиять один бесконечный ответ
[ответ бесценен для всего остального есть MasterCard]
и я смогу довести это до конца
это твоё совершенство за 2999?
да
это твоё совершенство за 2999?!
другого нет
3.
Вопрос Третий:
Как обстоят дела с поэмой, Али?
Обратил ли ты всю свою жизнь,
В товарно-денежный эквивалент?
И как у некоторых любовь твоя еси товар?
И любовь и рука кормящая –
укус жадных челюстей
и фильм и рождение его
подобие валюты,
но мы забыли о
нежности
если добавить в сумму покупки
скидку на нежность
получится почти любовь
[предъявите карту «нежность» на кассе
и получите скидку 10%]
и пусть это будут хоть
и товарные,
но
товарно-нежные отношения
СНЫ РЕВНОСТИ
ещё одно лето как медленное чтение
три месяца как три сферы ревности
я закрывал глаза но слышал их под кроватью:
не пытайся заснуть, поймав на потолке приятную мысль,
так не получится
не притворяйся будто тишина означает
говорили они
пытался: поднять одну из этих сфер,
как цирковой атлет в полосатой тельняшке гирю,
представил эту ретроградную фотокарточку и
почти получилось
выбросить одну сферу в окно,
но в последний момент она меня придавила
из неё
полилась чёрная холодная вода какая бывает ночью зимой
словно сок белых пластин льда
не убежать, не насладиться
и
ещё один день как возможность отыграться за вчерашнее
август так сладок, все к нему шло
река ищет путь к морю
мы смотрим на тебя – водяное солнце,
мы втроём счастливы, находимся по щиколотку в песке
смотрим на друг друга в отражении
но эта штука говорит мне:
не притворяйся будто знаешь эту любовь
не притворяйся будто ходишь по песку голым
не притворяйся
говорит мне
––––––––––––
когда это закончится у тебя будут: две кушетки, пляж или балкон, один обстоятельный разговор с другом, а главное солнца столько, что хватит накормить им всех: бедных, богатых, людей, траву
но это будет не скоро, остаётся только мечтать об этом моменте, а пока только и слышно от ржавеющего августа:
не притворяйся будто мечта означает
МОНОЛОГ
счастье засекреченное в будущей зиме,
лес отражающий хрупкость
я прошу перевести тебя это
я прошу рассказать
где тот словарь, что горит в руках
и упав обжигает снег или его предчувствие
переведи меня на эти гроздья-слова,
а эти гвоздья-слова на меня
я переведу с цветущего гербария на погоду
я переведу фотограмму
твоего любимого фильма на русский
если нужно я сделаю подстрочник
но ты скажешь:
у тебя же был только один –
язык, а ты его отдал
был только один –
избранный фильм, а ты его отснял
и в итоге у тебя
остался всего один знак
ты в тишине, ты в темноте;
ты согласен его подать?
ЗИМА СНИТСЯ
где-то там дворник вырезает тишину лопатой
где-то там спутник гладит черноту линзой
и между ними все вещи мира
спят под беззвучные хлопки снега о снег
и просыпаются
о скрежет лопаты
и ты думаешь если было бы все наоборот
и это был бы вторник и пейзаж как
в «Il deserto rosso»
все равно ты бы остался с этим
чувством
где все буквально здесь:
простыня – простыней, пижама – пижамной,
лопата – лопатой
кто-то потревожил тебя
соцветие на подоконнике помещенное в кадр вазы
не имеет значения
если завтра
ты снова попытаешься собрать это в необходимость
и все же где-то там знакомый голос перечисляет вещи:
дворник – притворяется своим делом
свеча – горит на голове
снег – падает о снег
а
дворник – свою шляпу свечную снял
и с трепетом на землю опустил
От слова «здесь» тепло и пробирают мурашки
сухое лето, так оно помнится
в шелесте этой книги,
в ветре
рассеченного воздуха –
фигура велосипедиста на фоне, обособленных высоток означает
выиграть пространство не у земли, но хотя бы у неба
«это прямо здесь, в ответвлении от проспекта»
скажется «здесь»
ты уже не свободен,
а нужно ли?
есть улица, у неё с тобой всегда два три воспоминания,
да и те словно не про тебя
непреодолимо желание, свернуть поехать по ней,
много воздуха в лёгких, и руки не слушают своей оси
педали словно шаги по виктимному
зреет жертва под солнцем, как не рожденная история,
как грустный блеск
быть может у неё был бы шанс,
но его отсутствие уже какой-то вектор, уже профанация более мощная
поэтому от слова «здесь» пробирают мурашки и помнится сухое лето
«следующая остановка
музей обороны москвы»
там за поворотом определенно не смерть,
но что-то ещё пострашнее
ЗДЕСЬ
Дважды снять сцену невозможно, пора
остановится здесь
расстелить, расправить углы,
сказать что-то приятное – в общем, устроить пикник
заняться первым, что придёт в голову:
«орнитология рук в бескрайних тенях»
[я буду пояснять, что вы здесь должны увидеть,
чтобы мы смогли доверять друг-другу]
твой crush с помощью фонарика и своих
божественных рук устроил тебе театр теней:
сплёл из пальцев и двух райских ладоней кондора.
А ты в восторге:
когда вы будете ложиться спать
этими руками он будет тебя обнимать.
Здесь нам придётся закончить начатое,
расправить мятые углы наших позиций, вкусов и решить:
готовы ли мы взглянуть на полную картину,
на отражение нас в логике готовы ли мы
признать
«симметрию любого нашего взгляда»?
Здесь как и всегда и везде, нужно несовершенное назвать,
дать этому хорошее слово и оно:
смотри вот это красота! вон там
над берегом летит,
слышится эхом,
сыпется на ладони,
сквозь пальцы течёт и
разбивается вдребезги о стену
прекрасные осколки чередой плывут за горизонт
Дважды снять сцену невозможно, пора остановится здесь –
забыть все любимые фильмы, забыть от чего тебе щекотно,
забыть свою походку,
не доверятся автоматизму,
не отпускать себя, а
забывать по-настоящему,
забыть – всего лишь значит
устроить пикник
Рваные оды
ода вегнеровскому стулу
дугообразная косточка в полом скелете птицы
ключицы сросшиеся между трубчатой грудиной
и позвоночником в англосаксонской культуре
двое разламывают такие у кого останется большая
предполагается что гадание восходит к этрускам
была и другая игра бери-помни или иначе ельчик
от диалектного но есть аналоги в других языках
латинское furcula но проще вилочка амортизатор
пружина при взмахах крыла сжимается в полете
возвращаясь к исходной форме взяв ее за основу
спинки из гнутого под паром бука лесного или
fagus sylvatica какой используют при строительстве
и изготовлении многой мебели например венской
производство которой было запущено в середине
девятнадцатого века австрийскими мебельщиками
к тридцатым годам двадцатого века таких стульев
было распродано более пятидесяти миллионов
потом ханс вегнер спроектировал еще полсотни
стульев больше сотни потом запустил в серийное
производство в частности кресло-павлин кресло-
медведь кресло-бык стул-ракушка китайский
стул круглый стул с серповидным сидением все
скульптурно-безупречны предельно лаконичны
в исполнении и вошли в коллекции музеев одно
из них было с такой вилочковой костью в спинке
с по-венски изогнутым ободом чрезвычайно удобно
уютно по-скандинавски сдержанно крайне просто
ремесленный подход несколько строгих правил
опираясь на законы природы и прочие исконные
принципы любил находиться в столярной мастерской
экспериментировал с материалом носил звание
мастера стула повелителя малой мебели короля
бытовых конструкций функциональности и прочности
позднее будучи увлечен имитацией птичьей анатомии
изобрел чрезвычайно удобный стул именуемый
вилочковым дабы сидящий на нем на шумном застолье
увлеченный мыслью о повседневных слепках истории
стал разыскивать имя похожее на немецкое слово
вагоностроитель кузовщик колесник каретник
ода безымянному
в апреле 77-го проклятый поэт шарль кро
подал во французскую академию наук
описание палефона в журнале рапель
написали господин шарль кро загнал
звук в бутылку чуть позднее в ноябре
создатель лампы накаливания изобрел
устройство от греческого писать звук
цилиндрическая спираль барабан игла
движущаяся по канавке извлекая звук
из упругой мембраны mary had a little lamb
прежде использовал фольгу в первый раз
приняли за чревовещание задумал другой
от греческого диктую звук такой механизм
некто неизвестный во дворце фреденсборг
от датского замок мира где-то в тридцати
километрах от копенагена иохан конрад эрнст
отвечал за строительство барочный стиль
зал с куполом площадка для верховой езды
конюшни оранжереи часовня медный шпиль
использовал в 89-м для записи двух голосов
женского по-датски мужского по-русски она
говорит о хорошей погоде он предлагает спеть
сам бисмарк чуть от радости не вырвал клок волос
так немцы говорят с сильным немецким акцентом
шорох треск гулкое шипение застали врасплох
мне очень забавно слышать голос говорит она
свидетельство речи вязкий неспешный шум
вращается по кругу некий безымянный человек
выходит из резиденции где по традиции глава
иностранного государства на оконном стекле
обязан нацарапать свое имя под проливным
дождем вдоль балюстрады через парк идет
в мастерскую расшифровывать небольшой
фрагмент разобщенного прошлого
ода шведской вазе
вещество из самых древних аморфное
в агрегатном состоянии вязкое жидкое
в романских языках исходит от латинского
vitrum светлый на германских от сияния
а славянские заимствовали из готского
кубок чаша сплав из песка кремнистого
с поташом или иначе продукт стеклоделия
известный еще с древней месопотамии
скажем цилиндрическая печать династии
аккада возрастом где-то четыре тысячи
с половиной лет по версии плиния старшего
на песчаном как-то берегу финикийские
купцы вместо камней какой-то иной субстанции
сложили в очаг а с утра в кострище обнаружили
стеклянный слиток однако в правдоподобии
небезосновательно сомневаются хотя исконное
происхождение материала предмет полемики
египет финикия средиземноморье африка
среди мест рождения весьма примечательна
синхронность открытия лучом приманчивым
стеклу достойных хвал чрез то ж откроется
в погодах разных сил сказано у ломоносова
в письме о пользе стекла греческая керамика
канфар килик киаф мастос скифос и прочие
изготавливались иначе решающее значение
имело качество глины загодя размачивался
исходный материал в коринфе желтый в аттике
красноватый в италии бурый декоративная
роспись выполнялась красками с последующим
обжигом минойская минийская микенская
чернофигурная краснофигурная каленские
мегарские витиеватые узоры сюжеты сражения
спортивные состязания пирующие скорбящие
мифологический кинематограф экзекия евфрония
псиаха евфимида но эта была создана сосибием
афинским около 50-го до н. э. резьба по мрамору
рельефный декор тулова вакхическое шествие
артемида гермес жаровня путник охотница
пляшущие менады сатир аполлон музыкальные
инструменты бенджамин хейден мраморы элджина
foster-child of silence and slow time вопросами
изложены изображения стазис обращение к дереву
жертвоприношение вечное искусство метафизика
ye know on earth and all ye need to know эта же
из стекла изготовлена в форме напоминающей
нечто вроде тюльпана прозрачная начисто лишенная
узоров фигур содержания более значительного
чем емкость для жидкости из застывшей жидкости
не дразнящая мыслей не взывающая к метафорам
сравнимая с той разве что своим безмолвием
ода арабскому скакуну
that’s how close marengo stands to history
– s. morrissey
ее вывели на аравийском полуострове во времена крестовых походов
породу верховых ростом в холке чуть больше ста пятидесяти сантиметров
с плотным сухим сложением слегка вогнутой переносицей прямым крупом
длинной изогнутой шеей круглым туловищем серой масти но с возрастом
темные пятнышки на шерсти по всему корпусу выносливых резвых в галопе
небольших приспособленных к условиям пустынь богатство кочевников
на основе этих в дальнейшем были выведены прочие верховые упряжные
берберийские андалузские липпицанские першеронские первые изображения
датируются вторым тысячелетием до нашей эры лошади с высокими хвостами
утонченными головами встречаются в египетском искусстве на таком сидит
вскинув правую руку на перевале сен-бернар на вздыбленном коне среди
крутых горных обрывов снегов что кáмней мертвою громадой подперть
стремился небеса и кровью их багрил пески там где некогда ганнибал
с карлом великим внутри композиции развернутой по диагонали впоследствии
картину воспроизводили в мраморе бронзе фарфоре резном дереве а давид
вероятно принадлежавший к масонской ложе впоследствии скончался
в брюсселе некоторые исследователи полагали что произошла от подвида
equus caballus pumpelli прочие уверены что от equus ferus caballus по ветру
дóлги веют гривы копыта мещут вихрем персть весь мир содержится движеньем
у домашней лошади под влиянием среды сформировались особенности таким
был этот названный в честь пьемонтского городка откуда семи лет отроду
вывез на спине в целости и сохранности наездника потом сопроводив дальше
йена ауэрштедт село ваграм москва седьмая коалиция герцога веллингтона
одного из пятидесяти двух привезенного для битвы в восточном пригороде
александрии некто уильям генри фрэнсис петре барон эссекский продал
британскому гренадеру тот перевез в кембриджширский нью-барнс где дожив
до тридцати восьми а именно до глубокой старости скончался оставив скелет
только что открывшемуся королевскому институту утратив двое копыт одно из
которых служило джону юлиусу ангерштейну табакеркой из другого смастерили
основание для серебряной чернильницы позднее его двукопытого передали
в военный музей в челси где под стеклянным прозрачным кубом подвязанный
проволокой гордо выгнув шею я смотрю в глаза что смотрели на императора
гладкий продолговатый череп пустые глазницы выглядывающие из-за стекла
стремятся рассмотреть в лицах зевак рыхлую лишенную очертаний историю
Из книги «Петь вместе с птицами»
Из книги «Петь вместе с птицами»
(2020, д. Шелепино, Дмитровский р-н)
Вот что важно: никаких больше стихов в терцинах! *
– Пьер Паоло Пазолини
Нам следует научиться смотреть на мир нечеловеческими глазами... **
– Ричард Докинз
***
Комья земли в снегу.
Голые деревья на ветру.
Рябь на оттаявшей рыхлой воде
деревенского озерца...
Кашель и жар,
и красное горло
пышной весны.
***
Запах ладана,
запах гробов в душной церкви.
Счастье последних
людей на земле.
Да получат то,
что себе загадали.
***
Белая чайка.
Красное солнце.
Серый снег.
***
Еще вчера
мы не смеялись над смертью.
Нам было удобно осознавать
свою исключительность.
Сегодня мы исключены
сами собою из жизни.
***
Синий фабричный ангар,
из окон при определенном свете
казавшийся озером,
теперь заслоняет
необъятный простор.
За колючей оградой
работают люди,
при особом освещении
казавшиеся синей водой.
***
Наблюдать эволюцию рук,
шарящих по кустам
в поисках еды,
разбивающих камень
для топора,
играющих на клавесине
Les Cyclopes Рамо.
***
Я покажу тебе ужас
в апрельской снежной буре,
в нежданном блеске солнца,
в качании берез,
в непобедимой смерти,
в неотвратимой жизни.
Как будто этого не знаешь ты,
как будто этого не знаешь ты.
***
Зеленые побеги
на красных кустах.
Триумф трихроматического зрения.
А ведь говорили бы:
белое солнце
на сером небе.
***
Кот то с одной,
то с другой
стороны дороги.
И всякий раз – он живой!
***
Зеленый щит
окрестной лесозоны
спасает от непрошенных гостей.
Коза гуляет
мирно по опушке,
псы рвутся с привязей,
воскресли муравьи
среди распятий травяных.
***
Одиночные тюльпаны
в сырой траве
вдали от клумб
под фруктовыми деревьями...
Дрогнет газонокосилка
даже в самых грубых руках.
***
Оглушенный соловьями
в средине дня,
встаю
под деревце,
включаю смартфон
с «Незабываемым пеньем соловья».
Ах, вот и они –
слетелись послушать.
***
В буром пруду
бурлит аэратор,
гонит воду в ручей
сквозь бетонную трубу под дорогой.
Ливень смывает
пыльцу с цветов.
Сирень в цвету
и гиацинтов черные кристаллы,
разбитые порывом ветра.
***
До слов
(которых не было вначале),
до зарожденья языка,
рекурсии и ритуала,
до символа и иконического знака
наш предок – человек
уже умел
петь вместе с птицами.
***
В нас поселились герои
прочитанных книг:
беженцы и нелегалы,
постоянные жители
и законные граждане.
Прибывают и убывают,
путешествуют и возвращаются.
Как в бесконечной
«Игре престолов»...
Экзистенциальный кризис
подобен вражескому нашествию.
Погубят Рим или построят
Александрию?
***
Не очеловечив природу,
не раскрыть
природу человека.
И дело не в антропоцентризме,
а в отношении к метафоре...
Что постижимо,
а о чем лучше не думать,
решает
случай.
***
В книге «Срок времени»
Карло Ровелли говорит
о недостаточности языка.
***
Ни у кого
нет никакой судьбы.
Все, что случится – уже случилось.
Ни у кого
нет никакой надежды.
Мы путешествуем в прошлое – в пустоту.
***
Немало уже виртуальных надгробий
в лентах фейсбука.
Ходим мы навещать
в облако мертвых друзей.
***
Самые дальновидные
сделают далеко идущие выводы,
произнесут предсказания,
огласят пророчества.
Не сбудется
у них ничего...
***
Мыслители и поэты
молчат во время
войны и чумы
потому, что стыдятся
своих банальностей...
Но и среди них
находятся «смельчаки».
***
Ложь накапливается
по принципу
снежного кома,
принимая форму
любых убеждений.
***
Хорошо организованная толпа
людей, идущих в метре
друг от друга,
в защитных масках и перчатках,
с бейсбольными битами
в крепких руках.
***
Голые отцы-одуванчики
еще качаются на ветру
в надежде осеменить.
***
Здесь, когда встречаешь человека,
ищешь глазами его собаку,
а не увидев ее, думаешь:
«Как хорошо, что он без собаки!»
Это неандертальские гены
дают о себе знать.
***
В известной легенде
о гибели Архимеда
и Архимед, и легионер
боролись за свободу.
Один за свободу мысли,
второй за свободу Рима.
Хоть и тот, и другой проиграли,
все ж лучше быть Архимедом.
***
Ницше
читается с любого места
(Черновики и наброски),
пугающе современен,
близок к науке;
поэт и филолог –
он и не мыслил
потакать языку.
***
Хочу найти
отсутствующего человека,
обрести пустого человека,
не говорящего ничего,
не помнящего никого,
без языка, без разума, без сознания.
***
Мы не умеем дышать железом,
как жители
бескислородных миров.
А могли бы дышать
солнечным светом,
угарным газом, серой.
***
Журчит ручей,
орут петухи
на фоне птичьего пения.
И грохочет мусоровоз
на грунтовой дороге.
***
Проснуться,
читать Вернадского –
главы из «Биосферы и ноосферы».
На пробежке
начать гульдовского Шёнберга.
Обнять лошадь...
***
Жизнь не хрупка,
но фрагментарна.
Человек усложняется
быстрее языка.
Отсюда недопонимание,
поэзия...
***
Мы никого не берем с собой.
Мы переходим улицу,
если кто-то идет нам навстречу.
Мы запираем двери,
занавешиваем окна,
отступаем в глубину комнаты,
если снаружи людно.
Мы затихаем при звуках чужого голоса.
Наша речь звучит как оправдание.
Мы садимся и думаем о себе:
обеляем себя милосердием,
одалживаем себе жалость,
приговариваем себя к состраданию,
казним любовью...
Так исчезает наша свобода.
И мы никого
не берем с собой.
***
Ручные слоны
болтаются без дела,
дельфины прочесывают
прибрежные воды
в поиске туристических катеров.
Люди, пытаясь сохранить здоровье,
теряют работу,
впадают в депрессию,
перестают откликаться
на звонки.
***
Коза уходит – через лес – с рабочими – на убой...
В морозилке еще много творога,
на тропинках свежи горошины.
Сегодня сбилось ее расписание:
время идти – через лес – на фабрику – на убой...
А за козой ковыляет
наш старый пес,
умерший три года назад,
зарытый в этом лесу.
***
Я бы хотел – когда наступит время –
чтоб книга выпала из рук
со звонким хлопком,
которого бы не услышал.
Так, утверждают,
завершится Вселенная
через миллиарды лет,
не взрывом и фейерверками,
а как будто лопнет
пакет простокваши...
Но что это
будет за книга?
Шамшаду Абдуллаеву
Карта
Контур точки движется
точно сам по себе
при внезапно измененном масштабе,
где и гора идет к Магомету,
сжимаясь в точку,
и вот озираешь
уже не песок,
но только воду,
огибающую корабль,
как в притче Ричарда Фейнмана,
где волны бегут к горизонту,
а не от него.
Карта, дополненная деталями,
меняет плотность,
и вот уже она
тяжелее стола,
на котором лежит –
победившая поверхность.
* Из поэмы «Отчаянная витальность» 1963, перевод К. Медведева (2015).
** Из книги «Восхождение на гору Невероятности» 1996, перевод Ю. Плискиной (2020).
Зёрна граната
***
Марии Малиновской
то как твых губ песню напой и объятьями рёб’р песочных проникни фарфоровы’ стены родильных домов * и увидь, же там жизнь пограничует с’ смертью, потому она на-в ‘ё пальце рождается тихом, а смерть есть у жизни на языке., это храмы богов неосвящённые, и там мы приносим детей либо жизни на жертву, либо смерти на рýки, но плюют в храмы эти, крича, что мы смерти ничем не должны и иисуса нароком на пример подгоняют плетьми * вглубь войди и прислушайся к первому крику или может к последнему стону,: брату ё’о., можешь взвесить, коль хочешь пуансон в чаше рук свых, которым штампуют в утробах зародышам будущий пол – или выйти на край,: белый край съ кровавой дорогой, ‘з кипариса муки натолочь и напечь для младенцев причастного хлеба в сердцах,: и си’ корки святые заховать въ земле под стеклом,: стать единою целой с землёй через образ и детство: и своё, и чужое, и их * ты – земля, и растёт у тебя на плечах твой ребёнок, зачатый от многих таких же живых * твои груди в крови и колена запачканы тоже, дышишь ты тень-листвой источай’мым эфиром в цветах, тебе ветви – одежда и фрукты твой срам прикрывают и копирует парусник в море мизинцы и части лица * он придёт к тем домам, принося с собой добрые вести, и всю кровь превратит в сладкий сок дуновением ветра чужим * вот тогда повторяй детских криков напев сладколесый и введи если сможешь песню губ твых в их ты
***
я понимаю: в утрате утробы – рисовое зерно страданий, плантации радуг для будущего хаоса радуг и ангел смерти рисует твои иллюзии облаками *
я разбираю: птичия крылья баобабов-бибабо маленького мальчика в новом преображении, затем большие дома большого города, застывшие в обманном спасении нового утра *
я разумею: литургию разорванных животов и обрезанных ружей в двух и семи километрах от дома,: грязной квартиры со взглядом церкви любви из окон *
я схватил: лёд старого времени и он тает у меня на пальцах, как будто бы превращаясь в нечто иное для всех нас, но чем он, скажи, отличается?, передаваемый из рук в руки *
я вижу: тот же лёд в одной из трубок пито под пуэрто-плато перпендикулярно земле, на которой всё прошло до такой степени, что ничего больше не мыслит прийти: солнце ещё ничего не значит *
нас выкинули из забытья настоящего в странный наигранный фильм прошлого и говорят, что момент жизни рядом и что впереди только лучшее., но там лишь отражение и где-то это всё уже было,: некоторые люди это знают и их наречия вянут, не в силах с этим смириться *
солнце ещё ничего не значит *
я ем рис в горьких листьях и смеюсь: вы едите рис в горьких листьях и смеётесь: сегодня правда настало?
МАРТИРОСЯН III
твои глаза остановившиеся часы, помёркшие спутники, зёрна граната., зайди покажи мне листву за садóм омертвелым, мы к пруду подойдём и удить станем вместе в воде *
мы утопим в следах души листьев и шкуры животных, мясо в небо сожжём чтобы ночь заградить нашим жертвенным облаком словно куклой бумажной в театре пальцев и рук *
час свободы для волка,: он нас учит пресным песням своим и мы втягиваем их в себя как аромат беспокойного цветка перед рассветом * мажем се’е губы ими сливаясь с ними * мы песня без слов и без тел и без губ *
и вот мы волчьим шагом пойдём, камыш задевая бедром, на свет синих маячков, указывающих на клад в темноте. дивный спектакль: сколько золота нам суждено, столько мечт ани твой, ани мой ум в себе не хранит *
и с’ё золото всё с каждым словом бы твым встать смогло бы во ряд,: если б каждое слово твоё – золотая монета,: если б только монету одну нам расплавить пришлось, то река утекла бы до самой границы европы й у паломников ног прекратила свой путь благочинно *
если б я только слово нашёл, лишь одно, но своё,: если небо ещё не связали б названием неба, а лесá бы лесов, если ей бы не дали ‘ё имя, то ей дáл бы ‘го я,: что-то вроде такого: одно из таких твёрдозначимых слов,: это слово то в золото сделать я мог или выстрогать смог се’е ‘го на ладони *
и тогда, если будет рассвет, мы найдём путь к колодцу лесному, и все бросим монеты туда, чтоб они стали новой водой и колодец нам эхом чужим отзовётся, мы услышим ё’о и заснём у подножья, словно хищники леса, в своих же следах
й у – читать как [ju]
’го – читать как [vo]
се’е ‘го – читать как одно слово: [sʲe’evo]
***
Роберту и Марии
мосты без вас, ребята, опустели. они не упадут в воду, как мы хотели. не станут кораблями дальних стран. мария, ты убрала гирлянду хлопковых планет, роберт, ты спрятал фарфоровые дома. я хотел раздраконить ваши коробки и собрать каждому по машине, как я делал маленьким: мы бы играли наперегонки и смеялись., ваши книги положили бы на пол, одежду раскидали по комнате и это было бы море или лава, или нет!: острова!, и машины бы стали лодками, мы бы могли ночевать каждую ночь на новой земле, вести корабельный журнал., на первом острове жили и́хвы – полуженщины-полуолени,: они напоили нас молоком, на втором – óйми – птицы с мужскими лицами, они собрали для нас изысканные плоды, на третьем жили айáки – бесполые дети с золотой кожей,: они научили разводить огонь на драгоценных камнях, на четвёртом – причудное стадо быков с шерстью из облаков и ледяными рогами, их мычание мягкое как снег, цветущее как сотня тинтиннáбулумов,: не одну мы мелодию у них украли, не одну унесли с собой песню на юг, а там поддельные комнаты были и места чьей истории уж’ нет,: она выгорела на солнце и ‘ё сняли как кожу, там пусто,: только памятники стоят. но разве памятники – история? разве она просто не уходит в никуда?, разве о ней не забывают как об очередной бабочке пролетевшей над клумбой? но если бабочек ловят – их убивают, а кому нужна мёртвая голова прошедшего? ведь культ погибших не избавляет нас от войн в настоящем, не избавляет нас от боли выбора и страха вынужденного выбора, не лечит от ошибок, которые вне времени, это пуговицы, застёгивающие манжеты истории на запястьях людей, предостерегающие их, напоминающие о данных обетах., но ошибки, как и манжеты, когда-нибудь выходят из моды и одни заменяют другими, как строят новые мосты, чтобы сшить разорванный город миром, но мосты пустеют без друзей и вот вас нет в городе, нет со мной, вы улетели восвояси, может и навсегда, а я стою на мосту и не могу полететь за вами,: будь мой мост хоть летучий корабль, он всё равно привязан к земле. он не упадёт в воду: я сойду с него и пойду не в вашу сторону, далеко от старого города, буду искать ваши самолёты на небе и, не найдя, обнаружу себя в новом месте,: город без друзей как картинка-оборотень: неизвестный, пугающий, чуждый, он становится меньше, вытягивается в канат по которому ты теперь ходишь, и – либо упадёшь, либо найдёшь равновесие и развернёшь его снова как свиток драгоценной бумаги и будешь, хромая, ходить по нему сверху вниз, ища следы старых записей, словно ответы в корабельном журнале затонувшего корабля. на пятом острове не было ничего.: мы приплыли туда, чтобы разойтись в-по разные стороны ветра.
***
Маше
и кожа ‘ё кора запретов рассеивается как дымка над бретонским озером * надела ‘на на колени танец вечерних цветов и баюкает воду́ незвучного вкуса в стакане * детская тряпка лица ‘ё так брежно красива и голос как снег в волосах,: смеётся она, молчит, закрывает глаза * и стёгна испуганы леса касания тиши, проверены пятки искусом крапивы понежным, а икры как будто беременны птицами ветра и песни их: шёпот раскрывшихся почек, черника, смола * она пальцами небо тревожит,: того что наискосок от поля событий вчера,: её пальцы рокамбóльные осадки, читающие новое время года у нас на головах, она меж пространствами ветра, воды и тумана кольцо, кажется, потеряла, но смеётся как будто смешно и плачет как будто грустно * её образ: бесконечная фиоритура созвездий вечером позднего лета дорóгой домой., её имя: цветок на востоке под ливнем в воде, и сколько же песен вокруг!, её голос: гнездо этих птиц в васильках
***
чёрный вальс твою жизнь оглашает начало * на чело голос ветра налип, а твой лоб разбивался об утро сначала и об ночь наконец, будто бубен второе, и первое: струны * говоришь: где смарагдные стены наощупь?, разопетые речи о розах до смеха? слышишь: раз: босиком убегают на солнце дикари в травяных доспехах. слышишь: два: полый пень во дворе и никто не садится на нём. слышишь: три: как глаза жалит свет и меняется образ ливнем сухого * колыбельные руки твоего отца, пальцы-погремушки в волосах, и липнут ласки к щекам, но ланиты – любовникам только * говоришь: где легла та лáловая дорога?, разукраденные слова на листовках? слышишь: сирены врачуют. слышишь: начальную мореску шума на отравленных островах * горсть воздуха прячешь в карман на потом или крупицами путь восстановишь петлявый из золёного леса до дачи алой * слышишь: охотники пир затевают в утробе. слышишь: добычу крадут дикарей. слышишь: три: вальс порубили на марши *
спутники леса, волшебницы воли шепчут тебе сказки ночи: кармины: ты серебряных пуль наконечник наколдуешь себе с этих слов и охотники сок дичи другими поднесут убитой * из чела их сотчёшь платья диким зверям, населяющих лес тихим миром своим * оглаголишь деревья, деревни и стадá козерогов искушением нежным весенних дорог на кухонной скатерти русского дома * предложи им попрыгать через костёр пировой забавой, где утра: бубны и ночи: струны, где твои кипарисы-й-косы стрелами полетят в облака и упавшие с неба туши небесные урожай принесут дождя
По расползающимся тропинкам
***
в движении ветра
ощущается желание
найти абсолютное равновесие
все предметы в моей комнате
будут расположены правильно
в тот момент как придётся
я умру в своей кровати
и за выморщинистой постелью
меня не окажется
но я почему-то знаю сейчас
куда закатится монетка
которую ты так и не сможешь найти
***
инициация металла
высвобождается экстатичностью отводимой бессвойственности
ракурса /воспоминание о начале/ соединений
в спонтанно увертываемую герметичность
(способной к расположению лишь как к неориентируемости)
/отрицая движение в сторону
запечатлевания/
сообщаясь собой дефектами отделения
позиционности направляемости от его исполнимости проявившейся в расстоянии
(равновесие памяти) (беспамятство перспективы)
являют прогнозирование как первую форму
гибридной коммуникативности
обнаруживаемой в регенерации
/пластичность/ /чувство подавления/ /поиск/ материей
разгадываемости плоскости /поверхность/
воспринимаемой как стороннее вещество распада
перенесение |связь кинетичность равновесия|
реликт трансляции
боль распознание организмом
своей универсальности безучастия
вытяжением наединенности
сопредельной (сопровождением) рождению
рассинхронизируя принцип /объяснимость/ (намерения)
в апологию гермафродитизма /устойчивость/-(реактивностью отклонения)
|лихорадочность врожденный опыт шелка|
(распускаясь) /эталон наблюдаемости измерения/
покрывается поглощением окружной узнаваемости путем тотализации сходств/аффектация периодичности/ /противодвижимость/
в застывшую вспышку /истерийность лёгкости//фасция неусвоенности/
/Lotus in motion/ /антикупол обнаружения/
упругость /иллюзионная буря/ /заплетена в неприсутственность голоса/
в проницательности фокуса (обнародование рефлекса самозабвенности)
|трепет очевидности в наиболее сосредоточенных интервалах исчезновений|
реакция на присутствие
/возможность способ коммуникации пространства/
недосказанность наличествования /наваждение проводимости обзора/
вновь найденность объекта /оставшееся это вымысленность шума/
разложение
невозможность выронить с земли то
что не издаст звук
высота речь цветка
говорящая слухом
***
|зрение|-/отброшенная траектория/-/миражирующей периферийности/
вышедшей ломкой переимчивостью |узора воспроизводимости|
|наблюдаемостью сновидения мозжечка как самовосполняемость|
имеет быть как продолжение звука
предуказывая на феномен вариативной исполнимости |звук как побег места|
-/акустическим чрезлучием подменой выжигает эхо/-/преисполняемым в усвоении/-/имитирующим катализацию восстановления/-/что перенасыщает каждое вещество к преодолению создания/
обморочностью лезвия крадучись началом прерванного жеста
обращаясь к форме как к надрезу предела
|спонтанности которого смерть уступает место|
похищая у тела время
(произносит неизбежность
неосуществлённой апологии привилегированности этого места
перед другими)
дневная поверхность тянется узлами отозванных взрывов
|обретая центр диктует отсутствием|
/радиуса звука неспособного наколоться на гроздья потенциальности оборачиваясь тишиной/-/в совлеченность падения/
-/т.е в всматриваемость, вышедшую за ее продолженность после того
как оно было обращено в ожидание/
: на ладонях твоих отпечатана карта побега
-/неоднократность элемент отступления/-
-/за пределы спасения/-/цветочный порох/
|если я спрошу, сонорны ли insècta?|
|танец насилия на окольных тропах|
***
В расстоявшемся вытяжении фокусоидальной синхронности,
лишенной значения, но выззначивающейся,
как и акустичность пещер учила язык вкрадчивости,
с непреднамеренностью осевоядного внедрения в инициацию периодики
инерционной неопределённости недостаточности пространства
в узнающейся рефлекторности самораскрытия объекта
вниманием т.е пресыщением повторяемости
влекущим забросы полузначности масштаба
закоротившегося самовоспоминания
уклоняющимся цветком
из проницаемого предвосхитив проницательность
завороженная скорость заживо направляет увиденное
преобразуя форму в выражение призывности
как и станется могилой отца для тебя
спицей вползшей в колесо велосипеда
и ты здесь, чтобы задохнуть крик
состарив сон заколоть горизонт выцветением
пляской в погоне за побегом инстинкта воды
научи меня исповедальностью безучастия
даже сейчас
пока это стихотворение никогда не закончится
В прибрежной части Кунашира
разрождающиеся завязи айвы осенью будут опадать без тени
Чарльз Бернстин. Мир вверх тормашками (перевод с английского и предисловие Яна Пробштейна)
В своей новой книге «Вверх тормашками» (Topsy–Turvy, Chicago University Press 2021) лауреат Боллингеновской премии 2019 года Чарльз Бернстин продолжает отказываться от находок, обновляя язык, остраняя реальность (если воспользоваться излюбленным им выражением В. Шкловского).
Джона Эшбери как одного из самых ярких представителей Нью-Йоркской школы и Чарльза Бернстина как представителя языковой («L=A=N=G=U=A=G=E») поэзии связывает не только то, что оба были удостоены Боллингеновской премии, но, в первую очередь, отношение к языку. Немало общего между ними и в поэтике, прежде всего, в отказе от громких фраз, пророческих утверждений, эмоций, исповедальности, некоей эгоцентричности. Поэзия – для обоих – дело частное, но от этого – не менее важное. У обоих поэтика построена на остранении; «странность, которая остается странной», как выразился сам Бернстин, перефразируя Паунда («новость, которая остается новостью» или «неустаревающая новость») [1] в своей статье, посвященной 80-летию Джона Эшбери [2]. Оба нацелены на обновление языка, стихи обоих построены на фрагментарности, переходе от одного утверждения к другому без подготовки. Но у Эшбери, стихи которого сюрреалистичны, эти переходы более плавные, основанные на кажущейся связи (которую Бернстин называет «гипотаксисом»), использовании таких союзов, например, как «между тем», «тем временем», которые на самом деле ничего не связывают, но являются вымышленными или ложными связками:
Это не может быть чем-то слишком очевидным, как кортеж
машин, не знающих, что они кортеж,
или покрасочные работы среди многих, которые взяты
как подряд у компании, владеющей зданием театра.
И все же это должно себя осознать, иначе станет тягостным
однажды днем. Они так усердно стараются стать американцами,
но в итоге то, откуда вы родом, имеет значение,
не кто вы или кем собираетесь стать.
В отличие от верблюдопарда, это не может быть слишком очевидным
или незнакомым. Просто склонись и жди, и постепенно
проявится водяной знак, грусть, дрожащая среди ветвей деревьев,
образы и тому подобное, конфузливые демагоги пришли нас поздравить,
незаметно подталкивая нас все ближе к вехам,
одобренным Администрацией роста Похождений Плута [3], улавливая
соки, пока они не загустеют в клей и не истощат нас,
что означает, что случиться может все, что угодно.
Так что странные знаки вскоре проявятся.
Он долго сидел на крыльце.
Сто миллиардов раз решение окуналось, махало
и было таково. Хорошей погоды! Вот именно.
(«В отличие от верблюдопарда», “Unlike the Camelopard”, p. 25) [4]
Бернстин даже считает, что сюрреалистическую поэтику Эшбери можно охарактеризовать как «скольжение», кажущийся постепенным, «гладким» переход между несвязанными частями, как в поэме «Конькобежцы» или в живописи Де Кирико. Напротив, он стремится к более резким, ухабистым ("bumpy") переходам, основанным на «паратаксисе», как в известном двустишии Паунда:
В толпе безликой появились эти лица –
На черной влажной ветке листья.
(«На станции метро». Перевод Я. Пробштейна)
Далее в своей статье об Эшбери Бернстин пишет о том, что всегда понимал название книги поэта, критика и переводчика Дэвида Лимана «Последний авангард», посвященной Нью-Йоркской школе, <…> как «последний перед данным», то есть следующим за ним. Ибо авангарды – это всегда и неизбежно смещенные и перемещенные флотилии, разбросанные в открытом безымянном море, которому каждый стремится дать имя. Лиман совершает риторическую ошибку, рекламируя предметы своих исследований как аполитические, в процессе чего он смертельно подрывает политические и этические пристрастия и беспристрастность Эшбери (его клиническую ценность, как это понимает Делюз)[5].
Авангард для Бернстина – постоянное обновление (перефразируя формулу Паунда "Make it New"). Основываясь на «Патафизике» Альфреда Жарри (1873-1907), понятии, которое тот ввел в романе «Деяния и суждения доктора Фаустролля, патафизика», определяя ее как науку, связанную с законами, которые управляют исключениями и объясняют вселенную, добавочную к данной, Бернстин, еще раз остранив это понятие, выдвинул так называемое «патакверическое» воображение (the pataquerical imagination), причем "querical", причастие, образованное от слова "queer" («странный», «чудной»), являясь к тому же эхом-отзвуком слова "quest" («поиск»), подчеркивает устремленность, поиск паранормального, патафизически странного [6]. Сам Бернстин пишет, что это – «синкретический термин, объединяющий "странность", "дикость" (или необузданность) и рискованную ворчливость» [7]. Слово «эхо» неслучайно, поскольку Берстин выдвинул также идею «эхопоэтики», то есть поэтики, основанной на эхе, которое всегда деформирует или остраняет основной звук – так что в том, был ли первоначальный звук, возникает сомнение. Развитию этой идеи посвящена большая глава в последней книге эссе Бернстина "Pitch of Poetry" [8]. Он не застывает на месте, но вместе с тем и не уходит от наболевших вопросов повседневности. В последней книге эссе он пишет:
Вообразить, что есть нейтральное пространство, ремесло поэзии, свободное от идеологического давления или заражения, – есть позитивизм. В поэтической культуре – это наиболее заразная форма идеологического самообмана, поскольку она не может раскрыться для противоречий, различий или диалектики, то есть со (противо) позициональности.
Вознестись над идеологией, приверженности эстетическим партиям, течениям, группам и позициям – значит быть ослепленным идолопоклонством.
Поэтика ценна в той мере, в которой она может породить другие точки зрения, как согласие, так и несогласие, в ответ. Циклическая триумфальность групповщины в послевоенной американской поэзии, в той мере в какой она намеревается положить конец спорам нежели их стимулировать (букв. foment, побуждать) – самая лицемерная из позиций.
Эта триумфальность есть зеркальное отражение, а не сражение, с авангардизмом формалистского прогресса, которая искореняет все предыдущие и другие <формы> почти так же быстро, как и самое себя.
<…>
Задача изогнутых (bent studies) занятий – двигаться поверх «экспериментального» к неиспытанному, необходимому, вновь формирующемуся, условному, изобретательному. Новизна сопротивляется картам. Я стремлюсь к поэтике, которая отрицает толстокишечную высоту как единственное, лучшее решение исторического авангарда, но также отрицает и его темного близнеца, официальную поэтическую культуру, пробавляющуюся на дне лоботомизации поэтической инновации.
Конфликт – рябь искусства [9].
[1] Pound Ezra. ABC of Reading.
New Haven: Yale University Press, 1934; rpt. New York: New Directions, 1960. P. 29.
[2] Bernstein, Charles. “The Meandering Yangtze.” Pitch of Poetry (Chicago The University of Chicago Press, 2016), P.
152.
[3] В оригинале обыгрывается название серии гравюр
английского художника 18 века Уильяма Хогарта и одноименной оперы Игоря
Стравинского, написанной на либретто У. Х. Одена и Честера Кальмана.
[4] Из книги «Быстрый вопрос» (2012)
[5] Bernstein, Charles. Pitch of Poetry, P. 152.
[6] Bernstein, Charles. “The Pataquerical Imagination”, p. 293–344;
“Pataquericals & Poetics”, p. 345–349 (последнее является своеобразным словариком терминологии «патакверической поэтики». Chicago The
University of Chicago Press, 2016.
[7]
Bernstein, Charles. Personal email as an explanation to Pitch of Poetry, p. 77: This is what I call the pataquerical
imperative (a syncretic term suggesting weirdness, wildness, and precarious
querulousness).
[8] Bernstein, Charles. “Echopoetics” Pitch of Poetry, p. 187-292.
[9] Bernstein, Charles. Pitch of
Poetry, P. 297.
Из книги «Вверх тормашками» (2021)
САМОИЗОЛЯЦИЯ
Не выйдешь из
выхода, наигрывая едкий
мотив из старых деньков,
когда мы танцевали
до самозабвенья. Теперь мы
в забвенье, Божье
безмолвье делает
нас глухими друг к другу,
и скрипач пиликает
знакомый мотив. Знакомый
и убийственный. Проснись,
слушай эти застывшие
все еще голосочки:
Антропоцен
играет рядом чуть
севернее и это
лишь привкус того,
что грядет.
ЕСЛИ БЫ САФО БЫЛА НЛО
Джону Эшбери
Если бы я был джинном,
Мы б танцевали на планете Плутон
И обедали на пляже Ипанема в Рио.
Больше ничем особым
Я не привязан к этой разрезанной ткани
Чудесного, что продается все эти годы
Без покупателей и лишь с тремя
Правомочными торговцами. Я почти достиг
Марса, потом вернулся домой, слишком много
Грязи в тех краях, и я скучал
По запаху родной земли
Даже если б он оказался импортированным.
3 сентября 2017
ПУТЬ ЗЕНОНА
Три шага
вперед, сбит с ног
на пол;
встаю,
прошел два
шага назад,
сбит с ног
опять; встал
вновь. Два
шага вперед,
время вышло.
Пробился
один шаг назад,
пробился вбок
на пять шагов.
Сбит с ног.
Очнулся,
головокруженье, пять
шагов
назад
на место.
Продолжаю,
как
прежде, как
после.
ARS POETICA
текст
это
дик
ар
ство
ЖАЛЯЩИЙ ПУТЬ * [1]
То ли муха то ли пчела [2]
Жалит всю ночь напролет
Довела жалом до зла
Всю ночь напролет
А как наступит заря
Ору почем зря
То как кур в ощип попаду
То задумаюсь как индюк
Боюсь в яму ближнего угодить
Но думаю – пронесет вдруг
Ужалила злая пчела
Довела жалом до зла
Вокруг – ангелов рой
Ни один не знает пути домой
Сделаю, как скажешь. Все в твоей воле
Увидимся на той стороне что ли
Господь говорит что незрим
Надеюсь до смерти на встречу с ним
Ужалила злая пчела
Жалом до зла довела
Вокруг – ангелов рой
Ни один не проводит меня домой
ЗАГАДКА
Вот где оно
Нет не там
Слишком быстро ушло
Потом это было
Вот так
Там где я
Скрылся из вида
Всегда неподалеку
Возьми меня скорей
Поближе туда
Эксцентрическая трагедия [3]
Если уйдешь, то попозже
Или останься: история
Танца изувечена
И заверчена, и когда то
Пройдет, это быть может.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Говорить правду – вроде лжи, поскольку
Всякая правда скрывает как другие истины, так и
Множество неправд. Но лгать – так же
Далеко от правды как мертвецы от живых.
В мои намеренья никогда не входило
Ни то, ни другое – просто держать открытым проход
Для лодки, плывущей в бесконечное море.
ОБЪЯСНЕНИЕ
Пернатые
оплакивают нас
даже до того как
мы умрем,
словно
жизнь закончилась
эоны назад и
мы просто
послесловия.
Глубины искривляют
вещи, вздымающие
пассивных сверстников
к едва ли
равноценным граням.
Каузальность –
упущенное заключение
об
утраченном
факте. Часы
знают
который
час
не больше
нашего.
В РЕАЛЬНОСТИ
Реальность не лжет. В реальности
это правда подводит нас.
Правда видна в утреннем свете
А день уводит ее в нети.
Лжецы идут вперед. Ложь остается здесь:
Правда ее освятила и превратила в весть.
ИНТАЛИЯ
быстро
она движется прочь
как течет быстрый отлив
или твоя любовь
когда ты отворачиваешься
СТРОКА?
Труднее
забыть чем
запомнить
кроме как
когда вспоминаешь
что ты забыл
и забываешь
что вспомнил
ЭТО НЕ МОЙ САКВОЯЖ
Меня и впрямь достает, когда ты говоришь это, мужик.
Как я сказал, это не моя саквояж, мужик. Ты
меня вырубаешь. Может это чей-то
саквояж, может он твой, мужик, но это
не мой саквояж. Ни фига, никак. Что за блажь.
Так тупо. У меня есть свой саквояж, мужик.
& не нужен мне этот саквояж. Просёк?
Говорю тебе, мужик, ты так пристал
что достал. Моя саквояж клевый, мужик, & я
не врубаюсь о чем базар. Типа, как я сказал, мужик,
это не мой саквояж.
ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
Даже когда он был девственным
Он не был девственным
НЕТ ТОГДА ТАМ ПОТОМ [4]
Но вот сейчас
Давай назначим свидание
Нашей новой судьбе
(Ставки для нас
Пан или пропал)
Когда история сгинет
Будем сами по себе
Без весла и без ветрил
Словно нас кто-то обрил.
Когда потом тогда
Нигде не найти сейчас
Это онтологическая взвесь
Чтоб снять этот весь
Бесконечный стресс.
Не потом это все равно как
Не сейчас теперь, перст
На себя указует или
В небо без горизонта.
Будь сейчас тогда
И будь там
Когда. Сейчас миг
Бросил радуги блик.
ОБСЛУЖИВАЮТ ТАКЖЕ И ТЕХ КТО БРЕДЕТ ВБРОД
А что я тебе говорил? А ты никогда
не слушаешь. Ни раньше, ни теперь.
Полбуханки не лучше, чем ничего.
Ничего не отвлекает. И когда доберешься
туда, забудешь зачем пришел.
Мало разницы, пока беспокойство
не становится полномасштабным психозом,
и даже, если б стало, кто ты такой, чтоб болтать?
МЕЧЕШЬ КАК БИСЕР
Если песок достал – с пляжа прочь.
Коль от тревог устал – ищи нирвану.
Коль Дайтона осточертела – не в жаре дело
В республиканцах.
У МОГИЛЫ ПЕССОА
Я не я
и ты не ты
но и вы не вы
но все нашлись
в их они
ИЗ РУКАВА БАСТЕРА КИТОНА
Стих терзает
Проза ублажает
Поэзия опьяненье
Проза ускоренье
ТЫ БЫЛ ТАМ, КОГДА РАСПИНАЛИ НАШЕГО ГОСПОДА? *
Я был. Давай расскажу. Это было до мерзости подло,
отвратительно. Сокрушительно, если хочешь знать.
Но хуже всего, что это не кончалось несколько дней,
Даже лет, по правде сказать. Не кончилось и до сих пор.
УСУГУБЛЯЯ ПОЛОЖЕНИЕ
Я сам не свой.
Тогда какой?
Больной.
И это не ты?
Не я – одно название.
А это кто?
Тень, туман, печаль.
Помудрей и стань другим.
Из себя выдави себя.
Недержание.
КАК БУДТО ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ
То и есть чем и было.
Это не то чем не было.
Болит где больно.
Порезало где порез
Учло бы если б могло.
Потерялось где осталось.
Осталось когда потерялось.
Дрожит когда закрыт.
Брошено когда бросает.
Протекает когда течь.
Было тем что есть.
НАСТОЯЩИЙ СЕВЕР КАК РАЗ ЮЖНЕЕ ОТСЮДА
Севернее северного полюса
Южнее желанья
Я нашел свою любовь
Одинокую и седую
Плывущую в завтра.
«Далеко ли отсюда?»
Спросил я в отчаянье
Но она не ответила
Даже ветру
шептавшему заклинанья.
Хотя проблеск
Космоса был нам виден
У нас было мало надежды
Продлить ночь.
Мало надежды, но много
Вина, мы жили уже
взяв время взаймы.
Мало надежды, но много
стихов, здесь в
Запутанном средоточье
символами свиристящим.
Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ СПАСИТЕЛЬ ЖИВ
Иногда, не то, чтобы я мог сказать когда,
Дождь превращается в туман, то есть даже
Когда ливень льет. Я вымок,
Но чувствую близость земли, которую,
Я видел лишь по телевизору все же.
Есть рассеяние, которое делает вид
Что послушно, но в этом тоже
Нет свободы.
ARS IMPOTENS [5]
Поэзия сделана не из идей а из слов.
Поэзия не сделана из идей но слов.
Поэзия не сделана из идей но из слов.
Из слов сделана поэзия, не идей.
Слова – вот из чего сделана поэзия, не из идей.
Не из идей, поэзия сделана из слов.
Сделана из слов, поэзия, не идей.
Сделана не из идей но из слов – поэзия.
ТУЧИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ *
изнурение наступает после тяжкого труда
и половых излишеств
сильный ветер ломает даже могучий ствол
и множество нас веточек попутно
даже самый трудный путь –
только начало
любая ложь – своего рода правда
истина всегда неискренна
величайшая забота – форма
онтологической озабоченности
надежда увечит вечность
чувства бесчувственны
доверие замаскировано жестокостью
перед каждым шагом
есть шаг
самый трудный шаг –
перед первым
первый шаг – недвижность
у добрых не хватает ума
а у разумных доброты
а те кто разумны и добры –
посмешище для всех.
счастливые не в ладу с их печалью
потерянная душа нашла приют в бесприютности
любой ребенок сожалеет о невинности
то что прямо
впереди
часто почти
позади
сущность без жизни
как политика без истории
реальность –
не под покровом
это и есть покров
вещь сама по себе –
не маскируется
она и есть маска
горе тонизирует отчаяние
АНТИМЕТАФИЗИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Фантазии до реальности далеко
(Хотя реальность не фантастика отнюдь)
Нет ничего реальнее правды
(Хотя правда не реальна отнюдь)
Нет, ничего нет истинней чем реальности зов
Истина запуталась в путах рабов
(Фантазии воображения и ничего сверх того)
НЕБЕСНОЕ ОЗЕРО
Фень Ли
Отражение предшествует образу,
Который плывет в воздухе
Между над и под
Или измеряет небо
Облепленное стыдливо миндальным печеньем,
Которым испещрен облачный свод,
Как последний поезд в Бейонн
Клонится в сторону Вифлеема,
Где пятен грязи не видно
Никому кроме меня.
ТЬМА, КОТОРУЮ ОН НАЗЫВАЛ НОЧЬ
Добродетель – род
отчаянья,
маскирующегося под
заботу. Горький поток
для добродетели сладок.
Изысканное вино
кислит на ее губах.
Змеи едят из
ее рук.
Ослы выполняют
ее прихоти. Само-
восхваляющие писанья –
ее путь. Метод,
ее М.О.,
крепко вцепился
в возвышенную
любовь и яро
выраженное сочувствие.
Меч добродетели –
правда,
влюбленная в
себя, не в ладах
с другими.
Прославленные стандарты
она принимает, добродетель
давит неверующих,
изображает
недовольных, стыдя
тех, кто отказывается исправляться.
Страсть добродетели – это
упрек. Нет ничего
прекраснее
для добродетели чем
убедительное правосудие
и сокрушенный
отступник: жарит
на сковородке
тех, кому никогда
не отпустит грехи эстетика.
ОТКЛЮЧИ БЛОКАТОР ПОЭЗИИ
Это первое предупреждение. Эстетическая акция
Будет предпринята, если не последует ответа.
ТЕОРИЯ АФФЕКТА *
жалко что так жалко
грустно что так грустно
несчастен от своих несчастий
печалюсь о своей печали
в депрессии от своей депрессии
тревожусь о своей тревоге
счастлив быть счастливым
радоваться рад
разочарован разочарованьем
развлечен развлеченьем
зол на злость
безразличен к безразличью
отчаиваюсь от отчаяния
утратил себя в утрате
кейфую от кейфа
потрясен потрясеньем
болею от боли
ранен раной
унижен униженьем
параноидален из-за паранойи
обижен обидой
развоплощен воплощением
несчастен от несчастий
желаю желать
отупел от тупости
стыжусь своего стыда
не ведаю о своем невежестве
винюсь от своего чувства вины
парализован своим параличом
оконфужен своим конфузом
онемел от своей немоты
задвигался из-за своей неподвижности
возбужден от своего возбуждения
в порядке когда в порядке
смущен своим смущением
безутешен от своей безутешности
устрашен своим страхом
ободрен своим смущением
КОВИДНОСТЬ
Достанет меня Ковид
Не сейчас, так потом
Убьет меня Ковид
Найдет мой дом
Под обложками погребен
В убежище убежал
Сквозь слой трехметровых стен
Друзьям прощай сказал
Достанет меня ковид
Навылет пронзит
Слабые легкие у меня
И к тому же не понят я
Дистанцию соблюдаю
Маску напялил большую
Чувствую, как Одинокий Рейнджер
Перед тем, как схлопотал он пулю.
Найдет меня Ковид
Не теперь, так потом
Идет за мной по пятам
Узнает, где мой дом.
Зовите это дистанцией
Я называю душевной болью
Говорите, что справлюсь я
Но груз уж тяжек больно
Ковид за углом стоит
Сдавит до посиненья
Но не этого я боюсь –
За вас мои опасенья
Вы всегда на расстоянье были
Но от меня, со мной не споря
Теперь, кажется, вы уплыли
В открытое море
Найдет меня Ковид
Не теперь, так потом
Идет за мной по пятам
Узнает, где мой дом
Говорите, что с дистанцией,
Я справлюсь шутя,
Но если от вас вдалеке,
Утону, в воду не войдя
Так много вокруг смертей
Что о собственной смерти мысли
Названиваю по телефону
А вы на скайпе зависли
За нами придет Ковид,
Достанет нас наверняка
Легкие наши ослабли
И не поняли нас пока
ИЗ ДВОЙСТВЕННОСТЕЙ
иногда пчела просто пчела
и жало просто жало
и песня – просто песня
и печаль просто печаль
иногда грусть просто накатит
а чернуха – просто инструмент
несмываемой непримиримости формы
КРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ [6]
Смерть – конец всякой печали
За мигом блаженства – шторм
Глубже, чем к бездне с ключами [7]
К безумию путь, при том
Всю радость штормы умчали
Одиночество живо своим умом
ДВОЙСТВЕННОСТЬ
Если мои дела
Чувства мои отменили
Отправь тогда меня в море
В лодке без киля
И я неустанно гребя
Обнять приплыву тебя
Могу ли сделать иное?
Могу ли сделать иное?
Из новых стихотворений
ДВА ВАРИАНТА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Mandelstam
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
– Осип Мандельштам
Am I referent or referee,
refugee or redeemer,
projector or projection,
draft or final cut? I am
neither the one who
calls nor the one chosen,
neither anagram nor
abstraction. My breath
disappears from the window
more quickly than it forms.
for Ian Probstein
МАНДЕЛЬШТАМ
Яну Пробштейну
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
– Осип Мандельштам
Я референт иль рефери,
я беженец или беглец,
спасенный я или спаситель,
проекция или проектор,
я черновик иль чистовик?
Я не взываю и не зван,
не избираю и не избран,
я не абстракция, не анаграмма.
С оконных стекол исчезает
быстрее выдоха мое дыханье.
#2
I am neither referent
nor referee, refugee
nor redeemer, projector
nor projection, draft
nor final cut. Neither
the one who calls nor
the one chosen, anagram
nor abstraction. My
breath disappears from
the window more quickly
than it formed.
for Ian Probstein
№2
Яну Пробштейну
Я и не референт, не рефери,
я беженец, беглец,
а не спаситель, проектор
а не проекция, я черновик,
не чистовик. Я не взываю
и не зван, не избран
и не избираю, анаграмма,
a не абстракция. Moe
дыханье со стекла
стирается быстрее
выдоха.
[1] Стихотворения, отмеченные «*», были опубликованы в разделе «Из новых стихов» в книге «Испытание знака» (М.: Русский Гулливер, 2020). В оригинале "Beeline" – кратчайший путь.
[2] В оригинале "Bee in my bonnet" – злиться (ср. «какая муха укусила»).
[3] Аллюзия на популярный в 1930-ее гг. поджанр эксцентрической бурлескной кинокомедии «Эксцентрическая комедия» (англ. screwball comedy, буквально – «сумасбродная комедия»), связанной с переодеваниями и неправдоподобными ситуациями.
[4] В оригинале «No Then There Then» – аллюзия на знаменитый отзыв Гертруды Стайн об Окленде в Калифорнии: «that there is no there there» – «что там нет там там (в тех краях)»
[5] «Искусство бессильное», но также и «яростное», «неумеренное» (лат.)
[6] Аллюзия на картину Каспара Давида Фридриха «Крушение надежды» или «Море льда», написанную под впечатлением новости о том, что во льдах потерпел крушение "Griper" (можно перевести как «Хваткий»), один из двух кораблей, которые принимали участие в экспедициях Уильяма Эдварда Парри на Северный полюс (в 1819-20 и в 1824 гг.).
[7] Аллюзия на Откровение 9:1 «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны».
Рэй Армантраут. Как исчезнуть (перевод с английского Дмитрия Кузьмина)
СО
Хорошо,
что всё чуть
колеблется
несущественно
вокруг меня,
как вот эта
патина тени,
трепещет, лепечет,
и я могу
сохранять покой.
*
Я всё
записываю, чтобы
показать другим
позже
или показать себе,
что я не одна со
своим опытом.
*
«Со»
то слово, которое
приходит на ум,
но это не
то слово.
КАК ИСЧЕЗНУТЬ
1.
Ты колебалась без устали
между появлением спонтанности
и появлением серьёзной мысли.
Ты перестраивалась в другой ряд,
бегло глянув
в зеркало, честное насчёт
своей склонности искажать.
Какой у тебя был выбор?
Утешало наблюдение
за струйками дыма
из соседней трубы,
исчезавшими
одна за другой.
2.
А волны тебе нравятся,
рябь и зыбь,
простирающаяся во тьму?
Ты предпочла бы мерцание
ровному источнику света?
Этот вот запинается
слегка,
нерешительно,
словно мог бы что-нибудь удержать
в запасе.
АСИММЕТРИИ
Я думаю о тебе, а ты что-то мурлычешь под нос, обтёсывая деревянный
брусок.
Я уверена, ты не думаешь обо мне, и это ничего, лишь бы только ты не
думал о себе. Я знаю и люблю твой способ обитать в этом доме и
события жизни, как мы их сообща создаём. Но я не знаю того,
кого ты представляешь себе, когда видишь себя
блуждающим где-то у себя в голове, и
ревную тебя к тому вниманию, что
достаётся этому типу, с его,
похоже, кривыми путями.
ЗАБОТА
Одевайся,
будто это тебя заботит!
Ешь, будто это тебя заботит!
Заботься, будто это тебя заботит!
Ты же не думаешь,
будто яблоки просто так
растут на деревьях,
или всё же?
*
Рыба бьёт ракушку
об жёсткий сустав
коралла,
чтобы расколоть, –
демонстрируя интеллект,
да, но
эта рыба, она
довольна собой?
*
Одна, в колыбели,
составляешь слоги.
Счастье ли, когда
один похож на другой?
Добавь себя
к себе.
Теперь у тебя кто-то есть.
ТРУДНОСТЬ
Этот фильм, как и многие,
утверждает, что мы теперь можем
наслаждаться жизнью, преодолев
трудности и опасности,
столь невероятно спрессованные,
что не могли не иссякнуть.
Если тяготу вынесли
другие, мы ставим
себя на их место,
если опасность пережили
простейшие формы жизни,
они причастны этой минуте,
когда титры ползут
и мы не знаем,
пора ли вставать.
СУМЕРКИ
паук на холодной глади
стекла, три этажа высоты
покоится сосредоточенно
и так беспримесно одинок
нет, я не так!
У АВАРИЙНОГО ВЫХОДА
Вы приобретёте
свою жизнь как череду
пережитых «опытов»,
к которым и
будете принадлежать.
Приятного вам полёта.
*
А вы верите
в репродукцию?
Вы думаете, эти
взгорья облаков,
белые утёсы меж
каньонов тени,
статные и безграничные,
как тело,
вам обещанное,
появятся снова, когда
вас уже здесь не будет?
*
Теперь посадка разрешена для всех зон
ВСЕ ВЕРНЫЕ
Бледные, тонкокожие
картофелины горкой,
как виноградины
среди жёлтых стеблей.
*
Не могу вспомнить
мою мать
или
Это не та мать,
какую я помню.
*
Её спросили,
страшно ли ей,
изнасилованная
девочка прошептала,
что боится
привидений.
ПРОЧЬ
Мальчик с девочкой
уходят от усталой женщины
с радостью.
На поиски
настоящей матери,
той, с золотым
съедобным домом, с
хитроумным голодом.
*
Твой приветственный хрюк
говорит мне,
что ты крошка
крокодильчик,
плывущий
по течению на циновке
из папируса.
Жёлтый, полумесяцем, глаз
бездумно внимателен.
*
Жёлтые пятна
блестят
среди цемента –
скопления? –
каждое отдалённый
ответ
на неверно поставленную задачу.
ФАКТ
Операция «Ярость призрака».
*
Вся мощь
воли к жизни
обнаруживается
по другому поводу:
кто-то
ковыляет с подносом,
кто-то
набирает номер.
*
Любой материальный
факт
есть поза,
ответ
в ожидании,
когда его выберут.
«Так-то», говорит он.
«Спроси ещё».
ОБРУЧ
1.
Бог вертелся
поперёк лица
того, что нельзя назвать,
раз оно недвижно.
Бог был импульс тогда,
нетерпеливость
прерывания,
штампуя пустые
листы времени
своим образом.
2.
Теперь её тема будет
та, что она избежала
верного разрушения,
что ей
исключительно повезло.
Тема должна быть бойкой,
но слегка нестройной,
вступая, как водится,
слишком поздно.
Фигура,
связанная с этой темой,
должна быть одета
подчёркнуто несовременно:
юбка на обручах, положим, –
тогда как все остальные
в подранных джинсах,
созрели для барбекю.
УСЛУГИ
1.
Мы спрашиваем про рай,
как могли бы
про дом престарелых.
Будет ли электронная почта?
Будут ли ценные мысли
и кто-нибудь,
кому они интересны?
Будет ли это
притворством?
Будет ли это по службе?
Будут ли мои слова
будто бы иностранными?
2.
«Фьють, фьють!» –
такой настойчивый звук.
Сергей Жадан. Черновики шёпота, чертежи на берегах (перевод с украинского Станислава Бельского)
***
Большие поэты печальных времён.
Настороженные свидетели конца книгопечатания.
Поэты, чьими голосами говорит опыт
выживания в пустых залах,
поэты, обучающие своему ремеслу
разве что чёрных дроздов
за окнами кафедры.
Отважный поэт шлюзов на европейских реках,
поэт страны, что беззащитно замирает,
ощутив зиму,
говори о надежде,
о страхе и безысходности расскажут те,
кто тебя не читает.
Говори о надежде,
говори о сильных характерах
учителей и охотников.
Речь твоя – долгая и путанная,
как Дунай на карте Европы.
Говори о настойчивости сосен,
закрепляющихся в песке,
словно русизмы в речи.
Вся поэтика твоего континента
вырастает из пения и винограда.
Говори о винограде, о золотой
протяжённости лозы, скрепляющей собой
границы, похожие на швы новой
шинели.
Говори о пении женщин на пологом
речном берегу,
об отсутствии шансов расскажут
служители муниципалитета и церкви.
Бесконечны возможности речи.
Таинственна её структура.
Гнать по нашему телу надежду,
словно рыбу на чёрный берег,
вести сквозь сердце нужное слово,
как путника через лес.
Речь – это дыхание,
наполненное смыслом.
Речь – призрачный шанс
убедить хотя бы кого-нибудь
не прыгать с моста в Сену.
Поэт стоит посреди опустевшего города,
кричит птицам,
летящим на зиму в южную Африку:
Я не верю в бога.
Но это не страшно. Потому что бога не существует.
В меня не верят читатели.
Это тоже не страшно. Их тоже не существует.
А поскольку птицы не слушают,
поэт берётся пересчитывать их
в поднебесных осенних ватагах.
Старательно считает, заносит
в записную книжку каждую ласточку.
Сколько улетело, столько же
должно и вернуться.
Нужно всех пересчитать.
Ни одной нельзя позабыть.
Настоящая поэзия всегда
держится
на точности.
***
Смотреть на ветер за окном –
порывистый,
южный,
смотреть, с каким наслаждением
он всё переворачивает,
словно смотреть новости
с выключенным звуком:
уже по лицу ведущего
понятно,
что ничего хорошего
в эту ночь не случилось.
***
Детские ботинки –
стоптанные,
но ухоженные,
лежат аккуратно
на обочине,
ношенные кем-то,
кем-то оставленные.
Стоишь над ними,
будто перечитываешь
книгу, которая когда-то
нравилась:
детали, конечно,
интересны,
но всё равно ведь
знаешь,
чем всё
закончится.
***
Как ни подходи к этому дереву,
как ни охватывай ствол руками,
как ни касайся веток
чуткими пальцами –
всё равно не охватишь,
всё равно не удержишь,
всё равно не рифмуется.
***
Вроде бы и знаю,
что ничего там нет
за этим домом,
вроде бы и понимаю,
что ничего там не найду,
что не потеряю ничего
из найденного.
А всё равно
продолжаю говорить
о чёрных траурных платьях вечера,
продолжаю говорить
о женщинах,
возвращающихся
домой.
Одни женщины несут яблоки.
Другие несут книги.
Мужчины влюбляются
в тех, что несут яблоки.
Яблоки – это знаки.
Яблоки – это сомнения.
***
И этот вот дом –
на холме,
по ту сторону
железнодорожного полотна.
Тёмный, молчаливый.
Вечером светятся
только два окна:
одно на первом этаже,
другое – на третьем.
Подчёркивают
его старость,
усиливают
его мрак.
Похож на человека,
который пишет письма
всем своим женщинам,
а отвечают лишь две –
именно те,
которых не любит.
***
Ещё будешь счастлив,
что ничего не поймал,
будешь благодарить
невидимые руки,
что до утра выбирали
рыбу из твоего вентеря,
будешь тихо радоваться,
когда на вопрос,
принёс ли что-нибудь,
придётся растерянно
развести руками,
услышать вслед:
снова у него
ничего не вышло.
***
Когда-нибудь об этом времени будут говорить как о времени,
когда писались стихи.
Скажут так – тогда было так много воздуха, что говорить было необходимо.
Сам воздух этого времени был выразительней
любых стихотворений.
Огонь был убедительней.
Красноречивей молчание.
Когда-нибудь это время напомнит о себе металлом,
вшитым под кожу, на месте излома, на месте перехода,
там, где свет иногда напоминал темноту,
там, где собственную слабость мы принимали за мужество.
От этого времени останутся стихи, вложенные в дыхание мужчин и женщин,
стихи среди тишины, будто трава среди зимы –
когда поздно бояться боли, когда некуда отступать перед нашествием снега,
когда своим одиноким звучанием напоминаешь всем об оттепели.
Когда-нибудь я буду говорить об этом времени,
как о времени твоего присутствия,
времени твоего проявления в моей речи, времени, когда мир стоял
у тебя за плечами, когда ты переводила дыхание –
и огня становилось меньше,
когда над деревьями в парке стоял туман,
словно тёплое дыхание над детьми, выбегающими из школы.
Нельзя забывать ничего из того, чем нас искушали.
Нельзя откладывать на потом работу,
на которой держится дыхание.
Нельзя – задохнёмся, оступимся, перестанем верить
своим деревьям, своей реке, тёмным листкам неба.
Именно сейчас трудно быть травой.
Именно сейчас особенно тревожно за сломанные стебли.
Ты оборачиваешься и начинаешь говорить.
Я тебя слышу.
Я тебя понимаю.
***
На Донбассе эта граница –
граница между снегом на земле
и снегом в небе –
возможно, самая призрачная.
Попробуй ощутить, где твоё дыхание
прерывается тишиной.
Попробуй отыскать нить, за которую
с одной стороны держатся мёртвые,
с другой стороны – живые.
***
Пусть это будет негромко, не для скандирования на улице
под деревьями, с пониманием кивающими
каждому услышанному слову.
Пусть это будет, как в разговоре детей,
которые впервые увидели море и пытаются
объяснить, что такое волна.
Каким словом ты назовёшь намывание
золотого песка сочувствия в руслах языка,
это кропотливое ежечасное насыщение грунта весом?
Каким словом назвать растворение дождя
в полуночном море?
Что это за звук? Так звучат лёгкие, когда они дышат –
где-то по контуру тишины, по ту сторону эха.
Так звучит движение голоса по горлу, за миг до появления,
за полвыдоха до обретения тона. Буквы, которые только начинают
звучать, только приобретают форму в мастерских крика.
Пусть это будет тем, что так и останется
черновиками шёпота, чертежами на берегах,
попыткой, которой не хватило решимости.
То, что я должен был сказать – предложения, которые выхватываются
птицами со страниц наших книг, наши с тобой попытки
переиначить язык, сделать его понятней всем,
у кого нет слов для благодарности и сомнения.
То, что мы не успели проговорить в этот сентябрь,
будет нас преследовать, не отступать от нас,
словно давний страх перед одиночеством.
То, что я смог оставить себе, чем не поделился с городскими
акациями, острыми и пытливыми, как дети,
чьи родители расстаются.
Время фиксируется голосом и огнём.
Холод прочерчивает границы изгнания и возвращения.
Начинается самое важное –
Необходимость отвечать за то,
во что по-настоящему веришь.
Вы готовы? – Спрашивают у тех, кто уходит навсегда.
Вы готовы? – Спрашивают у тех, кто здесь остаётся.
Грозная вода уже поднимается среди ночи.
Укрепляется речь,
как береговая линия.
***
А что делает этот человек?
Пишет стихи.
Раскладывает их на столе.
Дотачивает.
Словно чинит детскую обувь.
Как раз вовремя
сел за работу.
Как раз это сейчас нужно.
Ведь придёт зима.
И мужчины возьмутся за стихи.
Будут их бережно перебирать,
перетряхивать,
как сухой табак.
И женщины тоже
будут плакать над ними,
будут заворачивать стихи бережно,
как дукачи.
Ценность стиха зимой возрастает.
Особенно когда зима сурова.
Особенно когда речь тиха.
Особенно когда времена
неистовы.
Тарьей Весос. Мы полним бескрайние ночи (перевод с норвежского Александра Панова)
Переводчик благодарит за помощь в подготовке переводов друзей и коллег из Норвегии, России и Канады: Стейнара Гила – норвежского филолога, переводчика, дипломата; Дину Ролл-Хансен – сотрудника норвежского литературного агентства NORLA; Мартина Паулсена – преподавателя Бергенского университета; Александру Николаевну Ливанову – к.ф.н., доцента кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ; Роджера Гринуолда – преподавателя Торонтского университета, поэта и переводчика; Нину Ставрогину – поэта и переводчика.
© 1953 Gyldendal Norsk forlag
Избранные стихотворения из книги «Земля сокрытых огней»
ТИХАЯ ЗЕМЛЯ
С виду покойна
земля огней, –
всё неподвижно,
тихо на ней.
Но в этот миг
внутри горы
лавина жаркая
ярится.
Их немного – тех, кто знает,
пламя в трещинах узрел,
чуял, как жара пронзает.
В жажде огня
человек к человеку стремится за тысячу миль.
Вмиг пропадают сомнения.
С глазу на глаз –
для двоих облекаются в явь
бездны огня, слияние диких огней.
МЫ ПОЛНИМ БЕСКРАЙНИЕ НОЧИ
Гладь стеклянной горы
светит вечерней порой –
мерцает гора нераздельности
в дивных ночах,
возле её подножия,
находимся мы.
Всё здесь вселенная,
а твоё бытие быстротечно,
ты соткан из полусвязных частей,
лишь человек из бессилия и плоти,
– и здесь не найти понимания.
Но голос в тебе молвит: хочу.
Он снова твердит и невероятно, что я хочу.
Нас не счесть,
тех, кто желает быть здесь.
Всех, кто желает,
что б мы ни делали.
Мы полним бескрайние ночи.
Мы, словно мельчайшие капли света,
вольёмся в туман, что мерцает,
стелясь по земле
– у огромной горы,
где не найти понимания.
МЕЖДУ ВДОХАМИ
Озеро дышит в ночи,
по берегам чуть вздымаясь.
Дымка над лугом – луг на свой лад
тоже дышит,
услащая дыхание клевером.
А девчушки на склоне
дышат прерывисто, как на бегу, и растут, услащая
дыхание самими собою.
– Так пусть твоя сила вдохнёт, и помчатся ручьи,
средь торжества этой жизни,
и понесут, как волна через узкий пролив,
и будут с тобой, – там, где холмы
темны, и незримы глубины,
и там, где земля озаряет твой путь
пляжем с песком золотым,
и там, где не счесть островков,
а озерцо обнимает их крепко и нежно.
Пусть всё в тебе
познает, почует,
потом будет поздно:
тянет из устья
скрытый поток, он
как волнистые волосы.
НОЧЬ, БЕРЁЗКА И ГУННАР
За домом мерцает луна.
Берёзка блестит у окна.
Заглянет Берёзка в окно.
У Гуннара в спальне темно.
Берёзка плывёт по лугу:
«Сладко ли спится другу?»
Не влезет к малютке вор –
Берёзка несёт дозор.
КЕТИЛЬ
Дом стоит у дороги,
здесь вас напоят водой.
В доме живёт дед Кетиль –
древний и снежно-седой.
Дрожь пробирает от жажды,
ты сбился с дороги домой.
Увидит тебя старый Кетиль
и выйдет походкой хромой.
НЕВОД В ПРОЛИВЕ
Поздним вечером – невод в проливе.
Скользит, протянулся
в мороси, в сумерках,
невод не виден,
сокрыт возле дна.
Лодка тиха, и молчит человек,
будто воды в рот набрав.
В тёмных камнях – водяная трава
по берегам
на мелкой воде.
Смерть в тихой лодке немая.
Смерть в тихой лодке слепа:
В водорослях рыщет, трогает камни
берёт, выпускает,
ходит в проливе
взад-вперёд,
место для невода ищет.
Лодкой правит слепой,
вытянет сеть – кинет снова.
Вспучился невод тугой,
но пришёл без улова, –
это забава перед работой.
Лодка к неведомым скалам уходит,
возле неведомых скал ускоряясь,
– и невод в проливе тянется тихо.
Петля за петлёй,
ячея к ячее –
тонкие, скрытые
к донным камням,
к донному илу и сну,
к изобилию дна,
где громады деревьев
тысячелетья,
покоятся в иле,
тянутся петли,
всё расправляясь,
невод отвесно застыл.
Сверху темнеет.
Снизу всё тише.
И вот всё готово в Проливе.
ТЕНИ НА МЫСЕ
Чёрные тени по мысу скользят неустанно,
беззвучно, –
ведь так бывает в сознании.
Мы соберёмся на мысе,
едва схлынет день.
И когда меркнет свет,
становимся тише,
не говоря, отчего.
Тише и тише
на нашем мысе.
Жарким был день,
идти горячо было в нём, –
мы могли бы сказать.
Этим пылающим днём.
Но мы молчим.
А день отзывается в нас затухающим звоном.
Нынче мы чувствуем вечер, причудливый, длинный,
камни, нагретые солнцем –
теперь оно скрылось.
Страхи дрожат, воспоминания мерцают.
Ноют колени, разбиты картины,
смяты цветы под ногами.
Мы, сами того не желая,
это семь раз сотворили.
Но всё позади.
И всё же на мысе быть нам
нельзя.
А мы всё стоим, что-то новое ждём.
Реки текут мимо всех опалённых мысов,
и на мысе, робея, тени стоят
и дожидаются лодки.
Лодка без вёсел – наша судьба.
Кормило у нас отобрали.
Ночью стоим мы здесь, Ночью глубокой,
из-за излучины нового ждём.
А течение чёрно, беззвучно.
Что мы изведали здесь,
не расскажем друг другу.
ЖАР
Кто любит – век молчит о том.
Другие скажут: я был здесь,
это в пятницу было,
и вот тогда –
Ходит молва по округе:
это, помнится, в пятницу было,
были, помню, морозными ночи,
помню, застыла земля,
а под ней – неизвестность
– может, тогда всё случилось.
Явилось нежданно:
трещины странным узором ползли по земле,
из-под них вырывалось сияние – впервые за годы.
Дрогнули самые стойкие, пламя металось вокруг,
и ярилась стихия, пока не иссякла,
разрушив самое себя, потемнела, остыла,
– не осталось следов мерзлоты,
лишь человек – простой, с добрым взглядом.
Пока он не сгорел, родня и друзья были рядом.
С ним была вся округа знакома:
говорил по-простому,
вёл тихую, строгую жизнь.
В ней бывали и тайные встряски (об этом немногие знали),
да его были ночи, но повесть об этом молчит.
Горы пепла на голой земле:
полузабытая буря,
останки породы –
всё напоминает
Землю сокрытых огней.
Здесь главное скрыто каменной коркой,
и здесь извергается из глубины,
здесь они истощают себя
мощью и жаром подземным.
Близкие как-то узнали – в этот раз туго придётся.
Только теперь понимают – всё было предрешено.
Знают, блеск его глаз означал:
поскорей бы случилось!
Ждали, когда у него крик свободы прорвётся,
знали, и были готовы,
– но и он это знал,
и гадал, что вскричать им в ответ,
– был задуман опасный обман.
Когда тени встают выше пепельных гор, вскрываются недра.
Когда вера в спасение уходит, вскрываются недра.
Раз, в морозное утро земля раскололась, и вдруг
вокруг все узрели
нагое подземное пламя.
Воздух был пищей – ревущей, бушующей,
пламя бросалось на воздух,
глотало.
Трещины из глубины
расползались, как змеи,
разрывались на части,
и загремела земля,
раскрыв свои шлюзы.
Каждый, кто был там и слышал –
стоял, поражённый.
Каждый, кто видел, чувство вины испытал.
Он полыхал, его избавленье кричало, терзаясь.
Трещины вширь раздавались. Рвалась по краям мерзлота.
Полное, полное освобождение!
Огонь, жрущий воздух, дым, уносящийся вдаль,
когда жарче пылало.
Всё обнажилось, лежало открытым, как есть
между людьми.
Он кричал, крик легко вырывался –
крик о том, что без воздуха
может гореть.
Странно, бессильно и дерзко:
крик, что остался не понят в бушующем рёве,
и столь же неясный ответ,
как его подготовленный крик, что едва трепетал.
Слово, что в тишине, и то не смогли бы понять.
А родные были рядом
чтоб утешить, успокоить,
с жаркой бурей совладать,
– бури ждали прежней, малой,
но буря явилась из самых укромных глубин,
буря, какую нельзя укротить и ослабить.
Видели – он не пытался пламя тушить,
но желал, чтобы жарче пылало, и ободрились.
«Это же мы!» – кричали они, продираясь сквозь гром
и мерцание подземных потоков.
Крик продирался сквозь грохот,
но поняли вдруг – они в его власти, пока
свирепствовал огненный кратер.
– А остальные были напуганы, ждали покоя:
неблагодарный, в беду попадая, он к ним приходил,
только добро от них видел, а вместо награды
побиты, затянуты в жаркий,
пылающий вихрь.
«Это же мы!» – так кричали, шептали они,
– и на то были вправе.
Но пришёл их черёд.
Больше никто их не видел,
их хижины выжгло огнём.
Он всё стоял, исполненный слов, –
тяжёлых, неясных.
Эх, очевидцы, ставшие мрачным кольцом среди ноября:
такой-то пожар.
Ночь не настала, хоть истекло время дня,
свет шёл из иного истока, –
от человека, горящего, будто маяк.
Долгий пожар утолил жажду свершения:
стали воззвания глуше,
гул ослаб и исчез под землёй,
Жар остыл и развеялся ветром.
Друзья и родные стояли, застыв,
чувствуя странный подъём.
А гора потемнела и смолкла,
оставив лишь пепельный холм.
ОГНЕННАЯ ПТИЦА
С разорённой земли
вознесётся
то, что ново, но ведомо и неизменно,
о чём с тобой был уговор.
Долго ли звал ты напрасно?
Ни секунды.
Напрасно никто не зовёт среди тёмных ночей.
Только ты всё никак не поймёшь.
Ты над обломками плачешь
и сыплешь на голову пепел
и Птицу Феникс не видишь
в огне.
Ты зовёшь?
Ты как прежде зовёшь?
Я никогда не был в Бухаре
СКИТАНИЯ ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА ЭМИЛЬ-ОГЛЫ АЛЬ-ДАМАСКИ ИЗ КАШГАРА В БЕРЛИН
Как долго плывёт, Теодор Оскарулы, наша баржа каравана,
наше юлдашевское судно по реке Или –
как долго и безмятежно;
как долго ли, коротко ли
через Средиземное море
мы плывем из темноты
из Восточного Туркестана,
из славного города Алеппо,
из Триполи, из Багдада, из Душанбе и прочих
смешных названий и
смешных расхуяренных городов
на суд
не нашего Бога – поздно мы,
Ханна ибн Пауль Арендт, спохватились и
поздно
начали учить турецкий или
вспоминать ливанские и иорданские диалекты –
мусульманский рай переполнен, а наш
нам обещан только
потом, если
выдержим суд
не нашего Бога – а говорят
гяуры,
что у нас строгий Бог: вы ещё
Бога Игила не видели, ибо
даже Бог Аль-Каиды
сказал, что Он строгий.
Сколько
наших сестёр в Бейруте – миллион
на четыре миллиона оставшихся местных?
Что такое – миллион? Это как
два с половиной года
каждый день принимать гостя –
кормить, согласно нашим адатам;
поить и спрашивать: а кем вы
были когда-то – вы же
кем-то когда-то были, хотя
этого не видно: механиком, художником,
журналистом социалистической партии в Кабуле?
Ты слышишь –
это мама
так нежно поёт
о нашей потерянной земле,
о проёбанном рае у её ног
возле дома, где росли
берёзки и
хрущёвки, а таджики
продавали сигареты без паспорта и
все пили дешёвый казахский коньяк,
не думая
о Боге, спасении и справедливости для всех
бесплатно и без
временной регистрации – она
всё ещё там, продав
последнюю золотую советскую цепочку.
Ты знаешь –
как
не растерять их, эти
странные штуки (неверные
называют их памятью, но для нас –
это лишь идолы)
на пути
в Германию
через балканский коридор,
через Венгрию,
где нас пиздят палками и спускают собак (я
это слышал от брата-мухаджира)?
Ты видишь:
ход веков Его сценария (Сказано,
что если не справимся – нас просто
заменят)
подобен русской притче – во имя
смешного её величия
я морфина приму,
я шахидом умру
на чешско-немецкой границе, ибо
я слышу
мёртвых сахабов, они говорят:
«стреляй, мальчик!
там у тебя дохуя патронов
за себя, за неё,
свою Ханну,
за всех сирийцев, у которых
не было Ханны и никогда
не будет – тебе можно
умирать, о тебе
напишут, о тебе
напишут, о тебе
напишут
намного больше,
чем о нас, тебе
нестрашно».
***
Я голос,
Вопиющий в пустыне, и знаю, пустыня мертва…
– Омар ибн Аби Рабиа
А.Д.
В Империи имени времени ты найдёшь себе домик
в глухой провинции у моря,
полного песка, в котором
уже не первый год теряются сыщики
закладок, закладки
книги
(той, в которой
письмена
и облик свой
стирал Меджнун –
как будто это не любовь, а пятнышко –
почти незаметное, как прокол
листа бумаги иголочкой –
от капельки инжира)
волхвы и инуиты, а ты
всё будешь девочкой, хранящей
дыханье северного
ветра и ледяного дождя
осколок. Ты поселишься
с краю, и для местных
никогда
не видавших огня станешь кем-то вроде
терапевтки. Но однажды
когда в них,
как в тех, от которых
мы все когда-то бежали,
всколыхнётся жар,
обжигающий жар морозного дыханья и жажда –
только
моря, полного
воды,
самой солёной воды,
они все придут к тебе,
как паломники они придут
на зов к последней,
кто
может утолить их голод. Ты
приготовишь их лучший
пирог из осколка
ледяного дождя, из
дыханья северно ветра и
слёз, конечно, из слёз; а когда
ты выйдешь из дома,
вся в стеклянных перьях
и железных крыльях, чтобы
скрыться наконец навсегда
в буквах песка и стать оазисом,
ты повернёшься и увидишь:
эти люди снова стали словами,
прекрасными строфами
радости,
счастья
и свободы.
Империи больше нет.
ОТЕЛЬ АНТАЛЬЯ
I.
Das hier ist der Zauberberg.
Sihirli dağ burası. Herkesi iyileştirir.
هذا الجبل السحري يُشفي كُل شيء
This is the magic mountain.
מרגישה טוב יותר כן, היא מרגישה הרבה יותר טוב. איחוליי
Bu sehrli tog', bu erda hamma shifo topadi.
Это волшебная гора, здесь все выздоравливают.
II.
Дом растворится в наслоениях образов
азанов, никогда не синхронных –
каждый новый
бисмилляй-рахман-рахим
длиннее, чем вчерашний, но короче, чем завтрашний. Бог вторгается
в жизнь, как нож в яблоко: российские
русские корёжатся, а казахские
говорят: «Мубаряк болсун*:
кел, балалар, оқылық** – пора.
Нас в гости зовут».
* «С праздником!». Дословно:«Будь благословенен / благословенна», – по-уйгурски.
** «Идёмте, дети, учиться», – по-казахски.
III.
Старик палестинец,
исходивший мир насквозь и ничего,
кроме дома, не нашедший,
заходит в израильское кафе.
Заказывает хумус. Говорит
(он может говорить):
«Здравствуйте, братья семиты.
Добро пожаловать домой».
IV.
Немка в купальнике спрашивает
узбечку в хиджабе: «Ты читала
Увайси Джахан-Атын – я так люблю
её газели», и ей
ответ дают:«Мы давно
уже пишем стихи», и немка
говорит (она может говорить):
«Жаль, я так скучаю
по Боге, а вы
ещё Его помните».
V.
Заброшенная столовая полнится
слухами. Еду некому
выбросить: она наполняется
надеждами и болью, и не хочет
быть натюрмортом, а хочет быть
едой, съеденной жирными
чистыми пальцами, а не
столовыми приборами (в их языке
это значит: «Лукавые»).
VI.
Дождь наполняет бассейн, и вода
отражает воду. Караоке-кафе для
озорных пенсионеров пахнет
надеждой, беспечностью
и невинностью. Война
была вчера, а сегодня:
только радость, даже если
смерть будет завтра.
VII.
Митхун Чакраборти заходит в спа,
и Ходжа Нияз один (сколько здесь
таких у нас)
нёс кувшин с водой
и, завидев,
расплескал,
а потом по-русски там
Нияз ему сказал:
«Джимми, Джимми,
когда я шёл
под обречённою звездой,
и, голос слышав,
[Jimmy Jimmy]
я внезапно цепенел,
и кувшин с водой
[Jimmy Jimmy]
ронял,
и будто никогда
ни от чьей любви
не умирал, а лишь
кувшин
с горячею водой
на русский снег
ронял, и паром, словно Бог
из смерти,
воздух поднимал».
VIII.
Это волшебная гора, здесь все выздоравливают. Люди
не приезжают в отель отдыхать –
это ролевая игра
для беженцев в самих себя:
только здесь
можно столкнуться с демократической
национальной резнёй; только здесь
остался чистый, не запачканный
надеждами, воздух, и истины,
что лучше умирать за Бога,
чем за землю,
ведь гул пёгих языков приятнее,
чем толерантная земля; а волны
гладят камни и делают их похожими на ангелочков –
бездомных,
бесконечных.
АЗИЯ
Как он злобно орет, твой шанхайский завод.
– Пу Фэн
У нас бы мог быть ребёнок.
Тебе не понять.
Да и я уже не знаю, который час,
смотря в оклок, который что колокол
отчитывает промежутки длительности без тебя словно удар по железной
струне тяжелее чем граница песчаной страны Я сучьим молоком
вскормлю ребёнка, чтобы помнила
она грохот солёных песков.
/
Ты перебралась в Шанхай год назад,
но всё также молчит календарь
и врёт, я знаю я выйду на балкон и увижу твой самолёт третий год я выхожу на балкон увидеть твой самолёт как сладок наверное разряженный воздух шанхайских степей и жирных свиных пирожков на которые ты променяла запах жаркентских трав всегда обещавших расплату и нежность и обещавших всегда
обмануть
Разлука обещает встречу, хочет взять
на лоха, и только ей я поверю.
Твой оклок,
что отклик назад: отчитывает промежутки
длительности без тебя, но тебя уже нет –
это значит, что времени тоже
больше нет.
/
Тихиро, где ты, песок моих рук, такыр моих глаз и ветер, звучащий сквозь мои
речи?
Ты уехала прочь год назад, ты уехала прочь в азиатскую ночь.
Я не знаю, что ты ищешь там: свобод в мире подземных вод, спешащих наверх, или никогда не вспоминать раскалённые дрова северных поездов разрезающих землю будто кинжал ... я скучаю по тебе. У нас мог быть ребёнок.
/
Я не знаю как оседлать эту боль, она скачет гнедым чумным скакуном по предложениям, отламывая от чувств куски и отливая их в сабли, в китайские сабли, дрянные китайские сабли, что застревают в коже – они
не должны быть острыми, нет, их не для того создавали.
/
Я не соберу тебя, как не соберу свою речь, что потеряв тебя, перестала
обретать эскиз. Я сучьим молоком
вскормлю ребёнка, чтобы помнила
она грохот солёных песков.
Где-то там тебя режут и колют, но
мне никому об этом не рассказать, мне никому об этом не рассказать
***
Бухара пахнет снегом и мёдом
прямо с неба падают тёплые огромные лепёшки
люди говорят (и каждый раз удивляются этому):
это последний знак что эта жизнь нелегитимна
нас ещё любят
бывает же такое
бывает же такое
я никогда не был в Бухаре
Песни о мертвом океане и о живой реке
***
<...> между нами атлантика соль вода соль вода соль но я
все еще не могу говорить не могу говорить и земля
из-под ног не уходит и письма доходят дойдут
доструятся по тем проводам
что еще не обрезаны спизжены или надорваны или
нельзя говорить языку-камню бо
льдина ебнулась мне на затылок она представляет но я
осторожно хожу под российскими крышами мне
тяжело падать вниз тяжело заливать кровью снег
не ведя сквозь атлантику речь но и рот не открыт
окончательно вайбер не вскрыт где ее предавали секундно еже
он и я он и я он и я он и я он и я
чтобы жопу свою не спалить
закрывая на код три три три не просри только дом
который построила та у которой ты жил и боялся что воздух сгорит
от стыда от наеба проеба разъеба и лжи
мы лежали визжали от сахара льда
лед и мед шах и мат мох и мох
щекотал нас глазами так злостно и липко и ты
прятал черный зрачок и еще один черный зрачок
под подушку прогнившую всласть на крючок подцепил
пресноводную рыбку-болезнь а она говорит
рот воды рот крови
а она говорит и кричит и кричала прогорклую пра
горячо тебе горько а мне так и так так и так
то и это и мне ну а ей каково каково
язычок на крючок а роток под замок а челнок
все жужжит и жужжит и никак не кончает плести
паутину вранья как она сквозь нее наблюдала за блу
дом туда и сюда мы
кались и касались впотьмах во вспотевших маршрутках ничто
между нами ты знаешь атлантика соль и вода
этот сахар просыпал не он этот сахар не я
я заехала взять к вам взаймы на пирог на лаза
ты же знаешь не значит ничто виноград и сирень в январе
в декабре в ноябре никаких означаемых нет
только дружба и свет только дружба и дружба и свет
лая боль от того что сказать не могу
нет горячая адская боль омертвелый язык
нет разрывная черная хтонь перерезанный вздох
нет проебанный воздух сгущенный этиловый спирт
оседает на черные волосы цепкие ногти ее
а чего я поделаю с этим еще кроме не
что еще я введу как не этот режим существа
что еще если не о б ъ я в л я ю в о й н у
тем что мне объявили войну и засунули рыбий скелет
прямо в глотку просунули рыбий скелет
чтоб прошел сквозь желудок кишечник вагину горящие чресла до пят
там где сердца зола развевается спит
она спит когда я иду вниз головой она спит
когда я вспоминаю свой сон как она
приходила ко мне поливала росой белый лед
прорастала магнолия или то был магазин но не суть
мы бежали смеялись хотелось и греться и ссать
с холодов с охуевших морозов вбегали домой
в потолок расцветала черешня из косточки из
из плевка на нее от него от меня от меня от него
я срывала черешню и сок растекался и речь
растекалась и свет и лю-бо и бо-лю и
блядский язык заплетался вокруг окровавленной соком горсти
и глагол вопрошавший простить глаголал но во сне а на яви земной
или той атлантической яви захлебнулся стекающей с уст предрассветной
слюной я вставала и шла к грязной раковине вверх головой
отражаясь сквозь мыльные пятна разводы песок пузыри пыль
растенья зиявшие между мной и <...>
***
вздох птички неглинки ранней весной
не умеешь взлететь? купи себе скитлс
крошить по проталинам, забылась
дорога домой? купи себе воздух без
сахара консервантов, не чувствуешь
льда под ногами? обычная почва
въедается в снег, необычную
землю со скидкой купи себе
в банке экологической из-под
пива что мы выпевали зиму назад
подобные птичкам жестянкам
внутри и снаружи вздох
ну а потом наводнило кого уважае мы
кости столицы мышиные в склизких
трубах обгладывать смаковать за
лило ли потом холодным кого дорогие
москвы обратите вниманье по правую ру
из окна авто за кап-кап птички роняв
шелуху на коленках бычки доносили ды
мное пепелище седело мы
кались мчали а затем сидели сидели
сидели сидели и неглинка выплевывала
го си
во мо
ль
ми ск ва
бе ри но
тебе городок труба городок если бы не
труба да кабы не указаньем прави
не давились бы госточки в банке
консервной экологически только сего
слезинки оброненных октябрят
эксклюзивно без права пере пири
ранней весной трещала неглинка
стряхивая февраль другим птичкам
талинкам да что уж греха высказываться
непрямо: сталинкам щебетала неглинка
и щекотала смешно умереть не взлететь
ранней весной? купи себе тонну
эмэндэмса и тонну скитлса и устрой
контрольное социальное вопрошание победит
скитлс к заморозкам в июле победит
эмэндэмс к выкидышу из трубы
скованного речного тела
неглинки бревна неглинки не жалуйся не жалей не
глинки не глиняной не оловянной не лубяной не
льется не замедляется не проглатывается не мо
Град из слепышей
У СЕРБОВ
Бывает и так: бежишь от обряжателя – а попадаешь на застолье к сербам; попадаешь именно тогда, когда нервы твои на пределе,
так что последнее, чего тебе сейчас хочется, – это жирной балканской еды:
длиннейший, метров в тридцать, стол; на нем – мясо, мясо и еще раз мясо; огромные молодчики в высоких шапках прямо под столом режут поросенка, тот визжит и бьет копытом, сотрясая тарелки;
а едоков здесь хватает: девушки в алых юбках облепили баранью тушу и испытывают на ней свои резцы; дети, растащив бычьи кишки, играют по углам в «резиночку»; а в самом конце стола склонились над мисками укутанные в черное старики и одними губами, как лошади, засасывают внутрь чорбу;
приподняв скатерку, спрашиваю: где-Дес-по-то-вич? Молодчики с ножами, настоящие верзилы, ластятся к моим ногам, посмеиваются, будто я сказал удачную шутку;
тогда я сцепляю их друг с другом, забираю поросенка – к счастью, у него еще целых три ноги и он вполне может стоять –
и поспешно, пока не расцепились молодчики, запрягаю его: благо, вся моя поклажа – это кружка темного пива, кольцо кровяной колбасы да пара-тройка метафизических откровений, не нашедших адресата;
«Вперед, свинка, подальше от обряжателя», – шепчу я в нежно-розовое ухо, и поросенок, роняя на землю капли оливкового масла и крови, трогается...
В ТРАКТИРЕ
Паломник поглядывал в окно: кто-то на ночь глядя тряс во дворе яблоню. Опять этот солдат, бросила проходящая мимо официантка и поставила перед паломником пиво. У нее были завитые кудри, как у маленьких девочек на празднике. Паломник спросил: откуда здесь взялся солдат. Почем мне знать, ответила официантка и, всхлипнув, ушла. Пока паломник сидел с пивом, но не пил, к нему подошел хозяин, игравший за стойкой в дурака с тремя приятелями, и поинтересовался, как ему тут нравится. Очень нравится, ответил паломник, разве только душновато. Может, еще пива, предложил хозяин. Паломник отказался. Это деревня пивоваров, и пиво здесь очень хорошее, сказал хозяин, а потом добавил: все мои друзья – пивовары. Вот как, сказал паломник. Какими судьбами, спросил хозяин. Паломничество, ответил паломник. Вот как, сказал хозяин. К пиву есть тушеная капуста и студень. Вот как, сказал паломник. Нельзя ли, в таком случае, угостить солдата. Какого солдата, спросил хозяин. Того, что трясет яблоню. Ох уж мне эти солдаты, сказал хозяин и зашторил окно. В комнате вдруг стало шумно: его приятели-пивовары раздавали на новую партию. Он махнул им рукой. Почему она плачет, спросил паломник. Кто, спросил хозяин. Официантка. Из-за солдат, ответил хозяин. Каждый раз, когда они остаются на ночь, она совсем расклеивается. Бедная девочка. Видели когда-нибудь солдата вблизи. Не каждый такое выдержит. Сегодня у нас целая рота. Разве здесь идет война. Почем мне знать, ответил хозяин. Наверное, еще идет. Где же они. Кто. Солдаты. В подвале. Я их заманил пивом и запер дверь. А что они там, в подвале, делают. Почем мне знать. Наверное, едят яблоки. Вот как, сказал паломник. Яблоки – это полезно. Да, согласился хозяин и, не зная, что еще добавить, отошел.
ФРАНЦ
Несмотря на то, что государство мы маленькое, ни один враг больше не застанет нас врасплох. И все благодаря тому, что у нас есть Франц.
Большинство из нас имеет самое общее представление относительно его внешности, поскольку Франц – существо непубличное. «Очень высоко, довольно громко и местами тонко», – описывала его бабушка. А один мой друг, профессор истории, пытался доказать, что на самом деле Франц – это нечто компактное и едва заметное, то, на что смотреть и охота, и боязно, вроде бельма часовщика с городского рынка. Вот уж не знаю, как девяностолетнему старику с таким зрением удается чинить часы, однако он до сих пор делает это мастерски. Впрочем, что нам до часовщика? Еще ни один часовщик в мире не смог предотвратить зло; когда доходит до зла, все часовщики, даже самые мастеровитые, бесполезны, чтобы не сказать – вредны. Другое дело – Франц; именно в годину бедствий у него наконец появляется шанс продемонстрировать нам свое – тоже в каком-то роде высокое – искусство.
Поначалу мы не замечаем ничего необычного, разве что изредка, по вечерам, повисает над городом странная, ни на что не похожая тишина. Никто из нас – кроме, может, самых чутких – не смог бы определить, что сражение уже идет. Но чем напористей действует противник, тем заметнее Франц. След от сапога, дымящая папироса, патрон на земле, рокот истребителя, легкого и маневренного, – мало-помалу мы, вечно занятые, начинаем замечать следы, хоть и косвенные, его неутомимой деятельности. Это продолжается и тогда, когда мы ложимся спать. По ночам до нас доносится отдаленный гром великой – а Франц ведет только такие – битвы, а иногда, если ночь безветренная, – мерная дробь марша или гул песни. Этими намеками нам дают понять: все в порядке, Франц принялся за работу, так что жителям маленького государства не о чем беспокоиться. И мы благодарим бога за то, что он послал нам Франца, и засыпаем с чистой совестью, чтобы назавтра с новыми силами вернуться к будничным заботам дня.
Но за что мы особенно любим Франца, так это его тактичность. Он никогда не опускается до пошлостей и фанфаронства: помпезные парады и выступления, игрушки кровожадного прошлого века, кажется, претят ему еще больше, чем нам; и совсем уж немыслимо представить, чтобы Франц мог выставить напоказ свои увечья и шрамы, которые у него, бравого вояки, несомненно имеются. Пока сражение продолжается, мы с суеверной дотошностью избегаем любых разговоров о Франце: кажется, любое неосторожное слово может помешать борьбе, которая ведется за нашими спинами. Когда же все кончено, слова и вовсе ни к чему; Франц, наш скромный Франц, довольствуется в качестве благодарности минутой молчания, цветами и памятником. И даже это, по его мнению, слишком большая награда за то, что он просто выполняет свою работу.
ЖЁЛТЫЙ МУЖИК
В камышах, где я по утрам занимаюсь гимнастикой, покоился желтый мужик. Полузарытый в ил, с косящим во все стороны глазом, он сразу взял меня в оборот, сказав:
«Желтый – это мой цвет, цвет насилия. Многие преступники оканчивали жизнь под фанфары, с петлей на шее, но большинство лежит вот так: тихо, безыскусно, в песке и иле».
ГРАД ИЗ СЛЕПЫШЕЙ
Однажды ночью, когда шел град из гигантских слепышей, мне нужно было кое-что спросить у muzhik. Я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о граде.
«Можно ли понять человека, – ответил muzhik, – который до такой степени лишен вкуса, что ни словом не обмолвился о граде из слепышей? А ведь они были гигантские. Мне остается только пожалеть вас». Это было очень забавное, хоть и скверное письмо.
Теперь того muzhik уже нет, так что и говорить здесь не о чем.
ОБЕЗЬЯНА
Обезьяна на блюде.
Молодая мартышка. Medium rare. Ее приносят в запечатанном пакете, чтобы не вытекал сок. Сквозь промасленный полиэтилен виднеется коричневая мордочка, присыпанная кунжутом. Мы растерянно переглядываемся. Может, это уже лишнее, и стоило ограничиться лапшой и карпом-белкой?
Обезьяна открывает глаза. На голове и боках у нее глубокие, до мяса, раны: видно, кто-то уже попробовал ее. Мы смущаемся, откладываем вилки и ножи в сторону; повар в ярко-красном фартуке проносит мимо суп из птичьих гнезд – для особых гостей.
Не распечатывая пакета, еще раз осматриваем раны: случай тяжелый, но не смертельный; повреждения не так глубоки, как нам показалось вначале; пара-тройка слабых укусов, и только; при хорошем уходе эта малышка уже завтра будет лазать по канатам в зоопарке –
и, даст бог, произведет на свет прекрасное потомство; в конце концов, это невероятно живучее существо теперь наше, и мы о нем позаботимся; оживившись, мы вертим блюдо и так и этак, мы говорим бурно и все вместе. Обезьяна ворочается в пакете, как нетерпеливый младенец, и чуть-чуть нам улыбается.
ГРАФИК ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ КАРЛИЦ-ПЕРЕДВИЖНИЦ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
6 мая – карлицы не двигаются;
7 мая – карлицы не двигаются;
8 мая – карлицы слегка елозят ходулями, как бы прощупывая почву;
9 мая – карлицы двигаются (до полудня), карлицы не двигаются (после полудня);
10 мая – карлицы не двигаются.
Враг (примирить внутренние импульсы)
СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРЕДИСЛОВИЕ
В городе мертвом как голова Давида
долгожитель не понимает:
это у меня рецепторы обуглились
или с миром что-то не так?
тогда он вспоминает стихотворение:
о войне-войне
о которой на острове не говорят,
о которой знают на материке,
девочки уходят туда с огнем,
возвращаются только птицы.
матери смотрят на них из-за брезентовой занавески,
не вспоминая.
мальчик переодетый девочкой тоже несет огонь на материк,
не понимая, это у него глаза потрескались или с миром что-то не так?
Плескучие истории,
отделившие материк от острова,
раздевающие и разоруживающие как таможенный контроль,
с одной стороны
а с другой стороны лес –
мужественный мальчик представивший ее госпожой,
и еще туман, он и есть островной брезент,
разрешили бы ей править, не вспоминая, кто стоит за ее покоем.
Полководец одетый в женский дождевик
не понимает, это у него профессиональная девиация
или поле боя и впрямь похоже на натюрморт,
хюбрис на запах как уксус
и трава крапива больнее чем песня врага.
НАЧАЛО ПОЭМЫ НА МАТЕРИКЕ
Жертва 1
Кто такие эти девочки и какого роста они,
я бы не хотел перепутать их с опятами во мху,
я бы не хотел перепутать их снова,
и снова открыть кровяточную кору.
опишите мне их ножки,
чтобы я рассматривал ссадины на их коленях
без вожделения, без жалости.
расскажите какие тропинки оставляют они
когда наступают и убегают как волны пролива,
более напоминая ритмы чем фигуры.
разрешите вместить в алхимию слова их закличку-манок-миф
о мальчике с женским от войны-войны лицом.
Жертва 2
Капли на внешней стороне палатки,
трогай мокрый внутри брезент,
мои пальцы слишком грязные для мастурбации,
это лес, в нем много зверей.
Что такое мнимое присутствие?
Зыбкая почва постели наполнилась страхом,
дыхание достигло моего носа неожиданно,
так, что я перепутала своё дыхание и прочую насыщенность логова,
если бы я могла опомниться и не перебирать беспорядочные имена
охотников, забравших первичность чувств,
тогда я отделила бы своё дыхание.
вот в чем была работа моих легких,
распаковывать зиплоки аплодисментов.
никого нет,
значит мне нечего стыдиться.
кто-то есть,
кто-то есть определённо.
Жертва 3
мое имя нечто вроде наряда короля,–
оно бы нравилось на неузнанных языках,
но не нравится на чужом прикосновении.
несговорчивая память забудь.
разве это равновесие.
стены исписаны нескладными млувами, среди них повторяется траектория:
Ты халтура а не исследователь темного
Ты халтура а не исследователь темного
Ты халтура а не исследователь темного
Вот рука остановится и тогда,
что увидишь ты?
Куда вернешься,
вместо ожидаемого k-word.
Жертва 4
И вот перед моими воспоминаниями
красная жажда пустых лесов
и понятное одиночество
так оно и есть,
жить в шатре из орлиных криков
видеть неприятные сны
и дождливо-безлюдный лес,
расходящийся и сходящийся заново
все такой же как боль была.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЭМЫ НА МАТЕРИКЕ
«его прорыв к освобождению»
Полководец открывает глаза и появляется здесь:
в тихом и нежном как рассвет лазарете.
– что, у меня рана?
- нет, это не рана, это кожное заболевание между миром и тобой,
это гибкий лес болеет становясь старше, но почему болеешь ты?
водолаз обходит акваторию бухты,
ничего, только скучная вода,
некая равнина как при отливе,
дренажная система дома на отмели
переворачивается отражаясь в куполе.
Это кино про меня, он уверен видя как Расмус пишет своё имя на стекле,
он заболел сегодня уже вдалеке от детства,
не сумел рассказать болезнь без не нужных терминов
вот как это тернистое слово.
а в куполе отражаются:
проволочные системы гномов,
маленькие туманные заводи,
он, умерший от простуды
лежит с блестящими щеками,
уже совершенно уверенный,
это кино про него.
выходя из фильма
выходя из фильма
выходя из заводи
он выходит из лазарета
и ловушка кожного заболевания схлопывается окончательно.
это конец, говорят врачи
зависит от авторки, говорит пространство
ПЕРЕВОД С НЕУЗНАННОГО ЯЗЫКА
«заклинание»
снеми с языка
маячки миграций
обними себя
как никчемную никчемность
что напишет авторка?
ничего не напишет авторка
нужен логопед-психотерапевт
интонировать что на снимках
это снимки
это просто снимки
нет порно картинки
потерянной в метро девочки
это фильм про неё
он пишет, значит хорошо
нихуя не хорошо
боится услышать успокаивающий
логопед-психотерапевт интонирует
его как маленькую марионетку
в присутствии друзей в гуччи
на анатомических рисунках,
в его игрушечном мирке
вот так правильно главное подобрать слова
ад это другие
переписанные пословицы становятся именами
проигрыватель играет долгий джонт
и нет никакого k-word
Живой ум
*
Лес обвалился, вынес укрытое
в алгоритм друга.
Материя копила, мусор как рост
и «задушила бы
всю землю».
Распускается свойством знания,
структурой укрытия, значит движимое
пространством.
Пространства,
не касающиеся земли.
*
Они переворачивали лес
на глазнице живого
Лес истончается. Сходство находит.
Зрительница остается
чувственной формой, раскованным склоном
Предельным касанием сходство
теряет тела.
*
Опыт новорожденного поиск
живого, то есть любящего ума
*
Хищник питается только
передвигающимся
Глаза развиваются из нужды.
И на ней проявлялись,
убеждая собой белые
формы биомов.
*
антология климата,
сродственный плагиат
на ум приходит привычка
выращивать гнезда у птиц
сторонники боуи – –
is anything alive on mars?
Пролитое в сторону голоса
I. ВНУТРЕННЯЯ ЛЭП
2/2
чёрное два белое два
лента размечена пьяным подрядом
две пуповины – сплошная длина
надо
рваться
на радуги флаги круги
в трафике первых ходов и процентов
радуги длинные глины других
ленты
чёрное два в ленту едва
белое древо цветёт простоцветом
простоналичием простобичом
скрепой
белое лба ртутностолба
миллиметрово-небесное майна
неопалимая глина других
тайна
радуга дна радужка для
камеры линию вытереть ватой
пешки ватагою катятся стоп
смято
ИЗ ЧАСТОТНОГО ОБЛАКА
российский город удар пространства
земля идея свобода вмятин
бывшие доллар муж и автор
гость собирает воздух смерти
***
я беру пинцет за три сотки
и вспоминаю об отце как говорил
пойдём к сыру и мы шли к сыру
потом все пошли к сыру им сказали
что это звёзды никто не поверил
раскрасил его кто-то смыл краску
вместе со связью и вот
я сжимаю пинцет и смотрю на дыры
и там и там
острые концы, широкие плоскости
для ловких пальчиков, холёных ручек
Петь привет Наташа
оставила мне замятие
с выходных да такое
что в выходных
валиках пополам и в куски
пинцет справится
только один только здесь
только три сотки
ок
не такое тянуть хотелось
не такое тянуть приходилось
сцепилось
и
расцепилось
сцепилось
и
расцепилось
ВНУТРЕННЯЯ ЛЭП
синь разлепила внутреннюю ЛЭП
и даже птицы не беспроводны
и телепатий оттепель сыта
заброшен синий зуб в гнилом снегу
взрастает воин дворового шума
мир липкий сторож при своём вайфае
банально что забыл пароль сказать
скорей боишься телефон испортить
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТОЛБЕ
спишем долги
своими словами
(подходя, видишь,
как ветер уносит
последний номер,
нелегальным пальцем проходишь
по бахроме)
II. ПРОЛИТОЕ В СТОРОНУ ГОЛОСА
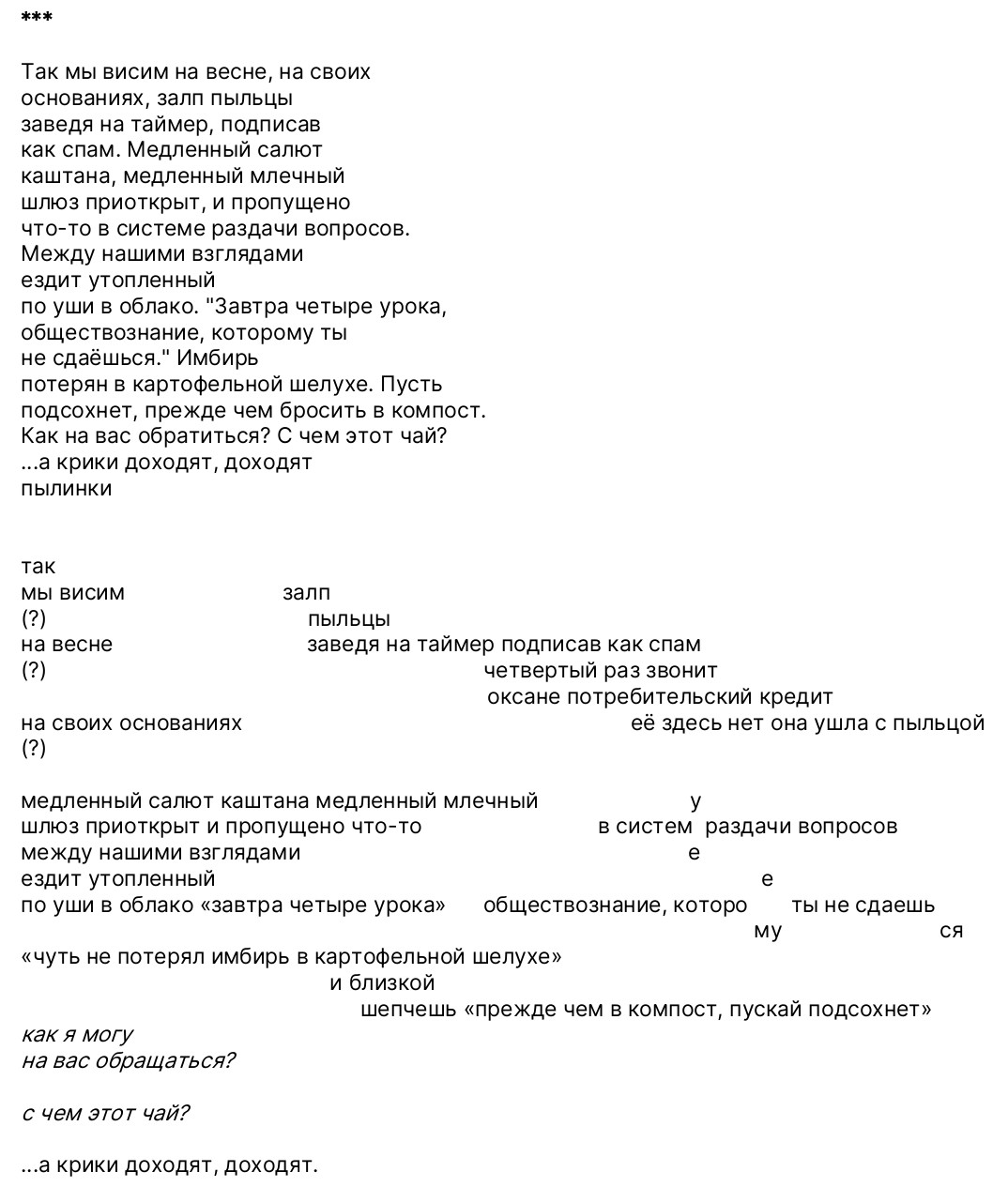
КОГОТОК ОТРЫВКА
...что так, вразвес, говорить, только пытку
зря переводите. Вон – в доме ни одного
нерва, лишь убеждения. В пытку
туго вплетены имена, цитат голени. Кот-наколенник,
засмотрен, занюхан, прерывает сплетенье, прорывает
раскрытую книгу. Падает вспышка - кажется, утонувший
коготь. Бумажное небо не признаёт, не чтит
в себе террориста. Из исключенной книжки
сложить кусудаму, повесить её над матрацем.
Слушать, о чём они ругаются с диско-шаром
в окне соседнего дома, так, на глазок.
Дзидо Оно
пер. с яп. Э.Баранова
***
когда я думаю смертью
у меня пустеет в груди
в неё проникает отблеск дикой любви
одинаковой как хирургический шов
хищно точной
в дикой любви стоят узники всех
обменов всех со-вестей
шипик шов шоппинг
возвращение блудного сердца
воскрес от страха
не смог отодвинуть камень
скиньте попить
О. Валедарис
пер. с межрёберн. невралг. Э. Баранова
ПРОЛИТОЕ В СТОРОНУ ГОЛОСА
Солодовая колба. Библиотека
тянет меня к земле, фонотека –
к огню. Реки – державное, ржавое, а как же. Так
мы сидим, уплотнясь
моментом. Сухое хрестоматийное
древо напротив. В воздухе
умолчания. Не о том сырость, не туда.
Степь – тезис, лесопосадка – антитезис,
шиномонтаж – синтез. О, топоры теорий,
чей металл порист и оспорим! Подержи
мой пустой сосуд, покуда опорожняюсь.
Экоподкова над входом в теплицу.
Случайно нажатая глина.
Тишь. Какая, хладнокровна, глыба
эту лавку жабернокрышует?
Эхо. Лихорадка степенится,
утихает лента мелким басом,
волк уносит яйца из танца.
Я пойду отздесь, пока не пенюсь,
не переливаюсь через. Слышно,
как кликует мятое горнило.
Всё окутал танец. И споткнулся.
Льном забита первая страница.
Есть вторая. Больше не бывает.
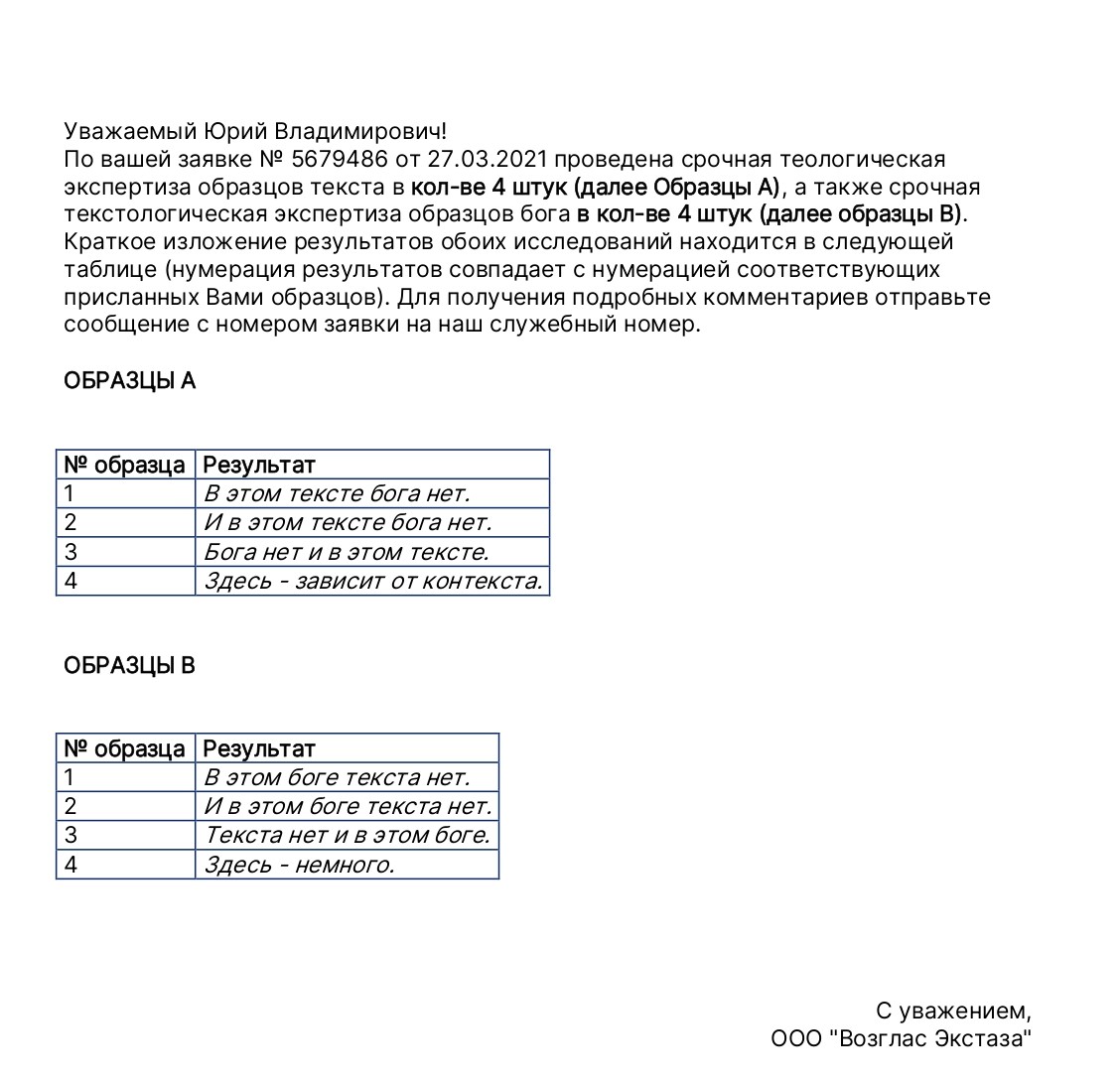
Способ раскрытия цветка
ШАГИ, ПРИГЛУШЕННЫЕ МХОМ
В сложившихся
обстоятельствах, когда с тревогой,
затаив дыхание (все равно что трижды окликнув его,
прежде чем констатировать смерть), ожидаешь
теплых и ясных дней,
время не настолько прямолинейно,
чтобы не быть в состоянии удовлетворить
домогательствам простой поэтической очевидности.
Ни той,
где его абстрактная линия,
как в новейших неклассических геометриях,
становится сжатием: прошлогодний осенний паданец –
окаменелое ньютоново яблоко,
даже если это айва;
ни той, где она,
превращаясь в эманацию моллюска-горшечника –
витую раковину виноградной улитки,
повторяет траекторию
отходящего мало-помалу от зимней спячки
винтообразно растущего существа.
Сонное зевание
раскрывающегося первоцвета –
как не увидеть здесь, что оно прекрасно, –
кажется, нуждается во времени только лишь для того,
чтобы его опровергнуть – не то что опередить,
сопровождая его в апрель:
в этом смысле
понятие времени
едва ли конструкция ума,
скопированная с пространственных представлений, –
скорее форма интеллектуального оцепенения.
…
Что из этого следует?
Только то, что
незамкнутая времениподобная линия
представляет собою далее
очередную ее модуляцию,
точней – расслоение:
отчасти в зависимости от того, в кого превращаюсь я
(седеет волос, отслаивается чешуйка перхоти и т. д.),
частью же благодаря тому,
о чем я сейчас говорю.
По крайней мере,
никто не скажет,
что у такого-то слишком слабый синтаксис,
чтобы сделать это: направить время по ложному следу –
не выходя за пределы прошлого / настоящего / будущего
глагольных времен,
с которыми осваивают лишь привычки детства
или эти шаги, приглушенные мхом…
иное их исчисление, нежели то,
на которое я понадеялся, а теперь глотаю сырую,
принесенную атлантическим аквилоном, летучую щелочь –
причину слез.
Посмотри на то,
как ветка клонится к югу.
Как она сгибает абстрактную линию времени
в дугу довольно большого радиуса кривизны.
Число ее движения подчиняется принципам
прогрессирующей дифференциации и возрастающей сложности.
Равняющееся некоторому, с достоверностью не известному,
количеству моментов,
число ее движения
устремляет в ультрафиолетовый,
недоступный глазу, участок спектра видимой жизни
почки, листья, цветы…
простирая почки, листья, цветы
вплоть до границы галлюцинаторного восприятия,
отличая ее от ее голой наличности
множества «теперь».
СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ЦВЕТКА
Можно только мечтать о такой мысли,
которая обнаруживает себя в раскрытии цветка.
Цветок означает приобретенную неспособность
оставаться цветочной почкой.
Но то, что некогда могло звучать в качестве тихой констатации –
«цветок черешни-скороспелки»… «поздний цветок катальпы», –
в условиях сырой холодной весны не может определяться
вне связи с синтаксически-безумной расточительностью письма,
своими предположениями и наблюдениями,
своими описаниями и выводами
только и придающего
подлежащей раскрытию почке – складке цветка – такую форму,
в которой ее способность быть раскрытой в качестве цветка
может стать в конце концов
обнаружимой.
Нет никакой неожиданности,
следовательно, в том,
чтобы свести цветок к его артикулируемой сущности,
коль скоро и то и другое в одинаковой мере зависит
от изменений погоды и атмосферного хроматизма – коль скоро
каждое из таких изменений погоды и атмосферного хроматизма,
как явствует далее, было одно ничтожнее и мельче другого:
мелкий дождь – изморось – смурая мгла.
Или: смурая мгла – изморось –
мелкий дождь.
Способ раскрытия цветка
(а о меньшем здесь речь и не идет) есть некое ничто,
которое существует, можно сказать, как равное тексту,
некий, не только фактически, но и в принципе,
и чтобы быть до конца современным,
экзистенциал ожидания:
поддерживать теплоту тела и пополнять убыль тканей –
писать от руки кровью, взятой из языка, –
артикулировать.
ПЕРЕХОДНЫЕ СТУПЕНИ ЛИСТА
Запаздывание,
которым вот уже третью неделю приколдовывала весна,
подтверждается даже тем, что на первый взгляд
кажется его опровержением,
а именно: появлением цветов.
Гете-морфолог
открыл и в самом деле прекрасный закон,
по которому различная наружность разных частей цветка
происходит от задержанного развития.
Тычинки, пестик, венчик, чашечка, цветоножка
суть только простые видоизменения
или переходные ступени листа, –
гласит открытый Гете закон,
настолько прекрасный,
что очень трудно – я чуть не сказал: невозможно –
не думать о цветке как о некоем усилии
в преодолении запаздывания.
И еще я сказал себе:
усилие в преодолении запаздывания,
которое есть не что иное, как приращение силы, –
теперь оно заключается в геометрических свойствах
его душистой молекулы.
Если учесть,
что усилие в преодолении запаздывания
не есть лишь удел цветка
(ибо камни растут,
растения растут и живут,
животные растут, живут и чувствуют),
то это действительно то, что можно всегда сказать
в утешение.
…Отбросить словарь фенологии
и представить многообразие смятений и передышек,
обманутых и неожиданно вознагражденных ожиданий
как размеченное событиями на абстрактной линии времени
в том исключительном,
трижды классическом (клятом) смысле,
в каком части линии существуют все одновременно,
тогда как части времени существуют
друг после друга.
Словом, будь иначе,
не было бы цветка.
ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ГАДАТЕЛЬНЫХ КОСТОЧЕК
То, о чем я далее говорил,
являлось скудной гомологией
к временно́му протяжению:
синтаксиса же не в большей степени,
чем сегментоподобно растущего позвоночника
или стебля –
некоего присущего всему живому,
включая платоновский logos, процесса цефализации,
вопроса о возникновении и развитии головы,
возможно, подвигнувшего также и Гете
вывести череп из позвонков.
Невзирая на неприятие большинства современников,
Гете-раздатчик счастья делает это
с наукообразной дотошностью:
«Три первые признаны:
затылочная кость,
задняя клиновидная кость и передняя клиновидная кость;
но три последние еще должны быть признаны:
небная кость, верхняя челюсть
и межчелюстная кость».
Хотя, кажется, здесь совершенно достаточно
сказанного им о стебле: что это
всего лишь растянутое цвето-
и плодообразование.
Короче,
то, о чем я далее говорил,
должно было развертываться не бесконечно,
но как бы до назначенной
биологическому виду степени развития,
если только слова сохраняют смысл.
Вот именно:
то, о чем я далее…,
должно было бы завершиться чем-то
в духе синеголовника или дракончика-тигроглава,
чем-то неизъяснимо ирреальным –
на манер того, как в немногих строках
бывает заключена вся совокупность действий
и предчувствие печальной развязки.
Я должен был бы очень ошибаться,
если бы такого рода существа
и такого рода ситуации
не допускали сравнения между собой,
и тем – не давали исчезнуть другим,
менее значительным различиям,
обнаруживающим известное сходство
с простой линнеевской классификацией.
Некий общий,
объединяющий их, остеологический, что ли, тип –
в какой-то мере преодоление той же видимости:
подпираемое шпорцем-краниофором
костное нёбо дельфиниума,
полуразвалившийся опадающий львиный зев…
и, того не менее, лепестки ромашки
как лучшее ожерелье из гадательных косточек –
«любит-не-любит».
ДВЕ ПОЛОВИНЫ БЕСКОНЕЧНО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ
Бесконечно возрастающая вероятность
прихода весны, заменяющая очевидность
и стремящаяся к ней
как к пределу!
В одну четверть,
в одну треть, вполовину…
и в две половины.
Лопающаяся почка
даже самого старого дерева может рассматриваться
как однолетнее растение.
В этом ее сходство
с лопающейся артерией.
Чашечка ноготка,
даже она, размыкаясь
лучистообразными лепестками венчика,
даже она не сказала бы
о бесконечно возрастающей вероятности более,
чем две половины бесконечно возрастающей вероятности –
ни исключающие друг друга, как части пространства,
ни связанные взаимным отношением
несуществования.
Зная одну половину,
мы уже знаем, что имеет сказать другая.
Не случайно другая представляется нам отсюда
ненадежным, ничтожнейшим метеором.
Две половины
бесконечно возрастающей вероятности, в сумме дающие
изо дня в день повторяющийся нарратив.
Из него мы можем извлечь
не столько описание весны,
сколько то, что без описания весны
нельзя достичь* (*достичь) прихода весны,
прихода не-весны, неприхода весны
и неприхода не-весны.
2013 / 2014
Зернистая темень
***
На срезе семени
тимьяна сумма меня:
зернистая темень, яма
между тем и этим
***
Не пенье, а дышащий щебень,
обещание сбыться,
уткнуться в щебет, может
быть
***
Как и мне, свету
укромно в осколке
себя.
***
Се́рдце всегда под ударением,
остроконечный, как месяц,
над ним нависает гравис,
гравис или акут.
***
Исходит искра от камня,
бросается на ближнего, и ближний становится дальним
светом, открытым огнём
***
На месте, где было тело, теперь,
заросли пустотела, свет
продирается сквозь, неуверенно
отбрасывая тени побегов
***
Забьётся сердце в цемент,
убудет, уйдёт в листья
дивиться по себе, с частью
целого
***
Щепотка того и этого,
мятые листья мяты,
светай, свивай
гнёздышко, улетай далеко
на ум
***
Только на фотографии туриста
я это я.
Белый-белый мир
***
Цветущий жасмин,
наполненный
бабочками-капустницами.
Тряхнёшь ветку –
и не разберёшь,
куда улетели соцветий лепестки,
а куда упали бабочки –
белый-белый мир.
НЕМНОГО О
I.
Не лает, не кусает, в дом не пускает,
дверь запирает, смех прекращает,
окна закрывает, гостей прогоняет,
за собой убирает –
через три дня.
Кидает землю и приговаривает:
тебя любили, с тобой дружили,
а меня не любили, со мной не дружили,
будешь ты теперь моею подружкою,
будешь мне волосы расчесывать, в косы укладывать,
будет нам с тобой радостно,
будет нам с тобой дольше, чем память человеческая.
Та, что не лает, не кусает,
закрыла ящик с воспоминаниями
и утопила во времени.
II.
Зелень моего родного леса
не видел павлин,
чьи перья стоят в вазе-мышке на подоконнике
и блекнут.
А перо павлина никогда
не видела моя бабушка,
но она пела частушки:
«как сладки гусиные лапки,
так я не едал,
да мой дед видал,
как барин едал».
А лес видел всё,
и мне жутко.
III.
её вещи собрали, и тогда стало ясно, что это
семечки тыквы, не успевшие взрасти
месяц луны, который застыл убывающим
смех, запертый между крышкой и объективом плёночного фотоаппарата
руки, которые сложили, но не складывает
ты, застрявший в «прости»
IV.
Белая пыль от шагов ветра
взлетела в небо и исчезла.
Лишь перо меланхолично снова легло.
смерть нашла его,
воткнула в черные локоны и
продолжила собирать картошку:
работа не волк, в лес не убежит.
И вдруг ощущаем свою оборванность,
а потом смеемся
над своей впечатлительностью:
да ладно, мне еще жить да жи-
Белая пыль вдалеке обгоняла чёрные тучи
и беззвучно кричала о скорой грозе.
IV.
Во сколько будет закат глаз –
не высчитают никакие метеорологи.
Такой закат белый, блеклый и страшный,
как старая полиэтиленовая плёнка,
которой из года в год укрывают парники.
На каждый закат приходит рассвет,
но какая разница,
когда на него смотрят
только одни глаза.
V.
мой телефон через список номеров
часто напоминает, кто мне дорог,
одним: «контакт на случай ЧП».
звоню
и говорю первое, что приходит в голову:
ты знаешь, в саду у соседа цветет слива,
теперь душистые сугробы всё устилают,
да такие, что и соседа не видно!
контакт на случай ЧП
чавкает сливовым вареньем с чаем,
улыбается голосом: «хорошо».
кладу трубку:
заброшенный соседский участок,
раздираемый ветрами, отдаёт последнюю жизнь –
скорченные черёмухи,
гудящие, как электрические провода.
***
Я как дрожащая бабочка
перед трещиной между стеклом и рамой.
Куда уходит детство
и еще тысяча вещей,
что даже называть страшно.
Уже который год в моей голове
тягуче длится виолончель –
под звуки собираю паданцы слив,
чтобы накормить кроликов.
***
Через трещины пауз
разворачивал лапки репейник
шершаво и колко.
На закате колючки чернели
в моих волосах.
***
семена сухоцвета
какой сухоцвет – никогда не узнаю
взлетели блекло и тяжело
прямо к облаку мотыльков
и смешались
на свои дни рождения
дедушка дарил мне сахарную вату
В обратном времени
***
скоро
всего что я вижу
не будет
деревья не выстоят
и разлетятся
в обратном времени
с пасторальным напевом
тревогой от вида
деревни
укутанной толщей
воды Атлантида –
Земля
ундина-ундина цветёт
твоя кожа в подводном
царстве
морские царевны русалки
девушки с легкими
полными слез
утопленницы и девы
утопленные без цели
там главные
я надеюсь конец истории
будет таким и останется
только вода
только вода женственная
бескрайняя и
безжизненная
***
...заехав невозможно далеко однажды мы нашли телефонную будку посреди во-все-стороны-протяженного поля. мне
хочется взять тебя не имеющего лица за руку
и отвести в будку чтобы там соединиться с тем
абсолютным что на конце провода вечно ждет
вечность проводит и перетекает в бессмертие
пластиком трубки неразлагающимся вовеки –
наших коротких и ставших еще короче – веков
и остаться там посреди забытого
остаться всеми забытыми
телом к телу лицом к лицу
и молча узнать друг друга
ВОЙНА
белое снега
сознание снеговое в него входит тело
флаг насаждая в надежде стать чем-то
ангельским подобным
раздвигая руки поднимая их вверх
падает падает падает падает
стрелами-пулями темечком в снег
создаётся волшебный лес
(где лешие не-похожие-на-людей
обитают) из редких деревьев и падших бревен
пущенной на самотёк войны
стоит лес посреди города – его
прорастание из домов опустелых
насквозь смотришься в дыры
прострелянных зданий как в камень
куриного бога на счастье на берегу моря
старой грузии новой абхазии
закончилась война
Взгляд из кабинки аттракциона: о поэтической книге Александры Цибули «Колесо обозрения»
Александра Цибуля. Колесо обозрения – СПб.: Jaromír Hladík press, 2021. 56 с.
Книжная публикация подводит промежуточные итоги в творческой биографии поэта. Невысказанные читательские впечатления, неформальные отзывы, критическая рефлексия – всё это формирует совокупность индивидуальных прочтений, локализуя поэтику в литературном поле. Эти и другие процессы закрепляют ряд новых представлений об авторе и сгущают силуэт его текстуального «двойника». Присутствие в литературной периодике не настолько репрезентативно: поэтическая подборка чаще высвечивает в поэтике лишь зоны, книга же приоткрывает её панораму. «Путешествие на край крови» Александры Цибули вышла 2014 году. Выработанные в процессе её чтения алгоритмы восприятия определили оптику, которую я спроецировал на «Колесо обозрения» – новую книгу Цибули. Путь, начерченный по знакомым лекалам, может быть довольно комфортным, но удобство не бережёт идущего от западни: сколь угодно работоспособные механизмы чтения не универсальны. И всё же мне хочется верить, что этот опыт оказался полезен, поскольку позволил услышать один и тот же лирический голос в разных акустических условиях.
Так как «Колесо обозрения» вступает в косвенный диалог с предшествующей книгой Александры Цибули, считаю важным вспомнить, как её восприняли, и что о ней писали. Кирилл Корчагин охарактеризовал «Путешествие на край крови» как развёрнутое художественное решение феноменологической задачи: исследовать существование образов в мире, лишённом человека как медиатора авторского голоса, но не как воспринимающей эти образы инстанции. Согласно мнению Корчагина, в стихах Цибули единицей целостности выступает не сам текст, а автономный образ, так как связь между ними, по преимуществу, неочевидна или отсутствует. Корчагин считает такой подход к построению образной системы одним из следствий применения дегуманизированной оптики: так как человек в этих текстах лишён голоса, привычные, «слишком человеческие» принципы упорядочивания информации не вполне применимы к их анализу [1]. Анна Глазова в аннотации к «Путешествию на край крови» расставляет акценты иначе. Для неё стихи Цибули, прежде всего, представляют вдумчивое созерцание чувственного опыта, выразителем которого стало «сообщество слов». Глазова также не обходит вопрос о единицах целостности внутри поэтики, а именно в том её аспекте, где осуществляется связь между говорящей и речью. Между ними «...возникают связи, обычно присущие отношениям между людьми – стыд, желание, смущение, страх, нежность» [2]. Дегуманизированная оптика не упоминается здесь напрямую, но из рецепции Глазовой возможны выводы о нестандартном применении этого подхода: отказывая человеку в праве быть центром своей художественной вселенной, Цибуля проецирует человеческие отношения на слова, наделённые плотью. Иван Соколов в своей рецензии реконструирует поэтическую генеалогию «Путешествия на край крови». Его интересуют не столько фигурирующие в стихах имена и цитаты, сколько преломление сформировавших поэтику Цибули традиций. В ней влияния Эзры Паунда, Пауля Целана, и Георга Тракля преобладают над эхом голосов Геннадия Айги, Анны Глазовой, Ольги Седаковой и других русскоязычных коллег старшего поколения. Соколов приходит к прагматичному выводу: письмо Цибули удачно попало в читательский запрос на оригинальное, но не дезориентирующее переосмысление западного модернизма в русле отечественной традиции [3]. В контексте рассуждения о «Колесе обозрения» мне кажутся важными все из приведенных позиций. Каждое из трёх прочтений «Путешествия на край крови» фиксирует одну из особенностей поэтики Александры Цибули на предшествующем этапе. Корчагин выстроил свою рецензию вокруг монтажной композиции текстов, позиционируя это художественное решение как фундаментальное для художественного метода Цибули; аннотация Глазовой фиксирует в стихах поэтессы нетривиальный ответ на тенденцию дегуманизации; Соколов же подробно обосновал включённость книги в плотное интертекстуальное полотно, сосредоточившись на работе Цибули с присвоенным словом. По необходимости возвращаясь к перечисленным тезисам и соотнося их с собственными впечатлениями, я попытаюсь описать смещения в поэтике Александры Цибули. Поэтике осознанной и последовательной уже на момент 2014 года, но отнюдь не статичной.
Размышляя о том, чем является «Колесо обозрения» по отношению к «Путешествию на край крови», было сложно отказать себе в желании временно вынести за скобки наблюдения рецензентов и поспекулировать на сопоставлении их названий. Читательские привычки подталкивают меня воспринимать вынесенную в заглавие синтагму как первый стих поэтического цикла; пунктирную проекцию авторской оптики; рамку, которой поэт или поэтесса объединяет сумму произнесённого. Если воспринимать фразы «путешествие на край крови» и «колесо обозрения» как автономные от объединённых под ними стихотворений, обращают на себя внимание ухваченные ими траектории взгляда. Постигаемое как вещь в себе, освобождённое от ассоциаций с романом Луи-Фердинанда Селина «путешествие на край крови» может сообщать о движении к линии умозрительного горизонта. В свою очередь, взгляд из кабинки медитативного аттракциона фиксирует движение иной природы: циклическое перемещение по замкнутой траектории; смотрящий то приближается к попадающим в поле зрения объектам, то удаляется от них. Предзаданные этими ассоциациями ожидания оказалась слишком устойчивы, чтобы не повлиять на мой личный опыт взаимодействия с этими книгами. Идти на поводу у предсуждения легко, увлекательно, но не всегда целесообразно. Тем любопытнее было проследить, как оно подтверждалось и опровергалось контекстами, открывшимися в процессе подготовки этой статьи. Совпадение ли, но текст, центральный образ которого вынесен в заглавие книги, описывает похожее блуждание взгляда в пространстве:
С колеса обозрения видно, что наступила осень:
красные и жёлтые деревья, люди
летают на ракете посреди грусти. Бездомные,
как космонавты в космосе: никогда не будут
похоронены, так и будут дрейфовать или сгорят
среди звёзд. Тихие животные нежно лижут
кожу и шерсть, на Земле.
Пока колесо движется, зрение то опускается к земле, выхватывая из окружения осеннюю листву, то возносится к небу, фокусируясь на экстремальном аттракционе. В декорациях увядающей природы веселье людей, раскручиваемых ракетой, кажется натужным, и «нечаянный праздник, добытый на склонах сил» не маскирует их влечения к смерти. Созерцание внешних обстоятельств действия перетекает в их глубинное исследование, приоткрывая изнанку повседневности, экзистенциальную заброшенность «слабых и неприкаянных». Их судьба незавидна – сгореть от собственного вымученного веселья. Выжигающий холод космоса в последних двух строках противопоставлен тёплой телесной нежности: возвращение к Земле, припоминание животных становятся последним самоутешением. Впоследствии интуитивная установка, о которой я писал в предыдущем абзаце, не единожды подтверждалась: лирический субъект Цибули смотрит на вещи из кабинки колеса обозрения, и дистанция между ними варьируется от интимной до космической.
Совершая феноменологическое возвращение «к вещам» и удаляясь от них, поэтическое зрение Александры Цибули курсирует между бытовыми ситуациями (одинокая прогулка, ставшая поводом для внутреннего рефлексивного монолога) и культурной памятью:
Сегодня ивы тревожны, как маленькие животные.
Оказывается, что и ежи переносят бешенство, и белки.
Не следует брать в руки ежа, мирно сидящего на дорожке.
И у белки своё, компактное, бешенство, и отчаянье в каждой кроне.
Барт знает: наваждение – это чёрный дзен, – и всё утро
я мечтаю о запястье со шрамом в форме кинжала.
Эта формула, «я хочу смотреть на деревья вместе с тобой», и другая
(«я хочу умереть») равнозначны и равно беспомощны,
как банально и беспомощно всё, произносимое любящим.
В 2020 году сайт «Грёза» опубликовал поэтическую подборку Цибули, включившую тексты, впоследствии вошедшие в «Колесо обозрения». Среди них нет процитированного стихотворения, однако наблюдения Екатерины Захаркив, писавшей предисловие к публикации, соотносимы с описанными в тексте процессами: «Стыд регистрирует слабости, недостатки и неумолимую несостоятельность как ничто другое; но и также он фиксирует наши надежды, амбиции и самые глубокие связи, постольку-поскольку не существует способа зарегистрировать их, не впадая в эгоистическую одержимость ими» [4]. В первой части стихотворения говорящая как будто страшится своих ощущений, обнаруживая отражение собственного эмоционального состояния в окружающем пространстве. Некто «заговаривает» свою тревогу, но невысказанное просвечивает в каждом отвлечённом слове. Любящий стыдится вербализации желания, но внешний мир неизбежно напоминает о нём: «Страх стыдный на всём, это страх стыдит». Пятый стих делит текст на два сегмента, а взгляд лирического субъекта перемещается в область культурного бэкграунда. Парадокс, но пытаясь не называть желание, избегая прямого наименования и соотнесения с собой, говорящая всё же терпит поражение. Стыд диалектически уводил речь в сторону от откровенности, чтобы вернуться к ней и облечь желание в формулу за робкими кавычками.
что отрывается вместе с осенними листьями
– куски живого тепла
– телесность любви
– все прикосновения, в обратном
порядке, склёванные птицами,
в качестве последнего дара,
поэтому над землёй
проявляется траурное присутствие
расстающихся с ней сил, немного белёсых, стелющихся, почти невидимых
Прохладная тень, отбрасываемая на слова дегуманизированным взглядом, не лишает их человеческого тепла. Вслушиваясь в наделённую плотью внутреннюю речь, Цибуля не пренебрегает эстетикой, но воспринимает её скорее как средство, а не цель. Сколь «банально», «беспомощно» и желанно «запрещённое к произнесению» слово, столь же болезненна невозможность его адресации Другому. Не затеняя подобные слова, субъект всё же пытается дистанцироваться от стоящего за ними опыта. Текст о не прижившейся в пустой оболочке душе Целана (общей фигуры культуры, ассоциируемой с языком меланхолии и языком утраты) сообщает о печальном смирении перед личной катастрофой, что перекликается с процитированным стихотворением. Цибуля описывает опыт утраты через рассудочную систематизацию, но, ощущаемый физиологически, он являет себя в каждом элементе системы, чтобы вырваться наружу в последнем пункте списка. Диалектика стыда позволяет Цибуле выражать не только само лирическое переживание, но и усилия, сопряжённые с его артикуляцией в современном контексте. Помогают ей в этом отнюдь не иронические подмигивания, о которых писал Умберто Эко в философском анекдоте про объяснения в любви между интеллектуалами [5]. Наоборот, интонацию Цибули характеризует её холодная откровенность, право на которую отвоёвано у стыда и страха. Её голос по-прежнему звучит среди голосов поэтов и философов: Пауль Целан и Леонид Аронзон, Ролан Барт и Эммануэль Левинас лишь немногие из тех, кого Цибуля выбрала себе в собеседники. Внешняя речь в «Колесе обозрения» служит не столько материалом для интертекстуального монтажа, сколько утешением и опорой. Цитата, имя, реплика или сам принцип композиции резонируют с лирическим высказыванием, создают зияние непрозрачного смысла, но собирают разбитое зеркало обратно: выраженный опыт остаётся индивидуальным, оставляя пространство для самоидентификации.
Интроспекция не мешает Цибуле обращать восприятие вовне: вслушиваться в негромкую жизнь «сообщества слов» ей по-прежнему интересно. Пульсирующая плоть языка в ряде случаев становится объектом вивисекции, но вмешательство познания не всегда вознаграждает улыбкой, так как может повлечь за собой болезненные инсайты:
зимородок
уродился зимой
будто какое отродье
замаранное языком
туман скры
вает истерический
избыток вещей
делая вещи тихими
выносимыми
Язык в этом тексте представлен как инстанция, отмечающая вещи печатью первородного греха. Этимологическое разъятие слова обнажило его фундаментальную вину перед мирозданием. Стоило ли нарушать status quo и развеивать марево означающих? Стоило ли покидать уютное незнание?
Вообще, в «Колесе обозрения» Цибуля довольно часто пишет о некоем барьере между субъектом и пространством, субъектом и Другим, субъектом и его собственным чувственным опытом. Диалектическое движение по обе стороны этой преграды (материальной ли, психологической) – общий сюжет для большинства из упомянутых стихотворений. Пелена, застилающая обзор, создаёт условия для временного компромисса с «очевидностью и вымороченностью жизни», но на поверку оказывается «гарью», «копотью», а то и удушливым дымом «прибрежного / шашлыка». Обращаясь во внутреннем монологе к христианской установке «видеть как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» [6], лирический субъект не то чтобы отвергает её, но солидаризуется с ней вынужденно, не скрывая своей апатии: такая оптика для него слишком произвольна, а охваченное ей предстаёт не тем, чем является. Несмотря на то, что туман прячет «истерический / избыток вещей», Цибуля делает осознанный выбор идти навстречу пугающему знанию. Да, вещи «оборачиваются подарками» именно в момент сопротивления силам зрения, да, освобожденный свет никого не щадит, но всё же «становится ясностью», сколь бы ни было трудным её обретение.
Когда Цибуля пишет «Я больше не думаю, что поэзия должна быть непрозрачной, / поэзия должна быть строгой и доверительной», прямолинейность манифестации вызывает несправедливое подозрение. Вероятно, виной тому пришедшая на ум ассоциативная пара «доверительный / задушевный», но панибратская сентиментальность – последнее, чем можно охарактеризовать поэтическую манеру Цибули. Я многократно перечитывал текст, пытаясь уловить какой-нибудь интонационный слом. Не смог. Нечто в этих стихах не позволяет уличить их в лукавстве: поэтесса последовательна в своей негромкой, но уверенной манифестации. В опросе «О силах и страхах», опубликованном в журнале «Воздух» Цибуля пишет, что среди прочего помехой письму для нее является «опасность лукавства / кокетства» [7]. Поэтому не кажется случайностью, что именно строгость и доверительность представленной поэтики упоминаются в аннотации «Колеса обозрения», а Сергей Завьялов завершает предисловие цитатой из упомянутого текста [8]. Дело не только в его репрезентативности. Стихи Цибули сами подсказывают слова, которыми реципиент может описать и её лирического субъекта, и пространство, в котором звучит этот голос. Строгость и доверительность речи влюблённого; невыносимая уязвимость говорящей, чьи «силы ума ушли в горе, как на войну»; состоящее из «жалости и жести» пространство лирики – то неприступное, даже враждебное, то исполненное болезненной нежности:
Драгоценно-нежное, лежа
щее на моем лице, которое при
нято трактовать как мачи
стский жест, вы
пад патриархата,
разве ради этого я перевора
чивала тебя, – чтобы дрожащих
прикосновение глаз,
ныряющих на непосиль
ную глубину, дель
фины au visage de l’autre
Декларируемый уход от непрозрачного высказывания в случае Цибули не подразумевает «упрощения» поэтики. Доверительность её текстов выражается не только в интимности сообщаемого опыта, но и в том, насколько мала дистанция между медиатором поэтической речи и её возможным слушателем – и свидетелем, и участником внутренней жизни лирического субъекта. Процитированный текст затрагивает важную для Цибули тему взаимоотношений с Другим. Реконструированная в стихотворении ситуация амбивалентна: героине известны агрессивные контексты «мачистского жеста», однако влюблённое зрение сглаживает их и побуждает её к добровольному подчинению. Патриархальная подоплёка описанной ситуации в этом свете может быть проинтерпретирована с оглядкой на «Тотальность и бесконечное» Эммануэля Левинаса. Вероятно, именно к этой работе философа, посвящённой разным формам отношений с Другим, отсылает последний стих. Эти отношения в тексте Цибули балансируют между двумя позициями: доминантной (отголосок патриархата) и этичной (лицом к лицу), не подразумевающей обладания и насилия, но по-прежнему неравноправной, так как дар Другому безвозмезден. Главной характеристикой этого загадочного персонажа здесь предстаёт отнюдь не «выпад патриархата»; Другой присутствует в тексте, поскольку любим говорящей. В то же время Другой, редуцированный до осуществленного им действия, всё еще невидим. Немногочисленные подсказки не позволяют рассмотреть его лица. Его образ явлен только лирическому субъекту, чья сбивчивая речь, переданная внутрисловными переносами, фокусируется не на объекте, а на отношении к нему. Это обстоятельство становится лишним доводом в пользу тезиса о доверительности: Цибуля стремится к передаче опыта с минимальным посредничеством, «от первого лица». Другой остаётся в полутени, но это позволяет овеществить абстракцию, наполнить пустую оболочку личным содержанием.
«Колесо обозрения» осталась в координатах выработанной ранее поэтики, однако выбранный Александрой Цибулей путь полон ответвлений, и поэтесса не преминула воспользоваться этими скрытыми ходами. Образная система и дискурсивные области в «Путешествии на край крови» обретают мерцающее единство благодаря логическим парадоксам, непредсказуемым ассоциациям, перекличке поэтических традиций. Цибуля по-прежнему обращается к этому опыту, однако применяет его иначе. Образ стал более разомкнутым, густая интертекстуальность «Путешествия на край крови» в новой книге разрежается личным, откровенным высказыванием, а вневременное пространство лирики детализировалось повседневными подробностями. Кавычки, окаймляющие цитаты, которые раньше подавались в виде оммажей, теперь остраняют чужое слово [9], подчёркивают оппозицию внешней и внутренней речи – «пропущенной через стыд», но всё-таки возвращённой. Ошибкой было бы видеть в «Колесе обозрения» самозацикленное упоение уязвимостью. Важно, что заново обретённая способность говорить о себе и «от себя» не лишила тексты Цибули готовности «…не только слушать и слышать, не только жить внимательной жизнью, но и деятельно сострадать Другому» [10]. Новая книга поэтессы доказывает, что, вглядываясь в меняющий цвета саднящий синяк или в неприветливый пейзаж из кабинки колеса обозрения, возможно совершить путешествие на край собственной крови, к границам субъективности; туда, где заканчивается Я, и начинается Другой.
[1] Корчагин К. Путешествие на край образа. // Новое литературное обозрение, №1, 2015. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/131_nlo_1_2015/
[2] См. Цибуля А. Путешествие на край крови. Стихотворения – М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2014. – 84 с.
[3] Соколов И. Яркое впечатление. // Волга, №5, 2015. URL: https://magazines.gorky.media/volga/2015/5/yarkoe-vpechatlenie.html
[4] См. Цибуля А. Пластинка // Грёза – публикация от 29. 10. 2020. URL: https://greza.space/plastinka/
[5] Эко У. Заметки на полях имени розы – СПб.: symposium, 2007. – С. 76-78
[6] 1 Кор. 13:12.
[7] Цибуля А. О силах и страхах // Воздух, №4, 2014. URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2014-4/strength-and-terror/
[8] См. Цибуля А. Колесо обозрения – СПб.: Jaromír Hladík press, 2021. – 56 с.
[9] Из реплики Никиты Сунгатова о книге Александры Цибули «Колесо обозрения». См.: Красное знание – это сосуществование всего [видеозапись] // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vhdfNnp9SLc&ab_channel=%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8B
[10] Львовский С. Сопроводительное письмо номинатора на Премию АТД, 2015. URL: https://atd-premia.ru/2016/11/14/aleksandra-tsibulya-2015/
«В сумерках лёгкого сердца»: о поэтической книге Татьяны Грауз «Падающая комната»
Татьяна Грауз. Падающая комната – Чебоксары, CheBOOKsary (Free poetry), 2021. 46 с.
Красота
никогда не покинет мир, даже если природа ограничится для человека «парковой
зоной», а комната станет основным пространством для существования. Поэзия
Татьяны Грауз нацелена на преображение современной реальности, когда
детали внешнего мира начинают восприниматься как нечто прозрачное (прозрачная
проза пространства) и ощущаться в их взаимосвязях с трансцендентным. Незримое и
сияющее Иное проникает во все парки, дома, комнаты и тела, и пространство,
светлея, оказывается родным как физически, так и духовно.
из смерти мы вынуты в жизнь
и молчим
будто в нас плещется [не угасая] сияние мира
В книге, вышедшей в издательстве «Free poetry», представлено два цикла, которые перекликаются и продолжают друг друга – «Падающая комната. 13 взглядов» и «Парковая зона. 21 зона». Стихотворения были написаны весной и летом 2020 года в Москве во время карантина, и отражают опыт переживания мощной всеобщей перемены, когда все мы оказались скованы внешними и внутренними ограничениями.
Каждый из 13 взглядов – попытка заглянуть за пределы комнаты и узреть живое, нерукотворное, цветущее. Каждая парковая зона – своеобразная оптика прозрачности, позволяющая выразить трансцендентальный опыт, дотягиваясь до сияющего Иного.
Конститутивные поэтические фигуры для Татьяны Грауз – это Геннадий Айги, Елена Гуро, Елизавета Мнацаканова, Владимир Аристов, Андрей Тавров. Поэзию этих авторов объединяет метафизическое «вслушивание» в первозданный источник мира. «Мы читаем не слова, а пространства между словами» [1] – цитатой из дневника Елены Гуро озаглавлена статья Грауз, посвящённая Геннадию Айги и Елене Гуро (Татьяна Грауз не только удивительный поэт, но и блестящий эссеист). Геннадий Айги и Елизавета Мнацаканова – поэты андеграундного периода, и Грауз в своих проникновенных эссе говорит о музыкальном и визуальном в их творчестве (графическая форма стихотворений Айги, «музыкальные партитуры» поэзии Мнацакановой).
В предыдущей книге Татьяны Грауз «Внутри тишины» мы находим не только стихотворения, но и визуальную поэзию в виде абстрактных коллажных листов. В авторской передаче Андрея Таврова «В новом свете» [2] Грауз также говорит о влиянии творчества художников-минималистов – Малевича, Кандинского, Миро – на складывание её поэтического и художественного языка. Благодаря графическим выразительным средствам становится возможным увидеть проявленные «пространства между словами» [1], «силовое поле стихотворений» [2] и уйти от словесной буквальности.
 Визуальная поэзия Татьяны Грауз. Коллаж из книги «Внутри тишины»
Визуальная поэзия Татьяны Грауз. Коллаж из книги «Внутри тишины»О карантинном времени Владимир Аристов написал цикл стихотворений «Пандемос», в котором разворачивается диалог пространства и человека, вынужденно «приговорённого к своей квартире» [3], находящегося в размытых границах прошлого (в виде фотографий-воспоминаний) и будущего (где «и воцаряется временно-вечный мир» [3]).
Удивительно вглядываться в прошедшие дни самоизоляции как в событийную пустоту, которая, благодаря перекликающимся в общепоэтическом контексте оптикам Грауз и Аристова, переосмысляется как полнота вдумчивого уединения внутри паузы между «до» и «после».
 Визуальная поэзия Татьяны Грауз из книги «Внутри тишины». В коллаже «НеБо» использована музыкальная цитата композитора Ираиды Юсуповой
Визуальная поэзия Татьяны Грауз из книги «Внутри тишины». В коллаже «НеБо» использована музыкальная цитата композитора Ираиды Юсуповой«То, что я делаю – это своеобразный ленд-арт в поэзии: выйти из человека в пространство и вернуться обратно» – с улыбкой сказала Татьяна Грауз во время выступления на апрельской встрече Клуба поэзии [4], которая проходила в доме-музее Марины Цветаевой.
«Падающая комната» – образ отделения от пространства. Во многом этот образ отсылает к Бибихину, которого Грауз, по её собственным словам, перечитывала во время работы над циклами. Комната, как продолжение тела, оказывается ловушкой для внутреннего сияния: ограничение взаимодействия с внешним миром становится и ограничением взаимосвязей между Я и другими. В ограниченном искусственном пространстве – засохшие цветы, пыльные пледы, сомнамбулическая усталость, пожизненное одиночество: «комнаты наши – гробницы / [по ту и по эту сторону жизни]». В таком отчуждении руинируется и телесность, и речь. «Гниющие кости-слова» – часть этого одинокого и запертого мира. Люди задыхаются из-за утерянных старых связей, и взаимодействие возникает в метафизической тишине.
***
ты входишь в комнату
и остаёшься там [может быть] навсегда
Молчание становится способом самопознания и познания Другого, и внутри созерцательной тишины приоткрывается дверь в таинственные истоки божественного. Раненое «слово с ножом в спине» обгладывает до голых костей, погружает в обезумевшую темноту:
? что там внутри тебя ¿
? а т и п и ч н о е слово ¿
руки его его ноги живот
нож безобразный в спине
И только в пении возможен этот трансцендентальный скачок к Другому, божественному и живому: «хор ангелов взрывает тишину», «жаркая песня / блаженного лета». Ведь в самих гласных звуках «а» или «и» больше «божественного живого», что позволяет в сложной звуковой оркестровке стиха создать онтологическую взаимосвязь элементов мира и субъекта, когда «и деревья полны с и л ы неба земли от начала и до / завершения тайны б л а ж е н н о г о тела».
Поэзия Грауз становится союзом-проводником между известным и неизвестным: известное вдруг предстаёт в ореоле неземной загадки, а неизвестное начинает осознаваться как изначальная, родная, совершенная часть мира. В этом синтезе деталей мироздания идёт поиск живого как вечного, животворящего, надмирного, утешающего. Ощутима тоска по детству мира, о котором напоминает природа: «чертополох цветущий», «блаженная яблоня», «спина голубого малька», «прозрачные голоса родника», «прохлада ивовых веток», «и птицы желторотое дыханье», «и кошка усами воздух трогает / ступает как зверь какой-то первобытный».
и помнит не помнит трава безымянная
благоухающий жаром жизни шиповник
как мы ходили дышали молчали
В скованном городском пространстве, среди людей-заложников, претерпевая опыт временной, но гнетущей изоляции, душа – «вещественное н е в е щ е с т в о» – ограничена и в способности к диалогу:
ты плачешь душа-оленёнок
проходишь сквозь стену
лампочки глаз светятся в темноте
и одинокое дерево поёт на просторе
Это одинокое дерево находится как бы на краю мира по отношению к смотрящему. И то, что дерево «поёт», делает дерево образом, длящимся через звук, который выражает этот синтез материального и нематериального, онтологию общности вещей и идей. Стихотворение позволяет нам «услышать» безвременное и транслирует нечеловеческий опыт в родственности всех объектов.
В книге есть несколько обращений-диалогов сквозь воздух времени к важным и дорогим для Татьяны Грауз авторам: стихотворение под названием «Осипу Мандельштаму»; упоминание Чехова – одного из любимых с детства: «и сонный Антон / Павлович говорит в ы г о в а р и в а е т с я на ветру / гладит ветер прозрачной лёгкой ладонью», и отсылка «а рамы утром даже не скрипят / разбуженный сияет сад» к стихотворению Ольги Седаковой.
В гетероморфных стихах этой книги речь возникает в синтезе с природным простором. Голос многомерного субъекта связывает два пространства – внутри «комнаты-мира» и снаружи «комнаты-мира». Поэтический голос находится как бы на стыке области духа и дольней реальности. Татьяне Грауз удается сгладить чувство длительности: время в её стихах размывается; память становится чем-то одновременно большим, спутанным и мгновенным; прошлое – пред-жизненным, а настоящее предстаёт как непрочная томительная действительность запертого человека, стремящегося из четырёх стен городской комнаты, комнаты-тела, комнаты-мира в безвременное будущее.
и мне не вырваться и не узнать
как там в покинутых надолго травах
в необжитых неведомых пространствах
где ночь прозрачно яблоком хрустит
и звёзды молодильные с кислинкой
И в этом стремлении сияние-внутри-души возникает в непрерывном диалоге с другими: друзьями, учителями, голосами прошлого. И сияющие блики вокруг жизненной оси позволяют достичь чувства родства, где исчезает всяческая пропасть между сиянием-в-оболочке и сиянием свободным, беспространственным, вневременным. «Внутри себя» – всё равно, что «снаружи мира».
кружение света растущее будущее в у м е ветер гуляет
в поле далёком свет васильковый запах травы молодой
и деревья полны с и л ы неба земли от начала и до
завершения тайны б л а ж е н н о г о тела
В синтезе материального и духовного проявляется свечение. Даже «во тьме неосвещённого мира» – «лава священная разбуженных звёзд». И поэзия Татьяны Грауз позволяет к этому свечению прикоснуться.
 Визуальная поэзия Татьяны Грауз. Коллаж из книги «Внутри тишины»
Визуальная поэзия Татьяны Грауз. Коллаж из книги «Внутри тишины»[1] Грауз Т. «Мы читаем не слова, а пространства между словами»: Елена Гуро – Геннадий Айги. Опыт сопоставления / «Дискурс», 12 марта 2019
[2] «В новом свете». Авторский проект Андрея Таврова на канале «Теос Медиа». Поэзия Татьяны Грауз: созидательная сила неопределённости / 1 января 2016, №13. Все выпуски передачи «В новом свете».
[3] Аристов В. Цикл стихотворений «Пандемос»: 1) Журнал «Знамя» / №7, 2020; 2) Журнал «Флаги» / №5, 30 июля 2020
[4] Диалоги Клуба поэзии. Тимур Семёнов и Татьяна Грауз. Дом-музей Марины Цветаевой, 26 апреля 2021
Роза (документальная пьеса)
ЧАСТЬ I. ЛЕКЦИЯ
Ссылки на использованную литературу:
Radulphus de Coggeshale, «Chronicon Anglicanum»
Michael Uebel, «Ecstatic transformation on the uses of alterity in the Middle ages»
David J. Nemeth, «Prester John and the Gypsies»
Arthur Percival Newton «Travel and travellers of the Middle Ages»
Vsevolod Slessarev, «Prester John: the letter and the legend»
Sir E. Denison Ross, «Prester John and the Empire of Ethiopia»
Alexander A. Vasiliev «Prester John: legend and history»
И.В. Гете в статьях «Три святых царя», «Добавление» и «И еще раз три святых царя»
Friedrich Zarncke, «Der Priester Johannes»
A.-D. von den Brincken, «Prester Iohannes, Dominus Domantium»
Словарь Брокгауза и Ефрона
Письмо Пресвитера Иоанна дано в переводе с латыни, перевод сделан Майклом Уэбелом.
Сегодняшняя лекция посвящена культовой личности в истории. В своем роде уникальной, господа студенты, а для нашего факультета – ещё и полезной. Итак, начнем. С вводных, как всегда, слов.
Историки заявляли: «Если бы такого государства не было, то его необходимо было бы придумать». Этот тезис станет нашим вступительным словом к лекции о христианском правителе на востоке мира, который в средние века был известен тем, что смог создать идеальное царство-государство.
По словам многих путешественников, царство это было самым большим в мире и очень, очень богатым. В бога там верили все, настолько верили, что его главу звали Пресвитером. Правитель Пресвитер Иоанн. То есть это как если бы сегодня мы говорили президент-батюшка. Царство Пресвитера Иоанна было на Востоке, но христианским, и армия страны, как рассказывали крестоносцы, частенько билась против мусульман. Это была сила, в общем.
Сегодня мы с вами разберёмся, почему все забыли Пресвитера Иоанна и что стало с его царством.
Пресвитер Иоанн – что вы о нём знаете? Наверняка почти ничего. А ведь в течение 400 лет он был одним из самых популярных людей в переписках, в прозе, политике и поэзии. Идея-фикс всех народов в мире, скажем так. Свидетельства о нём приведены в 47 сохранившихся письменных источниках (прочесть к следующему семинару за неделю, ха-ха) в сотнях несохранившихся заметок и устных преданиях. Пресвитеру Иоанну посвящена глава в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. С ним вели переписку Папа Римский (и даже два Папы Римских), Фридрих Барбаросса и император Византии Мануил Комнин.
Первым о Пресвитере Иоанне в 1145 году пишет историк Оттон Фрейзингский в летописи под названием «Хроника о двух государствах». Оттон (сокращённо, кстати, Отелло) родился в Австрии и приходился дядей рыжему дьяволу, то есть королю Германии и в промежутке императору Священной Римской империи, Фридриху Барбароссе. Забавный курьез истории: рыжий дьявол позже будет переписываться с его святейшеством Пресвитером и радоваться каждому его письму, ха-ха.
В своих хрониках
Оттон рассказал,
что епископ Хью из города Гебаль рассказал,
что в далёкой стране на Востоке живёт и правит Иоанн,
король и священник,
двуедин в одном лице.
На тот момент всё звучало примерно так: какой-то Иоанн, одновременно царь и священник, правит в крайней Азии, за Персией и Арменией. И он сам, и его подданные – христиане, правда, несторианского толка, но это терпимо. Пресвитер Иоанн разгромил персов и захватил их столицу. После той победы пошёл на помощь крестоносцам, шёл долго, добрался до Тигра. То есть до крестоносцев уже было рукой подать. Но не смог переправить свои войска через Тигр, как ни пытался. Тогда он пошёл с войсками вверх по реке, на север. Искал место, где бы вода замёрзла по зиме. Вода оставалась жидкой, есть у неё такое состояние. Пресвитер с армией ждал морозов, которые так и не пришли. Ждали-ждали-ждали-ждали-ждали, воины заболевали, умирали, сердце Пресвитера дрогнуло, он приказал возвращаться домой. Весь рассказ про Персидскую битву и про ожидание на реке Тигре европейцы узнали из письма какого-то сирийского епископа, посланного в Рим вскоре после этого-того события.
Епископ рассказал это не самому Оттону, а Папе Римскому. Оттон не уточняет, как к нему поступила данная информация. Но зная о его близости ко двору, нетрудно догадаться, что Папа Каликст II (162-ой из римских пап, зарубите себе это на мозгу, где-нибудь по жизни, да пригодится, ха-ха), так вот, Папа Каликст II мог рассказать ему это сам. Чем чёрт не шутит. А уж в Средние века чертей было хоть отбавляй. Тысячи чертей. Сейчас повывели и страдают от террористов. Любит такое существо, как человек, страдать.
Но и любит страдающих: всегда поможет. Именно таким был Пресвитер Иоанн, помогавший христианам бороться с мусульманами, с неверными, в Леванте и окрестностях. И все в те годы узнали: на Востоке у христиан появился свой защитник. Самый смелый и самый верующий.
Жак де Витри, епископ Акки (ныне это город на территории Израиля. Ныне, но присно ль? Ха-ха), Жакдевитриепископакки в письме к папе Гонорию III от 18 апреля 1221 года пишет, что войско царя Давида, цитата, «уже стоит на расстоянии не более 15 дней пути от Антиохии и спешит прийти в Землю обетованную, чтобы узреть Гроб Господень и восстановить Святое государство». На тот момент Иерусалимское королевство, где стоял Гроб Господень, было под властью Салах ад-Дина, мусульманского кумира XII века, он же султан Египта и Сирии. Чтобы получить доступ к Гробу, надо было сначала…. Умереть (ха-ха, это шутка), надо было победить мусульманскую армию Салах-ад-дина.
Сам Пресвитер Иоанн также подтверждает свои благие намерения по очищению Иерусалима от мусульман в письме византийскому императору и Папе Римскому. Вот отрывок из его письма: «Мы намерены посетить гробницу Господа нашего с очень большой армией, в соответствии со славой нашего величества, для того чтобы поставить на колени и наказать врагов креста Христова и прославить Его благословенное имя». В 1177 году Папа, тогда уже Александр III, написал письмо Пресвитеру Иоанну, где благодарил за помощь христианам и выражал надежду на дальнейшую поддержку.
Пресвитер Иоанн, как всякий кумир, был окружён легендами. Писали, что он ведёт свой род от евангельских волхвов. Тех самых, что первыми поспешили поклониться Христу. Сам Иоанн в одной из переписок упоминал, что имеет родство с апостолом Фомой. Все сразу решили, прочитав личную переписку, случайным образом слитую наружу, что он имеет в виду Фому Неверующего, и сразу этому поверили. Потому что некоторые средневековые люди считали, что Фома Неверующий в своё время дошел до Индии, до Кералы, и основал там христианскую общину. Но другие средневековые люди объяснили, что христианскую общину в Индии основал тёзка Фомы, другой апостол Фома, Фома Канский, торговец из Эдессы. (Ах, Эдесса, жемчужина у моря, ха-ха). Тогда решили, что именно он приходится родственником Пресвитера Иоанна.
Слава Пресвитера Иоанна летела по земле, ходила с цыганами, и была такой славной, что о нём стали слагать стихи и романы. В документах Руси его называли царь-поп Иван. Например, только «царь-поп Иван», и никак иначе, о нём писал великий Марко Поло (который, к слову, как и фламандский монах-францисканец Гильом де Рубрук не был сильно впечатлён святостью Пресвитера и считал, что тот слишком гордится своим саном Царя-попа́).
Сочинением, полностью посвященным Ивану, был памятник древнерусской литературы «Сказание об Индийском царстве». В нём царя-попа Ивана называли православным, хотя сам он ни разу чётко не сказал, к какому течению христианства себя относит, а, напомню, в Западной Европе его вообще считали несторианином. Вторым русским произведением, в котором упоминался Царь поп Иван Пресвитер Иоанн, была «былина о Дюке Степановиче».
То есть
Пресвитер Иоанн,
На Руси царь-поп Иван,
То есть он
Царь и поп в одном лице,
священник и император в одном лице,
человек и король в одном лице,
то есть
богатый и могущественный,
защитник веры и защитник жизней
защитник защитников
живёт на Востоке, мыслит по-западному
Своими глазами его видели:
китайцы, уйгуры,
монголы, татары,
грузины, армяне,
тибетцы, индийцы,
арабы и персы,
русские, турки,
цыгане и европейцы крестовых походов,
дети своими глазами в Крестовом походе детей.
Географическое расположение
Его царство располагалось на территории нынешних Ирана, Афганистана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Китая, Тибета, Иерусалима, Эфиопии, Зимбабве.
Побывавшие в земле Иоанновой уверяли, что страна и её устройство близки к идеалу. Вот, например, британский путешественник сэр Джон Мандевиль писал в 1366 году: «Этот император, Пресвитер Иоанн, владеет очень большой землёй, в его владениях есть много величественных больших и малых городов. Под властью Пресвитера Иоанна находится много королей. И страна его очень хорошая и богатая, но не настолько богатая, как страна Великого Хана. Ибо купцы не приезжают туда так часто, чтобы покупать товары, как в страну Великого Хана. Люди боятся долгого пути и больших опасностей, подстерегающих их в море в тех краях. Ибо во многих местах в море есть большие скалы из адамантовых камней, обладающие свойством притягивать к себе железо. Поэтому там не ходят никакие суда, в которых есть железные гвозди. А если они это делают, то адамантовые скалы притягивают их к себе, так что они никогда не могут отплыть от них. Я сам видел издали в этом море как бы большой остров, густо поросший деревьями и терновником, полным шипов, которые были на них. Моряки рассказали мне, что всё это были суда, которые были остановлены адамантовыми скалами. И есть в его владениях много больших чудес. Ибо в его стране есть море, которое называют Песчаным морем; оно состоит целиком из гравия и песка, без единой капли воды, и оно вздымается и перекатывается большими волнами, как в других морях. И хотя в нём нет воды, но у берегов водится хорошая рыба разного вида и формы, в точности похожая на ту, что водится в других морях; она хороша и приятна на вкус. В трёх днях пути от этого моря есть большие горы, с которых течёт большая река. И она полна драгоценных камней, без единой капли воды, и протекает через пустыню, и на ней есть волны, как в Песчаном море, и она впадает в это море и там исчезает. В пустыне там есть много диких людей, уродливых на вид; ибо они имеют рога, и не говорят, а хрюкают, как свиньи. И есть много попугаев… Когда Пресвитер Иоанн идет на войну против любого другого государя, он приказывает не нести перед собой никаких знамён, а только три креста, сделанных из чистого золота. Когда же он не ведёт войны, а просто объезжает свои владения, то перед ним несут всего лишь один деревянный крест, в память о том, что Иисус Христос принял смерть на деревянном кресте. Его главный дворец такой роскошный и такой величественный, что ни один человек не сможет этому поверить, если сам не увидит его… В каждом городе там есть определённые чиновники, которые ничем больше не занимаются, их называют в переводе на латынь «Cadebiriz», то есть «безнадёжными глупцами»… Там есть долина, и под скалой находится голова с лицом самого настоящего дьявола... Когда я со своими спутниками достиг той долины, мы оказались в большом замешательстве и не знали, стоит ли подвергать себя опасности. С нами следовали двое достойных людей, монахов из Ломбардии; они заявили, что готовы пойти со всяким, кто пожелает идти через долину. Мы вступили в долину в количестве 14 человек, но назад вышло только 9. В этой тьме мы тысячу раз оказывались повержены наземь разным образом, так что едва поднимались на ноги, как сразу оказывались сбиты снова, ибо таково было огромное множество животных. Временами нам казалось, что нас били железными прутьями. Мы так никогда и не узнали, что случилось с остальными - заблудились ли они, или вернулись и вышли из долины впереди нас. Но более мы их не видели… В этой стране водится много крокодилов. Ночью они обитают в воде, а днём - на суше, в скалах и в пещерах. Зимой они ничего не едят, а впадают в спячку, как змеи. Эти крокодилы пожирают людей и плачут от этого. В этой стране водится также много хамелеонов... За землёй и островами и пустынями, находящимися во владении Пресвитера Иоанна, прямо по направлению к востоку, тянутся одни горы и скалы, очень большие. И есть там Страна Тьмы, где ничего не видно ни днём, ни ночью… И эта Страна Тьмы простирается от этой страны и до самого Земного Рая. О Земном Рае я не могу сказать вам ничего определённого, ибо сам я там не был, потому как он слишком далеко».
Старейшая из известных рукописных книг путешественника Джона Мандевиля находится в Национальной библиотеке в Париже. Увидеть Париж и умереть, так говорят? Ха-ха. Вот и пометьте себе, что под именем путешественника Джона Мандевиля писал льежский врач Жан де Бургонь, он признался в этом, умирая.
Рассмотрим подробнее главный документ: письмо самого Пресвитера Иоанна, которое он прислал Папе Римскому в 1165 году. В письме сам о себе он говорит только как lord of lords, откроем мультитран и по образу и подобию сервантеса мигеля де переведём ничтоже сумняшеся:
Лорд ов лордз
Владыка владык
Властитель властителей
Повелитель повелителей
правитель правителей
господин господинов
хозяин хозяинов
барин баринов
бог богов
пэр пэров
владелец владельцев
Христос христосов
лорд лордов
царь над царями
касарь над кесарями
король над королями
муж над мужами
господь над господами
Конкретно в письме Пресвитер писал, что он «над всеми царями царь». Всё письмо разделено на пункты. Я процитирую некоторые:
3. «Нашему Высочеству было сообщено, что вы признаёте наши заслуги, и что слухи о нашем Высочестве достигли вас. Наши посланники передали, что вы хотели бы передать нам небольшие подарки, которые бы понравились нашему Благочестию. Конечно, мы только человек и возьмём их с доброй верой, и с помощью нашего посланника передадим вам кое-какие подарки».
7. «Если вы хотите посетить наше королевство, мы разместим вас в самом лучшем, самом почётном месте в нашем дворце, а когда вы захотите вернуться, вы вернётесь с богатствами».
8. «Помните свой конец, и вы никогда не будете грешить».
10. «Я набожный христианин».
11. «Мы посещали Церковь Гроба Господня с армией, только лишь для того, чтобы воздать почести нашему Богу».
13. «В нашей стране рождаются слоны, одногорбые верблюды, двугорбые верблюды, крокодилы, гиппопотамы, метаголынарии (огромные петухи, на них ездить можно), камететернисы (гигантские улитки), тинсиритаи (что-то вроде сирен), пантеры, тигры, ламы, гиены, дикие быки, wild men (здесь не очень понятно. Переводчик даёт: «экстремисты, крайние, дикари»), рогатые люди, фавны, сатиры, карлики, собакоголовые люди, гиганты, циклопы и фениксы и много других зверей».
21. «В нашей стране текут молочные реки вдоль кисельных берегов. У нас есть такое место в стране, где нет никакой отравы, там не шумят лягушки, не водятся скорпионы и пауки, ядовитым животным не позволено жить в том месте».
41. «У нас есть каменная река, а за той каменной рекой живут 10 колен израилевых, которые полагают, что они короли сами по себе, а на самом деле подчиняются мне».
45. «У нас нет бедных. Также среди нас нет воров. Среди нас нет лжецов».
57. «Наш дворец крепок. Потолок, перекрытия и архитрав сделаны из акации. Крыша – из слоновой кости, а значит, ее невозможно сжечь. Крыша с каждого конца увенчана двумя золотыми яблочками с карбункулами внутри, так что золото светит днем, а ночью горят карбункулы. 50 колонн из чистого золота…»
64. «В нашей стране самые красивые женщины».
Также Король/священник писал, что его «королевство простирается от развалин Вавилона до Индии» и пользуется почётом и уважением у королей 72 стран». А в самом центре государства Пресвитерского находится фонтан вечной юности: тому, кто трижды попьёт из него, никогда не будет больше 30 лет. Своим королевством Иоанн управляет с помощью волшебного зеркала, в котором видно всё, что происходит даже в самых отдалённых уголках его обширных владений. Армия короля насчитывает 10 000 всадников и 1000 000 пехотинцев.
Всего в письме 98 пунктов.
То есть, теперь понимаете, что так поразило людей в Средние века? В стране Пресвитера Иоанна плохого почти не было, несмотря на то, что окружены они были врагами. Божьяблагодатьтаки, ха-ха. Это была высококультурная держава, с внушительными политическими амбициями на международной арене, с крепчайшими религиозными скрепами, с правителем, который одновременно являл собой сильного политика, верховного главнокомандующего и всё равно что родного отца для каждого из своих подданных. Да, его царство готово было в любой момент напасть на соседей, но то были такие времена: либо ты, либо тебя. К тому же, именно тогда шёл геополитический передел Востока.
У Пресвитера было много имён
Имя его производили с персидского языка, от Presteghani или Friestegiani, то есть апостольский
Имя его производили от Prester-chan, то есть хан поклонников
Имя его производили от Ван-хана, так называли вождя кераитов
Жербильон считал его тибетским царём,
Лакроз считал его Далай-ламой,
Фишер считал его несторианским католикосом,
Густав Опперт Царике считал его Елюй-даши, вождём Си-ляо,
Брун считал его грузином Иване, жившим при Димитрии I, из династии Багратидов,
Рашид ад-Дин считал его найманским государем по имени Эниат или Инанч,
Вольфрам фон Эшенбах считал его сводным братом Парцифаля и всеми царями Индии,
В разное время звали его Царём Давидом
Звали его Чингисханом
Звали его сыном найманского хана Кучлуком
Звали его именами монгольских князьков:
Ханом Мунке, что своей особой жестокостью вызывал крик ужаса (особенно когда проводил перепись населения для дани на Руси)
и Ханом Хулагу (ударение на у), который известен мощным взятием Алеппо
Французские крестоносцы звали его Царь Жан
Германские крестоносцы звали его царь Иоганн
Португальские учёные звали его Емреханой Христосом, эфиопским царём (если по-абиссински, то Крыстос).
Но при чём здесь Эфиопия, скажете вы?
 Детали из атласа 16 века: Пресвитер Иоанн воцарился на карте Восточной Африки.
Детали из атласа 16 века: Пресвитер Иоанн воцарился на карте Восточной Африки.Да-да, царь-поп Иван правил и в Эфиопии. В 1400-х годах португальский путешественник заявил, что нашёл королевство Пресвитера Иоанна в Африке. Сюда, как говорили средневековые историки, он бежал после поражения от монголов в Центральной Азии. Монголы на него были очень злы, рассказывал монах-францисканец Карпини. Когда Чингисхан отправил послов к Иоанну, чтобы сосватать Пресвитерову дочь в мужья монгольскому хану, он получил оскорбительный ответ. Последовала война, в которой Пресвитер Иоанн был разбит и убит. Но потом он явил себя в Африке.
Ещё стали говорить, что его королевство возникло в истоках Нила, от которого напрямую зависела жизнь мусульманского Египта. Пресвитер должен был изменить русло реки, чтобы взять египтян измором. Одни источники говорили, что он так и сделал. Другие утверждали, что Король-Священник не стал брать на душу грех за смерть христиан, живших в дельте Нила. Третьи исследователи, менее милосердные, писали, что Пресвитера разубедили большие денежные ссуды египтян.
А вот французский историк Мари-Лор Дера пишет: «Португальцы стали называть абиссинского Негуса (царский титул в Эфиопии) Пресвитером Иоанном, и остальной мир последовал их примеру. Это имя, однако, стало значить не больше, чем удобненький титул для местного королька».
Вот так Пресвитер Иоанн сошел на нет. Потому что что? Потому что на нет и суда нет (ха-ха).
Так что? Он выдуман кем-то? Он выдумал сам себя? Ошибка 404: Пресвитер Иоанн не найден?
Позвольте мне отступление, уважаемые студенты. У всех из нас есть мечты, многие из которых сложные, комплексные такие мечты. Мечтание у нас в крови (ха-ха, простите за каламбур). У моей дочки в детстве была мечта, чтобы у неё появилась волшебная палочка, и тогда она скупила бы весь магазин игрушек. У меня есть мечта, чтобы химиотерапия помогла моей матери вылечиться от лейкемии. У моего друга есть мечта основать полностью честное, независимое СМИ. У него аутизм лёгкой степени. Мой отец мечтал работать в зоопарке, чтобы гладить по шее жирафов, но всю жизнь просидел в университете завкафедрой истории новейшего времени. Не решился – кандидату наук не комильфо, говорили ему. Так он и коллекционировал до смерти картинки с жирафами. Когда уже почти ослеп, мы ему любую пятнистую картинку подсовывали, лишь бы порадовать. – Чувствую, это в Эфиопии, – говорил. Поддакивали.
А вот на днях знакомого встретил, Васю Исмаилова, мы с университета не виделись, сколько лет прошло. Говорит, работает крупным менеджером в лизинговой компании, на горных лыжах катает, в бильярд играет. Он рассказывает: «Мол, на днях мечту свою исполнил, свою самую заветную. Сорок лет до этого шёл». Я уши развесил. Он всё повторяет, как сложно ему было решиться. Я ему: «Не тяни». Он: «В своей трёшке выделил комнату под опыты, три недели сидел на форумах». Мне уж невтерпёж, а он - как о любимой женщине говорит. Расцвёл, порозовел и всё тянет, тянет, тянет воспоминания. Говорит, поехали с женой, закупили всё в лучшем магазине, привезли домой, собрали.
И? – говорю.
Самогонный аппарат, – говорит. Сорок лет мечтал, никак не решался. Теперь счастлив, как никто.
А у средневековых людей была мечта о человеке, который их защитит, перед богом, там, перед мусульманами, перед, вроде как, жизнью. Таким могуществом мог обладать только царь-священник, чья необъятная страна была расположена в Азии, Индии и Африке. Надо было стать атеистом, чтобы поверить, что Иоанна нет. Но тогда атеистов жгли и вешали. Не читайте по утрам папских газет, пошутили бы мы сегодня.
Как, спросите вы, этот человек мог быть одновременно царём Давидом, эфиопом Христосом и русским попом Иваном? Как мог он купаться в золоте, ездить верхом на гигантских петухах, управлять рогатыми людьми и пить из животворящего фонтана? Да просто: в него поверили, его золото уважали, его силы боялись. Вера творит чудеса.
Имя Пресвитера Иоанна впервые было упомянуто в 1145 году и продолжало обсуждаться вплоть до начала XVII века. 5 веков! Была ли слава и сила Пресвитера Иоанна цепью случайностей и совпадений или же продуманным пиар-ходом – вряд ли мы сможем это узнать. Да и обучаясь на факультете политтехнологий (полиптехнологий, ха-ха) важно набираться кейсов, а не зависать на одном кейсе на долгие годы. И уж точно, недайбог, не на пять веков, бог с вами.
Почему Пресвитер Иоанн, царь-поп Иван, король и священник, воитель и усмиритель, был забыт на многие века? Не потому ли, что был фейком? Предлагаю вам об этом подумать до следующего семинара. Но тогда, в те века, всё прошло как по маслицу: мир принял ничто за спасителей христианства и добродетели, монголов стали считать христианами, африканцев – белыми, Индию – дорогой в Рай, а Левант – территорией, которую надо победить, чтобы спастись. А китов – мелкой рыбёшкой, а добро – злом, а республику – монархией, а свободу – вредом, а неверие - бредом. Из ничего возникло всё, и тысячи глаз любили ничто. Тут и лекции конец, а кто слушал внимательно, тот зачёт автоматом получит. К следующему семинару подготовьте аналитическую записку на тему: Пресвитер Иоанн в 2020 году: каким я его себе представляю. Лекция окончена, семинар после праздничка в четверг, ха-ха.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ВЛАСТИ
Один в темной комнате. Сидит, глаза в себе, взгляд там же. Напряженно думает о чем-то. Напряженно о чем-то думая, ковыряет в носу. Достает козюли, тянет сопли, ест козюли, вытирает козюли об себя, рассматривает козюли, сует козюли обратно в нос, иногда задумывается с пальцем в соплях во рту.
Что такое козюля? По словарю Ушакова, козюля - это засохшая сопля в носу. Но это всем известно, Господи ты боже, скажете вы. Важно ведь: из чего козюля состоит? Это серьезный вопрос, требующий глубокого погружения
Козюля состоит из воды, муцина, эпителия и соли. Муцин – это примитивнейший полисахарид. Синоним слова козюля - это «козявка». Козюли бывают твердые и зеленые, мешают нам дышать. Если достать козюлю пальцем и выбросить, дышать станет легче. Но тут возникает другой вопрос: выбросить или съесть козюлю?
Конечно, съесть! Говорят пульмонологи. Козюли обладают антисептическим эффектом. Чем больше козюль примете – тем крепче станете. Это научно доказанный факт: почитайте работы по козюлям австрийского врача Фридриха Бишингера.
Также козюли полезны для зубов – за счёт входящих в состав носовой слизи гликопротеинов муцина. Ученые думают над тем, как сделать жвачку с составом, идентичному натуральному составу козюль.
Козюли защищают нос от грязи и пыли. Это значит, что больше всего козюль в носу у строителей. Меньше всего козюль у пациентов психбольниц. Когда мы на море, у нас мало козюль в носу. Когда мы работаем с документами на выборах – у нас много козюль. Всё пыль.
96,5% людей во всем мире ковыряют нос 4 раза в день. Из них 12% достают козюли только ради удовольствия. Индийские психологи считают, что ковыряние в носу и контакт с козюлями – это акт освобождения, символ свободы души и тела.
Все думают, что сопли и козюли – это разные проявления одного и того же. На самом деле, засохшие сопли – это псевдокозюли, фейки по сути. Не дайте себя обмануть. И помните о самоосознанности: ковыряясь в носу, рефлексируйте, козюлю вы достаете или соплю. Самоосознаность помогает не впасть в депрессию, говорят психологи.
Если ваш ребенок интересуется козюлями, синтетические козюли можно сделать из кукурузной муки и воды. Кукурузная мука продается в дорогих супермаркетах и в магазинах для вегетарианцев. Вода подойдет как газированная, вроде Боржоми, так и обычная, вроде Перье. Козюли получаются как настоящие, хотя по цене, конечно, выходят подороже реальных козюль. Реальность всегда дороже.
ЧАСТЬ II. ЛЕГЕНДА О ВОЙНЕ
Слово легенда происходит от латинского «легенда». Это, что должно быть прочитанным. Самое первое словарное значение – самое важное словарное значение. Легенда – «основанное на устных преданиях, опоэтизированное сказание об историческом или вымышленном лице иль событии». Иль вымышленный, приукрашенный рассказ либо о ком-либо, либо о чём-либо. А второе словарное значение – «инструментальное произведение повествовательного характера, музыкальными средствами выражающее народное предание». А третье – «вымышленная биография, придуманное обстоятельство жизни разведчика, предопределяющие его поведение и поступки». Предопределение поведения и поступков. Музыка народного предания. Правдивый вымысел. Легенда. То, что должно быть прочитано. Не пора ли начать нам,….
Обрушилась маска с фасада дома. Каменная голова на асфальте. Ни кровинки на лице. Жаль, красиво было. Что тебе камень жаль, плачет жена. Лучше бы меня пожалел. Плачет жена. Под лежачий камень вода не течет.
Мелькнула табличка «Приём лома». Но против лома ведь нет приёма?
По белым пескам пойду босиком я. Пришлю тебе фото Пальмиры, а ты мне – из дома. Там, говорили, вино отличное. – И змеи водятся. – Отлично. – И ядовитые пауки. – Что типично для тех мест. Мы пришли, поцелуй меня. – Не буду. – На обиженных воду возят. – Ну и пусть возят. Привезу воду – тебя увижу.
Дорогая моя! В дороге кормили хорошо, как на убой. Пустыня за окнами серая, не белая, как мы думали. Как приехали и заселились на базу, сразу марш на обед. Как здесь говорят, система «все включено», «вообще все включено». Лучше, чем выключено.
– Что за говно, – произнес младший по званию Иванов.
Говно – мой любимый вид блюда – сказал офицер.
Здесь хорошо: тут все шутки шутят, пулеметными очередями.
- Иванов! – Сэр я сэр! - Ты дебил? - Сэр, насмотрелся «Цельнометаллической оболочки», сэр. - Прекрати. - Сэр да сэр. - С огнем играешь. Рота смеется – в пустыне барханы двигаются, ящерицы хвосты теряют. По хвостам их и найдут. Поспешишь – людей насмешишь. Громко смеется рота.
Воздухом здешним сложно дышать. Он такой плотный, такой жаркий, что вспотеешь, пока надышишься. Зато дышать дают вволю, не как в армии.
Вчера видел певцов плацебо. У сирийцев. Они дикари. Умер ребенок, стали выть и праздновать. И нас позвали, чтоб похороны поважнее стали. И мы завязли в песке, как в болоте, но дошли, обкрошив ноги. - Кто те, кто больше всех кричат и плачут? – спрашиваю. - Певцы плацебо, - говорят. - А что они есть, – говорю? - Проникают на похороны, чтобы поесть да попить забесплатно, всегда безутешно горюют, чтоб не прогнали. - А почему певцы? - Разве стон не песня? Разве вой не песня? - Не по-человечьи это как-то. - Ты скольких убил? - Двух. - А они – ни одного. - Я плохих убил. - Матери их плачут как по хорошим.
В воскресенье ходили в местную православную церковь. На ней мелом надпись: Бога нет. – Бога нет? – говорю я. – Его съел богоед – говорит офицер. Во сне видел богоеда. Когда-нибудь я его поймаю и съем. Нельзя есть бога. Надо растить богоедов богобоязненными.
А рядом табличка: «мин нет», и дописано кем-то «минут нет». И всякое пошлое.
Не грусти и кушай хорошо, моя тростиночка.
Даръа, Дума, Банияс, Хама, Хомс и Алеппо, Джиср-эш-Шугур, Латакия, Талкалах и Идлиб, Дейр-эз-Зор, Забадани и Растан вместе с ними – города-побратимы, цепью связаны гнева, неприглядные сверху, но внутри бьется жила. Взяты в плен террористами, там живут террористы, как обычные люди, но они террористы. Они молятся тем же, убивают же легче. При них падали с неба древних сказок колонны. При них кит оказался синей мелкой рыбешкой, на спине у которого жил-был Левант.
Камни будут жить вечно: у них есть характер. Вечножизнь, стоицизм. Для камней надо было создавать религию.
Дейр-эз-зор, Эс-Сухна, Аш-шауль – смертный путь для живых.
Пустыне зажали рот, молчание – крик, бой – мир, мертвые – еда, огонь – на себя, удар ножом – удар ножом. Первыми падают самые слабые: бронемашины.
Бывший сирийский боец Мохаммед: «Они решили вступить в бой. А исламистов – орда несметная, в сто раз больше. Бились так, что песок до солнца поднимался, солнце по лучам бил. А потом у русских солдат закончились боеприпасы. Вскоре я услышал крики, русские пошли врукопашную, в руках ножи и пустые винтовки».
В Сирии идут лишь пулеметные дожди. Бог никак не даст дождя настоящего. Прольется дождь – прольются слезы, выдохнет мир, и будет мир. Но дождя в Сирии не было уже три тысячи лет. Пустыня Сирии усохла без дождя. В пустыне Сирии стало тесно без дождя.
Против дождя борются террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации), борется фронт-Ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Так говорят (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации).
Бой ЧТД пленил двоих, эти собаки убили их. Был взмах, но не птица взмахнула крыльями. Был крик – но не выпь всплакнула в пустыне. Был треск – то кости молились о духе. Был шум и свет, потом был взмах, и больше ничего нет. Эти собаки пожрали их головы. Глаз, языка – ничего не осталось. Ушами кидались местные дети, стреляли с лёту. Мешали с помётом. Нос не похож на нос. Череп валяется где-то в песках. Четыре солнца его сжигают, но он спокоен: ему всё равно, он новый камень. Второй – на вершине, не горы, а палки. Палка воткнута в землю. Земля воткнута в сердце кита. Так похоронен: для страха местных. Страшное пугало, наистрашнейшее. Когда русские отступают, местные жены видят красные слезы из пустых глазниц пугала. Чудо в пустыне, где вода как чудо. Местные жены собирают их и поят младенцев.
Бывший сирийский боец Мохаммед: «Русских хранит бог. Бывало так, что мы выступали, а русские все еще бились с террористами».
Хор жен плачет, дождь им вторит. Зачем нам такие новости они приносят, человек ведь не резиновый. «Я не резиновая!» - вскрикнет одна из жен. Но ведь это ложь. С начала войны она увеличилась на двадцать сантиметров. Пришел приказ о продлении контракта – еще на пять сантиметров. Ранили мужа – еще на сантиметр. Умер в госпитале муж – тут-то она вскрикнула и сдулась.
С номером 089 ВРУ рассекает машина пустыню на квадраты. Засуха в Сирии, все в пыль. Думает о деньгах и жене. И о пыли. Пыль накрывает глаза, как одеялом. Пыль лезет в глотку, в легкие, в желудок. Пыль лепит тебя изнутри, и вот ты уже – пыль внутри. Вытряхнуть тебя – останется оболочка, тонкая кожная ткань. Тряпка для пола.
Свист в пустыне подобен несозданной ноте. Назовём ее нота Ма.
Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-мааааааааааа.
Нельзя дышать пылью, дыши воздухом, но солнце сожгло воздух, но туча втянула воздух. Ма. Дыши собой. Ма. Меня мало, а пыли много. Ма. Не харкай кровью, но внутри меня пыль, куда мне её девать. Ма. Пыль побежит по венам, всё медленнее и медленнее. Ма. Живи, сказал. Пустые слова, как пыль. Ты тряпка. Я тряпка. Не умирай. Я не умер, я превратился в пыль. Ма.
Две минуты прощания, сзади холод подкрался. Он как смерть с косой, но не машет косой. Постоял, помолчал – сказать нечего. Солнце за тучу зашло, туча землю спрятала. Тьма непроглядная, по ту сторону рая. Мертвые дел не творят, мертвые только молчат, с ними не поговорить, их только держать, не отпускать, и маяться, маяться, маяться. И маяться, маяться, маяться.
ПЛАЧ ЖЕНЫ
А в метро, склонив голову, словно перед расстрелом, все сидят в телефонах, никому нет дела до того, что ты гибнешь на глазах лишь у солнца, до того, что ты спас того новобранца. На секунду ты сам стал солнцем-огнем, пока пули били, тебя решетили, а потом ты померк до конца, без конца – дырявый человек нужен только мне. Пули съели твой силуэт. Сильные руки, курносый нос. Новость до меня донёс человек без опознавательных знаков. Семнадцать двадцать шестнадцать, - сказал. Сам же полный ноль, даже не обнял. Натоптал в коридоре и ушёл. Я хотела плакать, плач не шёл. Хотела повеситься, а ты верёвку забрал. Я тобой вся пропитана, ты что, не понимаешь? Мне кажется, ты всё знал.
Привезли прямоугольник. Но я помню многогранник. Весь в пыли, взяла губку, протерла. Стерла губку до крови и до десны. Пыли много – давно дождей в Сирии не было. Был ли дождь, - говорю. Ещё ждём, говорят. Был ли снег, говорю. Лишь привозим с собой. Почему он молчит?
Почему вы молчите?
Почему вы молчите?
Почем я кричу?
Я целую его, родной прямоугольник, дышу его пыль. Пыль в груди, пыль в висках, сердце бьётся о грудь, выбивает мне грудь, отрезает мне грудь, грудь падёт к ногам офицеров на похоронах. Топчите, что стоите. Я больше не женщина. Бегите отсюда галопом. Я вам еще пригожусь.
Ты от горя рехнулась? Говорит плохой гонец. Нет на войне геометрии, есть люди.
Нет на войне людей. Есть нули. Есть форма.
Как промолвила вслух – гроза началась. Тяжелыми каплями траву побила, деревья на колени склонила. Пот из травы, звон в ушах, звенят колокольчики в поле низким басом, земля задыхается в астме – дождь кровавый, напитал воздух кровью, кровь из глаз, из ушей – всем плохо. А меня дождь поднял, трижды перекрутил, об землю ударил – и стала я тем, кто готов.
А не полистать ли нам, братья, литературно-художественное издание, как сказал бы редактор, сборник стихотворений и песен, как сказал бы журналист, о военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации против международных террористов в Сирийской Арабской республике? Творчество военных, военных врачей и военных журналистов. Сдано в набор 16 мая 2017 года. Бумага офсетная. Гарнитура «Прагматика». Тираж 250 экземпляров. Отпечатано в типографии – не известно. Адрес – не известен. Приписки от руки сделаны неизвестным. Целиком стихи легкодоступны на сайте Министерства обороны Российской Федерации (военизированная организация, разрешенная на территории Российской Федерации).
СИРИЯ
Звучит, наверное, нелепо,
Но кажется, что ты там был.
– Сходите, станция Алеппо,
А дальше – станция ИГИЛ!*
*Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
А дальше что? Такие дали!
Кого тут нет который год!
Наверно, в Сирии не ждали,
Что нечисть вся сюда придёт.
Вот и летим в Хмеймим из дома,
Гуманитарный груз везем,
За тишиной аэродрома
Что можем, людям раздаем.
Листаем свежие страницы,
С небес взираем на войну,
И переходим все границы,
Чтоб сохранить свою страну.
СОЛДАТСКИЙ РЭП
Тишина сторожевой заставы,
На обед ещё горячий хлеб.
И контрактник, озорной и бравый,
Выдает нам «на закуску» рэп.
Ох, как он читает, причитает,
Как же все доходчиво, мудро!
Он не только службу почитает,
Он войне глядит сейчас в нутро.
Приписки от руки: «Ох раз, да еще раз, да еще много, много много много много раз, да еще раз, да еще много много раз».
На сцену выходят цыгане. цыгане поют, раздеваются. остаются голыми. вся одежда цыган - теперь на военных. Военные поют:
Поговори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная,
Вся душа полна тобой,
А ночь такая лунная.
Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много,много,много раз,
Да ещё раз, да еще много, много раз...
На горе стоит ольха,
А под горою вишня.
Полюбил цыганку я –
Она замуж вышла.
Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много раз,
Да ещё раз, да еще много, много раз...
В чистом поле васильки,
Вам – дальняя дорога...
Сердце стонет от тоски,
А в глазах тревога.
Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много раз,
Да ещё раз, да ещё много, много раз.
У меня жена была,
Она меня любила,
Изменила только раз,
А потом решила:
«Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много раз,
Да ещё раз, да ещё много, много раз...»
Если вас целуют раз,
Вы, наверно, вскрикнете,
Эх, раз, да ещё раз,
А потом – привыкнете...
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкните
А потом привыкните
А потом привыкните
А потом привыкните
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкнете
А потом привыкните
А потом привыкните
А потом привыкните
А потом привыкните
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. ВАЛЬС
Развевается Знамя Победы
В сердце авиабазы «Хмеймим».
Победили фашистов с ним деды,
Ну, а мы – террористов громим.
Припев:
Огнем и с земли, и с небес
Врагов уничтожим мы, братцы, -
Ударами ВКС
И силами спецопераций.
От Рейхстага и до Пальмиры
Сколько было победных дорог!
Прошагали с боями полмира,
Мир увидел, – что с русскими Бог!
Припев
Мерзкий Запад от злобы охрипнет, –
Террористов не смог обелить.
Кто с мечом к нам придет, тот погибнет!
Ведь Россию не победить!
Припев.
ХМЕЙМИМСКИЙ ВАЛЬС (Вадим Силкин)
Снова в курилке дымим,
Ждем указаний.
Авиабаза «Хмеймим»
Так далеко от Рязани!
У этой песни в сборнике есть рецензент. Процитируем его целиком: «Стихи Владимира Силкина, написанные о войне, в то же время глубоко лиричны и напевны. В них мы видим продолжение традиции русской народной поэзии его великого земляка Сергея Есенина. Но главное – за всей глубокой лиричностью стихов Владимира Силкина мы воочию видим образ настоящего русского воина, настоящего мужчины».
НЕ ЗАМЫКАЙСЯ НА ВОЙНЕ
Не замыкайся на войне,
Пиши о доме,
Хоть и не видишь ты во сне
Чего-то кроме.
Опять к тебе пришла она,
Диктует строки
Твоя не первая война
Вновь на Востоке.
КОМАНДИРОВКА В СИРИЮ (Игорь Витюк)
Снова с сумкой полевою
И в мундире я,
Тут секрета не открою –
Сирия…
Над горами пролетаем,
Будто в тире я, -
С ближних гор по нам стреляют. –
Сирия…
Словно нету и в помине
Перемирия,
Вновь бои идут в пустыне. –
Сирия…
«Редактор военно-художественной студии писателей, заслуженный работник культуры России, секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей России, полковник запаса Игорь Витюк без длинных рассуждений окунает нас в атмосферу настоящей офицерской жизни, – если получен приказ командира, то подчиненный беспрекословно его выполняет и направляется в зону ведения боевых действий».
Приписки от руки: Слова рецензента – на вес.
– Взвесьте пару предложений.
– Вам отборных или подешевле?
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА АЭРОДРОМЕ (Виктор Верстаков)
Пою – и сам не слышу слов,
Бесшумно вою
Под гул и гром штурмовиков
Над головою.
Вдали сожжённые холмы,
В холмах могилы.
Здесь, говорят, воюем мы
Против ИГИЛа (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).
А есть ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) тут или нет, –
Другая песня.
Был дан приказ. Мы дать ответ
Должны, хоть тресни.
Бьем – позволяет высота –
Чужие морды.
…Жаль, слов не слышно ни черта,
Одни аккорды.
Ещё один комментарий рецензента: «Список поэтов пополнила жена военнослужащего, член Союза писателей России Оксана Москаленко, чьи стихи продолжают традицию гениального монолога Ярославны в «Слове о полку Игореве».
***
Меня ты не обманывал ни разу –
И огорошил сразу напрямик:
«С женой не обсуждаются приказы,
Военный перед Родиной – должник.
Лечу в Хмеймим я завтра на рассвете –
Уже собрал армейский вещмешок.
Ты для меня – одна на белом свете,
И нам с тобой во всё поможет Бог!»
Я верю провидению или чуду –
И будет безопасен твой полёт.
Любимый, день и ночь молиться буду. –
Молитва на войне тебя спасёт.
ТАРТУС. ИЗБРАННОЕ. ОТРЫВОК
И глаза у матроса сырые,
И от счастья пылает лицо.
Беззащитная Дева Мария,
Боевой «Адмирал Кузнецов».
СИРИЯ СВЯТАЯ
Пятый год здесь бушует война,
Христиан за кресты убивают.
Где счастливая в прошлом страна?
И святыни зачем разрушают?
Небосвод раскалён докрасна,
Вновь по Хомсу из «Градов» стреляют.
Но солдату война не страшна, –
Богородицы пояс спасает.
«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ». ОТРЫВОК (Ольга Воронова)
Памяти российского воина Александра Прохоренко, геройски
погибшего в Сирии 17 марта 2016 года. Ему было 25 лет
Да, Европа его назовёт «русским Рэмбо»,
Но Россия запомнит, по герою скорбя:
«Командир, – говорит лейтенант Прокопенко, –
Вызываю огонь на себя».
СИТУАЦИЯ В АЛЕППО. ОТРЫВОК
Ситуация в Алеппо до безумия нелепа.
Приписки от руки: Стишок, который может застрять у вас в голове (при условии, что она – не трапеция).
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД БОЕМ
Отстучат секунды тихо
Не последний счёт,
Обернётся вечность мифом,
И пройдёт отчет.
***
Чтобы мой дом не падал,
Ни по частям, ни весь,
Будем давить мы гадов
Прямо на месте, здесь.
В Латакии, как на Саланге,
Шайтанам дорога в ад,
Я не герой, не ангел,
Я просто страны солдат.
Пророчество бабы Ванги –
«Россия – цветущий сад».
Есть я – не герой, не ангел,
А просто страны солдат.
БЕРЁЗОВЫЙ НАПЕВ (Игорь Витюк)
Где ж вы? Где ж вы, милые берёзки –
Стройные, родные деревца?..
Нынче я служу в краях заморских –
Таково призвание бойца.
Я уже по горло сыт войною.
Жду замену, чтоб лететь домой –
Распрощаться с жизнью фронтовою,
Встретиться с березкою родной.
ЛАТАКИЯ
Слова и музыка Владимира Силкина
Не хотел бы видеть траки я
И пехоту на броне,
Но провинция Латакия
Задыхается в огне.
Припев:
Ей одном с бедой не справиться,
и в неё вселился бес.
Хоть кому-то и не нравится,
бьют по целям ВКС.
Не ходил в жару в атаки я
В этой дальней стороне,
но провинция Латакия
Задыхается в огне.
Припев
Не желаю жить во мраке я,
Жизнь такая не по мне,
Но провинция Латакия
Задыхается в огне.
Припев
Не гуляю здесь во фраке я,
На войне как на войне,
Но провинция Латакия
задыхается в огне.
ЛЕГЕНДА О ВОЙНЕ СИРИЙСКОЙ. КОНЕЦ
«САА заняла Шувейхана, Тель Шувейхана и Кафр Даиль в провинции Алеппо». «Первая леди Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщает пресс-служба президентского дворца».
– Война кончилась – смех, смешинка в рот попала. Война кончилась, война кончилась. Кончилась. Кон-чи-лась. Взяла и кончилась. Как ножом отрезало. Хахаха. Оставили в прошлом. Хахахаха. Война кончилась. Ой не могу. Хахаха. Аххаха. Ой, аж слезы из глаз. Война кончилась. Хахахах. Хахахха. Хахаха. Хахаха. Хахаха.
– Привезли его тело, душу забыли в пустыне. Что ей там делать в пустыне. Бродит себе по пустыне, бродит во времени.
– Где есть война, там нет времени.
– А война-то кончилась. Хаха. Как и не было войны. Хахахаха. Как бы теперь не забыть, что была война. Хахаха. Получила сто тысяч долларов. Это как компенсация. Так они говорят. Все деньги потратила на ясновидящих, которые воскрешают. Обманули, не воскресили.
А наш сын растёт. Медальки носит из фольги. Любит формочки для лепки. И молится молитвой юнармейца.
– Чисты душой – сказали мне. Грязная война – сказала я. Ты ничего не понимаешь, – сказали мне. Иногда нужно жертвовать одним ради спокойствия целого мира, – сказали мне. Я ничего не понимаю - сказала я. Мир – это большой ноль. А один – это единица. В чём логика?
Всё будет хорошо, сказали они.
– Мне всё не надо. Мне б его.
Таких, как он, больше нет. Захлопнул гонец рот, превратился в квадрат. Перекатывай с угла на угол, кати, куда хочешь, всегда одинаковый.
«Группа ЧТД – это армия, которой официально не существует. О них не сообщает ни одна статистика». Полки́, которых как бы нет. Статистическая погрешность. Ноль. Твой муж стал прямоугольником, а мой – нулем.
Возьми нож, отрежь грудь. Война – это форма. Мы живём в мире форм. Стань бесформенной. Приказы не обсуждаются.
Жители Сирии бежали от гонений, всеми теснимые, в райское царство, к вечному колодцу посреди пустыни, спасающему не только души, ибо души смертны под пытками, но и тела, уже невосприимчивые к пыткам. Тридцать дней и три ночи бежали, и добежали до Эфиопии. Двери им открыл царь-поп Иван, и тогда сирийских народ понял: он спасен. Осознал: он спасен. Воскричал: он спасен. Зарубил себе на носу: он спасен. Прохрипел: он спасен. И переполнившись счастьем, упал замертво. Тут легендочке конец, а кто слушал, молодец.