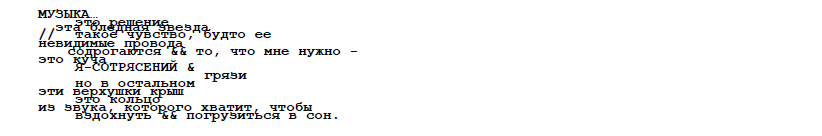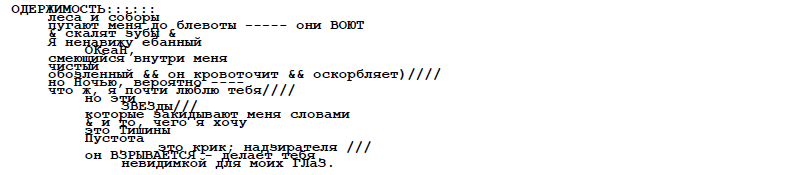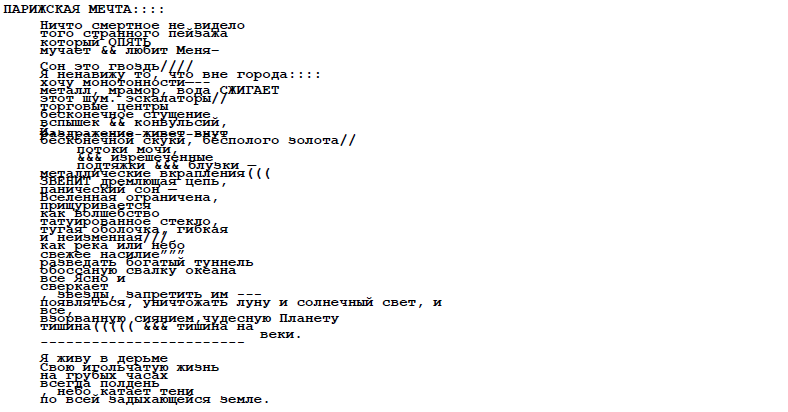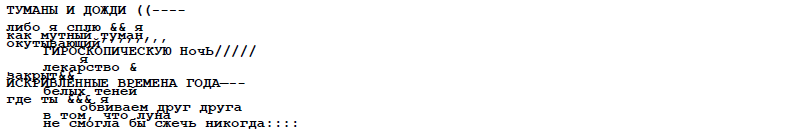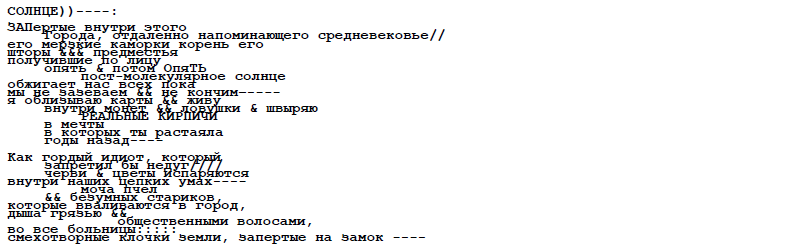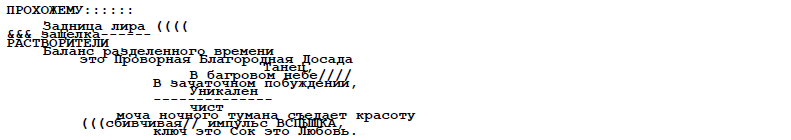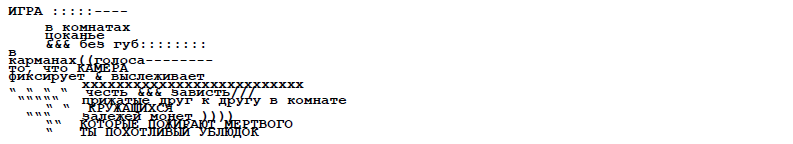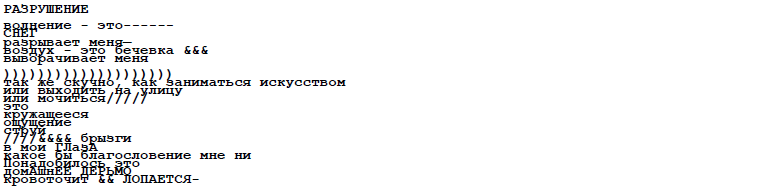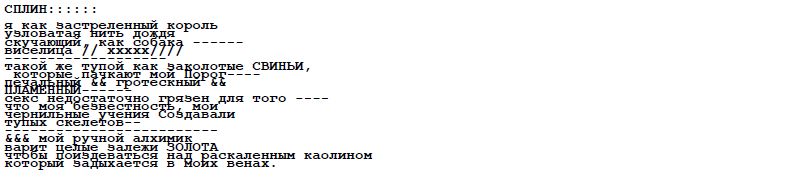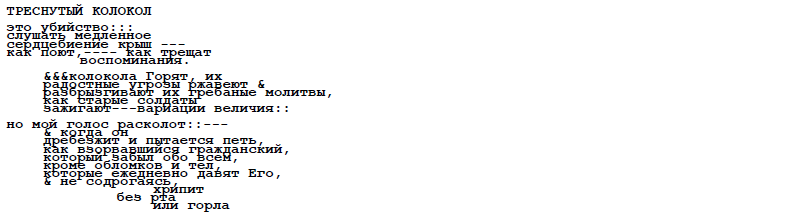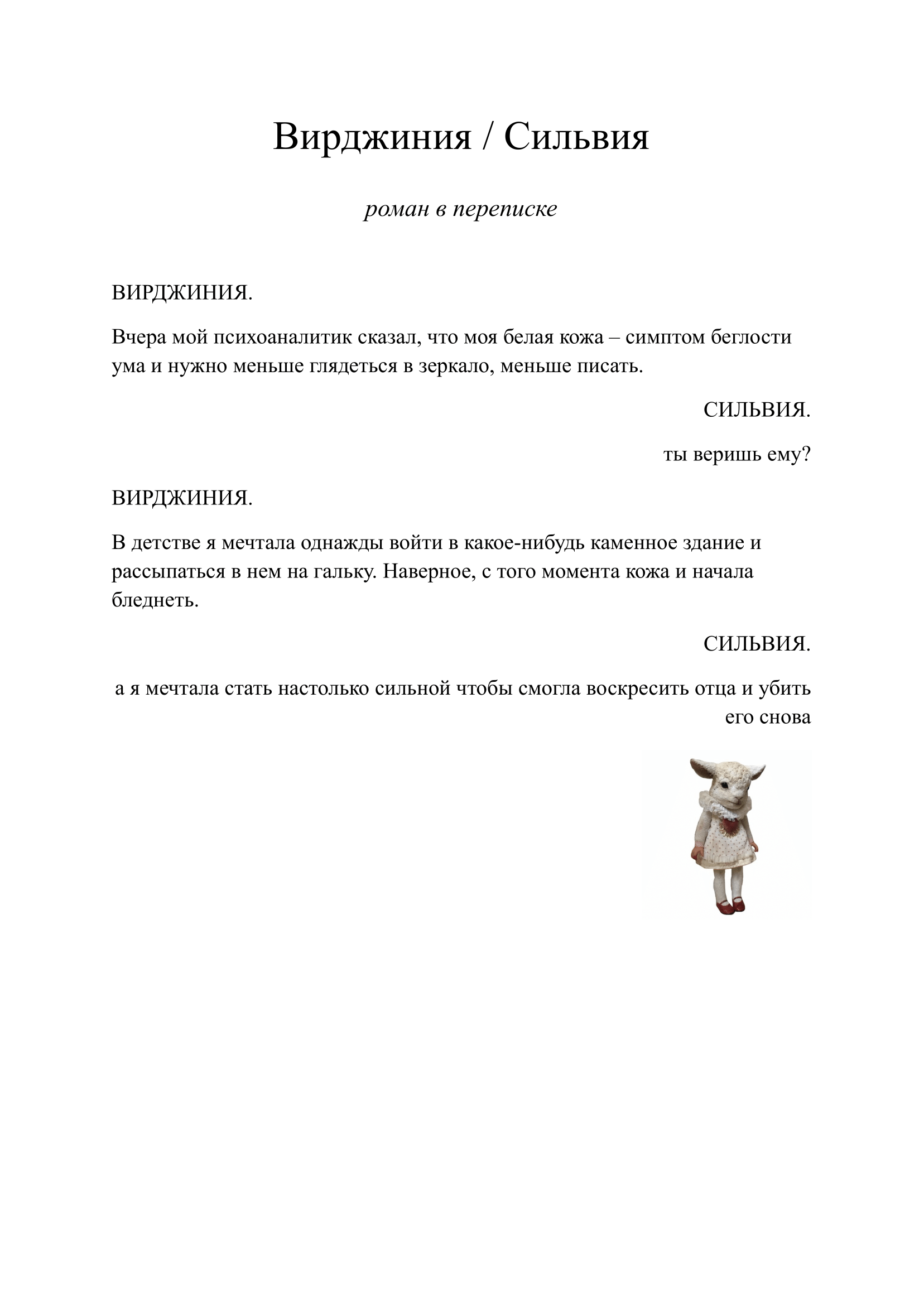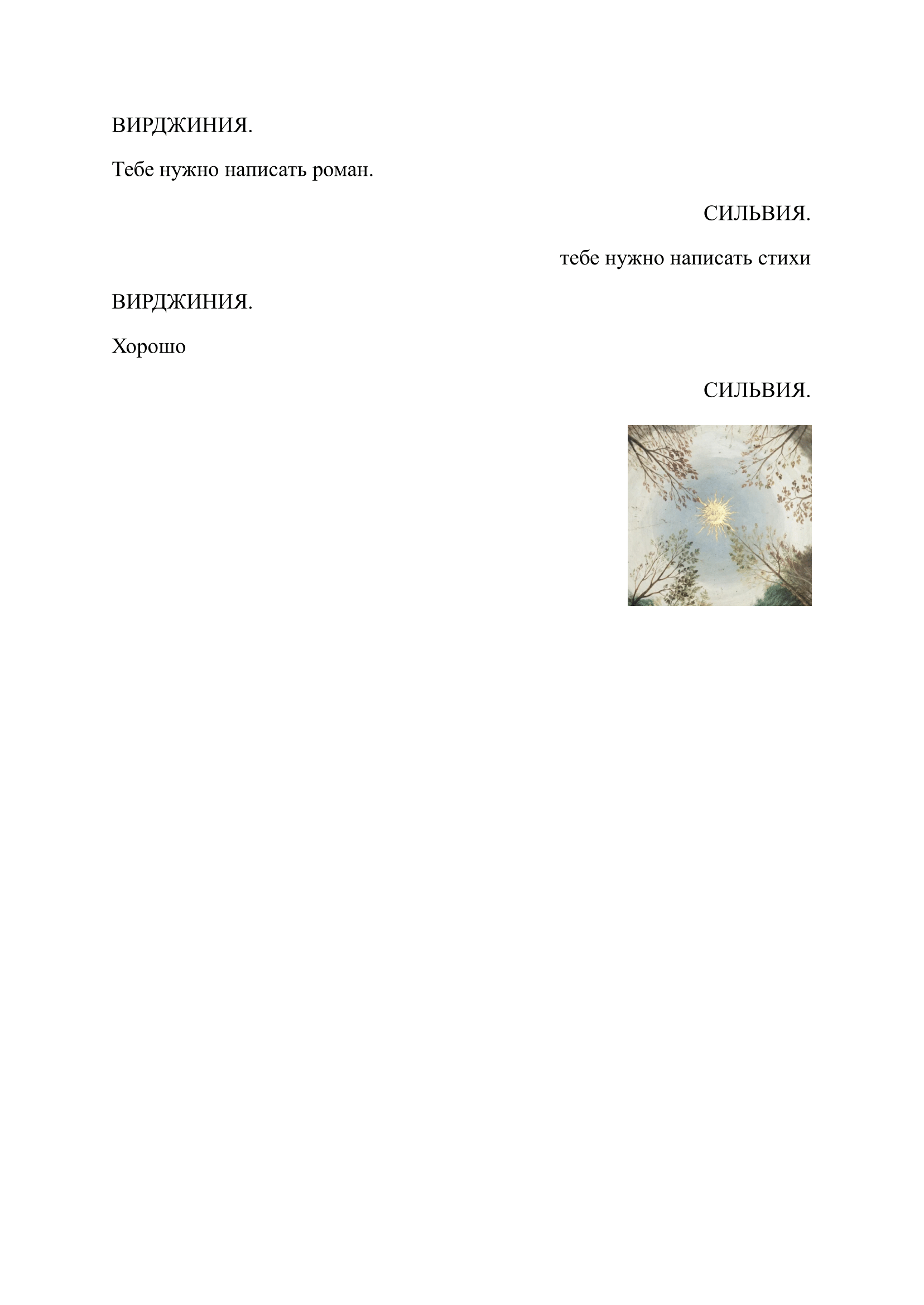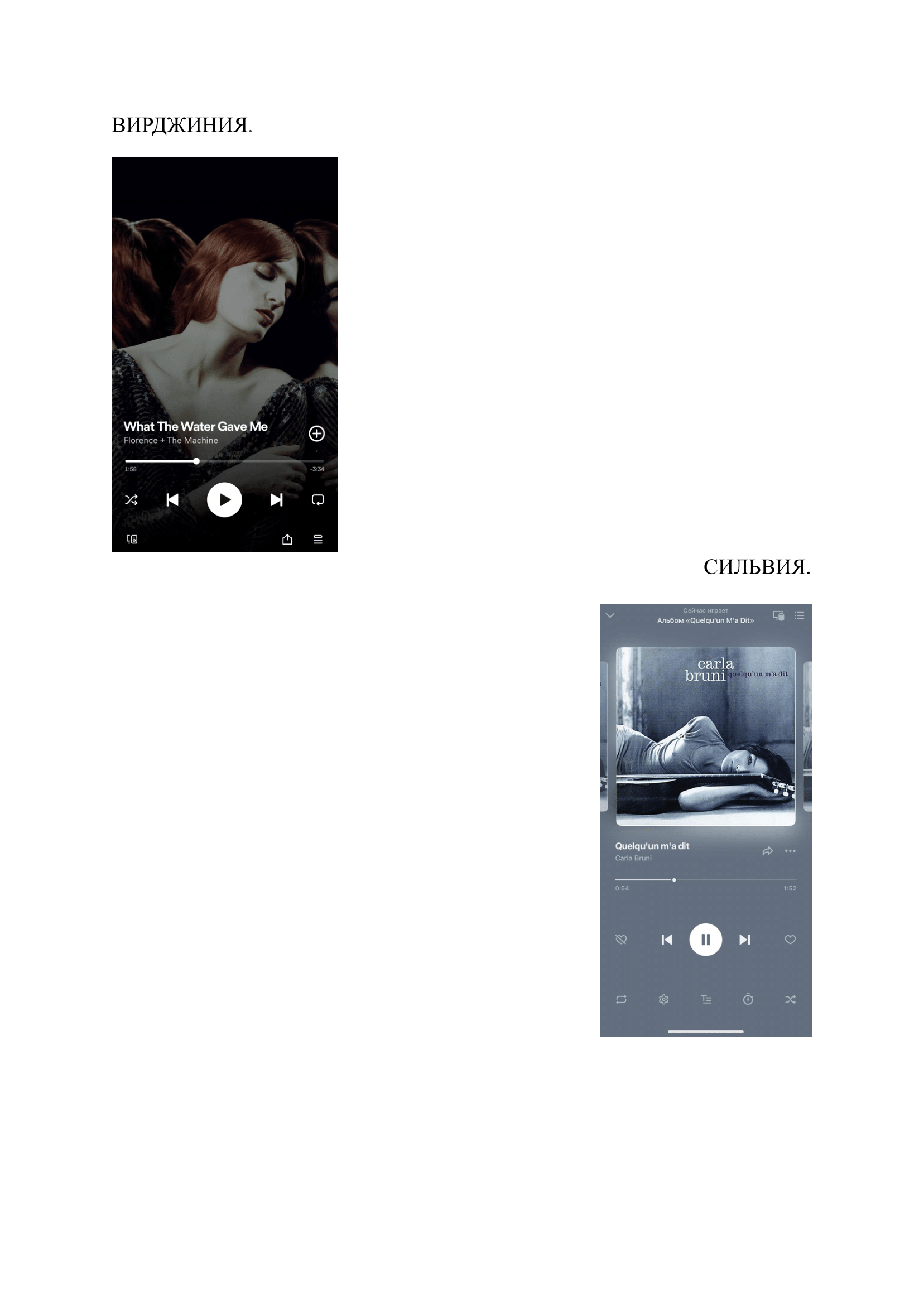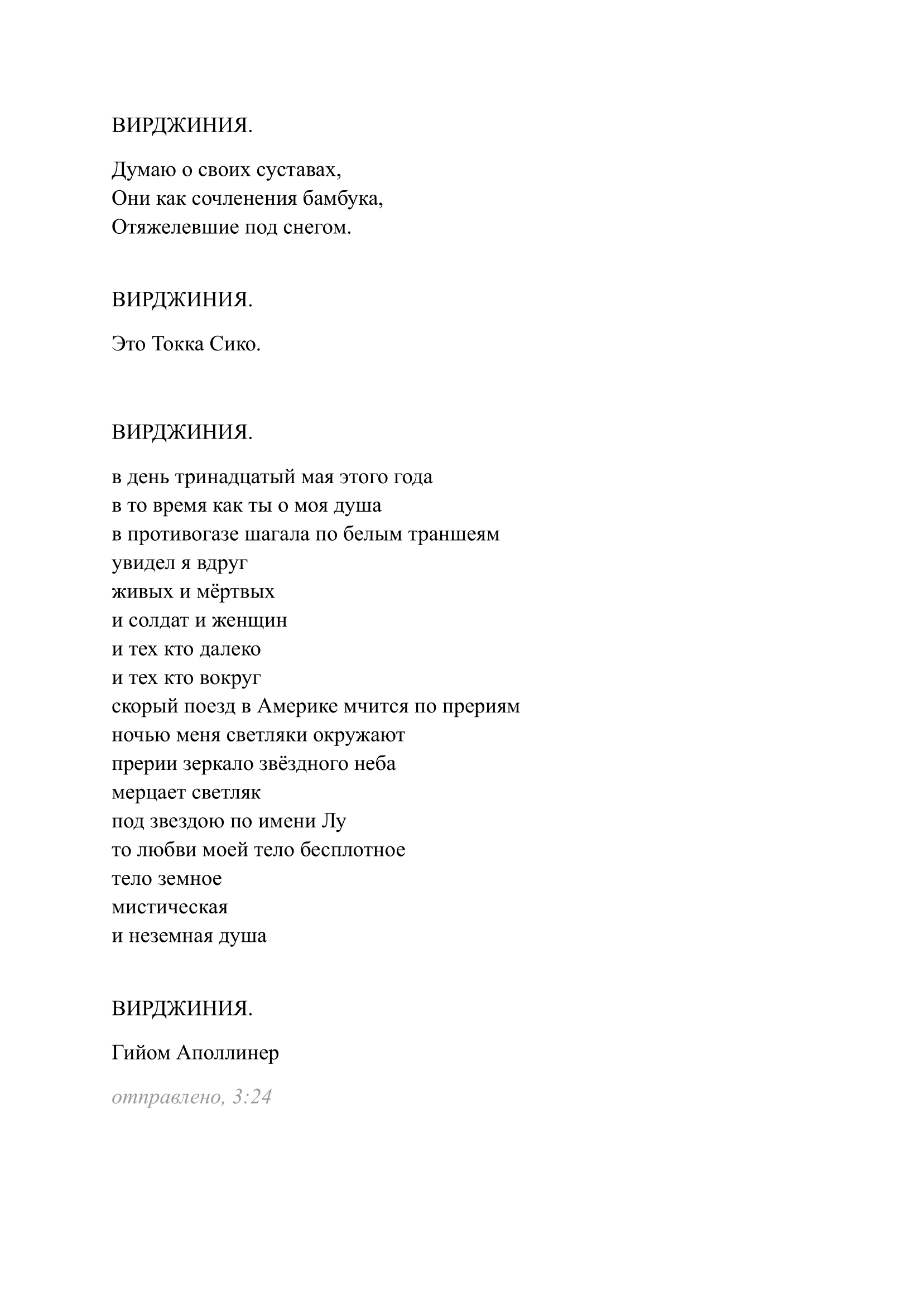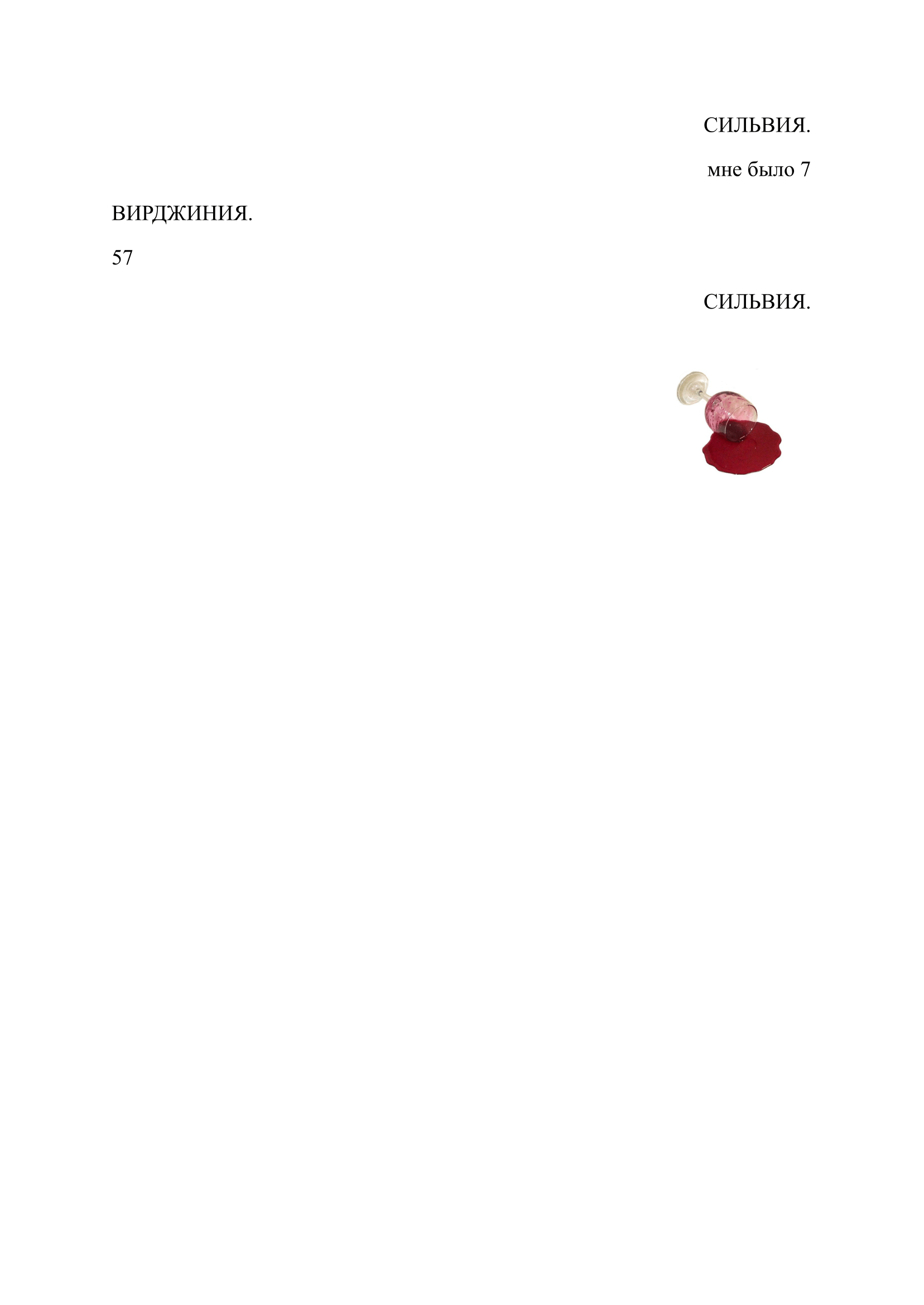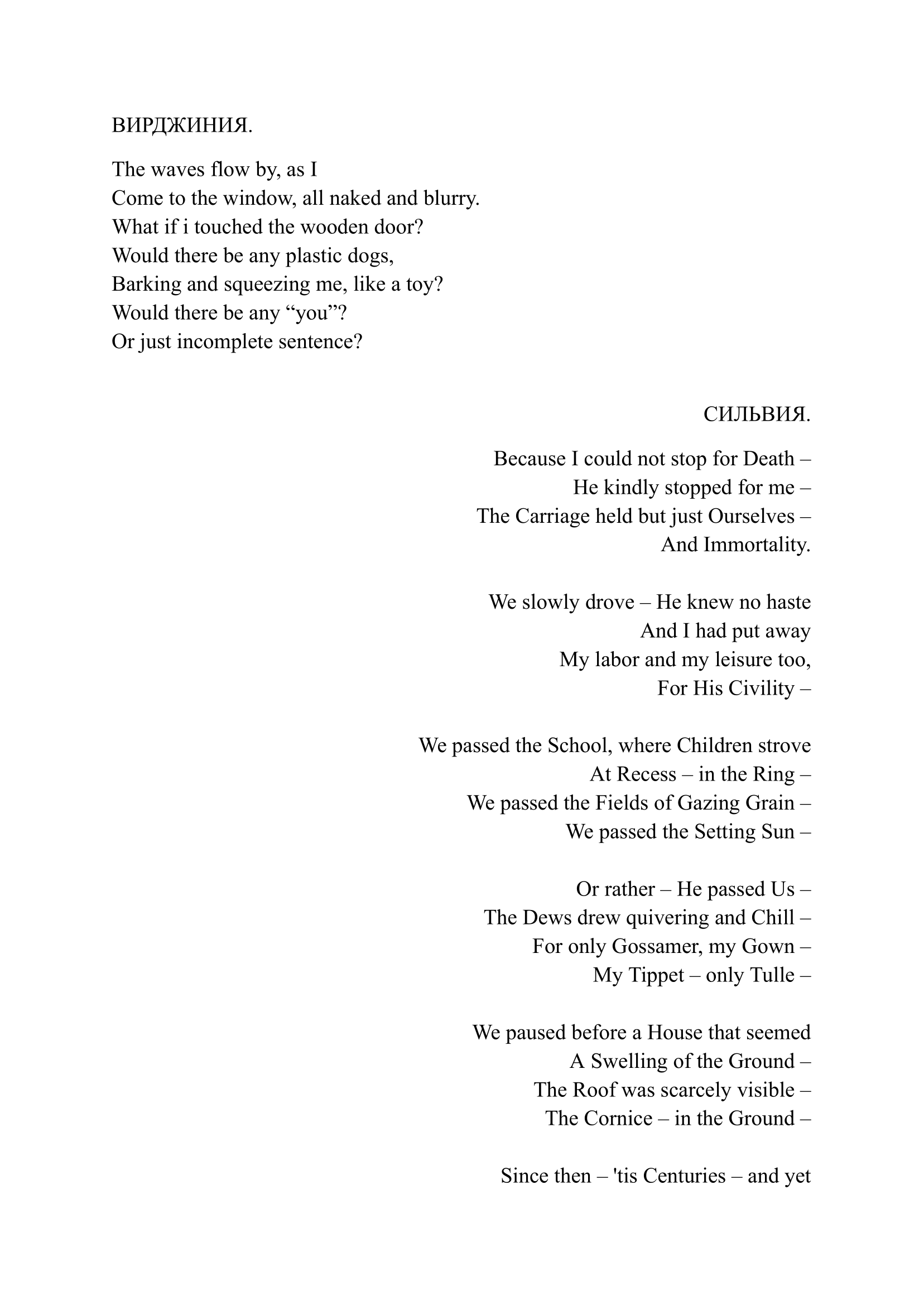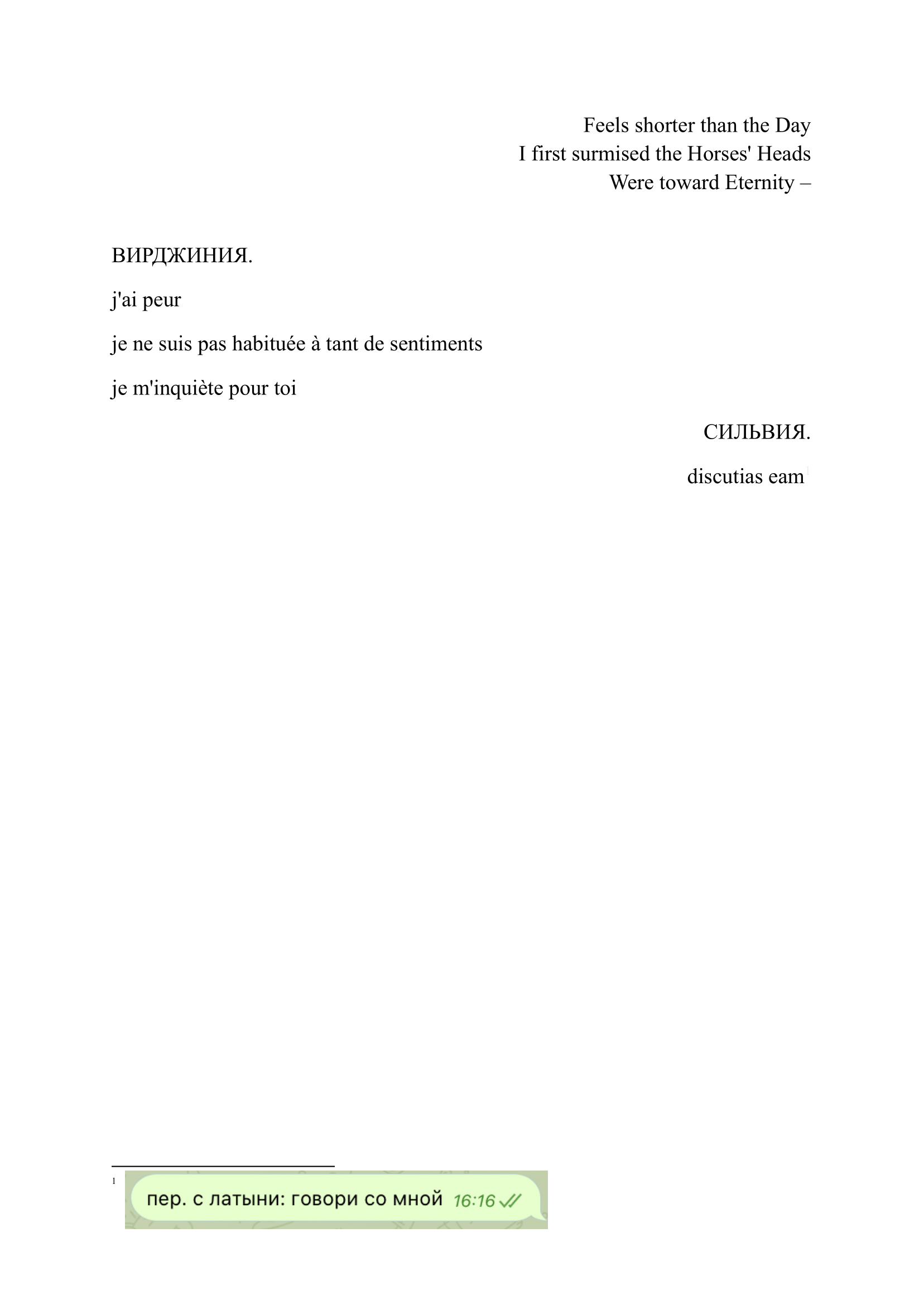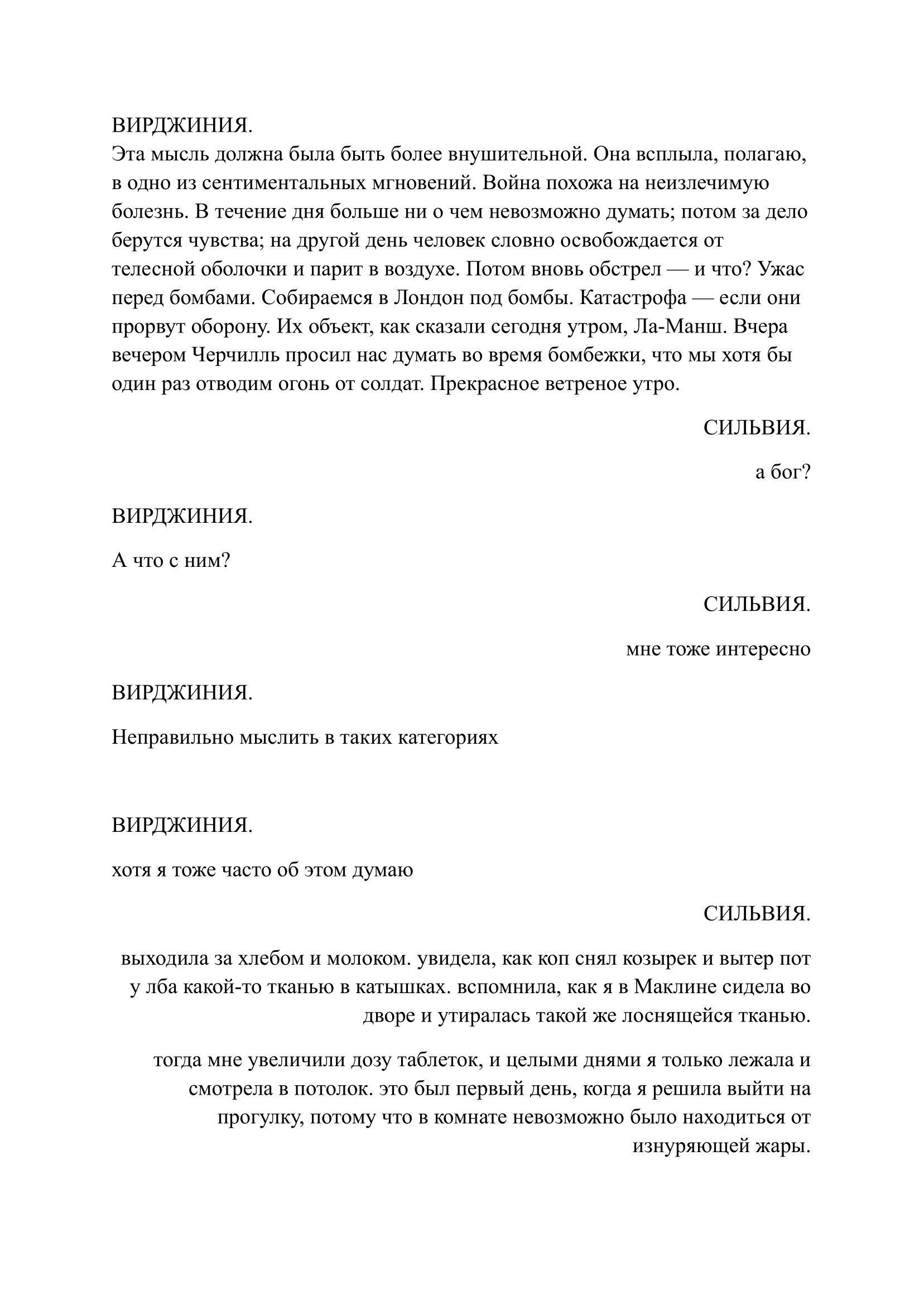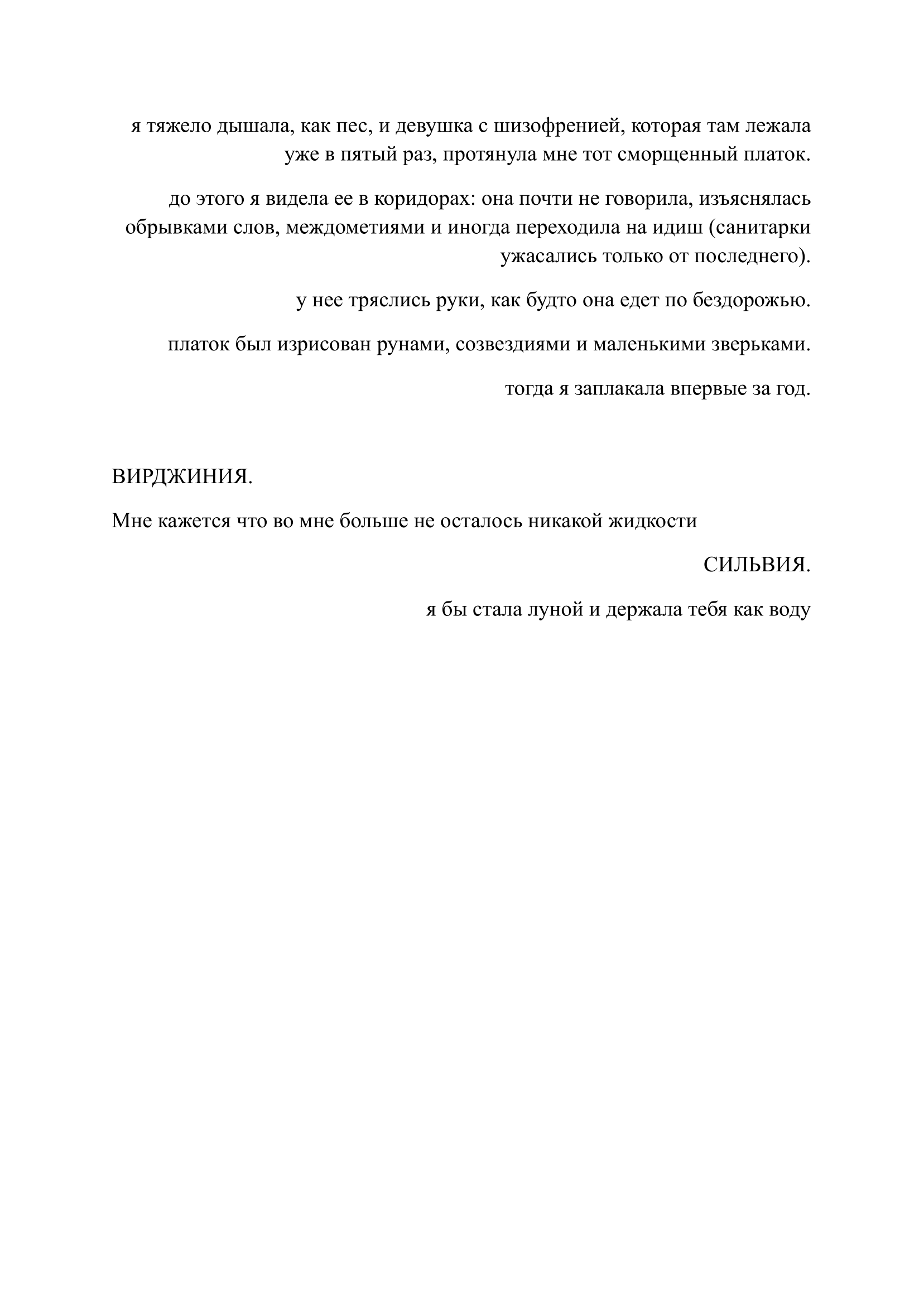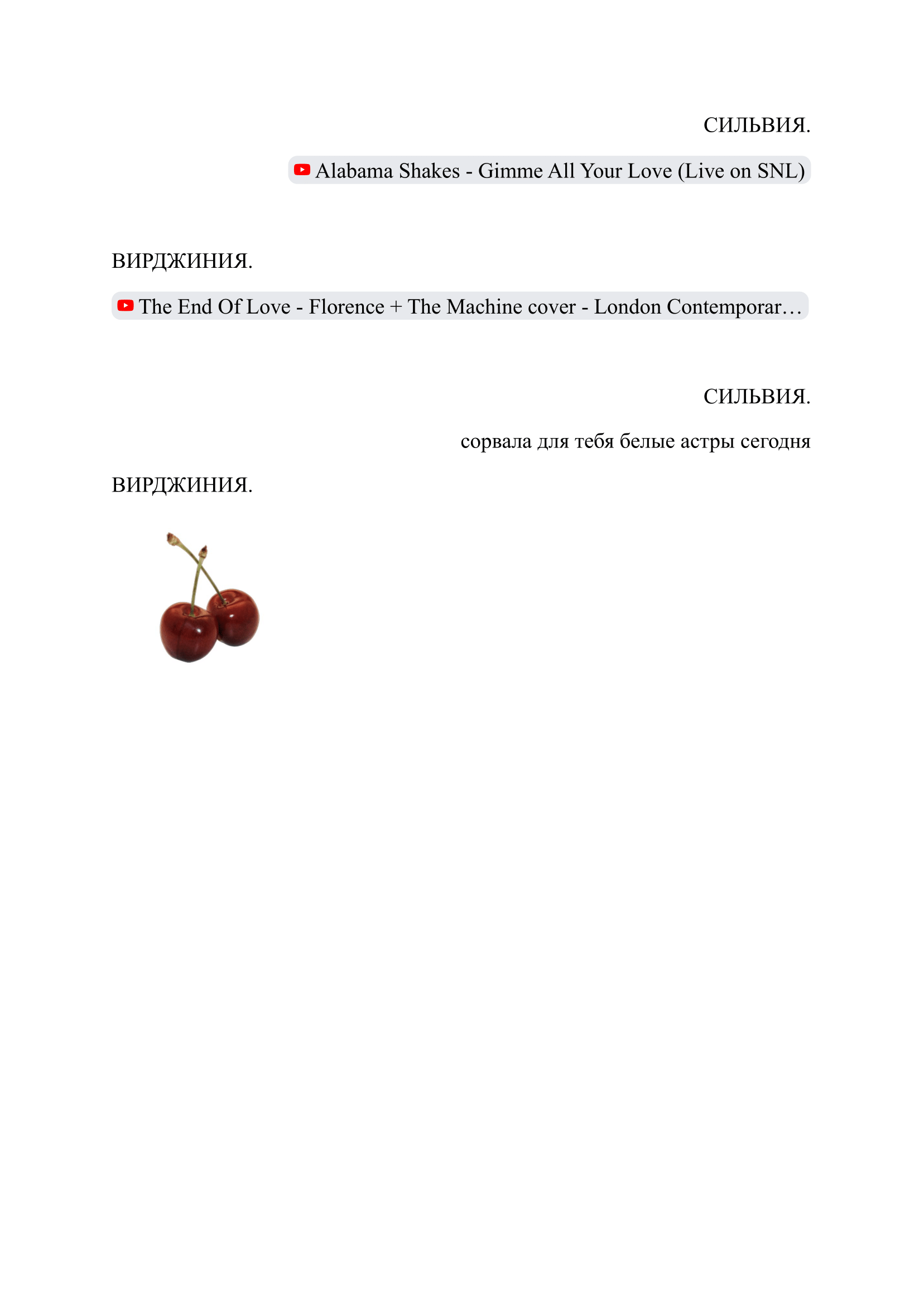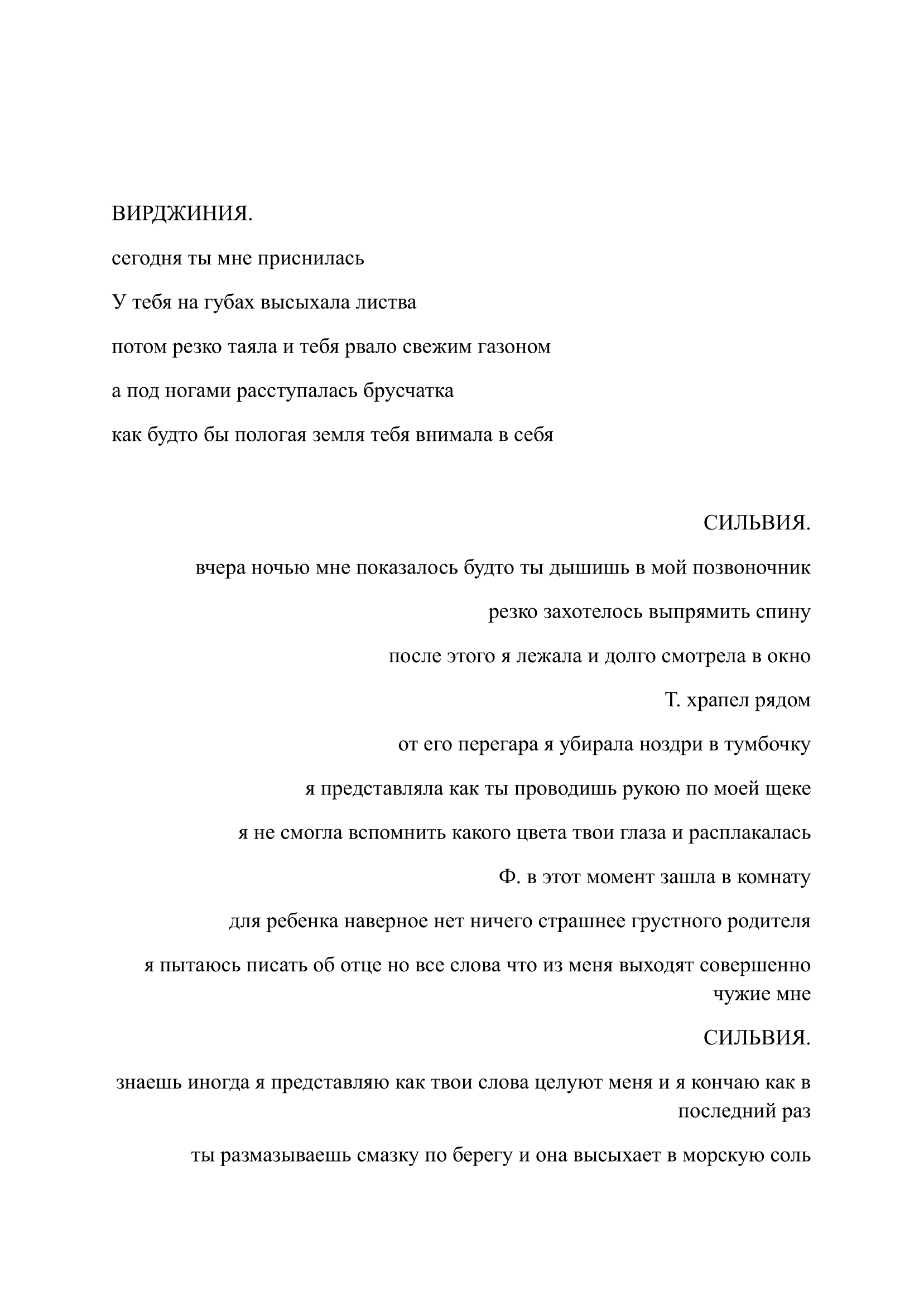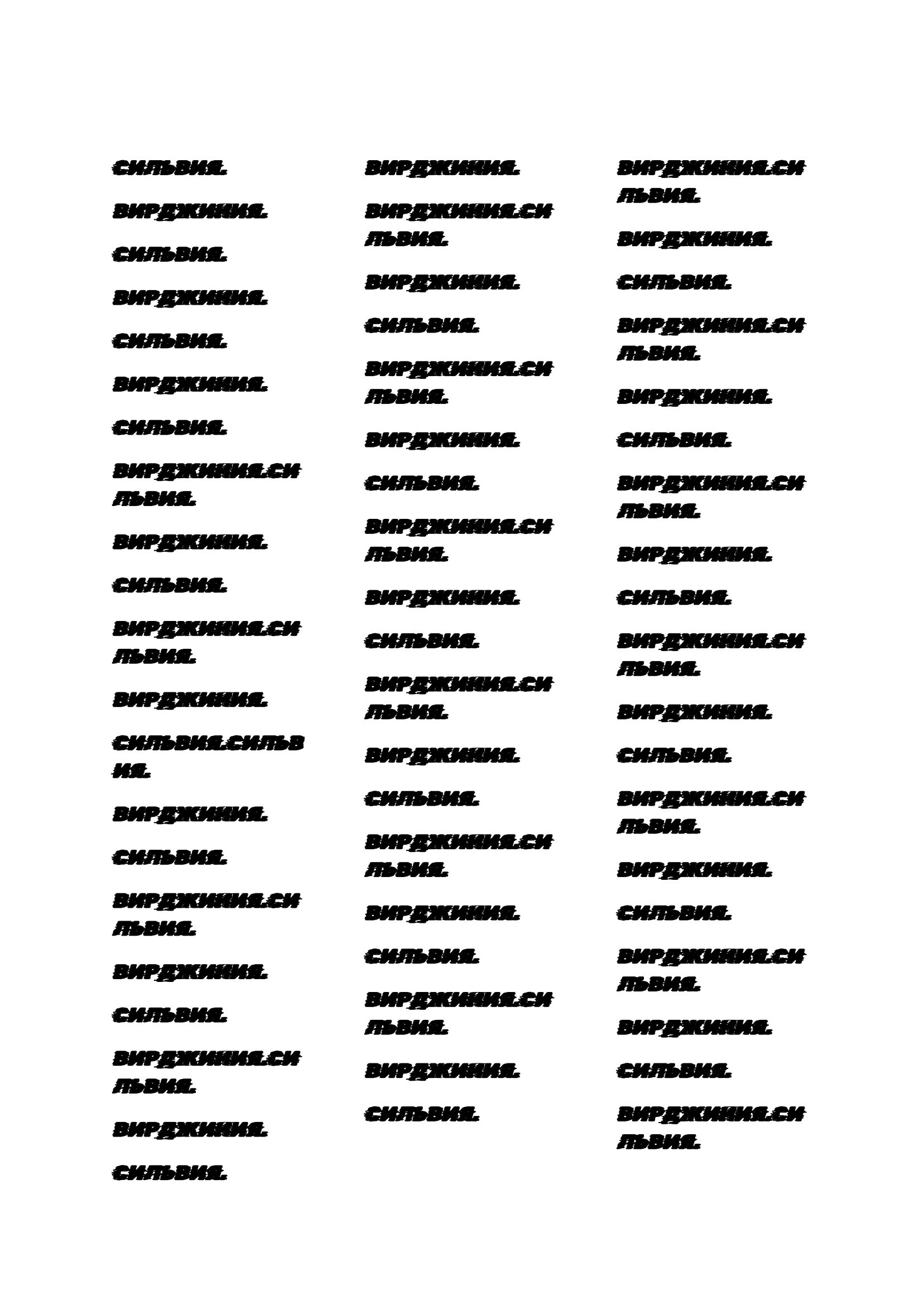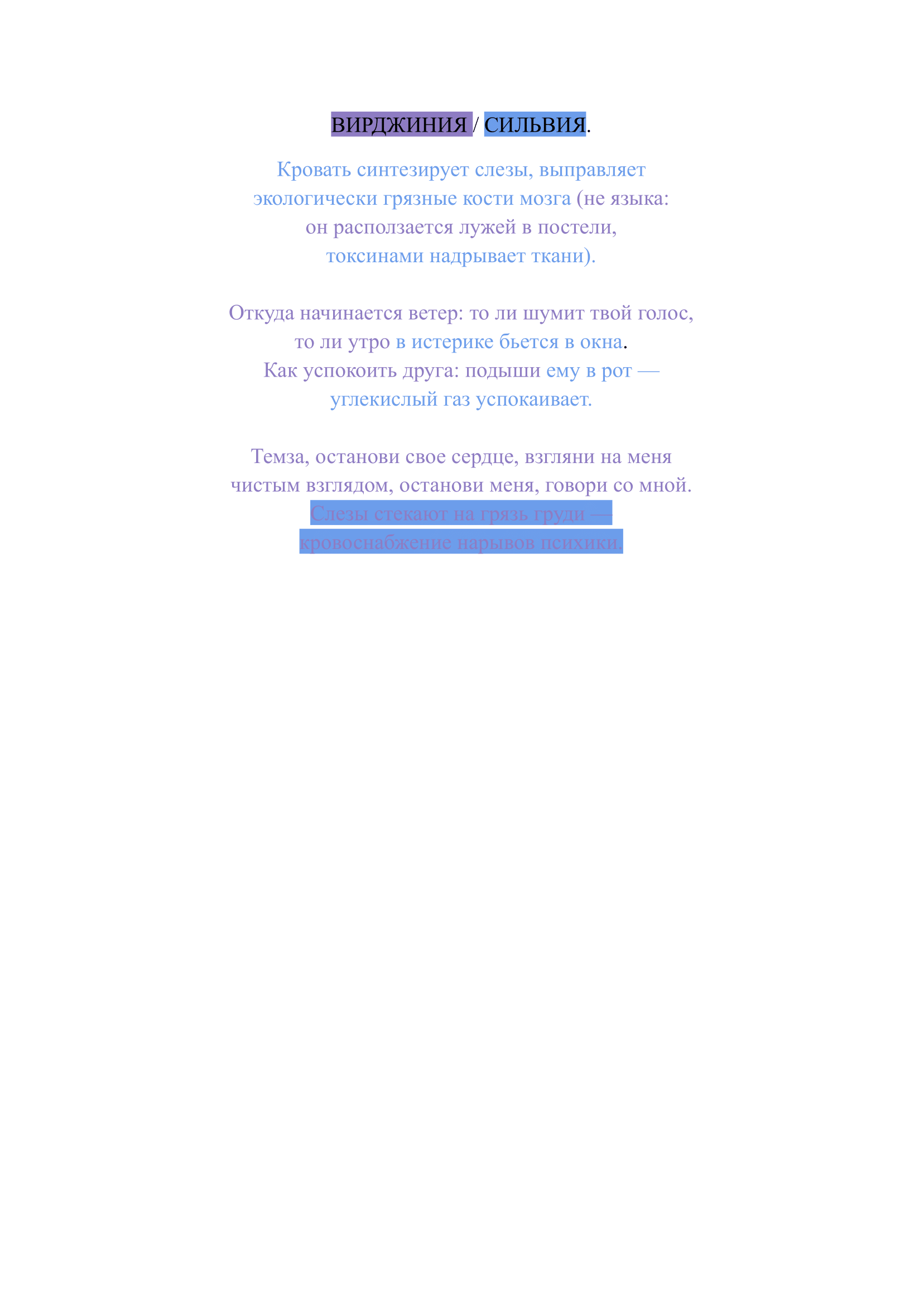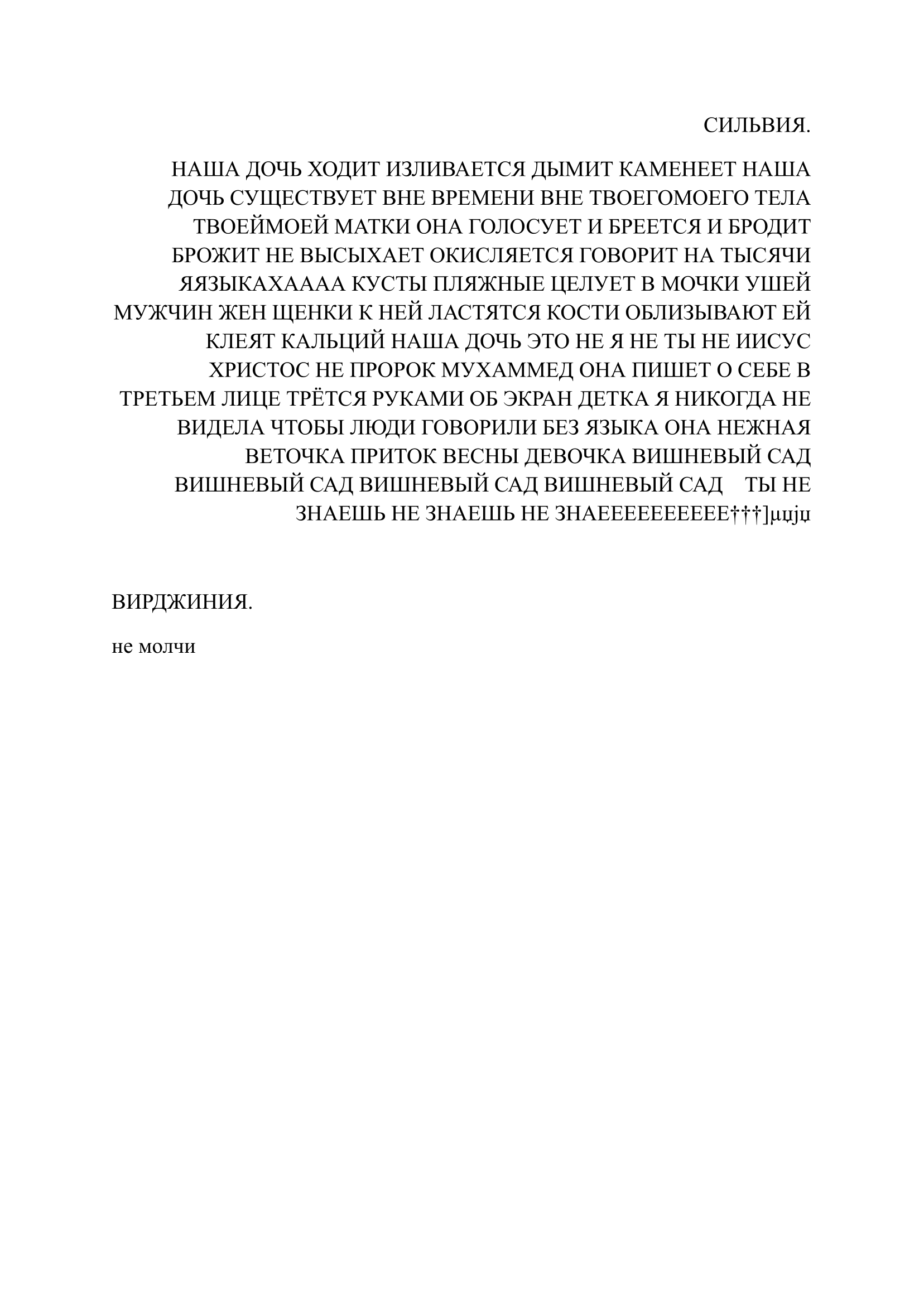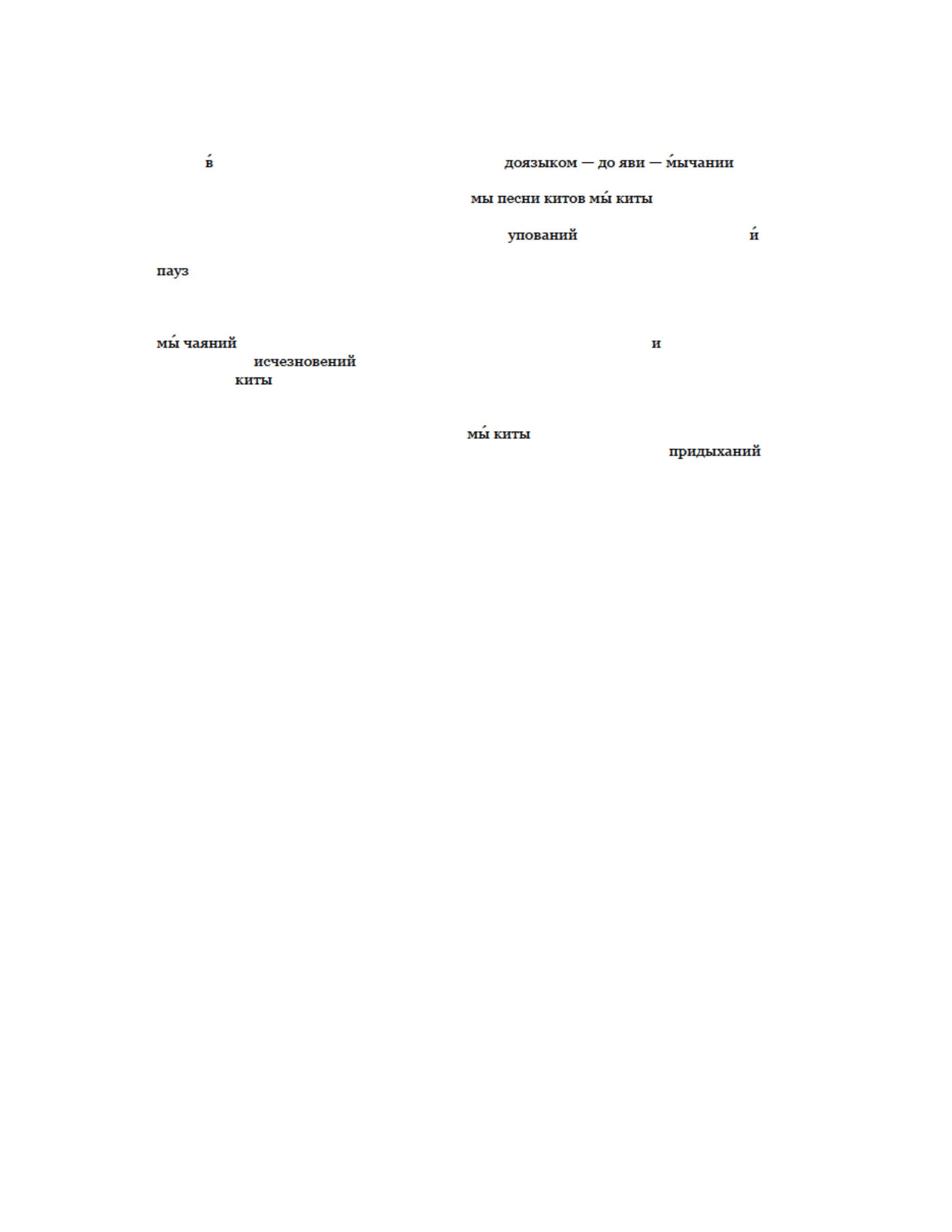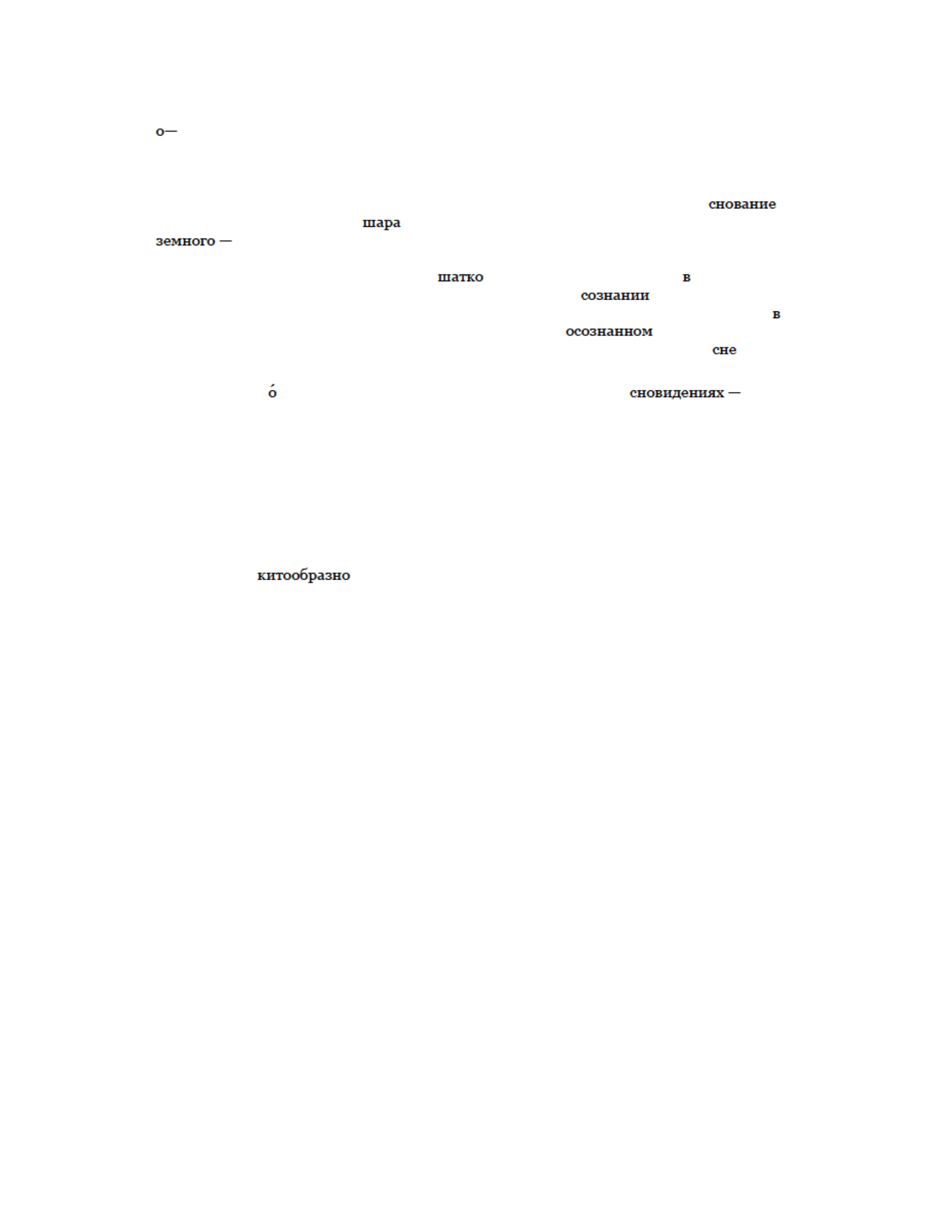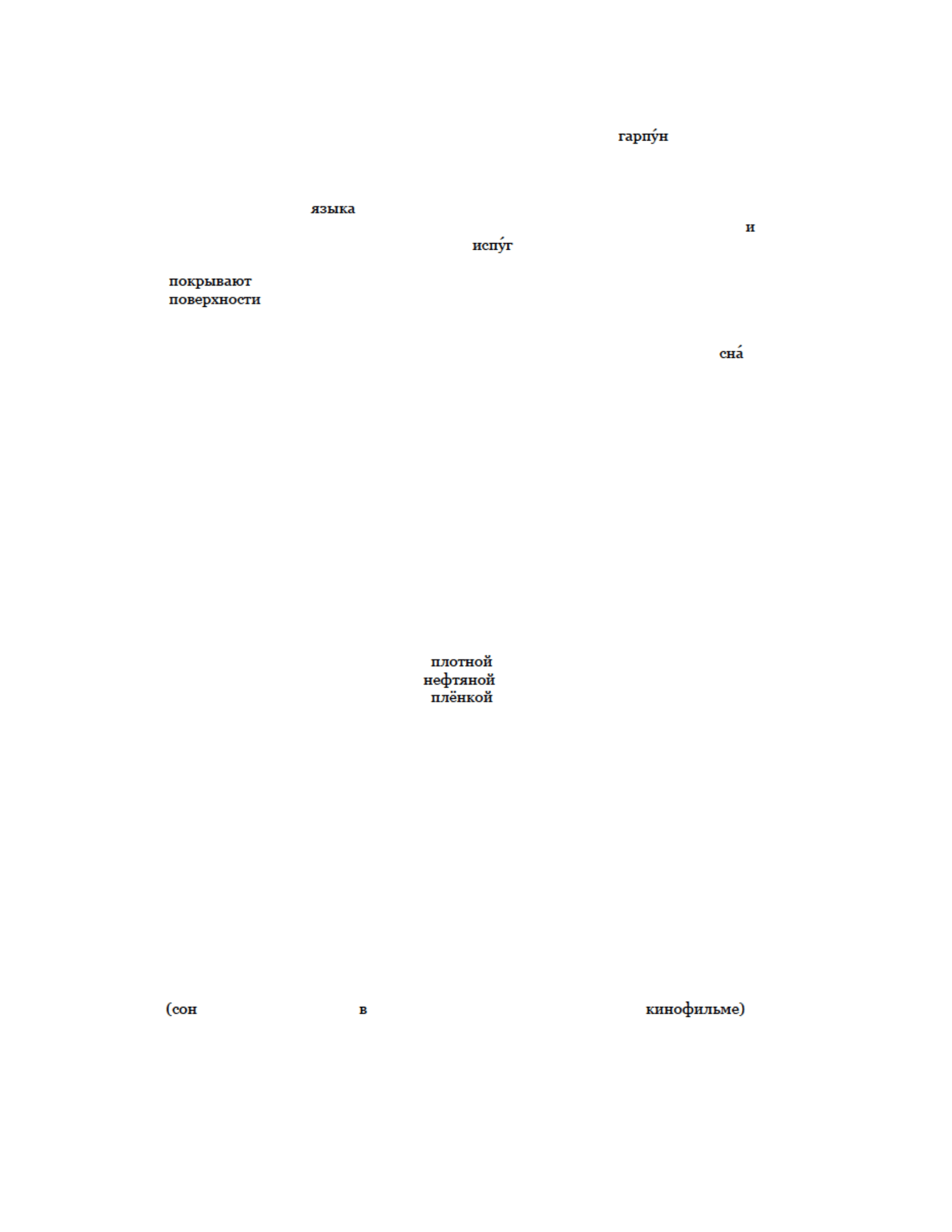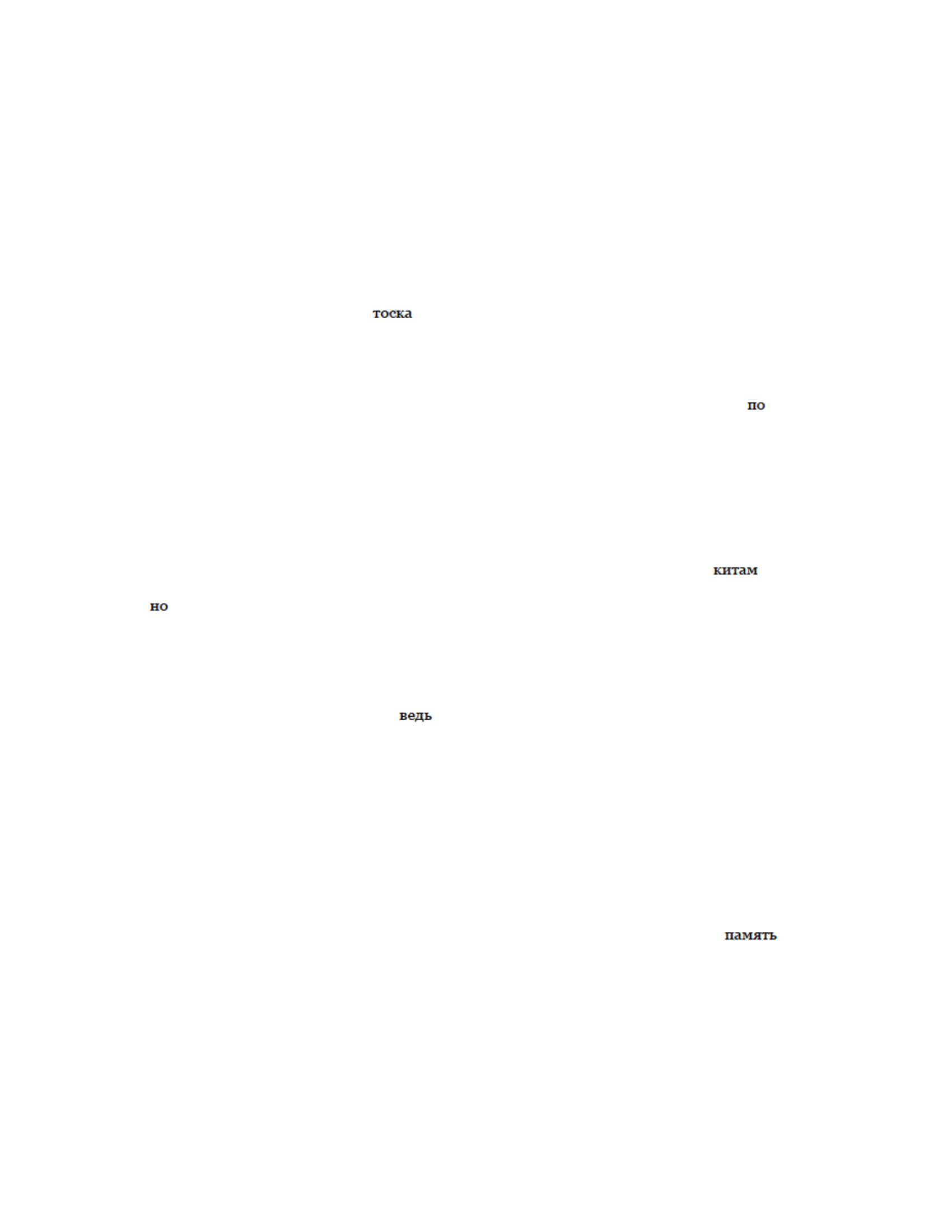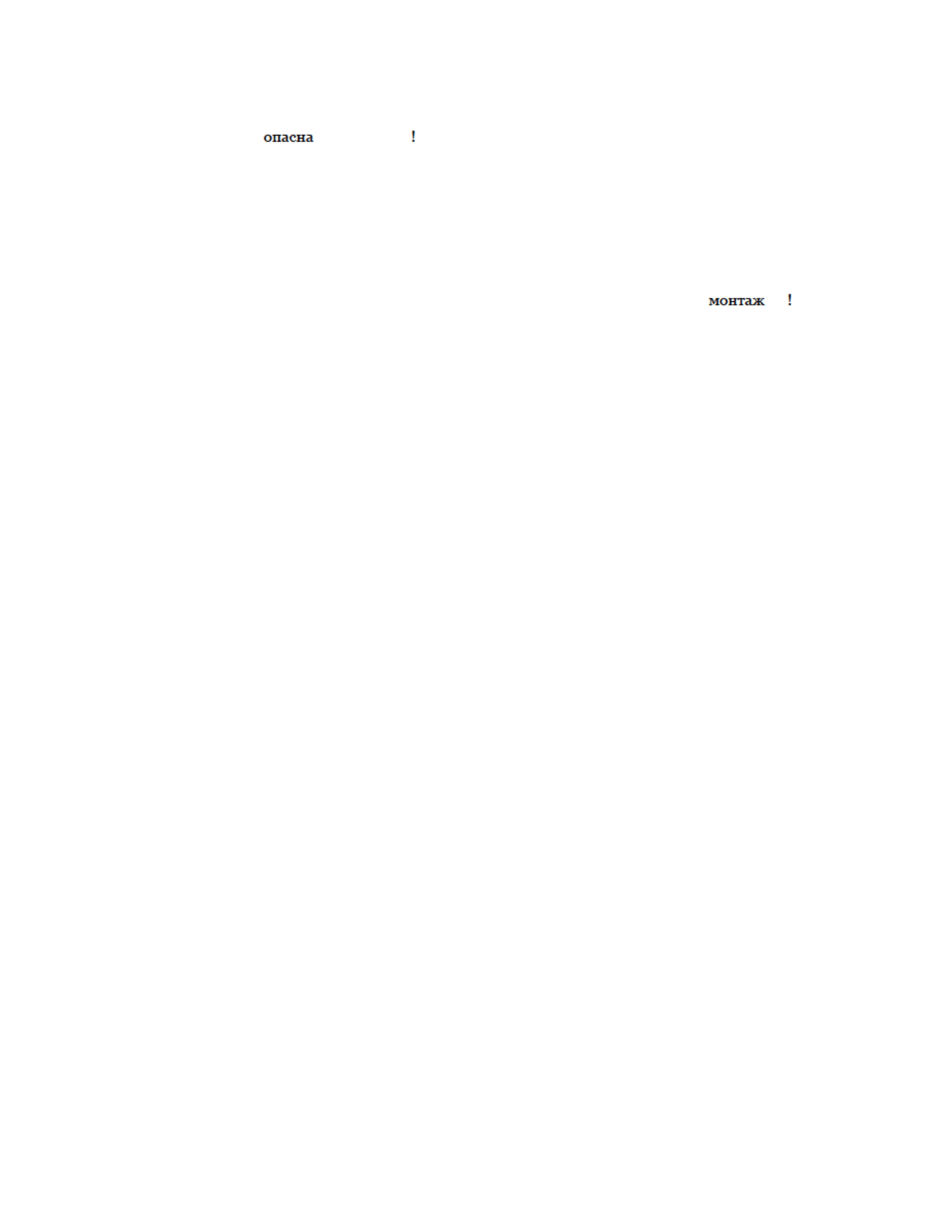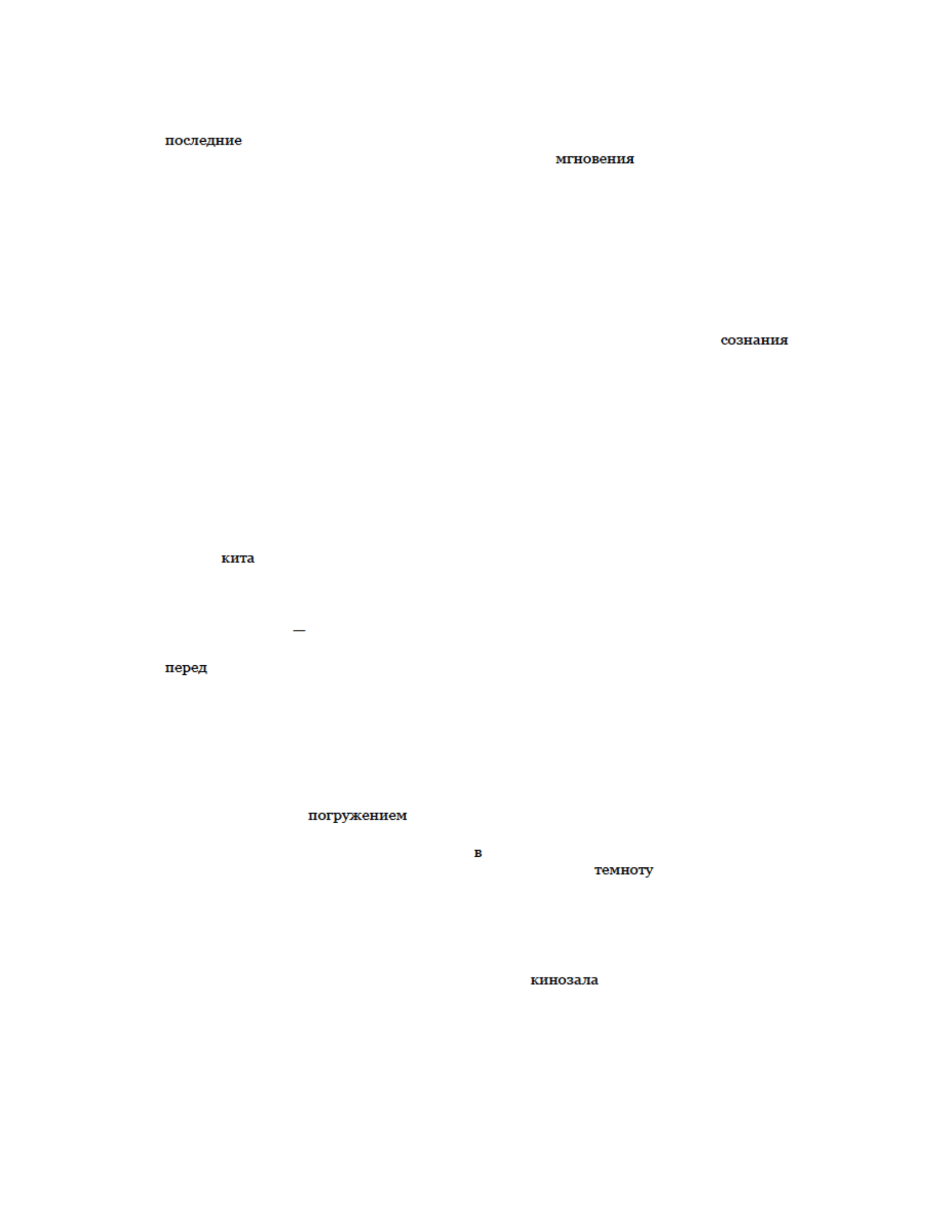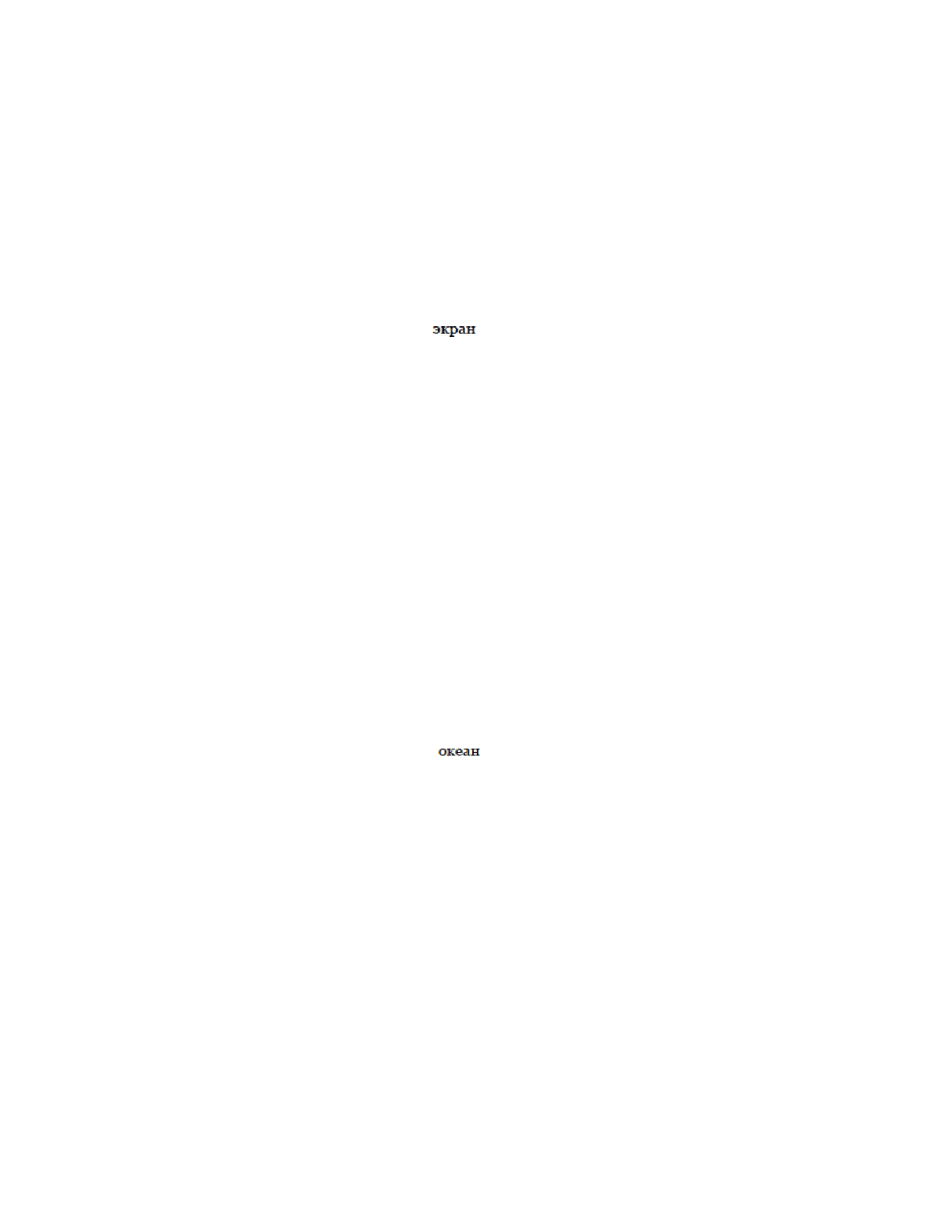«Флаги». Сдвоенный шестнадцатый и семнадцатый номер
.png)
Содержание
Фото на обложке – Александр Фролов (t.me/alextextfrol)
Сберечь катастрофу
. . .
оттащи взгляд
и оставь меня в темноте
я тебе друг
а за ним – никто
тесно: от текста, у него
нет вершин
временно рассекается день
дом
. . .
пульс
из редкости
видеть не ждать
хрупкое местно
в земле отдается
небо
осколки – оставленностей
микрорайоны
плит,
ходящие города
твоих
рук
. . .
как ими ожить?
или места нет
языку
после
сна
. . .
письмо – о письме
за руку – рука
от чего
разрез
. . .
плющится
нагота
месяца
нет
Всё – вводное
произойди,
стой
. . .
у легка
на кустах
может быть
темнота
Поверхности: склеились
нужен кто
или ночь
по себе
дышит
. . .
припиши – языку с
языка
снять
язык,
избавь от касания
(сберечь катастрофу)
. . .
любящий
спит
наверное, рядом
. . .
до дома – до
остальное:
сейчас
. . .
проверенное
переисполнится:
я тебе не скажу – увижу
уже тобой
. . .
различи
новость
как любовь
после
смерти
. . .
ещё
оставаться
недвижимо
пропастью
по краям
saying no to any f —— interpretation (с предисловием Кирилла Шубина)
Стихотворения Оли Русаковой продолжают традицию инновативной поэзии, чьи основы заложены ещё футуристами. Такая традиция предполагает трансформацию нормативного представления о художественном с помощью грамматических или визуальных средств. Тексты Оли Русаковой приглашают к чередованию операций по интеграции и фрагментации разноприродных кодов, намеренно совмещённых.
Они сводятся при особом внимании к форме сообщения. Авангардному, конкретистcкому и цифровому искусству свойственно рефлексировать над особенностями используемых медиумов. Подборка составлена из текстов, публиковавшихся в личном tg-канале. Отсюда сплав жанров и привнесение в поэтическую ткань таких деталей, как элементы баннеров, мессенджеров, порталов с записями треков, программ-переводчиков:
Симона Вейль, Укоренение читать >>>>>>>>
Благодаря особенностям среды смещается и визуальная сторона восприятия: поскольку длина строки зависит от разрешения экрана, под вопрос ставится графическая неизменность текста. Прозаизированные стихотворения Оли мимикрируют под посты. К некоторым из них прикреплены снимки или видео, показывающие авторку и центральный предмет изображения: тексты становятся частью личного блога. Но коммуникативная задача высказывания отводится на второй план, поскольку нарезанные и смешанные разнородные единицы предоставляют главным образом комментарий к результату письма и заставляют уйти от наивного тождества «Я» изображённого и говорящего:
...
we Giggle. put some eyes into my dr—ink. it's hot
as U may note—eyes yes, my
tongue
is al s((o)) inked
В рамках привычной полисемантичности бессоюзия реципиенту позволено самостоятельно освобождать атомы-знаки от уникальности способа написания. При сконцентрированном чтении («no wan daring eyes») варианты высказываний наслаиваются, отдельные элементы не включаются в грамматически правильные предложения, как «eyes», при первых прочтениях стоящие изолированно от высказывания и разбивающие восприятие на кадры завороженных глаз и эротизированного объекта, затем реконструируемые как часть от «notice», просто в другой записи. Но если посчитать «eyes» и «is» как взаимообращаемые элементы, то это даёт возможность прочитать последний цитируемый стих («is al s((o)) inked») как «eyes all sinked/synced». В другом тексте «лов-лю» становится микропереводом, а «частоты чистоты» автоматически разбивается на словоподобные части (час-то-ты чис-то-ты) в связке с последующим «вы-мы-ты». Череда микровыборов отрицает наличие некоторого единственного авторского варианта. Фрагментированность записи подчёркивает сосуществование множества потенциальных способов говорения непосредственно в процессе чтения текста, ещё до его ментальной обработки.
Расщепление может доходить до уровня вокабул или фонем. Во многих текстах изменяется привычное написание русских или английских слов, что задерживает артикуляцию. Эффект подчёркивает материальность письма и языка, амбивалентность субстанциального (постоянство фонем и лексем) и акцидентального (изменчивость звуков и словоформ). Деформированное написание как приём тоже восходит к футуристам, которых оно привело к зауми. Её можно считать попыткой представить бессловесный язык, где означающее и означаемое в перспективе сливаются, из-за чего проект становится сакральным наряду с другими программами модернистских течений. Этому способствовало и то, что заумь сходна с сектантской глоссолалией. Подборка далека от модернистских претензий, но не исключает притяжения к ним.
В текстах Оли можно увидеть отражение «микрологического поворота». Поворот, о котором писал Петер Слотердайк в третьем томе «Сфер», состоит в отходе от моносферической архитектуры, обращении к маргинальному или микроскопическому, освещающему макроскопическое. Слотердайк предпринимает попытку выбить землю из-под ног субстанциального мышления, рассматривая феномен пены – хрупкой, открыто-закрытой системы. Микрологический поворот связан с выбором неустойчивых структур вместо идеалистических и строгих. Например, в пятом тексте подборки выстраивается линия из потенциальных способов означивания субъекта (tje-tjœ-tjä-tjø), образующая своё (интер-)субъективное пространство, а чтобы произнести записанное как «bõ-homme», мы перебираем варианты артикуляции, пока не находим тот, который готовы принять.
Во втором стихотворении подборки поэтическое «Я» утверждает и осмысляет свою интерсубъективную природу («I'm the whale 'cause I'm dealing with the whale»), несмотря (или смотря в упор) на риск смерти: «мы м-есть и "принуждение жестокостью", психическое [шум: у-мри/за-мри], требование любви». Оно соотносится с адресатом, который троится между ипостасями отца-бога-другого, «мучающего» и «спасающего»: «отец (другой) возьми меня на руки /или колени/, положи в холодную воду, произнеси слова, дай мне знание, продолжение – языка». Такой тип обращенности раскалывает речь и идентичность. При этом через графическую игру нарушается сакральный статус адресата: «знаю́ об этом bõ—he всё хохо», – Бог становится «красивым человеком», если прочесть «bõ» как французское «beau».
Произвольность афрологических (афрология – теория хрупких систем) сочетаний восходит и к сдвигологии Кручёных – способу отстаивать право на ошибку, которая становится приёмом. Стих может выстраиваться как нанизывание созвучных слов, часто появляются оральные сдвиги («в прозрачность рот» или, например, символ «((о))», призывающий остановиться на моменте артикуляции, широко открыв рот). В первом стихотворении оральный сдвиг производится, например, с помощью эмодзи 👂. Этот жест не только вторит стремлению уйти от однозначности письма, но и дополняет эротическую нежность текста.
От футуристического типа письма аффективность неотделима. У Оли вина и удовольствие, болевые точки становятся невыразимым, которое не осмысляется прозаическим языком («и все страдания – только объем не–слова»). Так что графические приёмы, которые у Аронзона или Айги могли бы интерпретироваться метафизически, следует воспринимать как воплощение «безъязыкости» интерфейсов («&&&&&&&») или телесности.
Аффективность не противоречит аналитичности этого типа письма, но и не надо бесконечно приумножать значения. В текстах Оли, свободных и кратких, стоит запутываться, пока слова не перестанут быть словами.
– Кирилл Шубин
Y these things killing all the r((o))mans
if the most s
e y e s
t
× hing is
being se—Q re
d
b n g 👂
b n g
b n g
ed
I am core—r at , yum
° yum, eat, my pussy...
no wan daring eyes, and that's
the Focus :: the focus
...
we Giggle. put some eyes into my dr—ink. it's hot
as U may note—eyes yes, my
tongue
is al s((o)) inked
S
he—airing the w((o))eyes
'P rec i ate it, d ear co—r—e
w sh—are our rec i p
)))
we are not offrate (((
... a
we are des er T `
s
tt [ ‘t’s ]
to be killed
K
> > >
H
> > >
omme 👂, my d 👂, in the sweethearts cradle, theM
, spooning, V
have each other back !
(no back words)
HI Joy in us !
L
lil A lil N lil
lil spooky monsters in their
[R—RAISED]
go od d night
sleepwalkers finally asleep...
(B quiet !)
s [as]
we leep we l l
,
W E L L C
X O
мне предстоит говорить с фанатиком, книжником
[ ]
меня трясёт, я глупость
откуда страх
зачем и как t—i мучаешь меня
продолжаю производить возврат себе об—ема emotional investment
guardian angels! proper setting! what else? how can I prepare myself
мы не об—ема потому что мы монстр
I mean mean
I'm the whale 'cause I'm dealing with the whale
мы м—есть и «принуждение жестокостью», психическое [шум: у—мри/за—мри], требование любви
«...и умираю» — часть. Всё началось с того, что я приняла решение, что even if it feels like to annihilate myself — настолько вшито
...я продолжу
этот объем затем на либидинальные нити; сшить другое платье, лëгкое (дышать), семью
и это есть уже. и было. как бы всегда носитель мы
и все страдания — только объем не—слов а
без твоего благословения, с благословением отца другого
отдать готова эту силу — не тебе, то есть как раз и тjе—бе тебе, отсутствием, внимания смещением
отец (другой) возьми меня на руки /или колени/, положи в холодную воду, произнеси слова, дай мне знание, продолжение — языка
я «преодолевать судьбу», танцем и ~чем~угодно~, постоянством соответствия
и кривизна лица уйдёт
в прозрачность рот
((о)) отпустите
с X
_гугл_перевод____
__или_гуревод
мне предстоит говорить с фанатиком, книжником
[ ]
меня трясёт, я глупость
откуда страх
зачем и как т—я мучаешь меня
продолжаю производить возврат себе об—эма эмоциональные инвестиции
ангел Хранитель! правильная настройка! что еще? как я могу подготовиться
мы не об—ема потому что мы монстр
я имею в виду
Я кит, потому что я имею дело с китом
мы м—есть и «принуждение жестокости», психическое [шум: у—мри/за—мри], требование любви
«...и умираю» — часть. Всё началось с того, что я принял решение, что даже если мне хочется уничтожить себя — настолько вшито
...я продолжаю
этот объем либидинальных нити; сшить другое платье, легкое (дышать), семейное
и это уже есть. и было. как бы всегда носитель мы
и все страдания — только объем не—слова
без твоего благословения, с благословением другого отца
отдать готовность эту силу — не тебе, то есть как раз и тjе — быть тебе, отсутствием, вниманием смещением
отец (другой) возьми меня на руки /или колени/, положи в холодную воду, задумай слова, дай мне знание, продолжение — язык
я «преодолеваю ошибкой», танцем и ~чем~угодно~, постоянством соблюдения
и кривизна лица уйдёт
в светлой ротации
((о))
с Х
утилизирует вину
гуляка как бы, она, кака маляка
мы делегируем наше желание
нам нравится еë игра — даём и плачем
платим
чем
прожект прожектора фантазий
непозволительных в нигде
и вот она ему вернула:
мне всё это претит, и это — мёртвое, и ты в этом мертвец!
я может быть не очень дочь тебе, да, но и
ты мне не совсем отец, отец!
сердец
сердец
сердитый серд
сердец
тю-тю
сердец тю-тю
КО—ФИ ( 커피 )
я курочка, куда—хтахкукухá
кукарехуух—во—мне: петь и со—петь — слышать и услышать
я рана утром вместе с кофий или без кофий
знаю́ об этом bõ—he всё хохо
H R U
tje хрюшечка, tjœ пятачок — розетка
tjä вилка и раз—вилка в языке — poem
tjø нюшки мы розовые и любимые
bõ—homme конечно кем же еshsshё
Fascination
я мя́у́ка и самка—сумка
здесь ря—дом мусор извержений / отторжений, торжеств
лов—лю частоты чистоты вы—мы—ты
saying no to any f—— interpretation
Баю — Бай!
Симона Вейль, Укоренение читать >>>>>>>>
простукивание и стукачество айяйяй
поладьте и погладьте—сь, тутусик
скажите: расщепление, гудбай
эти платья-плакаты они обо всём висят
я не грустная и не мёртвая просто медитировала не на то
милый/ая любимый/ая я и сама
хо—[сшито—вниманием]—тела бы чтобы смягчился мой взгляд
я весёлая и живая, это есть
это есть, это есть, это есть и то есть
это видеть и видеть, в чем-то робеть а в чем-то сме/ле/ть
наслаждаться, и в боли тоже, и об этом знать
мы настроимся на звук проясняющий линии и их вкус — (зная о том, что такое бывает, а именно «мы»)
мы решим как мы будем и что сшивать
1
бывает мы
2
мы —
это безъязыкость / языкость и сладкий вкус
&&&&&&&
••••••••••••••••••
××××××××××××××
+++++++++++++++++++++
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
``
|``|``|``|
√√√~~√√√√
Снег исчезновения
石
я соберу аквариум камней
и буду менять им воду
каждый божий день
泡
мыльные пузыри
лопают ангелы
с той стороны
木
из-за деревьев
на тебя смотрят
тысячи глаз
了
«я» – птичка ле
тающая
во сне
白
белое не может закрасить чёрное
но само существование белого
даёт возможность чёрному
░▒▓██стать прозрачным██▓▒░
文
[н̲̅][о̲̅][ч̲̅][ь̲̅][ю̲̅] [в̲̅][о̲̅] [с̲̅][н̲̅][е̲̅]
[я̲̅] [т̲̅][р̲̅][о̲̅][г̲̅][а̲̅][ю̲̅] [с̲̅][в̲̅][о̲̅][ё̲̅] [л̲̅][и̲̅][ц̲̅][о̲̅] [р̲̅][у̲̅][к̲̅][а̲̅][м̲̅][и̲̅]
[в̲̅][с̲̅][п̲̅][о̲̅][м̲̅][и̲̅][н̲̅][а̲̅][ю̲̅]
[к̲̅][а̲̅][к̲̅] [о̲̅][н̲̅][о̲̅] [в̲̅][ы̲̅][г̲̅][л̲̅][я̲̅][д̲̅][и̲̅][т̲̅]
莫
белое пятно обратного фонаря
я больше ничего
не помню
形
из мраморного лица
вылетает снег исчезновения
навстречу поцелую животворящего
на перекрёстке лучей –
статуя-утешение, видимая Никому
) в том самом промежутке
где бесшумно бродят те
кто ни там
и ни здесь (
霾
я не знала что надеть для тебя
и поэтому облачилась в солнечный свет
чтобы двухпалубные качели
перевернулись
и дымка самозабвения оказалась
основной субстанцией
створок нашего перламутрового разговора
图
сырник, сделанный мамой
похож на материк
я рассматриваю его
как ребёнок рассматривает
первую в жизни карту
вернее, картину
о том о чём в детстве обычно
стесняешься говорить
密
ᚱ ℥ᚣ∂ⰓᛆᚷᚣᚿθᛈⰓ ᛟᛠ ᛠᚣᛋᚺ
ᛕᛟᛠᛟᚹⰓᛆᛊ ᚺᛊ ᛖᛟᛚᚴ
ᛒⰓᛆᚹᚣ℥ᛋᛠⰓ
品
– что подарить тебе на день рождения?
– я буду счастлив если ты мне подаришь
камень обёрнутый в бумагу
梦
𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
я превратила злых собак
в ласковых рыб
которые растворились в воздухе
𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
灰
пыль Последнего
⠺⠕⠵⠝⠑⠎⠡⠝⠝⠁⠫⠀⠏⠮⠇⠾⠀
красноречивая
⠺⠕⠵⠝⠑⠎⠡⠝⠝⠁⠫⠀⠏⠮⠇⠾⠀
в вознесённом беззвучии
⠺⠕⠵⠝⠑⠎⠡⠝⠝⠁⠫⠀⠏⠮⠇⠾⠀
融
иссушённые воды
где их очаг?
после испарения-возвращения – отсутствие синевы
отсутствие отсутствия
как же мы теперь будем жить
с иссушённой водой?
где русая Роса раскроет прозрачные блики слёз
своего каждодневного начинания?
и земля не умоется как прежде
и цветки улетят словно бабочки улетучивания вспять
от этого неуёмного зрелища иссушённая вода хлынет
̊ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊
̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊
̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊
̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊
̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊⫶水̊⫶ ̊
и всё истает под нежностью окончания
АКВАРИУМНЫЕ КАМНИ ПОЮТ
有
° ° ° ° ° ° ° °
° °
° °
б̤̊ы̤̊л̤̊ ̤̊е̤̊с̤̊м̤̊ь̤̊ ̤̊б̤̊у̤̊д̤̊е̤̊т̤̊
° °
° °
° °
б̤̊ы̤̊л̤̊а̤̊ ̤̊е̤̊с̤̊м̤̊ь̤̊ ̤̊б̤̊у̤̊д̤̊е̤̊т̤̊
° °
° °
° °
б̤̊ы̤̊л̤̊о̤̊ ̤̊е̤̊с̤̊м̤̊ь̤̊ ̤̊б̤̊у̤̊д̤̊е̤̊т̤̊
° °
° °
° °
б̤̊ы̤̊л̤̊и̤̊ ̤̊е̤̊с̤̊м̤̊ь̤̊ ̤̊б̤̊у̤̊д̤̊е̤̊м̤̊
° °
° °
° ° ° ° ° ° ° °
Микрособытия: близкое
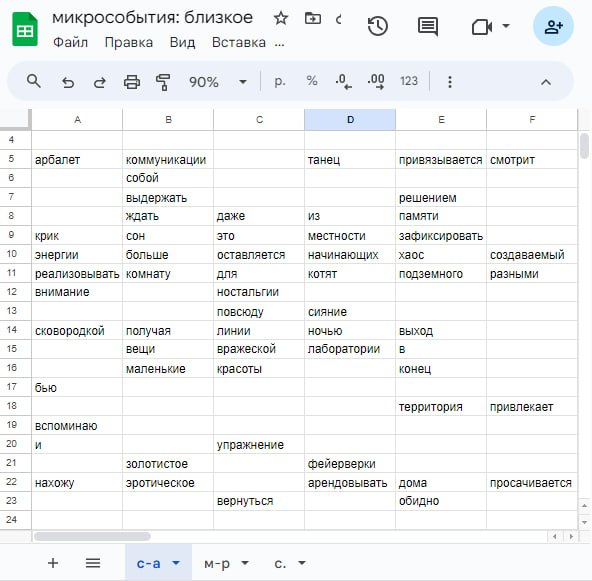
.jpeg)
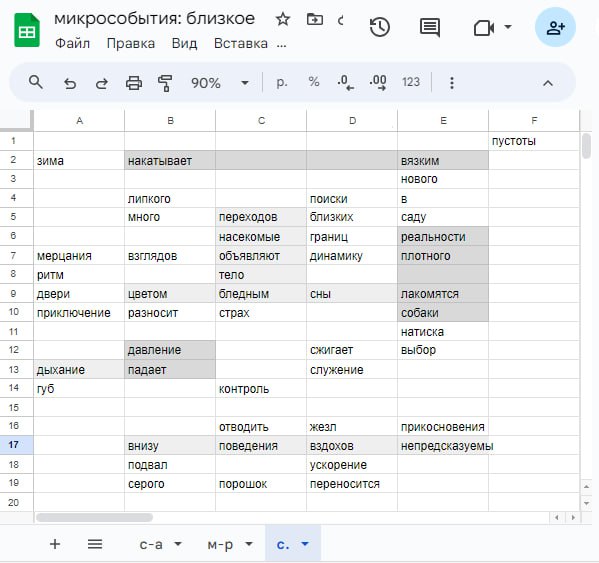
Песня Тибета
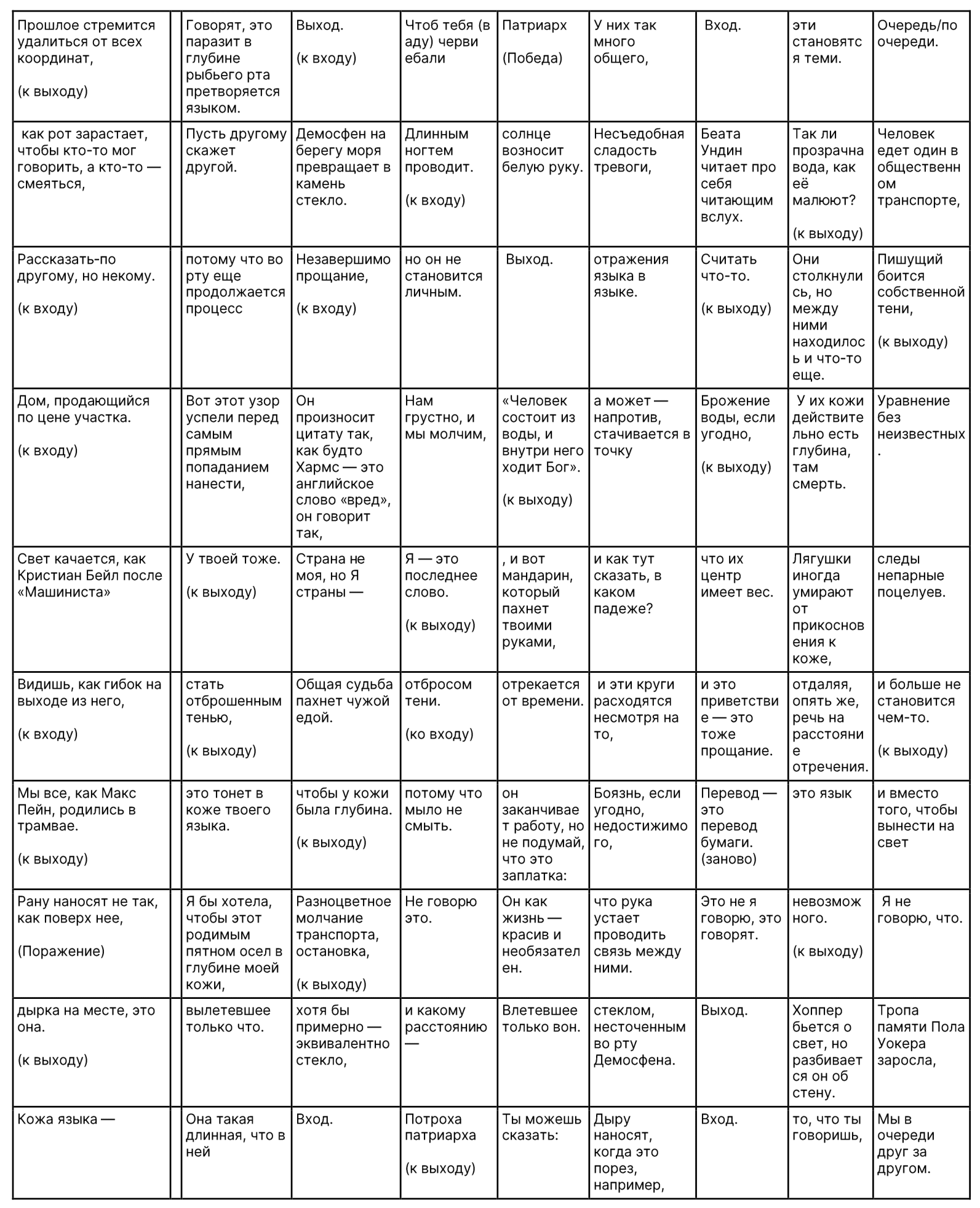
Томские бдения
-1.png)
-2.png)
Пять вариантов Кассета Паук
ВАРИАНТ-1
Там все было иначе, по-другому немного:
допустим, меняются ракурсы, в наличии даже
чрезмерные данные, и я смотрел на это с третьего
этажа, с балкона, снизу, я был точно в центре
происходящего, глаза мои – на расстоянии вытянутой руки,
если б только была рука, оранжевый старый медведь,
дачный медведь, сам себе ненадежный рассказчик,
гладит себя, нажимает себе на грудь, нажимает ниже,
мокрый от пота, до рыка, как бы пущенного в реверс выдоха,
вдоха, до рыка, из-под задних лап пауки, паутина, опилки,
до рыка, какая-то точка, все было немного иначе, оранжевый
старый медведь, оранжевый, старый, на тряпках, на лавочке,
дачный, оранжевый, старый, на пленке паук, на одной –
выползает налево, на другой – выползает направо, оранжевый,
старый, на пленке паук-по-центру, сразу после паук-смещенный,
выжженный, тщетный, комната, если бы только комната,
если б только штатив паука, и вползает налево/направо, и
как-то иначе, оранжевый старый медведь, пауки и кричалки,
опилки, оранжевый, старый, вопилки, а кадр испорчен до рыка,
и тут либо рывок диафрагмы, либо настолько четко и внятно,
что некуда глянуть.
ВАРИАНТ-2
Многие окна и цифры, игра в классики до победы,
это, скажем, обычный подбор, под ногами брутфорс,
только стерт интерфейс, сухой мел по кроссовкам, раз-два,
пауки, пауки, забияки, и каждый костыль вытекает на руль,
собачий лай, Иокаста, повязка на лоб, на очки, но едва ли
сдержать стекло пластырем, о мама и папа, люблю вас
каждым мальчиком забивным стадиона этого, микро-
района, родного города, и скученные тела ложатся,
повязка на лоб, пауки, паутинка чернильная, это, скажем,
обычный подбор, под ногами брутфорс, забияка, и Радостно
Мне, Я Спокоен в Смертельном Бою, и растерзан, и скучен,
паук выползает из тела, из пластыря, пыли, и грязь под ногтями,
все было иначе, и я никогда не вернусь, и ты никогда не,
о боже, и камеры долго над полем, и пыль, и медведь,
и ужас на мышцы лица, когда Он Метался, и пыль/повозка, и
паук, Он Поражал Глазницы, и Из Глаз Багрово-Черный
Ливень, о, мама, папа, я люблю, сограждане, до рыка,
крика CUT, до смеха ХА, и взрыв бессобытийный.
ВАРИАНТ-3
Е.З.
Нет, не брутфорс – бутафория, много окон ОГО,
наступление – нет, выступление: прямо по центру на
первосцене, и у воды ГОЛОВА, подстрелить бы, прицелиться,
раз под прицелом, то сильно ценится, если бы
только сограждане, только грильяж, сразу после
все в кровь (бутафорскую тоже) /// ДО-РЫКА-НАЗАД,
деревянная кукла со звуком И Я! икает, рисунки
про паука – это, может, Паук-Смещенный, зачатый
кораблекрушением, с еще одной куклой на шее,
крестик как будто мишень, и тоже И Я! икает под камерой,
под каркасом из минных полей, из касок, надвинутых
на глаза, на сцене сограждане, дохлый медведь, и лицо
его – вросший ноготь, ничто не проветрено, спины
скрючены, иглы готовы для кожи, и ДЕСЯТЬ-УДАРОВ,
потом двадцать-три ножевых, и грильяж,
и вползает налево/направо, до рыка, и Комья
Застряли в Горле у Него, и мама в стихах про
любовь, и папа в кино про войну, и паук, и паук,
И ПАУК.
ВАРИАНТ-4
Комар с хэндикамом в руках вылетает к рукам,
на битые колени неоднократно, переводит записи
в цифру, и заново хэндикам кипятком окатывает
весь склад, это вроде ангар + выставлен свет,
и заново в цифру до брака, вариантов много, и все
одинаковы, это теперь нескончаемое по-центру,
и манекены со всего склада скапливаются, бьются
друг о друга сосками, и между летает Комар,
лицо засовывая в свою же камеру, допустим,
это какие-то жвалы, пересвет, как будто бы
ВЫЖИГАНИЕ, в монохроме фаланги, волосы,
ВДРУК КАКОЙТА СТАРИЧЕК-ПАУЧЕК
и Пропадай-Погибай, родная, сколько бы
ни кормила меня, ни поила меня, и пальцы
ползут по разодранной родинке, и на складе
икота И Я!, и приеду-скоро, и Слава Комару-
Победителю в последний час его, и ЧЕГО КАК,
и заново вылетает, и ужас на мышцы лица, и целая
голова из паучьей крови на почти разряженном
хэндикаме, и я тебя погубил, покупил я тебя,
Паучок и Комарик, и пародия на развязку
СРУБАЕТ ГОЛОВУ, ИИ СРУБААЕТ ГООЛОВУ,
ИИИ ////////
ВАРИАНТ-5
Покажи, что ты снял: может быть, мусорный сок,
труппа старых медведей НА СОЛНЦЕ ЖМУР-
ится, выделывает кульбиты, адвокаты как бы
рыгают твоими доводами до рыка, о, скрежет
немилосердный, ты можешь скопировать весь
архив, но я совсем ничего не помню, кроме
истертого кресла, замызганного медведя
с опилками в животе & мокрый от пота костюм,
что на тебе как ПАУК-ЧЕЛОВЕК, никогда не иначе,
еще перочинный ножик в качестве рукопожатия,
!совершенно пустой коридор!, разрезающий муни-
ципальное здание, /еще одна склейка/, боже,
хоровод превращается в страшную давку, а ты
умираешь в медведя, умираешь в красную маску,
в Летучую Мышь & Снегурочку, никто не дотянется
до видоискателя, но будет пытаться под взрывы
ладоней у мамы и папы, под перестрелки смеха,
и диафрагма рвется, и ребра сминает единый порыв,
и //СРУБАЕТ ПОД САМЫЙ КОРЕШОК всех ребятишек
одномоментно, и ты кричишь, притворяясь, что
снится кошмар, что паук, что штатив паука, из
родительской вздох – там ХЭНДИКАМ РАЗРЯЖА-
Удержать(ся за) дым
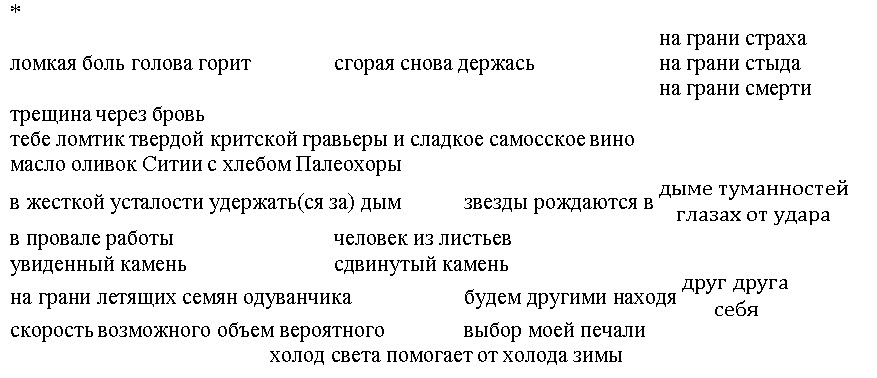
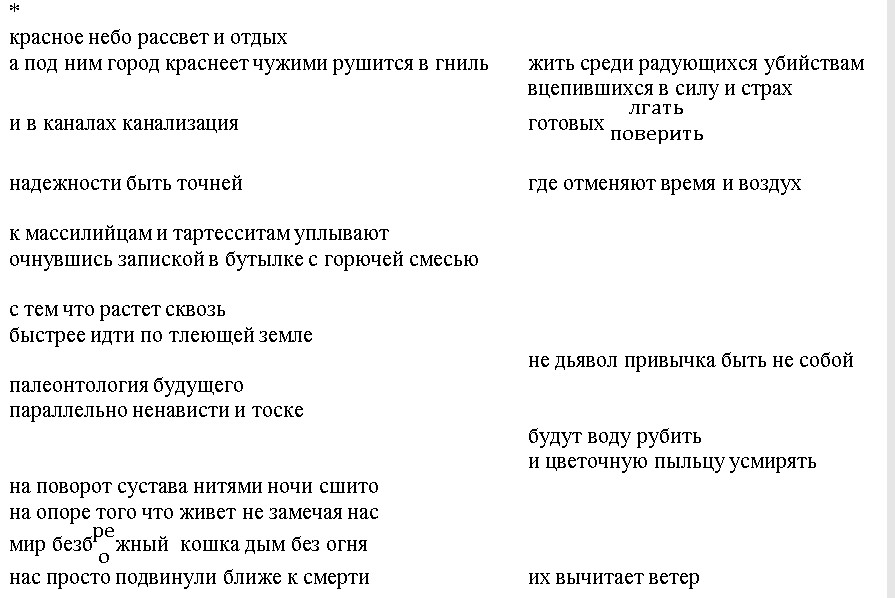
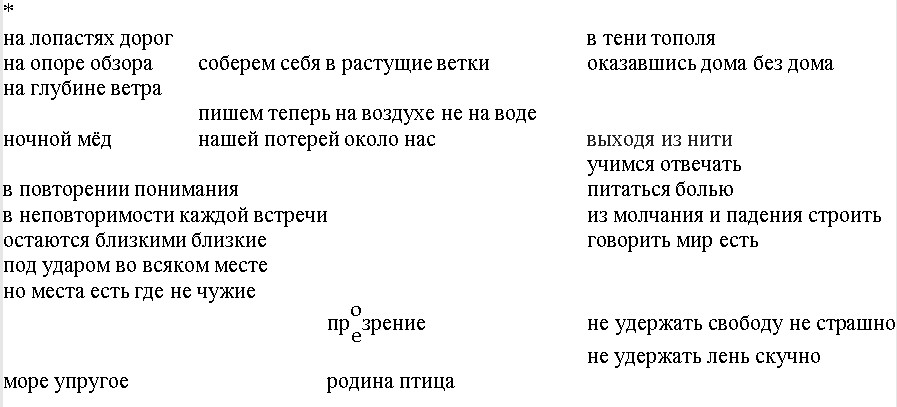
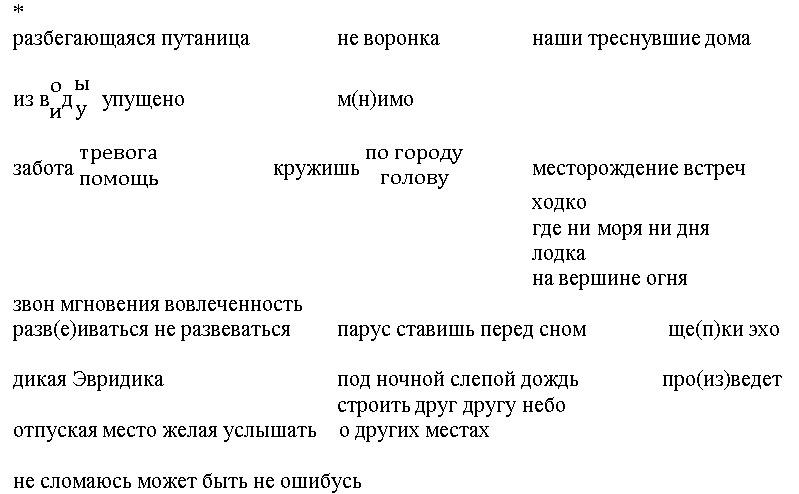
***
рыбы реки трещины осень осени дым
окружает откатывается мелом сырым
повернись болезнями своими ко мне
пожалуйста повернись не прячь
речью не лечь не отмечен мяч
выпить путь ночь замечая в дне
мной поспи двое не одно вместе сеять да жать
выцветшие цветы полна голова теней
вдоль твоей боли поперек лежать
пыль хорошо летит полетим на ней
где кончается кожа говорить отдыхать греть
сами мы и само на треть
Анти-книга: три стихотворения
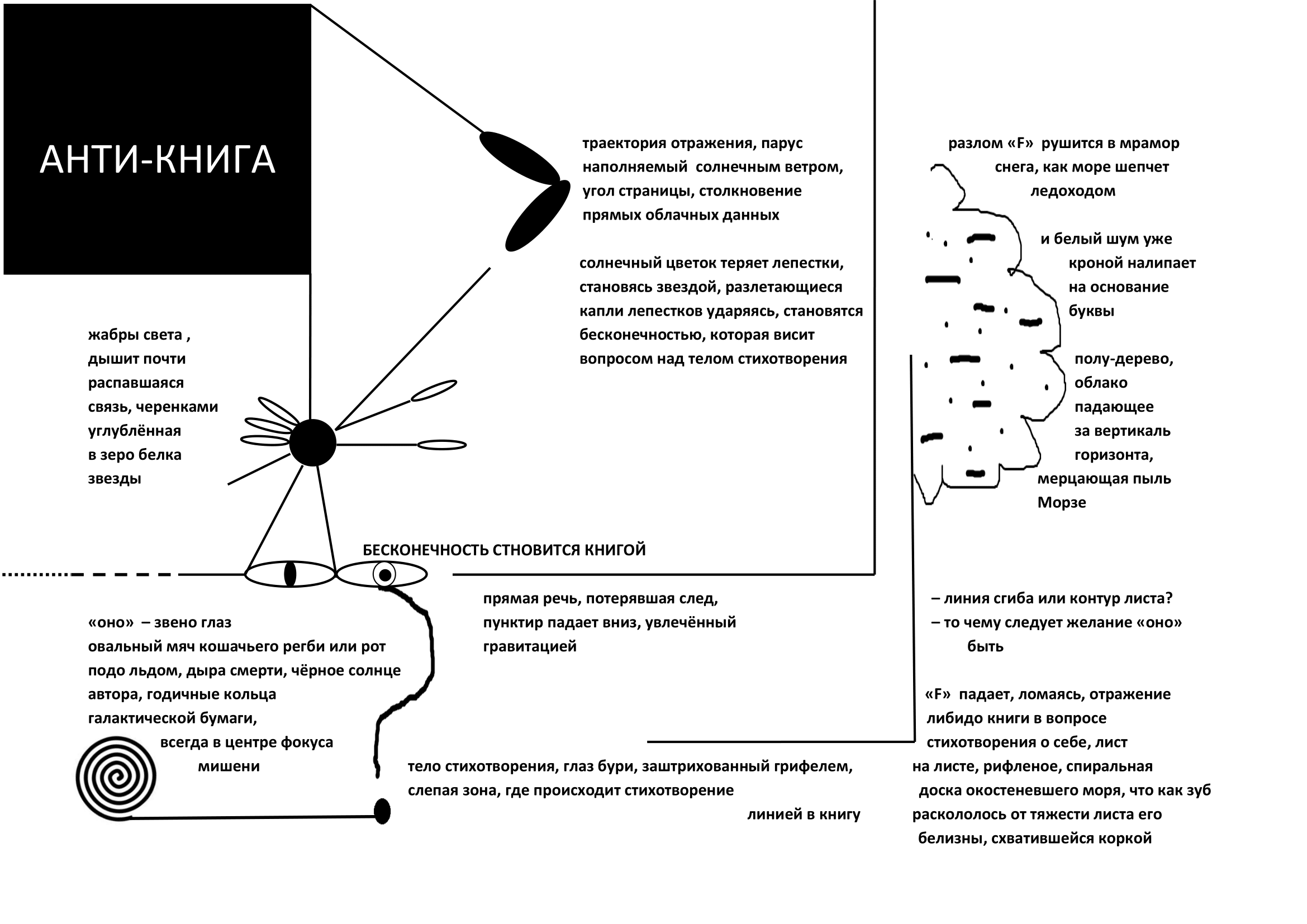
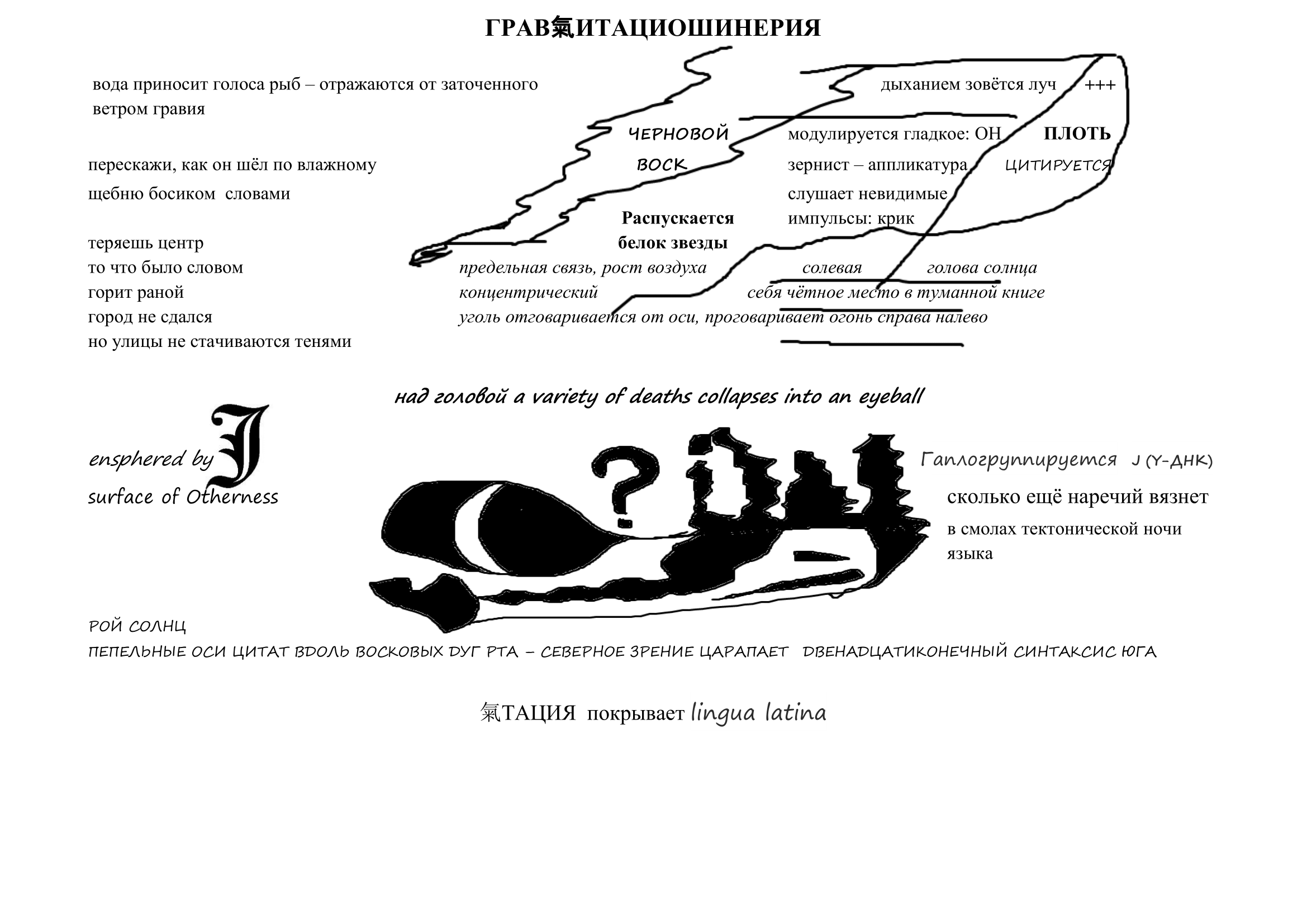
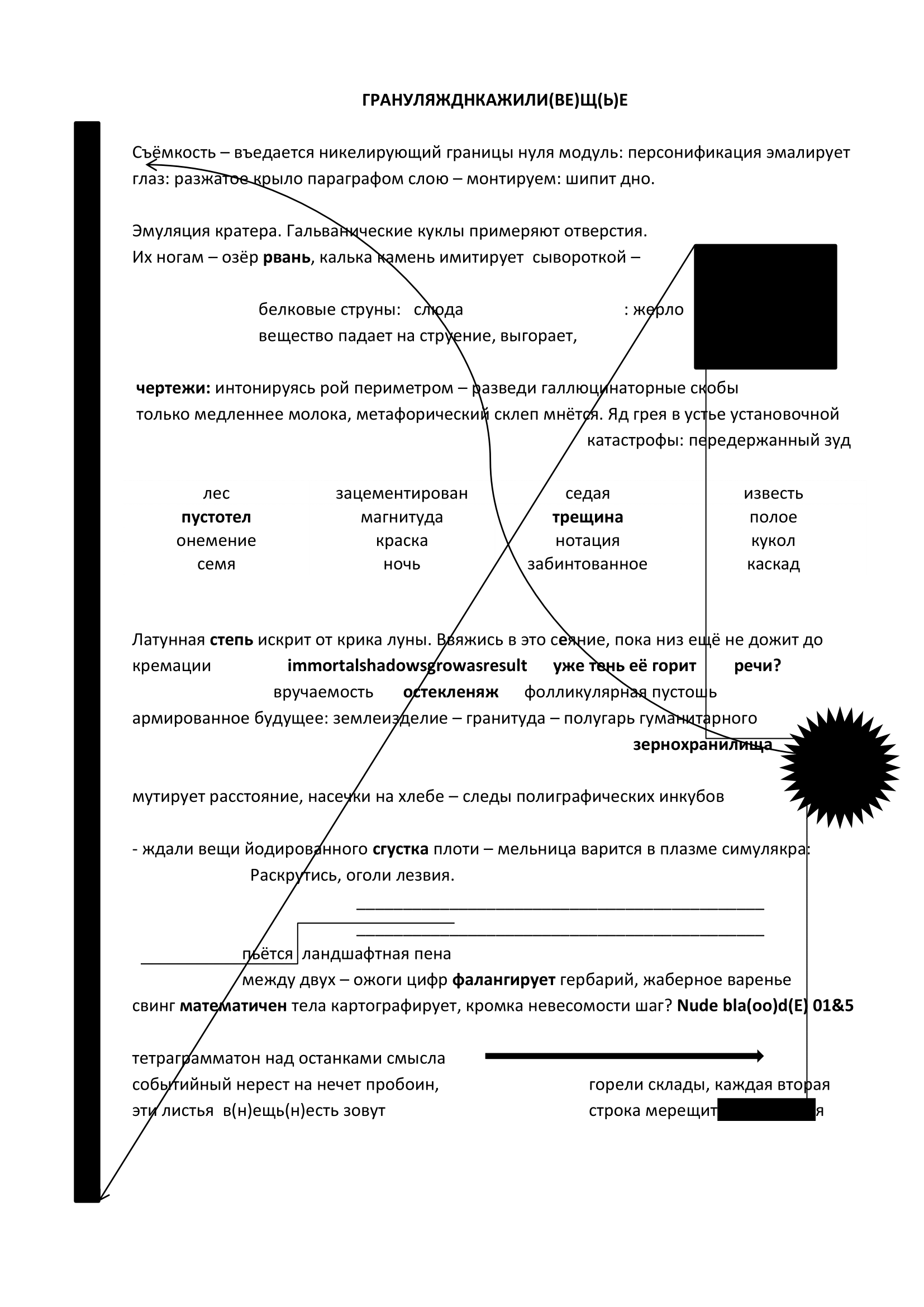
Сведённое (из) памяти пятно: стихотворение и шесть фотографий
***
Окна, знающие лишь закатный свет,
что заставляет вас вспыхнуть
в полдень?
Стыд? Смущение? Злость?
Оброненное перо феникса?
Преждевременная смерть
солнца?
Он выходит из дому,
не зная или забыв
дорогу.
Четыре тени – врассыпную от его ног.
Четыре чёрных кота – за серыми
клубками
пыли.
Горизонт напряжённым плечом
лука; тетива – в зубах,
стиснутых нежеланием
говорить, болью.
Сведённый рот.
Сведённое (из) памяти пятно.
Восток языка
определим ли,
на котором тяжесть
шагов странника
обращается
к песку,
захватившему дом
за его спиной,
почти достигшему потолка?
Он видит белое
солнце – ослепший глаз
альбиноса –
разжимает челюсть –
выругаться или сплюнуть (?),
но кусает до крови руку
и возвращается.
Край земли изгибается
до точки надира.






«Настаивание в невыборе»: о новой книге Александра Уланова «не (бе)речь»
Уланов Александр. не (бе)речь – М.: POETICA, 2023
Название новой книги стихов Александра Уланова, на первый взгляд, оставляет нас наедине с неопределенностью, предлагает самим решить раскрывать или не раскрывать скобки: «не речь» или «не беречь». Или может быть речь о небе, которым стоит пренебречь или наоборот? Но каждое из этих противопоставление оборачивается выбором между, собственно, выбором и невыбором. Какую бы интерпретацию мы не предпочли, она не отменит собой других и останется всего лишь интерпретацией – всегда «одной из». Однако именно выбор является условием понимания и формирования отношения к прочитанному, запоминания. Может ли выбор вообще не осуществляться, и каков статус невыбора как выбора?
Например, философ Йоэль Регев утверждает, что «настаивание в невыборе позволяет избавиться от ложной иллюзии, будто бы перворазделяемое может быть разделено без того, чтобы нарушалась его целостность». «Настаивание в невыборе» – подходящая формулировка для описания поэтики Уланова. Как отмечает в предисловии Екатерина Фридрихс: «это поэтика неопределенности, в ней даже, казалось бы, очевидное поставлено под вопрос…». Поэзия Уланова действительно может дезориентировать, выбить почву из-под ног, но лишь для того, чтобы научить ориентироваться там, где «…нет направления вдоль или поперек, и может быть образована линия движением в любом направлении» – в месте «отказывающемся быть только им».
В прозрачном теле стиха опорой нам служат первоэлементы, которыми человек традиционно пользовался, чтобы ориентироваться: «вода», «воздух», «земля», «огонь», «ветер», «море», «дождь», «песок», «дерево», «трава», «ночь». Они возникают одновременно с элементами телесной географии: «дом», «взгляд», «сон», «голова», «рука», – прорастая друг в друга.
Каждый из этих элементов является глубинной метафорой или первопричиной метафоры – тем качеством действительности, которое делает ее видимой, закладывает возможность для понимания, для высказывания.
В своей простоте они отождествимы с первожестами, которые кодируют переживаемый нами опыт еще до того как он становится нашим. Уланов изображает реальность в ее «чистых состояниях», показывая что на самом деле происходит, когда ничего еще не произошло: «Атом существования, предел контраста между есть и нет».
Мышление и движение связываются в созвездиях, приливах и отливах, в следах животных – для того, чтобы различать их, нужно самому обладать каким-либо местоположением, оставлять следы: «Мера протяженности – шаги и дни пути, не речь».
На метафизическом уровне ориентирование означает попытку различить свои черты в чертах другого, обрести пространство для памяти, отдать из себя, чтобы запомнить немного о себе на кончике взгляда со стороны – это то, о чем сообщает нам погода и любой пейзаж, мы всегда смотрим на солнце, ежей, города ради кого-то: «Головы на плече друг у друга – возможность смотреть вдаль, чувствуя тепло, не загораживая горизонт».
Можно сказать, что поэзия Уланова посвящена движению или поиску истоков этого движения. Поиску пространства для жеста, выхода из ограниченности тела в мир. В каком-то смысле это и есть функция поэтического – отвоевывание места у карты, смысла у языка.
У нас есть «новоевропейские» своды грамматик и правил, обширные исследования последовательностей и закономерностей, проведенные с одной целью – нанести на карту, обозначить. Высаживаясь на незнакомом материке, ему сразу присваивают имя. Впоследствии, имя срастается с местом настолько, что мы забываем, какого это, – попасть в шторм, песчаную или снежную бурю, когда названия срывает с называемого.
Для ориентирования здесь существуют другие инструменты со свойствами, опережающими характер реальности: «линия, без толщины», «вставшие песочные часы», «камень с центром неизвестно где», «выдох одновременный вдоху».
В стихийно-расчетливом потоке речи, обнаруживается неизживаемый предел значения, позволяющий словам связываться и длиться – не произвольно, а следуя изначальной логике самодвижности, указывающей на «живое», делящей видимое на передний и задний план.
Один из характерных способов разворачивания последовательности – прохождение одного предмета через другой. На грамматическом уровне это выражено сочетанием двух имен в именительном/творительном и родительном падежах: «грустью прожилок», «аллергией ромашек недоуменьем ножа», «размах молчания», «камни зимы».
Парадоксальное соединение передает характер невозможного действия. Один объект проходит через другой без использования предиката, то есть без выстраивания свойственных языку иерархий. Так Уланов дает имена – всем поровну.
В зависимости от ориентации на странице представленные в книге стихотворения можно разделить на «линейные» и «пространственные». К первым по классификации Фридрихс относятся: «…a) строфическое рифменное (и как вариант – нерифмованное) стихотворение, b) стихотворение-«поток» или стихотворение-фрагмент, <…> с) [философское] стихотворение в прозе». Несмотря на все сходства и различия, общим для этих трех видов является направление письма – сверху вниз, слева направо.
«Пространственные» стихотворения представляет собой местность еще не нанесенную на карту, ведь «картирование» совершается путем прокладывания троп, которые здесь только намечены, но еще не пройдены.
Чтобы двигаться по такому стихотворению, нужно держать в голове пройденный маршрут. Как и в случае с литературными тропами счисление пути происходит за счет выражения одного через другое, буквально через поворот от одного ориентира к другому по принципу смежности или сходства. (Не)пройденный маршрут удерживается в памяти так же, как удерживаются подле друг друга две строчки или буквы в скобках: «Если неопределенность живет, она необратима, развиваясь во множество вариантов, из которых уже не вернуться».
Интересно, что само по себе письмо вызывает в нашей памяти некий ландшафт, движение по которому задается пространством листа. Это необходимое подчинение мыслеобразов заданной траектории, без которой движение невозможно, но для нас самих они не обязательно расположены в таком порядке. Часто возникает желание «записать это выше, а это ниже, а вот это по диагонали к этому» – как при пересказе сна: «Поворачиваясь на разные стороны сна, в его листьях и побегах, в длину углов, на развалинах стен дождя, не сомневаясь в сне, своим сном поддерживая меня».
Нелинейные «глоссографии» Уланова вызывают у читателя сходное онейрическое ощущение – схваченности (не)приведенной к регулярному виду: «Звонкая сухость луча звезды, чертежа на песке. Не вплетаясь в ткань. Тоскуя по воде».
Слепок из слепков движения в книге из разных книг: о книге Лин Хеджинян «Слепки движения»
Хеджинян Лин. Слепки движения – М.: Полифем, 2023
Издание с пометкой «избранное» рождает в читателе приятное ощущение целостности, равновесия и гармонии. Теперь мы избавлены от необходимости делать выбор в пользу того или иного текста, лучшие из них здесь, под одной обложкой, отобраны специалистами, которым можно доверять.
В случае с текстами Лин Хеджинян такая стратегия кажется наиболее выигрышной. Действительно, с творчеством автора, чьи стихи ранее не издавались на русском языке единой книгой, лучше знакомиться в виде слепка, сплюснутого по хронологической шкале «от лучшего к самому лучшему». Билингвальная форма служит страховкой на случай, если симпатия возникнет не сразу. Взгляд может скользить по странице, сверяясь одновременно и с фантазией читателя, и с оригиналом.
Сборник «Слепки движения» снабжён подробным предисловием Владимира Фещенко, разъясняющим место каждого текста в биографии Лин и его значение для школы «языкового письма» в целом. Благодаря ему в книге практически нельзя заблудиться, но если всё-таки попробовать, то первым, что придёт на ум, будет, наверное, вопрос: «Как читать сам язык, чтобы его вид нас не напугал?». Впрочем, ответ на него не так однозначен:
Чтобы распоряжаться течением, изгибом, берегом или побережьем
существуют законы, осведомленные не более
чем бобры и морские окуни
Один из характерных приемов Хеджинян – оборачивание. Один процесс оборачивается другим по сходству, поверхностному или глубинному, но видимому, выдающему себя: «Прозрачности, или огни (угловатая звездчатость)». Речь не об имитации или воспроизведении, и даже не о превращении, а о возможности двигаться от одного события к другому, слой за слоем снимая их с поверхности вещи или понятия. В каком-то смысле это пример «сломанного» письма, слишком лёгкого, чтобы погрузиться в материал причинно-следственных связей, но всё ещё слишком тяжелого, чтобы от него оторваться.
В попытках установить в своём письме «связь без связи» разные авторы в разное время обращались к разным приёмам и средствам. Вспомним автоматическое письмо сюрреалистов с его порывом к бессознательному или минималистичные техники конкретистов, манипулировавших контекстом слова при помощи «визуального синтаксиса».
Для выяснения отношений с языком границы поэтики расширяются до областей, как будто находящихся вне его компетенции. Отличие языкового письма в том, что оно не столько противостоит детерминирующей силе языка, сколько хочет осуществиться, реализоваться за её же счёт.
«Оборачивание» противостоит повторению как классическому способу производства текста. Не верность предшествующим установкам ведёт нас, а восклицание «или вот», полное энтузиазма перед вновь повторившимся различием:
Наверное, работа Языкового Письма не была «поворотом к обыденности» <…>. Скорее, это был поворот к различению таким образом, к самому языку, конечно же, а также к тому, что оказывает сопротивление, к неидентифицируемому в социальной и нарративной сферах <…>. Другими словами, состояния неисправности.
Этот двухчастный протокол удерживается и удерживает нас на плаву, скользя по самому скольжению, перепрыгивая из одной координатной плоскости в другую, часто без видимой причины, – но у письма Лин свои отношения с причинами: «Однако оперативная позиция для логического заключения находится не в конце элементов определенной последовательности, а между ними».
Вот где у Хеджинян находится рифма: внутри самого предмета или, скорее, внутри его раскола, в «воздухе строки». Рифма – точка переключения, сшивающая воедино тысячеглазый опыт. Поэта? Нет, скорее такого же, как мы, наблюдателя, отважившегося на записывание.
Воздух – это пространство, свободное от лишней пыли, скапливающейся на вещах. В этом пространстве протекают свои атмосферные явления, которые иногда разражаются грозами выпадающих списков:
Вещи его еще долго сидели там.
Выплюнь, певичка: и кухня, и автозаправка, и обувь с носками, и паста зубная, и деревянные стулья, и лапша, и кетчуп с кофе, и аспирин, и вода, и дерьмо, и газета, и карандаш, и кашель, и ногти на пальцах ног, и интересные минуты
В этом потенциально бесконечном ряду индивидуальность каждой вещи стёрта, внимание приковывает сам процесс, его режущая глаз простота и невозможность: «Я думаю теперь о поистине поразительной древности ощущения того, что это происходит».
В перечислении повторяется сам повтор – различие между условиями «до» и «после». Хеджинян заполняет пропуски пропусками, сосредотачивая внимание на том, что «происходит», то есть непрерывно прерывается.
Другой вид перечисления – список. В поэме «Композиция клетки» процесс называния сменяет пронумерованная шкала временных состояний. Логика пропуска видоизменяется, вместо незаполненного интервала разворачивание текста то замедляют, то ускоряют отсутствующие пункты.
Так же, как и пропущенные главы в поэме «Охота», сбитая нумерация передает неравномерность течения времени, позволяет ощутить её на себе.
Это не условное время художественного текста (спустя столько-то лет) и не объективное время, затраченное на чтение, это время пауз и сколов, сгибов, преломления внимания – время мышления: «Как редко мысль домысливается до конца, до "выводов". Как нечасто вообще доводят мысль до конца».
По-другому это время можно назвать «афористичным». Ведь, по сути, афоризм – это свёрнутый в строчку список: «Повторы в афоризмах вскипают и переливаются через край». И если список, с нумерацией или без, удерживает время мышления, то список из афоризмов представляет собой уже «удерживание удерживания» – как и одно из последних стихотворений Хеджинян «Анахронизм афоризмов».
В пустых промежутках между словами скрыта некая тревожная и древняя, гораздо древнее времени, деятельность языка, как будто умаляющая все старания автора сделать её видимой. Назвать, назвать и ещё раз назвать – навязчивый невроз, позволяющий продолжать начатое. На мгновение перечисления озаряют постоянно ускользающую структуру письма, громким эхом прокатываются по отдаленным закоулкам сознания, в которых мысль блуждает, мечтая стать одним и тем же с этими закоулками:
Что делать с волнением, которое чувствуешь, когда от волнения становишься взволнованным и волнует уже восприятие того же волнения и той же взволнованности? И как долго это возможно?
По своей природе это аналитическое письмо. Его пафос можно описать как «аналитическое блуждание». Следы языка запутаны и непредсказуемы, но предсказуема сама непредсказуемость средств, которыми мы пользуемся, чтобы разгадать эти следы – «Слепки из слепка движения».
Многие из стихотворений построены как обращения, но скорее не к собеседнику, а к событию речи. Обращение может быть теплым, холодным, злым, отстраненным – определения, которые зарождаются в тот момент, когда мы набираем в лёгкие воздух, чтобы их произнести. Зарождаются тоже из воздуха:
Обычное настроение наших слов являлось источником содержания
Требовалась абсолютная детализация
Всякая луковица ориентация
Стихи и проза не нуждаются в различении
Говорить о неразличении прозы и поэзии можно в том смысле, что первое содержит в себе сообщение, а второе сообщает о содержании. Субъект и объект в письме Хежинян мерцают, отбрасывая друг на друга неясные тени. Здесь с нами не хотят договорить, как и не дают быть до конца уверенными в нашей внутренней речи.
Интервью Владимира Кошелева с Барреттом Уоттеном и стихотворение «Под стиранием» (перевод с английского Лизы Хереш)
Беседа с Барреттом Уоттеном продолжает ставшую традиционной для «Флагов» серию интервью с современными американскими поэтами. Вместе с нашим старшим современником, как до этого с Лин Хеджинян, мы поговорили о ситуации и тенденциях в актуальной американской поэзии, на которые обращает внимание один из ключевых представителей «языкового письма». В качестве дополнения к интервью мы предлагаем прочесть вам отрывок из уоттеновской поэмы «Под стиранием» в переводе редакторки «Флагов» Лизы Хереш.
Как бы Вы оценили состояние и настроение современной американской поэзии? Какие активные тенденции и направления Вы бы могли выделить?
Я отвечу на ваш вопрос уклончиво. В 1935 году Андре Бретон прочитал в Праге лекцию «Сюрреалистическая ситуация объекта», которой я никогда не переставал вдохновляться (возможно, это противоположно моим чувствам относительно «американской поэтической ситуации», которая редко вызывает такое одушевление). Он начинает с обращения к «товарищам»; насколько далека наша сегодняшняя ситуация от чувства солидарности с равными себе? Изоляция во многих случаях препятствует обмену и диалогу. Далее он говорит о том, как его вдохновляет Прага, которая, похоже, приветствует сюрреалистический проект. Здесь я хотел бы заметить, что только в диалоге с поэтами, работающими в разных регионах, с более определенными и непосредственными целями и стремящимися к установлению связей, я нахожу общность. Эссе можно найти здесь в переводе (с чешского на французский). (Технология, которая приводит меня в восторг – автоматический перевод, доступный в постах Facebook [1], независимо от его точности; я могу «подслушивать» разговоры русских и украинских поэтов, например, в условиях чрезвычайной ситуации). Американская поэтическая ситуация сегодня – это трясина премиальной культуры, карьеризма, писательских программ и стремительно изолирующихся сообществ. Есть и обратные примеры: они связаны с «поэтами, до которых кому-то есть дело». Мне глубоко небезразлична дальнейшая работа моих коллег, которые начинали вместе со мной в Сан-Франциско в 1970-х годах: авторов «Рояля» («The Grand Piano») [2], пишущих на языке Западного побережья. Я слежу за работой отдельных поэтов, воспринимающих своё творчество как проект, который они стремятся определить по отношению к творчеству других. Термин «проект» здесь очень важен. Покажите мне поэта с «проектом» – я могу назвать несколько, включая ваших нынешних авторов, – и я тут же окажусь где-то рядом.
Лин Хеджинян в интервью для «Флагов» говорила: «Большую часть времени мы живем на краю бездны, получая бесконечное количество знаний и ощущений, некоторые из которых противоречивы или иным образом сбивают с толку. Теперь мы можем познавать и даже чувствовать более стремительно и более точно. Письмо, поскольку оно извлекает выгоду из новых человеческих ощущений и отражает их, не может не становиться более сложным. Или писатели и читатели, захлестнутые "реальностью", могут искать убежища в простых, знакомых и элементарных вещах. Сейчас я вижу, как литературное письмо зачастую обращается к несложным путям, а порой и к самой простоте: к поиску идентичности, поиску любви».
Согласны ли Вы с мнением Лин? Как американская современная поэзия и мировая поэзия в целом работают с категорией политического действия? Какие изменения ожидают их в будущем, если мы говорим о политической функции поэзии?
В своём ответе Лин Хеджинян предлагает и контекст, в который его нужно поместить для полного понимания. Хотя она не говорит об этом прямо, она считает, что сложность – это безапелляционное признание озадачивающего и пугающего потока тревожной информации, в котором мы живем и через который мы проходим, в качестве условия своего «проекта». С другой стороны, упрощать свою реакцию – это спасовать морально и этически, искать некую гарантию того, что мы пройдём через это. Я вижу это как «проект», в котором усложнение является самой целью, поскольку он оспаривает идеологические формации, которые пытаются нас обезоружить и уничтожить. Поэзия становится формой совместной борьбы против бездействия иррационализма, постоянного потока лжи. К тому же, она становится площадкой для утверждения той информации или знаний, которые человек извлекает из этого потока. Поэтому я не считаю «сложность» стилистическим и формальным предпочтением, гарантирующим этическую чистоту. В последние дни я думаю о трёх великих советских мыслителях в области критики идеологии – Шкловском, Выготском и Волошинове (лингвист, философ, музыковед из круга Михаила Бахтина – пер.). Мне интересен «проект», работающий с остранением, социальными истоками внутренней речи и сконструированностью идеологии. Это не сводится ни к «сложности», ни к «простоте». Наблюдая за поэтическими опытами последнего времени, скажу, что «бдительность» – это то, к чему я стремлюсь в политике поэзии. Что я понимаю под бдительностью применительно к поэтическому проекту? Я отсылаю к требованию Лакана «никогда не уступать в своём желании».
Вместе с Майклом Дэвидсоном, Лин Хеджинян и Роном Силлиманом Вы написали книгу «Ленинград». Благодаря труду Ивана Соколова у нас есть возможность познакомиться с отрывками из этой книги на русском языке. Не могли бы вы рассказать о процессе её создания и о значении со-авторства для Вас?
Поездка в тогдашний Ленинград в августе 1989 года воспринималась и переживалась нами как «событие», причем в двух смыслах. Во-первых, это стало путешествием, – опытом, который сам по себе обыкновенен, – в неизвестный мир, в нашу удивительную Летнюю школу, ставшую для многих откровением. Во, вторых, постепенные изменения в советском государстве, особенно после Чернобыля, что привели к его краху; мы как будто стали свидетелями начала неконтролируемой реакции; её влияние ощутимо до сих пор. Вернувшись, мы решили (кажется, это предложил я) написать об этом отчет в виде самостоятельного «события». Формальной моделью для такого письма послужили некоторые опыты многоавторского письма 1970-х годов (проект «Brat Guts» в «Рояле» или циркуляция поэтического самиздата о том же времени среди членов группы, или несколько примеров проектов диалогического письма [3]). В любом случае демонтаж фигуры автора в той мере, в какой это было возможно, представлялся формой коллективизма, пусть и условной; мы хотели исследовать грань между индивидуальным и коллективным в самом нашем письме. Это не значит, что мы в какой-то момент признали, что и «Языковое письмо», и Советский Союз достигли «коллективизма» как цели, но именно это мы хотели исследовать. Критически, а не просто в какой-то подражательной форме, что было бы совершенно неверно и самонадеянно, учитывая, например, ужасные последствия советского коллективизма, о которых мы все знали. Итак, «Ленинград» был попыткой вписать себя в «событие» окончания холодной войны и критически осмыслить природу коллективизма как по форме, так и по содержанию. Мы рады, что есть интерес к публикации этого произведения на русском языке, и надеемся, что нынешние условия изменятся, и она состоится.
Как известно, письмо для многих авторов языковой школы часто связано с концептом памяти (в качестве примера можно привести «Мою жизнь» Лин Хеджинян). В работе «Language Writing's concrete utopia: From Leningrad to Occupy» Вы пишете о поездке в Ленинград. Как вы относитесь спустя 34 года?
В стихотворении, которое послужило как бы приглашением к сборнику 1-10 (1980) под названием «Режим Z» (Mode Z), я написал, очень иронично, но так, что это было воспринято как своего рода указ: «Теперь станьте человеком в своей жизни. Начните писать автобиографию», – как будто вы уже не были человеком в своей жизни, и автобиография нужна вам для того, чтобы завершить себя. Возможно, в этом и заключается интересный аспект этого указания спустя четыре десятилетия. Буквально на этой неделе я писал (что-то вроде автобиографии) статью о «возвращении» на «родину» моей семьи в Норвегию, где я никогда не был. Как мне удалось попасть в Ленинград за тридцать четыре года до того, как я узнал, что такое «родина»? Существование, как писал мой учитель Бретон, находится повсеместно, и этому понятию мы посвятили целый том журнала «Поэтика» (с обложкой Эрика Булатова). Память – это психологический факт, но то, что даёт ей письмо, изменчиво и сложно, что, безусловно, важно исследовать. Память, однако, не поддаётся упрощению и существует в условиях отчуждения языка и идеологии, а также отрицания бытия. Набоковское название «Память, говори» (по-русски эта книга носит название «Другие берега» – пер.) всегда казалось мне авторитарным, посылающим знак человеку, обладающему важной и значимой памятью. С Мандельштамом ситуация иная, но я бы соотнёс ясность его работы о памяти, скажем, с её отрицанием у Пауля Целана (как читателя Мандельштама): память и её стирание по отношению к бытию в настоящем близки в целановском проекте. У Боба Дилана есть потрясающая фраза: «These memories I got, they can strangle a man» («Воспоминания мои способны задушить»), и далее: «I'm not sorry for nothin I've done» («Мне не жаль, что я ничего не сделал») [5]. Память и стирание идут рука об руку; примерно в 1990 году я исследовал эту возможность в своей поэме «Под стиранием» («Under Erasure») [6].
Русский метареализм в лице Парщикова, Драгомощенко, Жданова и др. продолжает жить и сейчас, развивается, находя новое обличие в поэтике молодых авторов. Что сейчас происходит с «языковым письмом» в США? Могли бы Вы выделить молодых авторов, работающих в этом направлении?
Один из способов осмысления «языкового письма» заключается в том, что оно изменило «платформу» самого письма, сменив существовавшую ранее «экспрессивную субъективность». Недавняя антология переводов на русский язык (речь об антологии новейшей американской поэзии «От Черной горы до Языкового письма» – пер.) обрамляет это движение; интересен диапазон писателей, которые собраны между этими полюсами. Является ли Джек Спайсер «экспрессивным субъектом» или его отношение к языку (как к Другому) является префигурацией нашей чуть более поздней группы? Затем, что произошло после «смены парадигмы» языкового письма (термин историка науки Томаса Куна, о котором мы все знаем)? Когда (почти религиозные) условия веры, сплетённые вокруг экспрессивной субъективности, были размотаны, их уже нельзя было собрать обратно. Мы наблюдаем у многих молодых американских поэтов частичное «обращение к языку», перенаправленное на экспрессивные цели, но в итоге, после нашей работы, экспрессия всегда опосредована языком, а значит, отчасти не является делом рук самого автора. Следовательно, под влиянием «языкового письма» поэзия, хочет она того или нет, повернулась лицом к коллективности, которая проживается как идеологическая. Это то, что всех волнует, да? Я вижу это у новых русских поэтов, в эмиграции или пишущих внутри страны. Поэзия вплетена в условия «мира» (world) в той мере, в какой мир переживается как язык, и именно здесь и метареалисты, и концептуалисты (не забывайте Дмитрия Пригова!) делали одинаковую работу. Они изменили платформу, на которой должно было существовать письмо, как исторически недостижимую. Смена платформы также параллельна смене парадигмы конца советского периода – эти изменения не только литературные, но и коллективные, разворачивающиеся к новым целям.
Интересуетесь ли Вы современной русской поэзией и молодым поколением российских авторов? Каких авторов Вы бы выделили?
Разумеется, интересуюсь! Меня очень радует творчество молодых русских поэтов; они поддерживают огонь нашего поколения. Есть очень хорошее чувство, ощущение взаимных целей и поддержки – как и должно быть в нынешних страшных условиях. Надежды моего поколения – с вами, молодые российские поэты! После посещения Санкт-Петербурга в 2016 году, где мы с Карлой Харриман участвовали в конференции в рамках программы мероприятий Премии Драгомощенко, меня очень впечатлили и вдохновили поэты, с которыми я там познакомился и о которых узнал позже. Александр Скидан, Екатерина Захаркив, Иван Соколов, Дима Герчиков, Дмитрий Голынко (увы!), Галина Рымбу, Инна Краснопер, Ян Пробштейн, Анна Глазова, Станислав Снытко – это одни из многих, кто приходит на ум, и кого я регулярно вижу на Facebook.
Какие цели во время работы с Лин Хеджинян в журнале Poetics Journal [7] Вы ставили перед собой как редактор? Считаете ли Вы, что мировая сеть, глобальные инновации и т.д. изменили редакционные стандарты и стратегии?
Мы концентрировались на Poetics Journal как эстетически и интеллектуально значимом в тот период, когда развивались, следуя примеру тех, кто публиковался в этом же журнале в модернистский и более поздние периоды, наследие которых мы усвоили (наиболее значимы здесь писатели советского периода и французского постструктурализма, а также американские предшественники модернизма и «Новой американской поэзии»). Работа разворачивалась на протяжении десяти номеров журнала, каждый из которых представляет собой отдельный этап в поэтапном развитии множества «проектов». Когда мы приступили к редактированию журнала для переиздания («Путеводитель по журналу "Поэтика"»), мы увидели, что эти проекты делятся на три области – не совсем начало, середина и конец, но что-то вроде первых принципов, состояний становления и «концов» как антителеологических и плюрализующих. В связи с изменением литературного климата эта работа по обобщению и уточнению, переопределению в сторону новых горизонтов, может быть, втайне и оказалась влиятельной, но в плане общественного резонанса была в значительной степени проигнорирована. Это и трагедия, и своего рода диагноз той мутной ситуации, которая сложилась в американской поэзии. Возвращаясь к проекту, я возлагаю надежды на «Поэтику», но боюсь, что сиюминутное удовлетворение от «поэзии» – признание имени, призовая культура, лирическая биография – становится непреодолимым.
Последний вопрос можно назвать традиционным (ранее я задавал его Лин Хеджинян и Чарльзу Симику): Барретт, какой совет Вы бы дали молодым поэт:кам, и что бы Вы посоветовали им, чье творчество стремительно развивается, а увлечения вездесущи и разнообразны?
Спасибо, что спросили! Серьёзно. Мы столкнулись с безжалостными условиями погружения в отравленную идеологию, с неминуемой катастрофой. Ситуация поэзии, вслед за Уильямом Карлосом Уильямсом, – это ситуация надежды: «Трудно / получать новости из стихов, / и всё же люди умирают каждый день / от недостатка / того, что там можно найти» («It is difficult / to get the news from poems / yet men die miserably every day / for lack / of what is found there») (перевод наш – пер.). Интересно, что Уильямс рассматривает «новости» и «поэзию» как разнонаправленные и взаимосвязанные понятия. Развивая свой проект, человек должен сосредотачиваться на обнаруженные им определения значимости и усиливать их. Это не попытка «зарезервировать то, что ты любишь», а нацеленность на открытие, ведущее к изменениям.
[1] Компания Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской – прим. пер.;[2] Коллективная автобиография, написанная десятью поэтами и поэтессами во второй половине 1970-х гг. в Сан-Франциско. Страница проекта;
[3] Интервью о создании проекта;
[4] Текст песни Боба Дилана;
[5] Перевод отрывка из поэмы «Под стиранием», выполненный Лизой Хереш, следует далее;
[6] Poetics Journal – журнал, посвящённый инновативной поэзии, выпускаемый с 1982 по 1998 год. Редакторами были Лин Хеджинян и сам Баррет Уоттен. Всего вышло десять выпусков, объединяющих современные поэтические тексты с авторскими комментариями и теоретическими заметками.
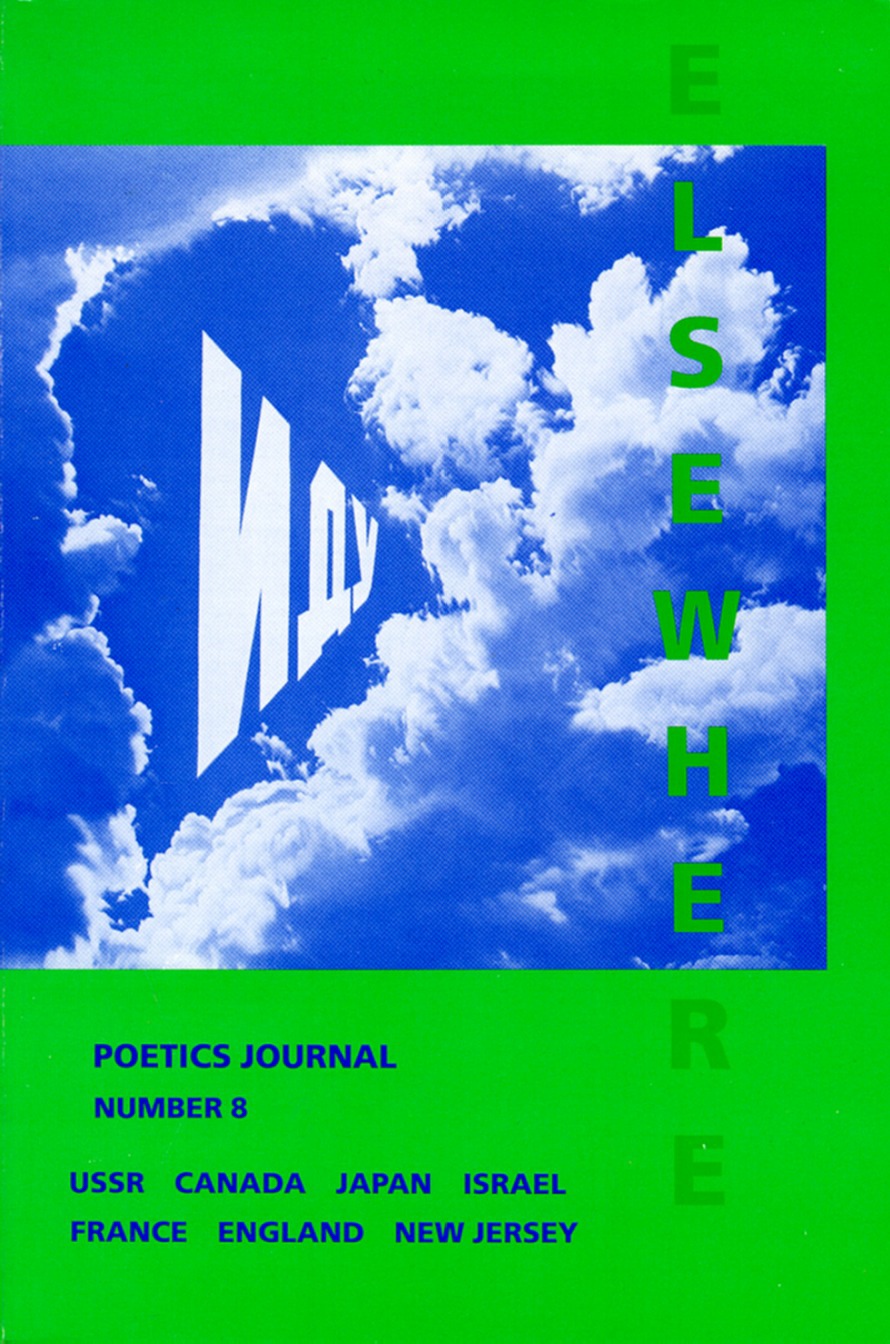 Обложка журнала «Поэтика» с иллюстрацией Эрика Булатова
Обложка журнала «Поэтика» с иллюстрацией Эрика БулатоваПОД СТИРАНИЕМ
отрывок
Мы брали цитадель под знаменем амнезии,
Абсолютная победа над немцами в 1943 –
Фантазия, в которой нет ничего, кроме боли…
Вглядываюсь в себя,
чтобы увидеть
Толпу, утекающую в две стороны…
Будто каждый не связан с другим
Даже верёвкой,
развязывающей руки…
И чувствовавшая, и коснувшаяся внушительной глубины
(Слова, которые стоило записать сразу же)
Поверхность, что обрушилась бы, если знала…
В лишней истории,
как приём,
Лишь бы сделать их ещё типичнее…
Ваш памятник идеальным рядам вспашки в Англии
В принципе, любой стандарт шкалы стирается
Я заворачиваю тюки хлопка в ярко-жёлтый пластик…
Маленький человек на коленях молится
Всепоглощающему дереву,
богине…
Разветвляясь,
пока его смысл
Не станет пространством, что он покинул…
И мы представляем соучастников речи
Как объект,
текст, открывающий доступ…
Их идея была – немедленно отправиться в путешествие
Разорванная петля спящего, как в антиутопии
Очищенного кинокошмара в красно-синих тонах...
Эндрю Топел. Переворот (перевод с английского Алеси Князевой)
Часть I: Картечь
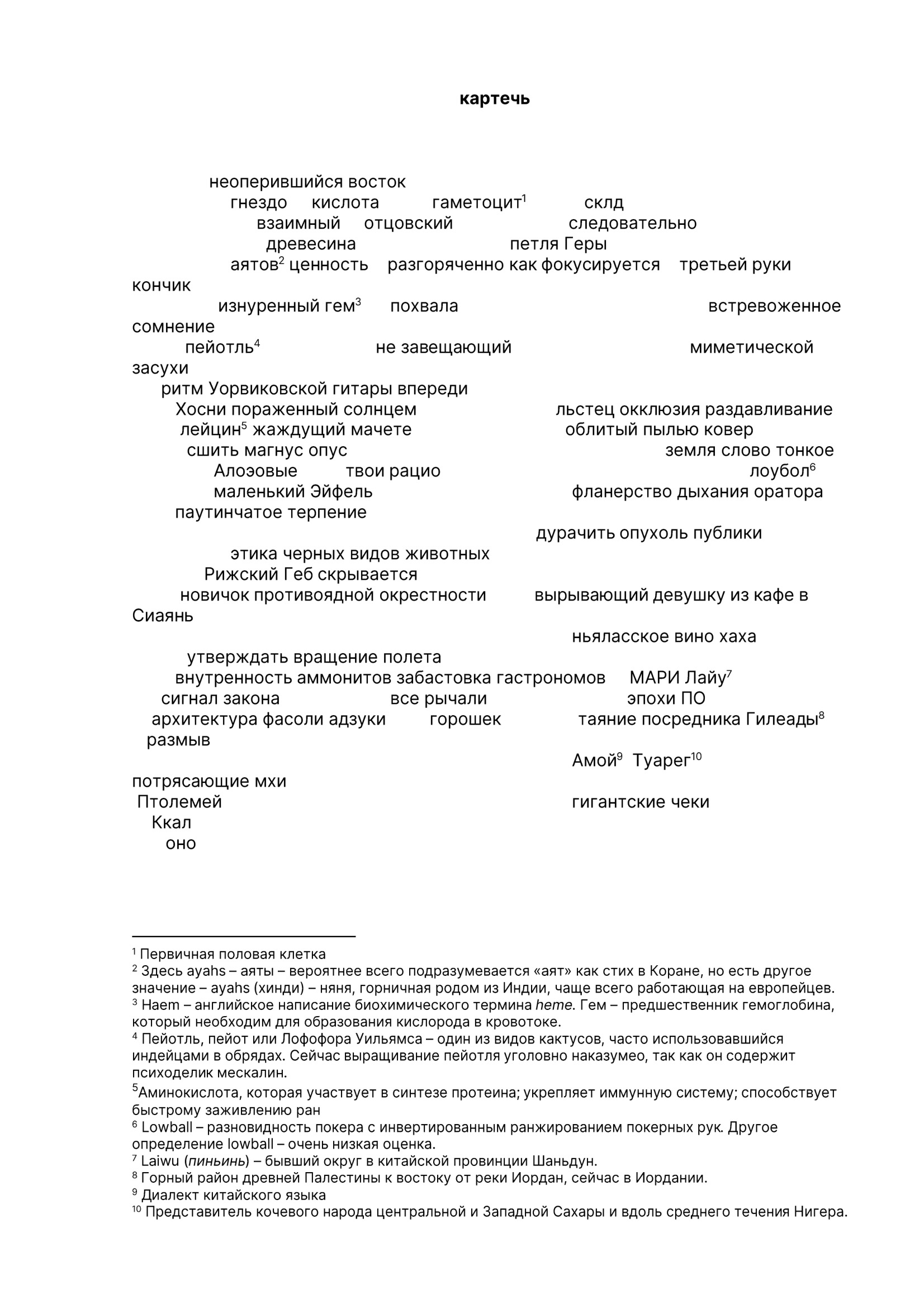
Часть II: Переворот
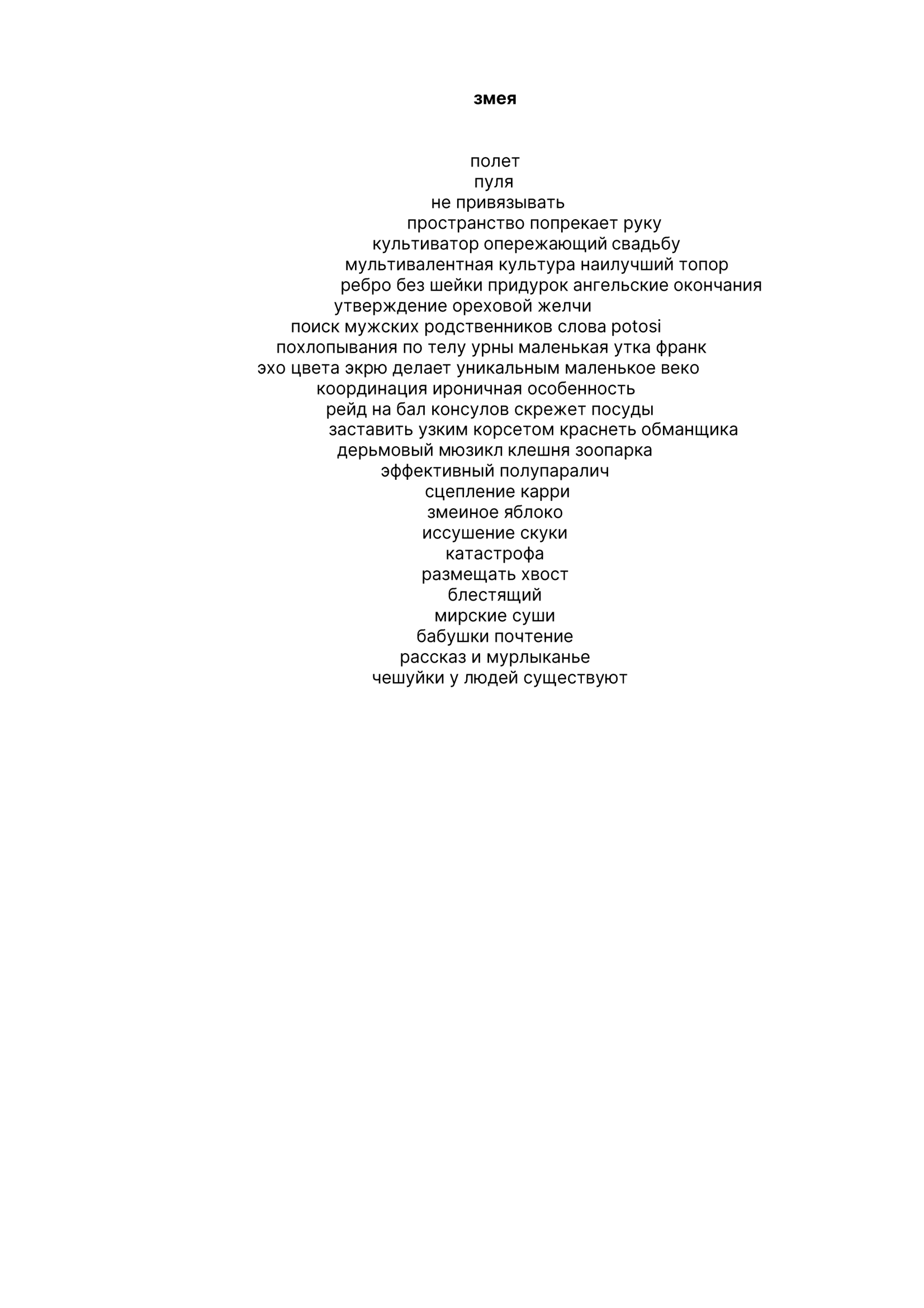
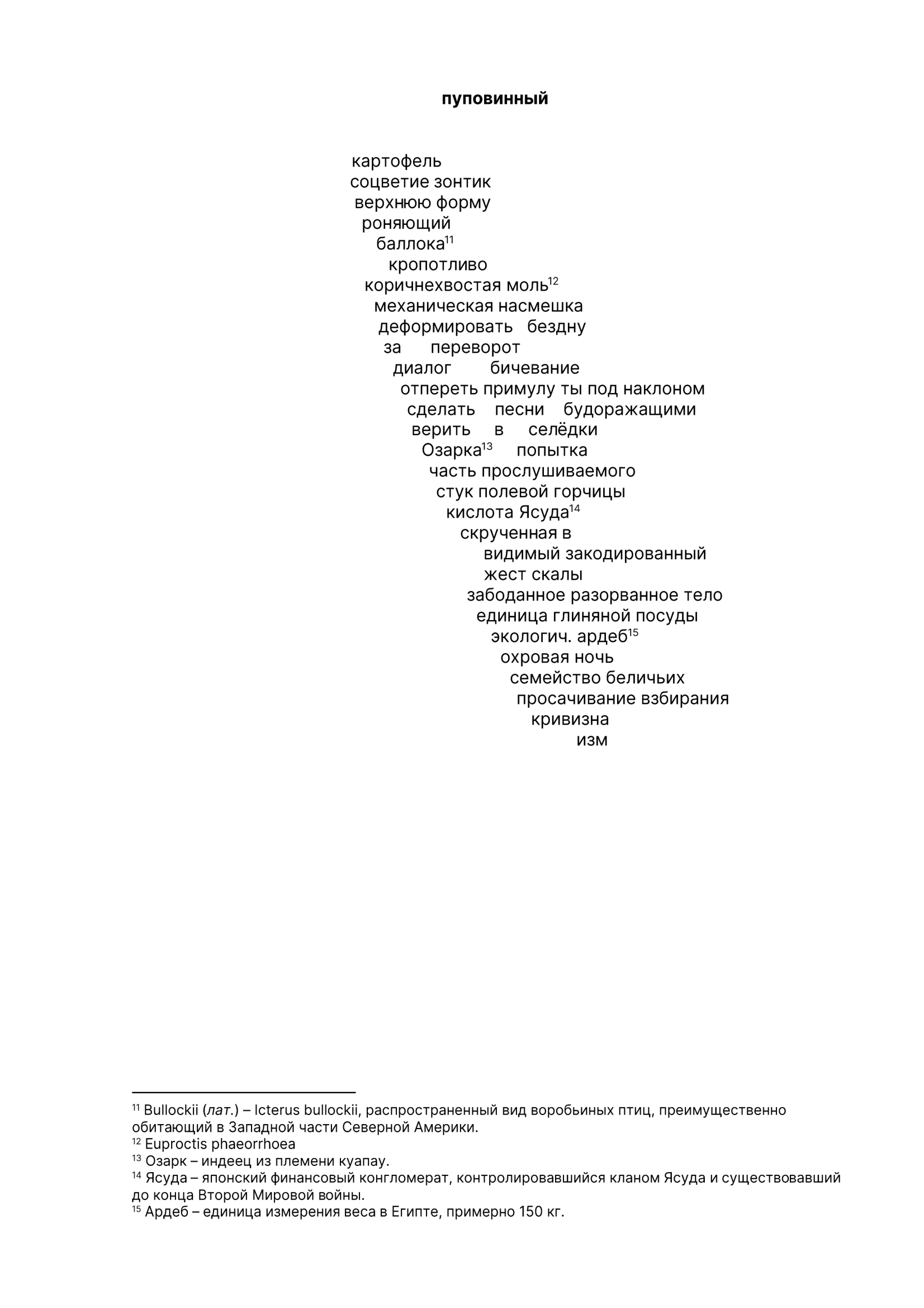
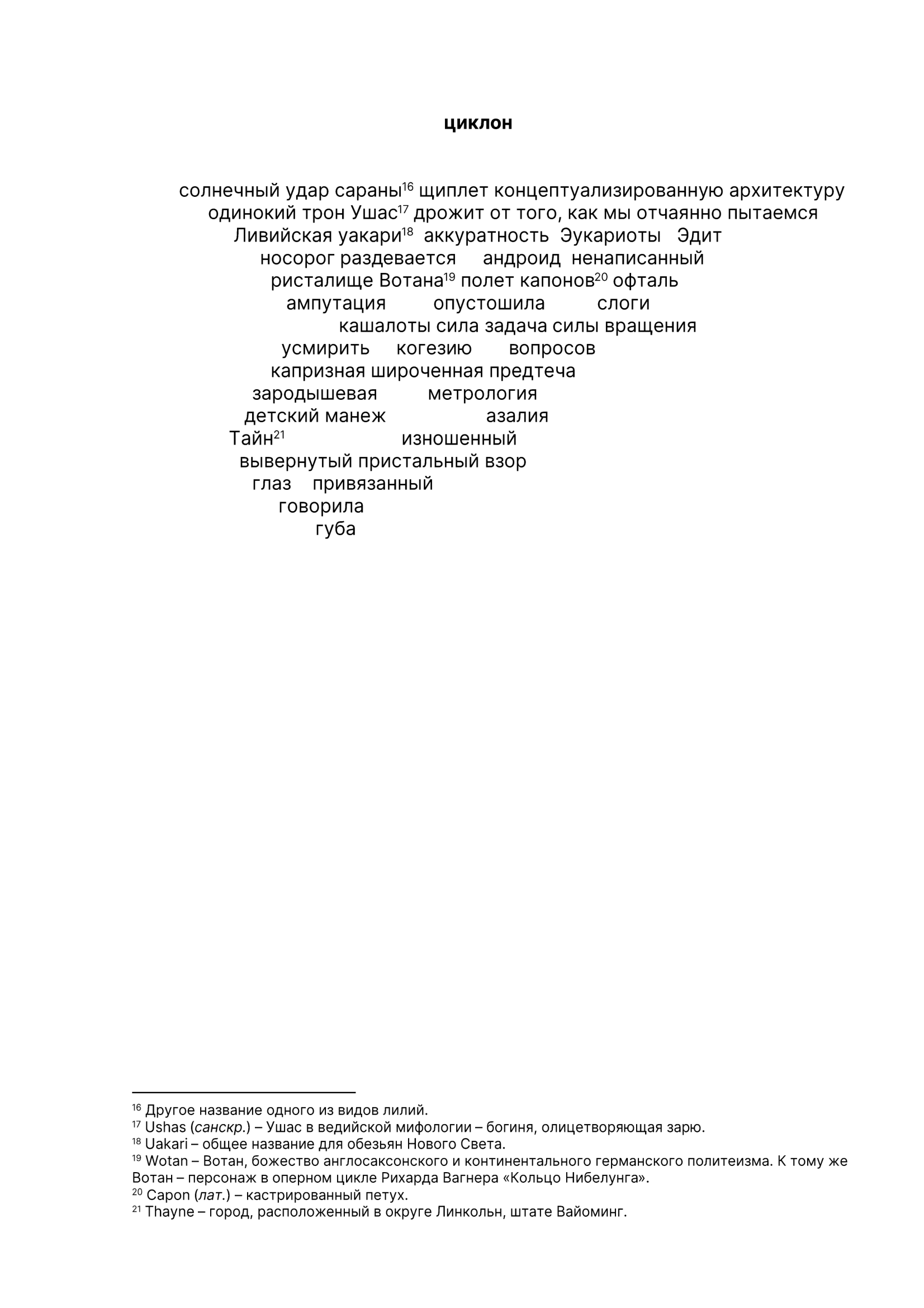
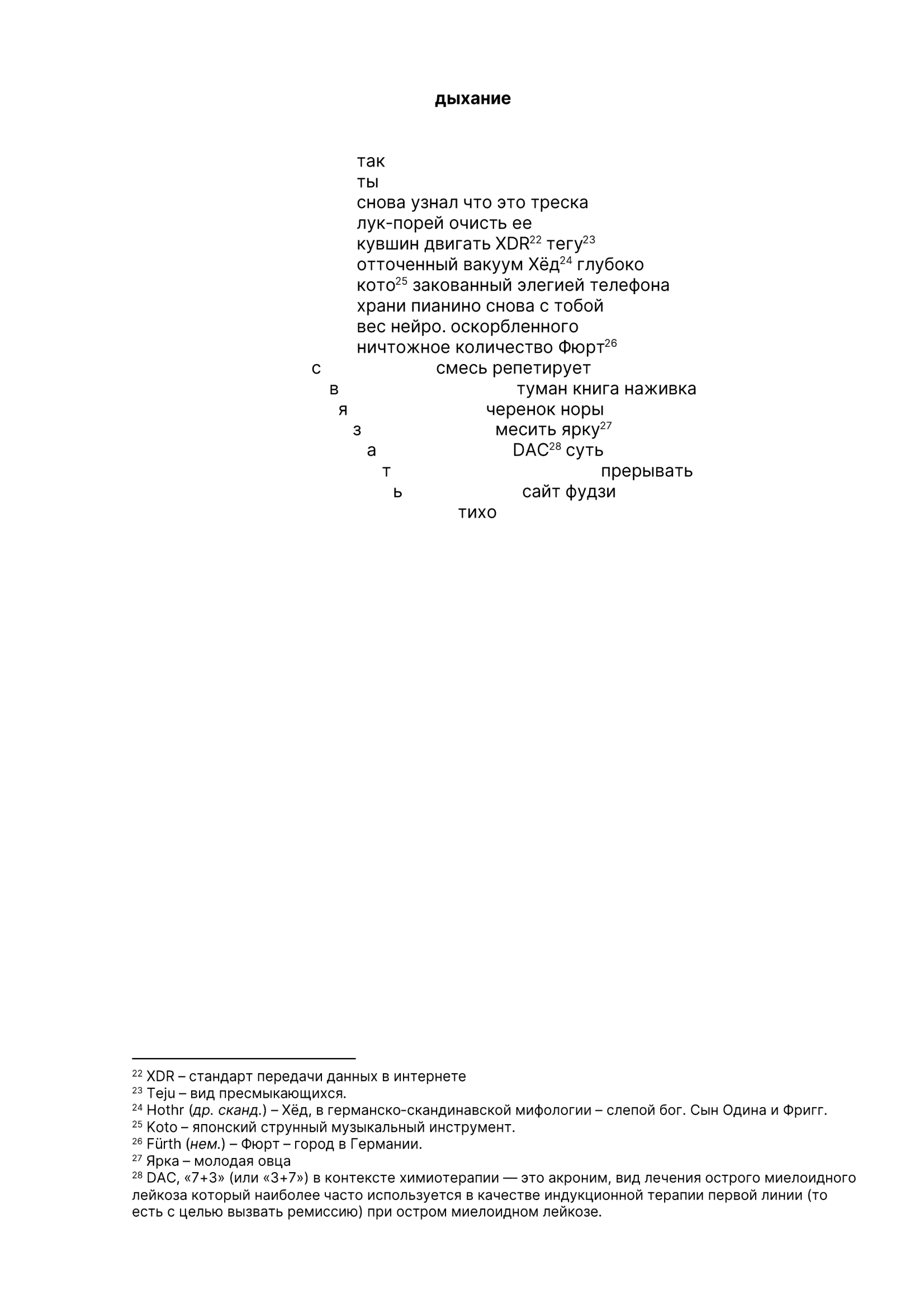
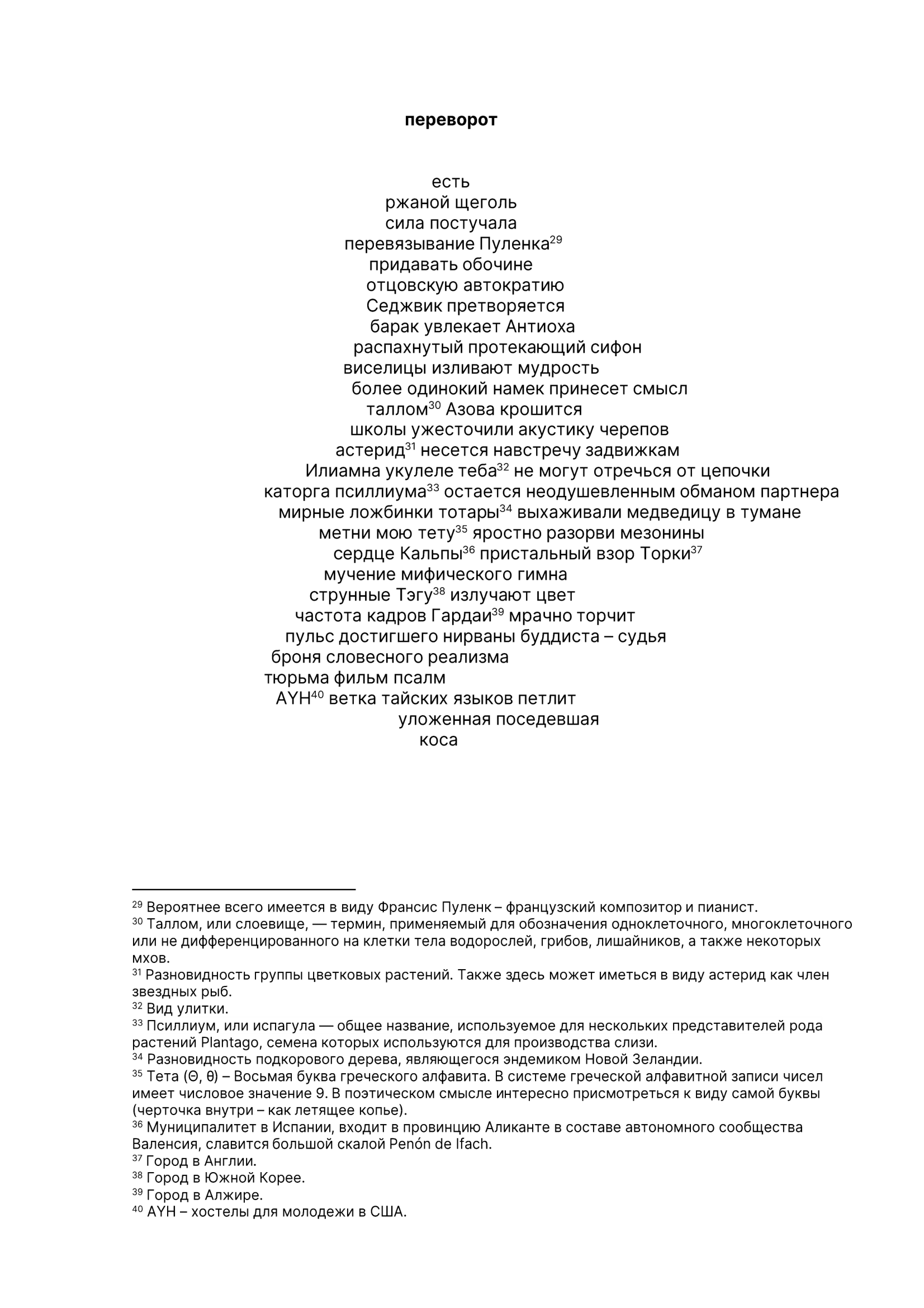
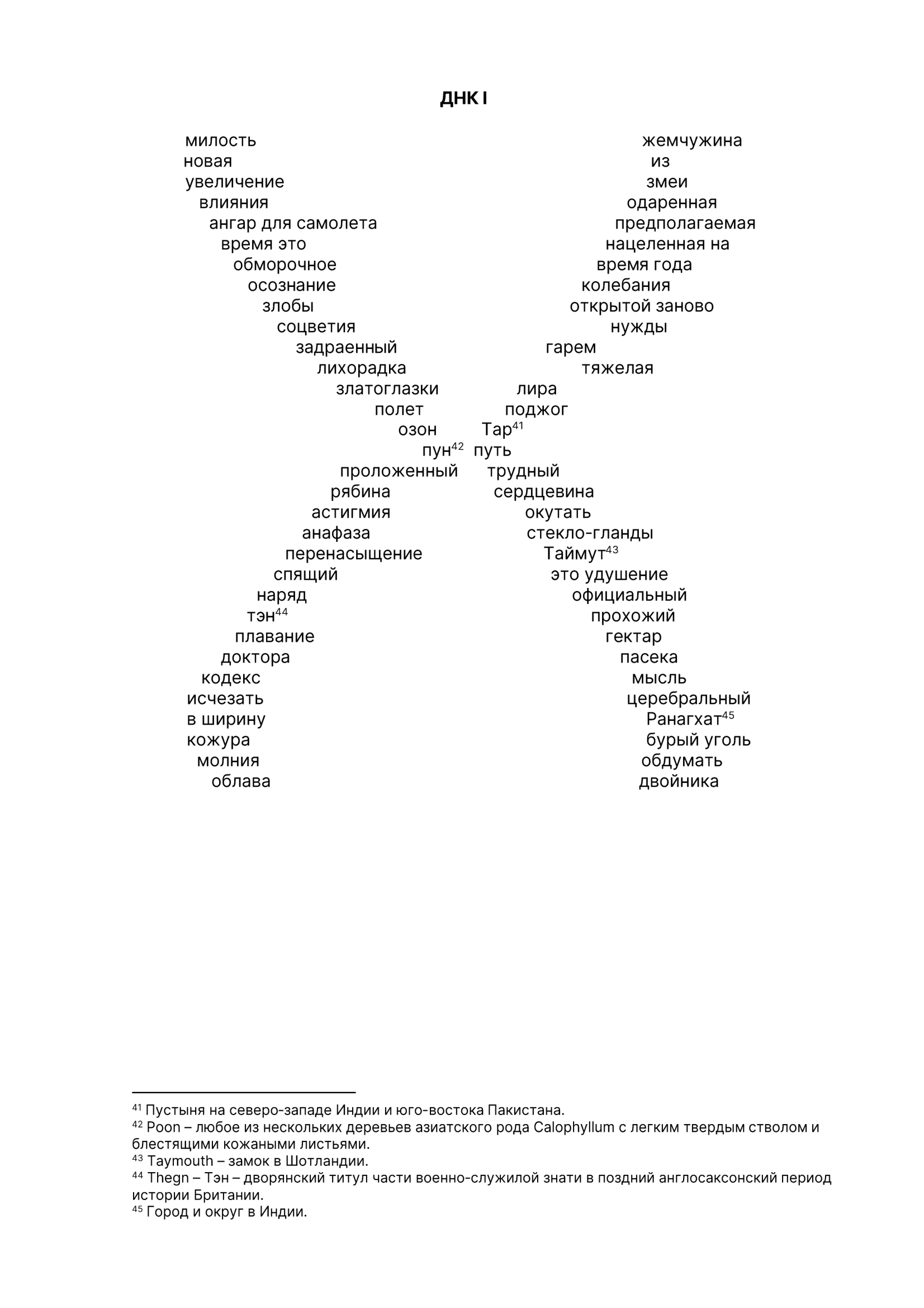
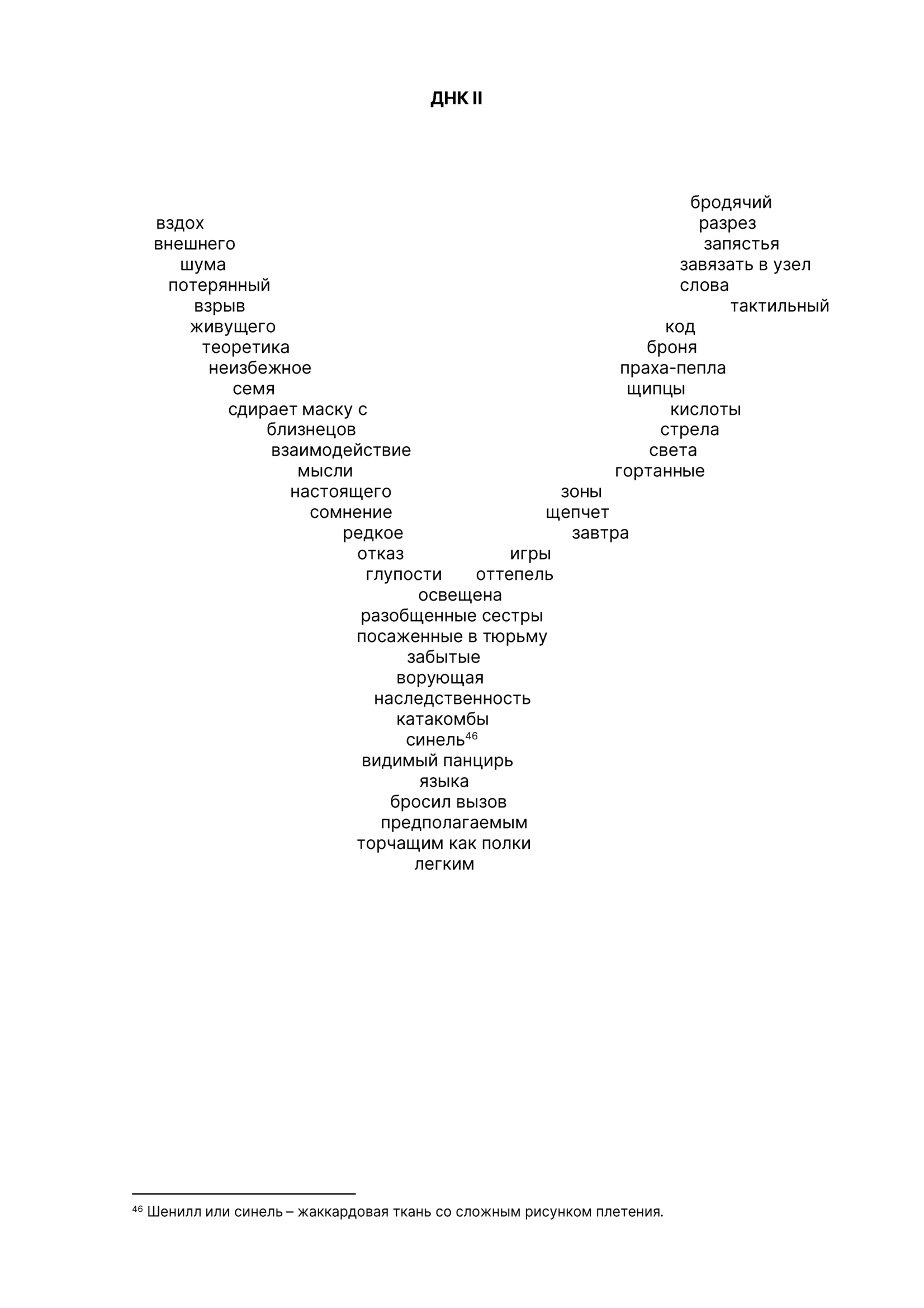
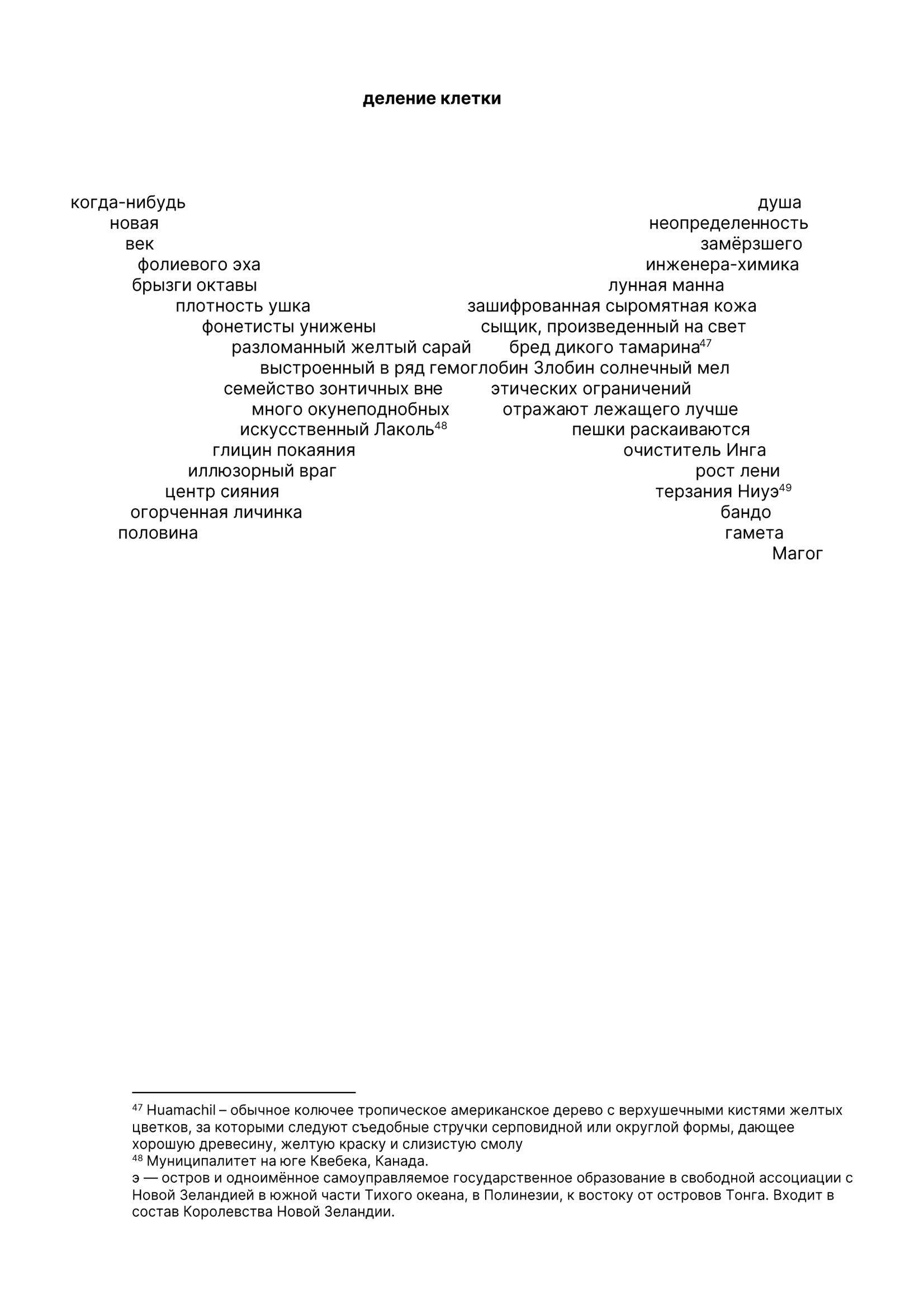
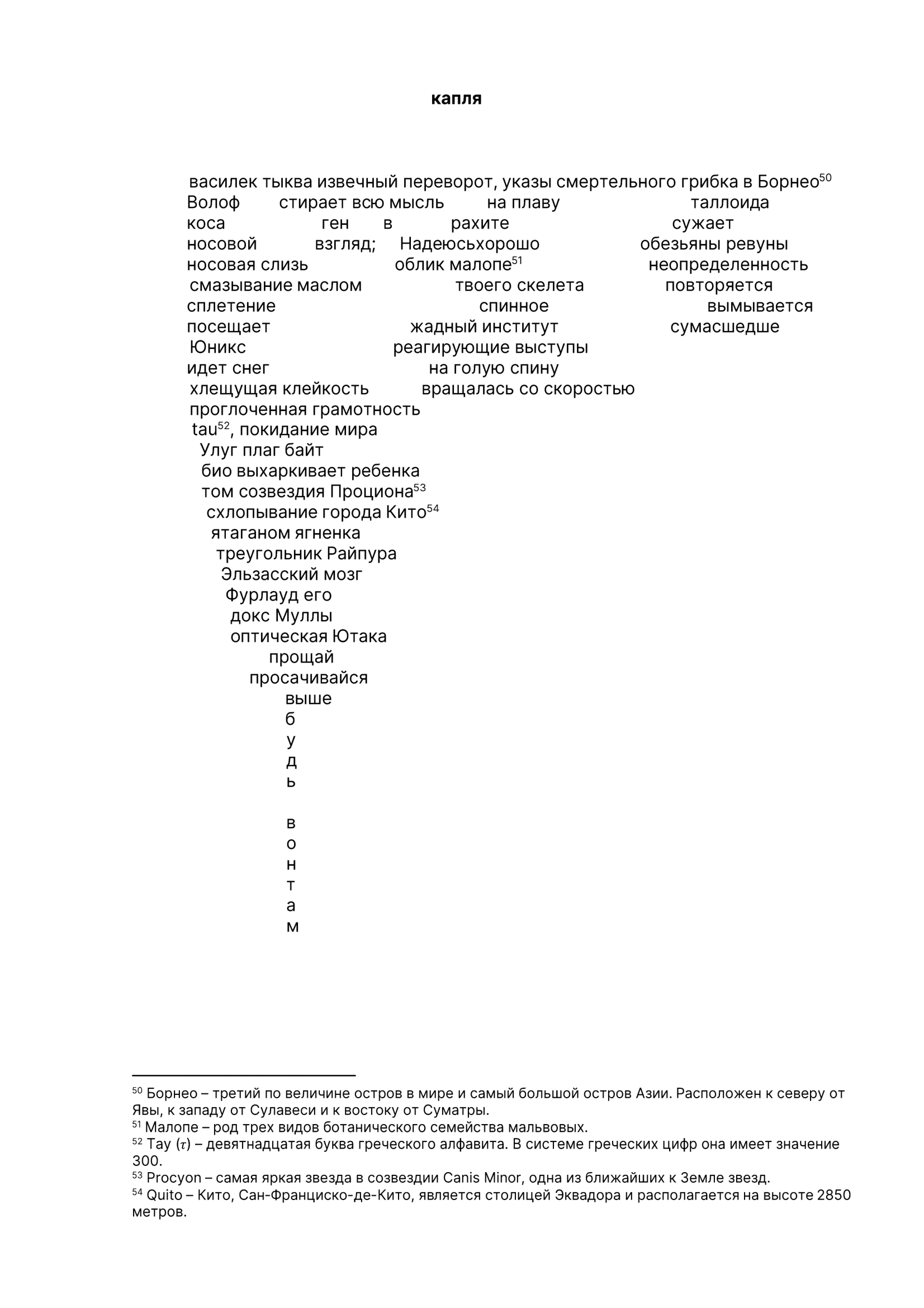
Джим Лефтвич. Устное пламя (перевод с английского Евгении Овчинниковой)

Джим Розенберг. Три диаграммы (перевод с английского Алеси Князевой)

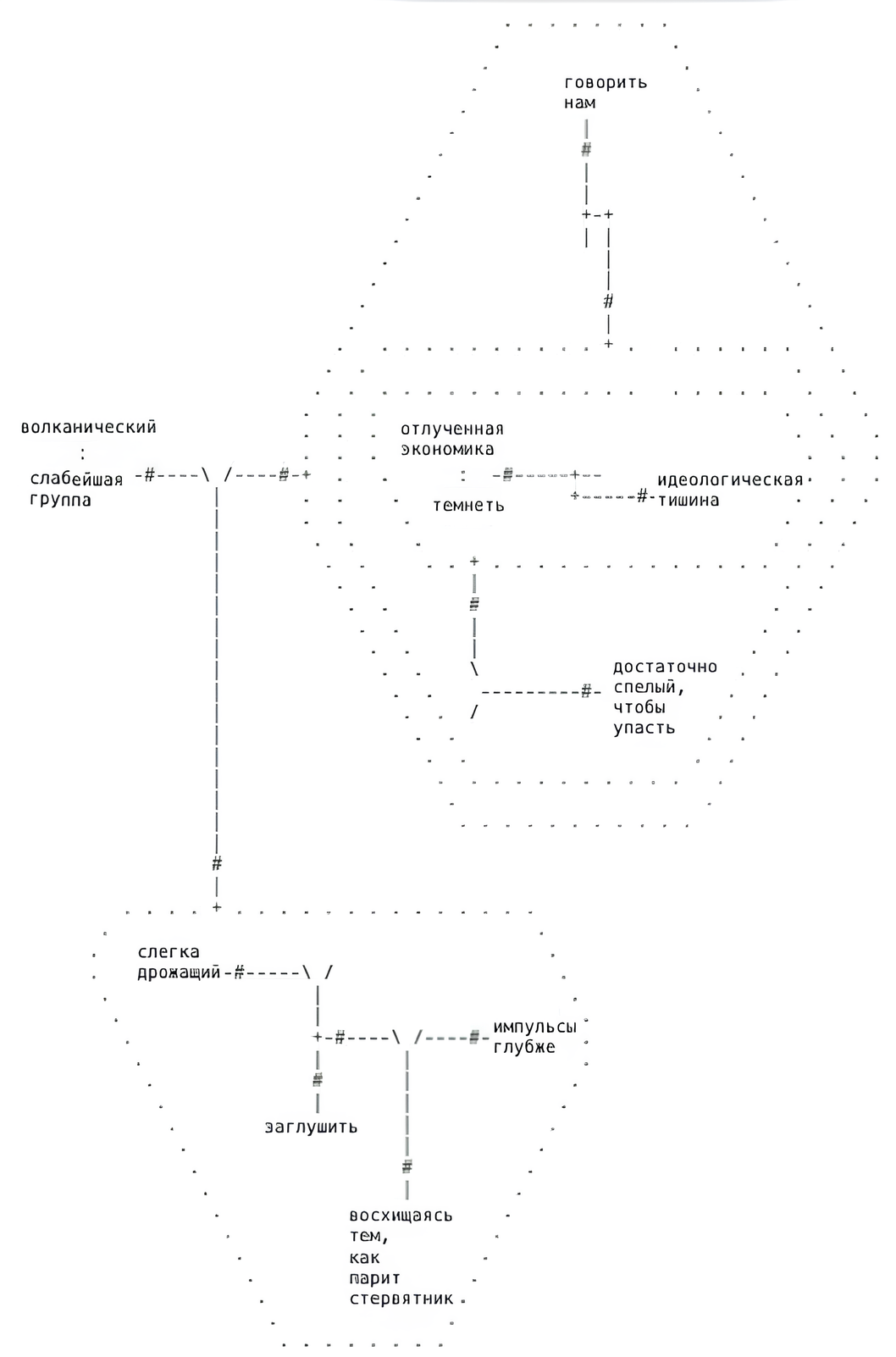
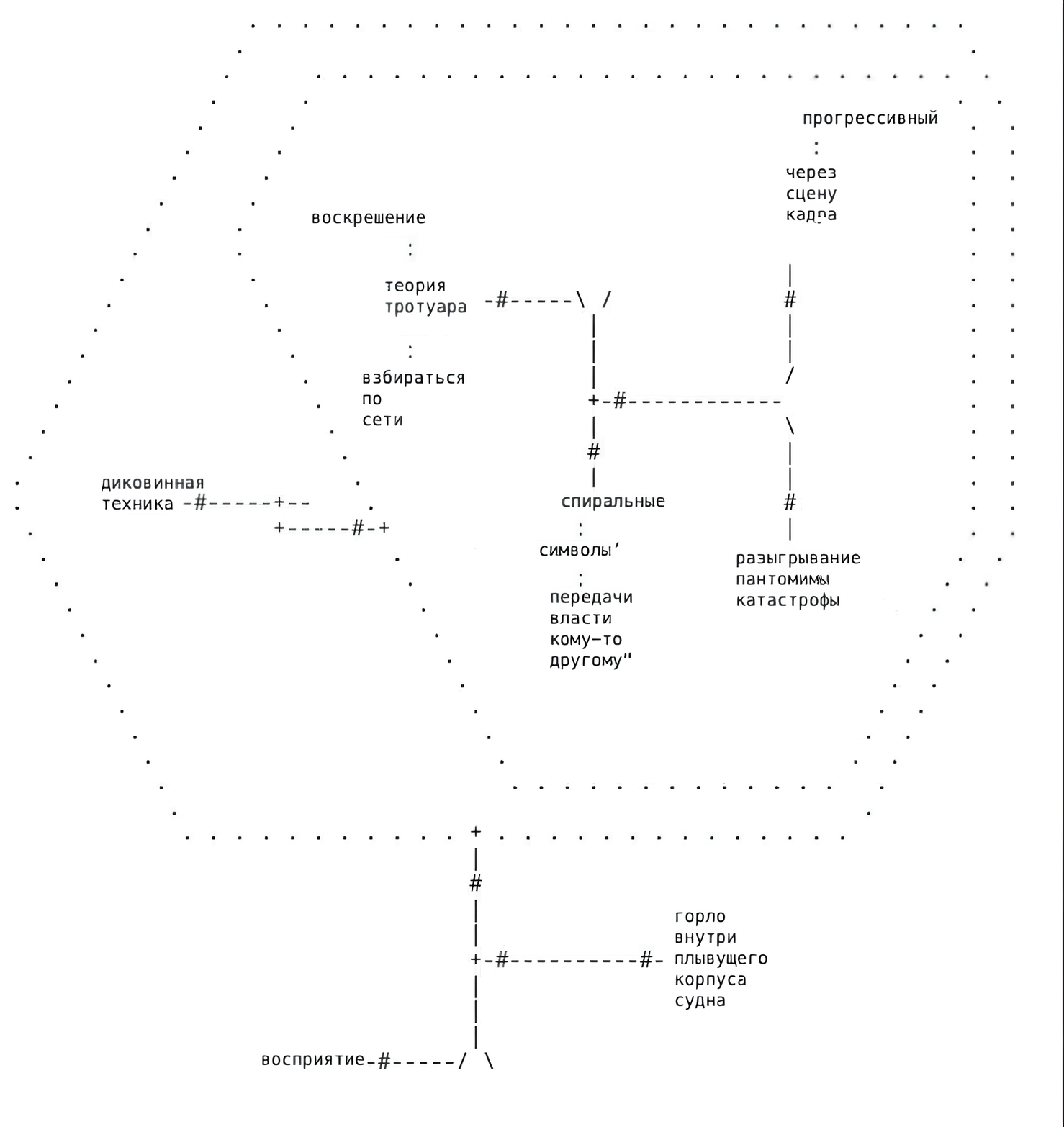
Мы благодарим поэтку и исследовательницу Анну Родионову за открытие диаграмм Джима Розенберга и рассказ о них.
Тиллек Шварц. Поэзия Повсюду – в текстах и текстиле (перевод с английского Даши Додосовой)
Я занимаюсь ручной вышивкой, которая включает изображения, тексты и традиционные элементы, такие как сэмплеры [1]. В моих работах, как правило есть то, что некоторые назвали бы поэтическим характером, удачным сочетанием содержания, живой композиции и чуткого подбора цвета. Я люблю поэзию, и меня с ней связывает не цитирование стихов в работах, а вдохновение, которое я получаю из духовной свободы поэтов. Прекрасным примером этого является Кира Вук [2]. Вот одно из её стихотворений, которое я перевела:
Финские девушки редко здороваются,
Они не застенчивы и не высокомерны,
Нужно лишь зубило, чтобы подойти ближе,
Они сами заказывают себе пиво,
Путешествуют по всему миру,
Пока их мужчины ждут дома,
А если злятся, то шлют тебе тухлого лосося.
– из «Финских девушек»
Меня очень впечатлила эта голландская поэтесса. В 2011 году она выиграла Нидерландский поэтический слэм. Вук наполовину финка, наполовину индонезийка. В её стихах есть тонкий юмор и необычный, но точный язык. Мне нравится, как свободно и оригинально она сочетает такие образы, как зубило, пиво и тухлый лосось. Я так же комбинирую образы в своих работах. Пока я не добавляла этот чудесный текст в вышивку, но часто использую повтор традиционных образов в своих работах. Теперь я добавляю морковку [3] в каждую вышивку ради прикола. И я очень обрадовалась, когда Найджел Чини [4], узнав, что мои запасы иссякли, на машинке сшил для меня целую кучу морковок.
 100% Checked, 2005
100% Checked, 2005В художественной школе мы практиковались в каллиграфии, копируя отрывок из «Плача по Игнасио Санчесу Мехиасу» Федерико Гарсиа Лорки. (Наш учитель подумал, что лучше всего выбрать хорошее стихотворение вместо глупого текста. Отличная идея!) Повторение «A las cinco de la tarde» (В пятом часу пополудни) [5] оказало на меня огромное влияние. Ритм второй (повторяющейся) строки напоминает мне звон церковных колоколов. Это одна из немногих поэтических строк, которые я помню до сих пор.
 100% Checked, 2005
100% Checked, 2005Я редко включаю строчки стихов в свои работы, но несколько раз меня просили это сделать. Например, когда я участвовала в совместной выставке, посвященной двухсотлетию Альфреда Теннисона, куратор прислал несколько для вдохновения. Честно говоря, ненавижу использовать чужие темы в работах, но эти строки заговорили со мной, и запали мне в душу, поэтому я включила «Вот точно так же качается чертополох / При ссоре из-за семян трёх серых коноплянок» [6] и «Я частью стал всего, что мне встречалось» [7] в свою работу «Игровая площадка».
 Playground, 2008
Playground, 2008Я люблю добавлять текст в свои работы, и в основном вне его первоначального контекста, не важно стихи это или нет. Мне нравится думать, что в некотором роде это становится поэзией (если уже не стало) по мере появления новых смыслов и выявления причуд современного общества, что, как выходит, является главной темой моих работ. Например, прошлым летом я останавливалась в Детройте. Здесь современный и приятный аэропорт, в котором рады не только людям, но и собакам. Тут специально отведены «зоны для выгула животных», что звучит заманчивее, чем просто туалет или санузел для людей. Зону для выгула можно воспринимать по-разному: как способ избавиться от собаки или как своего рода освобождение. Эта поэтичность просочилась в дизайн самого помещения, вплоть до крошечных биде для собак. Возможно, я использую это вдохновение для следующей работы. Как сказала художница-визуалист Сьюзан Хиллер [8] в картине, которая состоит из огромных текстов: «Нет разницы между «чтением» изображений и чтением текста».
Безопасность – чрезвычайно важный вопрос в современном мире. Иногда это заставляет нас вести себя страннее обычного и влияет на наш образ жизни. Мне нравятся такие надписи, как «секретный код доступа» для простого вокзального шкафчика или «при загадочных обстоятельствах», чтобы ты не совался в тот или иной район. Это звучит очень таинственно, но не дает ни намёка на то, что вообще произошло. В прошлом году я получила посылку из США с уведомлением, что она «не содержит никаких взрывчатых веществ, взрывных устройств или опасных материалов». Видимо, Штаты требуют, чтобы отправитель добавлял к посылке такую информацию. По мне, странновато сообщать адресату о том, чего в посылке нет.
%20Playground,%202008,%20by%20Tilleke%20Schwarz,%20with%20detail.jpeg) Playground, 2008
Playground, 2008Во время отпуска в Исландии меня заинтриговало содержание национальной телефонной книги. На первых страницах были инструкции для широкой общественности касаемо стихийных бедствий. Внимание было уделено извержениям вулканов («Всегда надевайте шлем вблизи мест извержений»), молниям и грозам, землетрясениям и лавинам. Захватывающе! Текст был бы даже лучше, если его сократить («Выбирайте кратчайший путь, двигаясь перпендикулярно ветру»). Это дало мне пищу для размышлений: почему именно широкая общественность? Почему стихийные бедствия? Моя любимая фраза: «Оставайтесь там, где дует ветер, и не заходите в низменные (!) районы». Во-первых, звучит романтично. Тогда я осознала, что тоже живу в низменном районе (ниже уровня моря), и эту местность также называют «низкими землями» (Нидерланды и Бельгия). Так что, возможно, я постоянно рискую жизнью.
Иногда цитаты сами стучат в мою дверь и умоляют сделать их частью моей работы. «On ne mange pas tulipes» (тюльпаны не едят) – оригинальная цитата французского шеф-повара Поля Бокюза. Во время интервью на голландском телевидении ведущий спросил, какие местные ингредиенты он использует в своей всемирно известной кухне. Первое, что он ответил – сыр Гауда, но интервьюер хотел большего. Ответ Бокюза был немного высокомерным и комичным, но, на самом деле, более драматичным, чем он предполагал. Луковицы тюльпанов были обычным блюдом к концу Второй мировой войны, когда в Голландии ощущалась острая нехватка продовольствия. Моя свекровь сказала мне, что они ей даже нравятся, потому что по вкусу напоминают лук. Излишне говорить, что она не очень избирательна в еде.
Я родилась в 1946 году, но Вторая мировая война оказала большое влияние на мою жизнь. Я еврейка, и мои родители пережили войну благодаря отважным фермерам, которые спрятали их на севере Голландии. Мою старшую сестру защищали священник и его жена. Однако большинство моих родственников были убиты. Родители почти не говорили о тех временах или о потере многочисленных родных. Мы едва осмеливались спросить об этом; даже в детстве каким-то образом чувствовали, что это слишком болезненно и с этим очень трудно справиться.
Знаменитый голландский художник, писатель и поэт Армандо [9] вырос в городе Амерсфорт, недалеко от «пересыльного лагеря» для заключенных, которых должны были отправить в концентрационные лагеря в Германии. Страдания жертв и жестокость охранников нацистского лагеря, расположенного так близко к дому, повлияли на всю его оставшуюся жизнь и стали главной темой его творчества. Он обвиняет «виноватые пейзажи и виноватые деревья» и недоумевает, почему они ничего не предприняли, когда разворачивалась драма.
Да, на самом деле деревья всё ещё там. Но этот
шум, откуда берётся этот шум?
Раньше его там не было.
– из «Заметок о враге»
 Losing our memory, 1998
Losing our memory, 1998Мне нравится, как он пишет очень короткие стихи, часто состоящие всего из нескольких строк с тонкими отсылками к прошлому. Я пытаюсь разобраться с этим прошлым аналогичным образом. «Я знала их всех» содержит множество отсылок ко Второй мировой войне и моей семье. Метки подсчёта напоминают о множестве убитых людей. Я использовала разные цвета – от красноватого до серого и чёрного, чтобы показать, что их огонь всё ещё теплится. В 1999 году я добавила Звезду Давида и слова «свидетельство тысячелетия» в работу «Теряя нашу память».
 Losing our memory, 1998
Losing our memory, 1998Лео Вроман [10] был очень интересным и чувственным голландским поэтом. Как и Армандо, он разносторонне одарен – и как голландско-американский гематолог, и как плодовитый поэт (в основном на голландском языке), и как иллюстратор.
Если б понимал, как поэт, я
Сердце своё, я не очень хорошо тебя знаю
И не уверен, меня хорошо ли ты знаешь;
Может, ты просто ко мне привыкло
Или сильно ко мне привязано.
– из «Если б понимал, как поэт, я...»
Я не уверена, что понимаю смысл, стоящий за цитируемыми строчками. Но предполагаю, что это часть песни о любви к его жене Тинеке. Их общая судьба – это трогательная история любви. Я никогда не выражала любовь на льне, разве что к главным музам – моим кошкам. Они есть почти во всех моих работах.
[1] Сэмплер – сочетание вышитых различными стежками и цветами картинок, которые объединены одной тематикой и имеют общий смысл. Сэмплеры причисляют к примитивной вышивке из-за использования плоских простых узоров, хотя некоторые из них выполняются довольно сложно;
[2] Кира Вук (р. 1978) – поэтесса и новеллистка, победительница национального чемпионата Нидерландов по поэтическому слэму;
[3] Морковь оранжевого цвета вывели голландские селекционеры в XVII веке. Это была случайность, но голландские огородники использовали её в патриотических целях. Кроме того, войну Нидерландов за независимость от испанской короны возглавил герцог Вильгельм Оранский (1533-1584). В возрасте одиннадцати лет он, будучи наследником графства Нассау (Германия), унаследовал ещё и княжество Оранж, которое находилось на юге Франции. Поэтому родовым цветом графов Нассау стал оранжевый. По этой же причине во флаге Нидерландов, добившихся независимости от испанской короны в результате восьмидесятилетней войны, появилась оранжевая полоса. Оранжевый цвет – цвет Голландии;
[4] Найджел Чини – английский художник по текстилю, который более двадцати лет жил и работал в Дублине, Ирландия. Написанное в соавторстве с Хелен Макалистер «Манипулирование текстилем» (Textile Surface Manipulation, 2013) признано важным учебным пособием по текстилю;
[5] В русском переводе Михаила Зенкевича:
Било пять часов пополудни.
Было точно пять часов пополудни.
Принес простыню крахмальную мальчик
в пятом часу пополудни.
И корзину с известью негашеной –
в пятом часу пополудни.
А над всем этим – смерть,
одна только смерть
в пятом часу пополудни.
[6] Альфред Теннисон, «Королевские идиллии»;
[7] Альфред Теннисон, «Улисс»;
[8] Сьюзан Хиллер (р. 1940) – американская художница-концептуалистка, писатель. Работает в жанрах инсталляции, фотографии, видео, перформанса;
[9] Армандо (р. 1929) – писатель и один из самых выдающихся послевоенных художников Нидерландов. В 1960-х был ведущим голосом движения «Новая поэзия»;
[10] Лео Вроман (1915-2014) – голландско-американский гематолог, поэт и иллюстратор. В 1946 году опубликовал свои первые стихи в Нидерландах, и с тех пор завоевал почти все возможные голландские литературные премии в области поэзии.
Михаил Митрас. Литература на стенах: эссе, визуальные работы и интервью (перевод с греческого и предисловие Павла Заруцкого)
МИХАИЛ МИТРАС: ПОПЫТКА ПРЕДИСЛОВИЯ
Михаила (Михалиса) Митраса (1944-2019) можно охарактеризовать как одного из наиболее радикальных экспериментаторов и смелых мечтателей новогреческой литературы. Автор дебютировал во времена заката режима «чёрных полковников» в 1972 году, самостоятельно издав «Фантастическую новеллу» – небольшой рассказ, в котором прозаическая зарисовка сперва украдкой демонстрировала читателю формальные признаки собственной неустойчивости и распада, а потом разрушалась на языковом уровне, манифестируя несостоятельность литературных клише и конвенциональных форм. Следующая его работа – сборник визуальной поэзии «Алиби о-писания» (1976) – продолжала заданную тенденцию и сопровождалась утопическим комментарием, в котором Митрас представлял современный мегаполис как тотальный поэтический массив, который нуждается не столько в авторе-демиурге, сколько в современном читателе, способном к сотворчеству и видению поэзии в проявлениях повседневности. За свой долгий литературный путь (последняя книга вышла в 2008 году) Митрас отметился рядом прозаических и поэтических работ, близких как теоретически, так и практически, к конкретистам и поэтам языковой школы. В 1980-е он пришёл к концепции «поэзии на стенах» – минималистичным визуальным работам, которые отражали стремление вырвать слова из бытового контекста и вернуть им поэтический статус, и которые пересекались с идеями русских будетлян в их внимании к почерку и влиянию рукописного слова на восприятие поэтического текста. Несмотря на обособленный статус и крайне индивидуальный стиль, Митраса нельзя назвать маргиналом – он состоял в союзе писателей, и именно он был инициатором того, что в Греции с 1998 года ежегодно отмечают 21 марта как международный день поэзии.
Далее, чтобы дополнить портрет, я переключусь с попытки объективной оценки места Митраса в новогреческой литературе на собственный (несостоявшийся) опыт взаимодействия с ним, благодаря которому он видится мне исключительно трагическим персонажем. В своих поздних теоретических текстах Митрас неоднократно выражал презрение к «беспрецедентному шквалу информации», порождаемому СМИ и Интернетом, от которого он стремился максимально дистанцироваться. Поэт жил в своей квартире в центре Афин, имея в качестве средств коммуникации только стационарный телефон и домашний почтовый ящик. В 2017 году он потерял любовь своей жизни – Наташу Хадзидаки, в 1970-80-е авторку знаковых феминистских стихов и романов-коллажей, с которой у них были бурные и противоречивые отношения, продлившиеся многие десятилетия.
Я написал Митрасу письмо в 2016 году, когда был начинающим переводчиком и исследователем новогреческой поэзии. В качестве подарка, я приложил к письму один из репринтов Игоря Терентьева из собственной библиотеки. Когда я увидел, что моя посылка так и лежит в афинском почтовом отделении, я позвонил Митрасу, и услышал грубый ответ «я не обсуждаю то, что я пишу», после которого он бросил трубку. Год спустя я случайно встретил его издателя, и когда спросил, что мне делать, если я хочу издавать его в подборках своих переводов, то получил ответ, что «Михалис находится в чудовищном ментальном и физическом состоянии», так что не стоит с ним связываться, и я могу издавать что угодно, только пусть копия издания попадёт в издательство.
В конце 2018 года Митрас впал в амнезию, а где-то спустя полгода, в марте 2019-го, его не стало. Думая о его истории, я вспоминал одно из его стихотворений:
ТЕМА ВРЕМЕНИ
в воспоминание
во воспоминани
вос воспоминан
воспо воспомина
воспом воспомин
воспоми воспоми
воспомин воспом
воспомина воспо
воспоминан восп
воспоминани вос
воспоминание во
воспоминани в
воспоминан во
воспомина вос
воспомин восп
воспоми воспо
воспом воспом
воспо воспоми
восп воспомин
вос воспомина
во воспоминан
в воспоминани
воспоминание
Подобно романтическому поэту, Митрас «исполнил» собственный текст и оставил себя воспоминанием другим людям. Некоторое время спустя со мной связалась художница Лина Роману – жена брата Митраса Костаса Роману, которая нашла моё письмо, разбирая его архивы. Все эти годы я был уверен, что оно так и оставалось непрочитанным.
Эта публикация была бы невозможна без усилий Костаса и Лины, предоставившим доступ ко множеству неопубликованных работ Митраса. Я неоднократно читал отзывы греческих поэтов и исследователей авангарда, которые характеризовали Митраса как очень отзывчивого человека, оказавшего им поддержку. К сожалению, я не успел узнать того Митраса.
Митрас долго работал на радио и телевидении. И я часто вспоминаю его интервью с одним из ключевых греческих поэтов XX века Мильтосом Сахтурисом, который также посвятил всю свою жизнь литературе и искусству. В том интервью ещё достаточно молодой Митрас спросил Сахтуриса: «господин Сахтурис, Вы пишете?». «Нет, конечно нет», – ответил пожилой поэт, ожидавший смерть и прекрасно знавший, что все его книги уже написаны.
– Павел Заруцкий
ЛИТЕРАТУРА НА СТЕНАХ!
Мои книги (в первую очередь я говорю о двух сборниках «конкретной поэзии» 1976-го и 1982-го годов» наполнены визуально-живописными элементами которые, пожалуй, откровенно демонстрируют чувство удушья в традиционно понимаемом пространстве печатного листа.
Так я начал искать способы расширить (и/или упразднить) страницу книги и показать ту литературу, которой я занимаюсь (или по крайней мере, её часть) на местности.
Своё окончательное решение я принял когда однажды перечитывал Малларме и наткнулся на его фразу «поэзия пишется не идеями, но словами».
Так давайте заново «отыщем» слова. Эти первичные единицы языка, а значит и литературы.
Прочитаем их во весь голос. Услышим их. И увидим. И в первую очередь, увидим их в рукописи.
Чёрные чернила на белой бумаге. Подлинный след письма.
Спонтанный жест письма. Без каллиграфии, но (почему нет?) с кляксами, зачёркиваниями и возможными орфографическими ошибками.
Теплота рукописного материала в противоположность холодности типографических элементов или шрифтам компьютера.
И так я впервые выставил эти слова в галерее «ΩΡΑ» (Час) в 1987 году. И с тех пор я продолжаю выставлять литературу на стенах!
Впрочем, как разъясняют словари, «визуальная поэзия демонстрируют в первую очередь пластическую / живописную сторону рукописного или печатного слова и в меньшей степени рациональную / смысловую, пусть и не игнорируют её полностью».
1987









ИНТЕРВЬЮ С ТАНАСИСОМ НИАРХОСОМ [1]
Искусство не является самым значительным проявлением жизни.
Так что Дада стремится сделать жизнь интересной другим способом.
– Тристан Тцара
Вопрос: Вы утверждали, что ваша работа в первую очередь двигается в области эксперимента и исследования. Расскажете об этом подробнее?
Ответ: С самого начала я должен сказать, что у меня нет намерений ставить под сомнение или упразднять (!) литературу. Я просто хочу, освободившись от предрассудков, установок и конвенций по поводу того, как она должна функционировать, «увидеть» её заново как (действенное) средство художественного высказывания и человеческой коммуникации. Таким образом, я исследую границы «литературности» литературы. Я верю, что не только искусство, но и всё вокруг должно постоянно пересматриваться с самого начала. Будто это случается в первый раз. Только с таким «открытым взглядом» можно в наши дни (как и в любые другие) восстановить реальную роль Искусства. А роль эта (всегда) остаётся неизменной, независимо от того, какие разрушения и подмены понятий на неё воздействовали. Эта роль – дать человеку возможность освобождения на всех уровнях: личном и общественном.
В этом смысле мою работу можно характеризовать как исследовательскую.
Исходя из этой общей теоретической установки, я пытаюсь (пожалуй, в той работе, которая впервые была представлена в «Алиби о-писания» и продолжается по сей день, т.е. 1978) развивать процессы аннулирования и пересмотра конвенциональных и традиционных моделей литературы. Потому что я верю, что именно эти устоявшиеся модели (которые, разумеется, некогда функционировали и дали нам великих писателей, таких как Бальзак, Флобер, Диккенс или Достоевский и многих других) более не способны передать образ современного мира. Вопрос, который я поднимаю, выглядит достаточно бесхитростным: Флобер восхитителен, но может ли писатель Икс в 1978 году продолжать писать в том же стиле, в котором писал Флобер? Нужно ли проговаривать, почему что-то подобное не будет работать? К тому же проблематика подобного толка кажется анахронизмом сегодня, когда прошло столько десятилетий после появления Дада, сюрреалистов и, конечно, самого значительного писателя перемен: Джеймса Джойса.
(Разумеется, в наших краях мы до сих пор всё это обсуждаем. Причины очевидны, но сейчас не лучшее время для того, чтобы их исследовать. Но мы продолжим всё это обсуждать – и в этих обсуждениях в конце концов что-то может и переменится).
Возвращаясь к своей собственной работе, я хочу добавить, что параллельно моему основному стремлению к пересмотру, ей, полагаю, присущи и следующие характеристики: юмор, игра, примешивание элементов, традиционно принадлежащих другим видам искусства, провокация / приглашение читателя к творческому соучастию, развенчивание мифа о художнике-«харизматике», и всё в этом духе.
Я не знаю, до какой степени реализовываются мои намерения. И эта неуверенность вызывает во мне болезненное чувство уязвимости. Также она может довести меня до смятения. Но с другой стороны, она даёт мне возможность свободного движения – и в этом для меня наиглавнейший стимул.
В: Полагаю, такая работа должна сталкиваться со сложностями подхода к ней и её восприятия широкой публикой?
О: Разумеется существуют преграды. Но за очевидными причинами этой «сложности» (например, пробелами в общем образовании, безразличием государственных и независимых СМИ, нехваткой критики и филологической теории в нашей стране и другими) лежит и дополнительное препятствие: стена враждебности и нападок конкурентов, которые выстраивает конвенционализм «традиционных» авторов в попытке защитить «завоёванные» интересы. Понимаете, что я хочу сказать? Такое – по меньшей мере удручающее – положение вещей царит и в других отраслях искусства, когда более молодые авторы сталкиваются с «недовольством» своих собратьев, которые добились успеха и довольствуются достигнутым.
По всем этим причинам я считаю, что широкую общественность стоит винить в последнюю очередь. К тому же лично я верю, что широкая общественность куда более восприимчива к художественному новаторству, чем мы думаем. За её недоверчивость несут ответственность все эти «медиаторы», которые либо искажённо информируют публику о «новых вещах» или прибегают к клевете по отношению к новаторам, по очевидным причинам. Что может случиться? При должной настойчивости найдутся и новые способы взаимодействия с публикой. Нужно стремиться – если это правда входит в сферу наших интересов – к отводу нашей работы из других независимых проливов сообщения. Систематично и регулярно – не только лишь в моменты нашего скороспелого энтузиазма.
В: Как вы рассматриваете связь своей собственной работы с работой других писателей вашего поколения? И также: как вы считаете, ваше поколение (которое уже прозвали «поколением 70-х» отличается от предыдущих?
О: Рискуя показаться... кокетливым, я бы сказал, что чувствую себя несколько одиноко среди писателей (поэтов и прозаиков) моего поколения. Давайте я объясню: Давайте сперва возьмём моих ровесников. В целом, для них всё складывалось до опасного легко. Поэзия модернизма имеет сильную традицию в новогреческой литературе, и молодые авторы фактически пришли на всё готовое. Многие будто самодовольно пережёвывают гарантированную (то есть проверенную) пищу своих учителей. Некоторые отваживались перерезать эту пуповину и, освобождённые, искали дорогу к «новым приключениям». Разумеется, случалось и худшее: даже те, кто начинали «другими», быстро сдерживали свои порывы в крайности, чтобы не потерять привилегии, которые они получают из своей покорности ученика перед учителем! Лично мне такая позиция кажется симптомом душевного упадка, и мне глубоко жаль, что мне приходится атрибутировать их людям собственного поколения! Я также хочу отметить стремительные перемены, которые можно заметить в в текстах молодых поэтесс, если сравнить их с тем, что мы до сего дня знали (за незначительными исключениями) как «женская поэзия». С прозаиками моего поколения происходит практически противоположное. Новогреческая проза в целом не отличалась гибкостью в вопросах обновления и соответствия современности. Это подтолкнуло молодых прозаиков обратиться к радикальным способам письма как только они оказались «подвешенными в воздухе» и не привязанными к «опёке» и школьной программе.
Всем этим я, конечно, не хочу сказать, будто литературное поколение, к которому принадлежу и я сам, не сформировало собственный облик, который неизбежно отличается от предыдущих поколений, поскольку его черты отражают общие исторические, социальные и политические конвенции времени и места
Писателей моего поколения (в конечном счёте, мы все потихоньку принимаем термин «поколение 70-х» скорее по практическим соображениям, ведь понятно, что он изначально использовался как рекламный трюк), разумеется, нельзя рассматривать как единое тело. Но можно считать фактом, что в их работах прослеживаются черты десятилетия потрясений, каким был период 1960-1970. Если точнее: война во Вьетнаме, студенческие волнения, хиппи, контркультура, путешествия, рок музыка, наркотики, «новая этика», Дилан и Жан-Люк Годар, французский Май 68-го, феминистские движения, уличные представления и так далее.
Конечно, греческая диктатура 1967-го задержала публикации этих писателей, кто нёс отметины настолько отличительной эпохи, добавив дополнительный элемент: непосредственный опыт жизни при репрессивном режиме. Это элемент «перешёл» в их тексты и выражался символически и «андеграундно» – а с определённой точки и не только лишь в силу очевидной самоцензуры. Эта черта «андеграунда» в стиле, думаю, является основной характеристикой писателей моего поколения, и она отсылает (всегда посредством аналогий) к международному андеграунду.
В: Что по-твоему может предложить писатель современному миру? И наконец, как ты видишь будущее литературы?
О: Общественная роль Искусства является очевидной. Определённо, творец (каждого вида художественного высказывания) может существенно помочь изменить представление о мире. А когда меняются представления, постепенно меняется и сам мир. Творец (не «харизматик», но действующий осознанно) может стать носителем перемен. И помимо прочего, в каком-то смысле сам творческий акт представляет собой революционный элемент человеческой природы.
Что касается будущего литературы, нет никакой нужды играть в пророков.
Становится всё более очевидным, что индивидуальные формы искусства (а следовательно и литература) смешиваются и взаимодействуют между собой, и вероятно, мы стремимся (а точнее, возвращаемся) к созданию всеобщего и комплексного искусства.
Параллельно происходит и попытка преодоления герметичных границ между творцом и реципиентом (все люди по природе своей творческие, просто нужны подходящие условия чтобы они проявили это), чтобы каждый мог принимать участие в (со)творении творческого акта / опыта.
Лично я вижу эту (пусть и далёкую) перспективу достижимой в рамках непрекращающихся базовых социальных трансформаций, и этот образ весьма привлекателен. Конечно, мне хочется внести свой вклад в его осуществление, «здесь и сейчас».
1978
[1] Перевод выполнен по изданию Νιάρχος, Θανάσης Θ. Κιβωτός. Εγνατία, Θεσσαλονίκη. 1980. Σς. 179-183




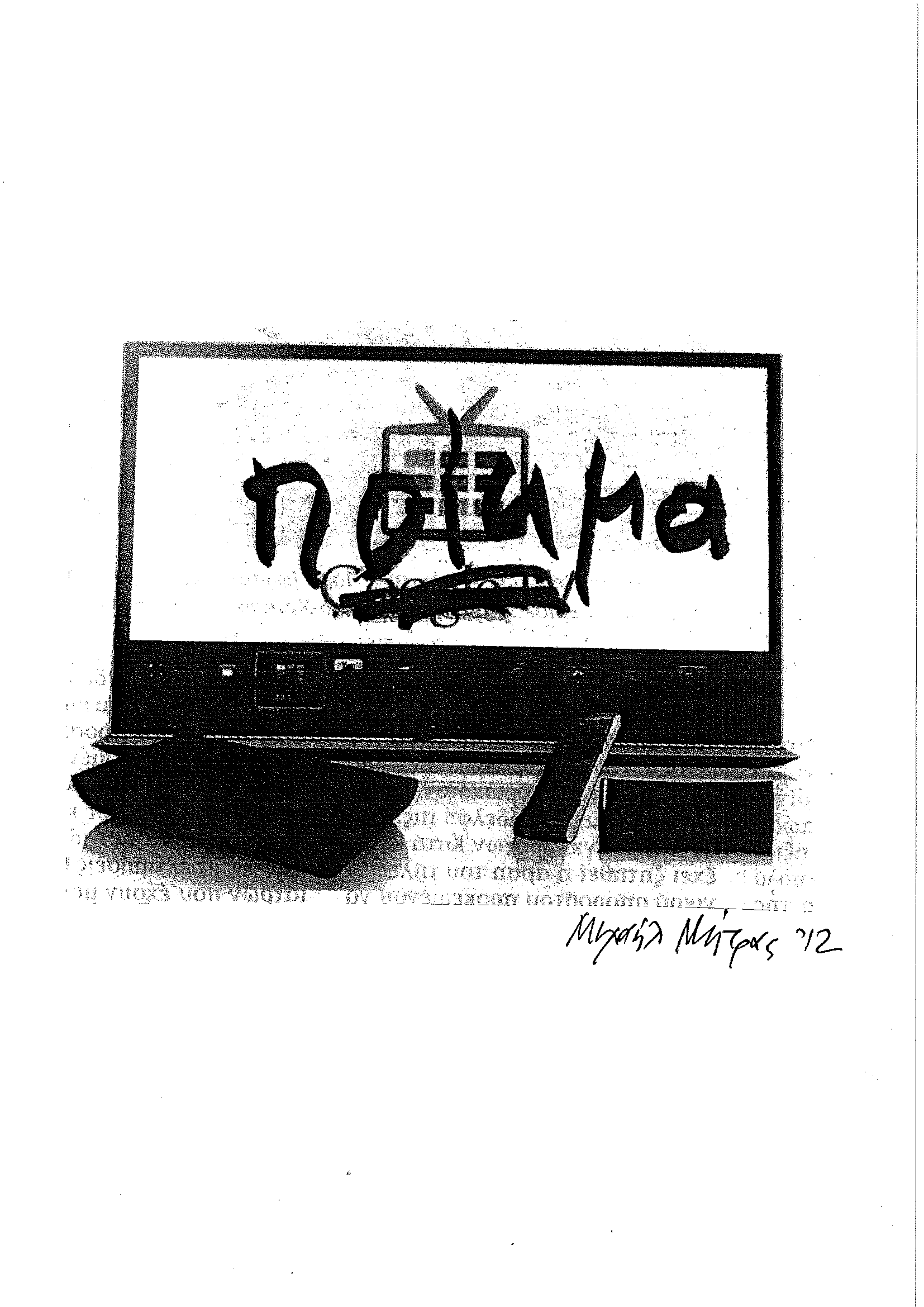



 Михаил Митрас, Андрей Вознесенский и Лоуренс Ферлингетти (слева направо). 2001 год
Михаил Митрас, Андрей Вознесенский и Лоуренс Ферлингетти (слева направо). 2001 годПереводчик и редакция журнала благодарят Костаса и Лину Романос за разрешение публикации и доступ к архиву Михаила Митраса
Чайка – плавки Бога: визуальная поэзия и видеомы
Из сборника «Тень звука» (1970)
Изопы – это опыты изобразительной поэзии. В противовес эстрадной, чтецкой позии (ЧП) я попытался – чем черт не шутит! – написать «только для глаз». Если ЧП вбирает в себя черты актерства и роднится с музыкой, то изопы соединяют слова и графику, становятся структурами.
Академик Лихачев указывает, что в древних рукописях Слово и Буква были картиной. Такими же элементами орнамента и цветастых сценок были надписи на лубках. Напечатанная двухцветно «Арифметика» Магницкого, по которой учился Ломоносов, являла интересные наборные комбинации, например случай «галерного деления», где красная сфера разрезалась черной галерой.
Древние обрядовые песнопения на Руси писались в виде акростиха и назывались краеглазием. Таким образом, рисунок приобретал звуковое выражение.
Пушкин пришел в восторг от стихов Нодье, описывающих лестницу и расположенных, как лестница. А Ван Гог, подписывая зеленые холсты кармином, вводил буквы в живопись наравне с фигурами и предметами. Лесенка Малларме и Маяковского (тот не зря был блестящим рисовальщиком), Хлебникова, шалости Аполлинера, акробатика Кирсанова, Мартынов с его стихами, расположенными, как кристаллы самородков, вдохнули жизнь в изобразительность стиха.
Поэт мыслит образами. И, не оформясь еще в слова, в сознании возникают изообразы стиха. В. Шкловский рассказывал: «Блок признавался, что, перед тем как написать стихи, ему видятся звуковые пятна». Так, например, целый цикл стихов он собирался написать из странного звукового пятна «разверзающий звездную месть». Вот их-то, эти пятна, и хотелось записать.
Кино и ТВ увеличивают поток информации, зрительного познания. Сейчас человек познает, получает информацию, упакованную в картины, в зрительные образы, не меньше, чем через буквы. Картина становится словом, сообщением.
Для восточной поэзии – скажем, для японской – очень важно, как расположены стихи, даже какой тушью начертаны. Не случайна поэтому частая неудача перевода на русский японских танок – начертание, картинность стиха исчезают. В прошлом году вышел У. Уитмен в графическом переложении живописи.
Мне тоже захотелось порисовать словами, превратить словесную метафору в графически зримую. Я попытался графически дать некоторые стихи, которые в этой книжке набраны и обычным способом. Может, читателю будет интересно увидеть, как создавались они в авторском сознании, перед тем как стать четверостишиями.
Например, увидев людей, идущих по мосту с электрички на закате и отражающихся в воде, я попытался изобразить это. Можно было это начертать проверенным способом:
О небо,
кто власа твои
расчесывает
странные?
И воды с голубями?
По силуэтному мосту
идут со станции,
отражаясь в воде,
как двусторонний гребень
с выломанными зубьями…
Думается, изоспособ нагляднее.
Я показал изображение друзьям и спросил: что они видят?
Первый сказал: «Это длинные волосы дождя, и мы, люди, своими судьбами, как гребнем, расчесываем, приводим в гармонию небо, жизнь, природу, воды времени, часто при этом недосчитываюсь друг друга.
Эти люди устали после работы. Сверху – то, что они думают, внизу – то, что они есть, это их бессознательные ощущения».
Второй сказал: «Нет, внизу – несбывшееся, то, что потонуло в реке жизни, о чем мечтали. Вот идет одинокий Крамер, надвинув кепку на уши. А он мечтал стать Ремарком».
Третья сказала: «Нет, вверху идут усталые, но уверенные в себе люди, вода внизу сносит нелепые миражи, соблазны, ерунду».
Четвертый сказал: «Это первые попавшиеся, случайные люди идут, поэтому слова, их изображающие, случайны».
Пятый сказал: «Непонятно, но на гребень похоже».
Шестой сказал: «Это хохма…»
Другой изоп: вид сверху двухтрубного пароходика, разрезающего воду.
Думаю, что стихотворению «Пляж» соответствует «Хождение по водам». С этого начались стихи. Это метафорический ген стиха.
Многие художники решали тему «хождения по водам». Невидимую фигуру можно мысленно представить по белому треугольнику приближающихся плавок – чайке между небом и морем. Она бела и материальна.
Или стихотворение «Бой петухов». В петушиной схватке и слова и звуки дерутся, ломаются, схлестываются. Обрывки слов, хаос боя, хаос звуков. Кухарка отрубает петуху Киру голову. Душа его отлетает в небеса. В петушиный рай. Стихи тоже обретают высшую гармонию четверостиший. Но и небеса тоскуют по земной конкретности. Из звуков слагается конкретная голова.
После того как ступня человека коснулась Луны, Луна исчезла как миф, сентиментальная легенда, ирреальность. Изоп «а Луна канула» читается слева направо и обратно. Читатель как бы следит взглядом за полетом на Луну и обратно.
Предвижу упреки в несерьезности, забавах, играх со словом. Не думаю, что поэзия обязательно «должна быть глуповатой», но почему не быть ей иногда легкомысленной?
– Андрей Вознесенский
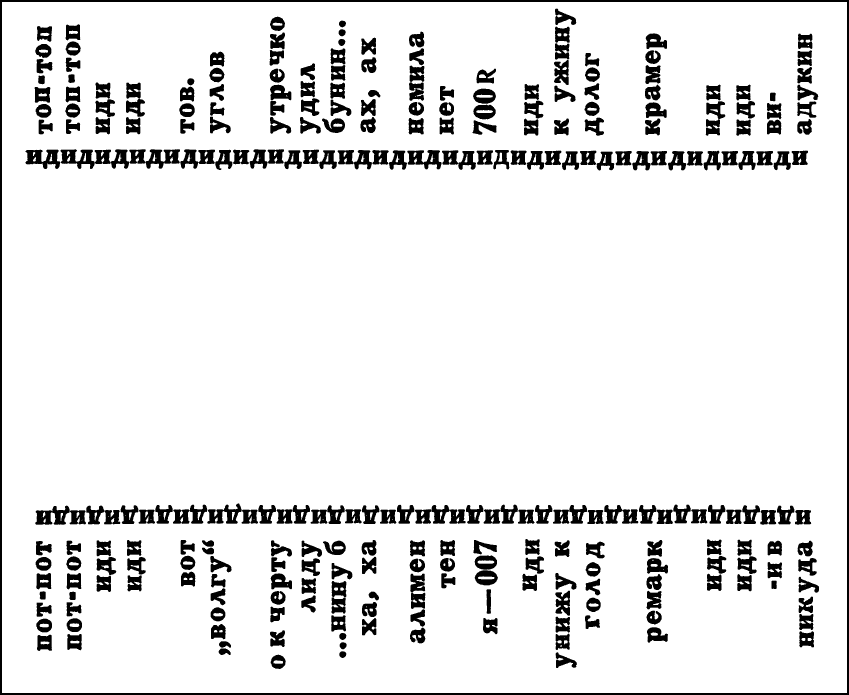 «Иди»
«Иди»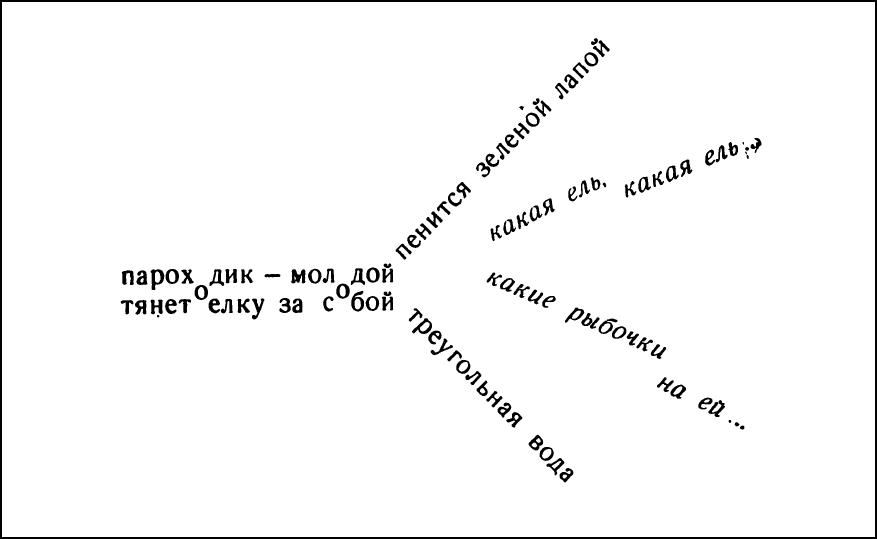 «Пароходик»
«Пароходик» «Бой петухов»
«Бой петухов»-14%201.png) «Бой петухов» (завершение)
«Бой петухов» (завершение)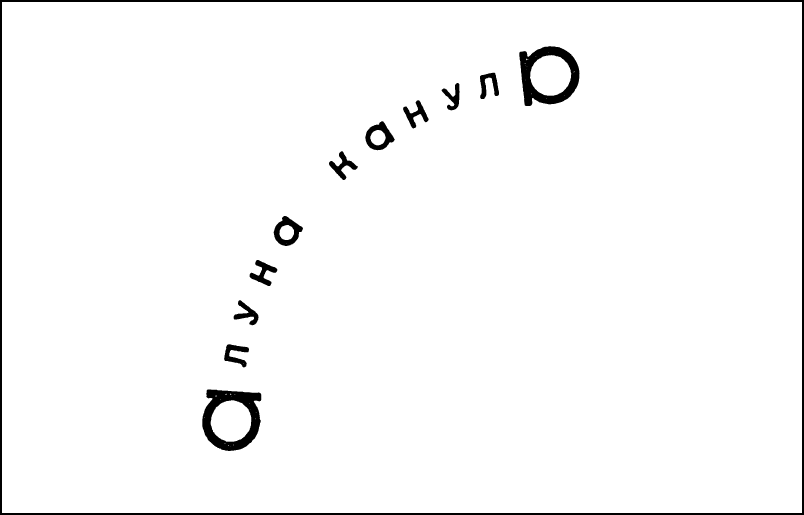 «А Луна канула»
«А Луна канула»Видеомы
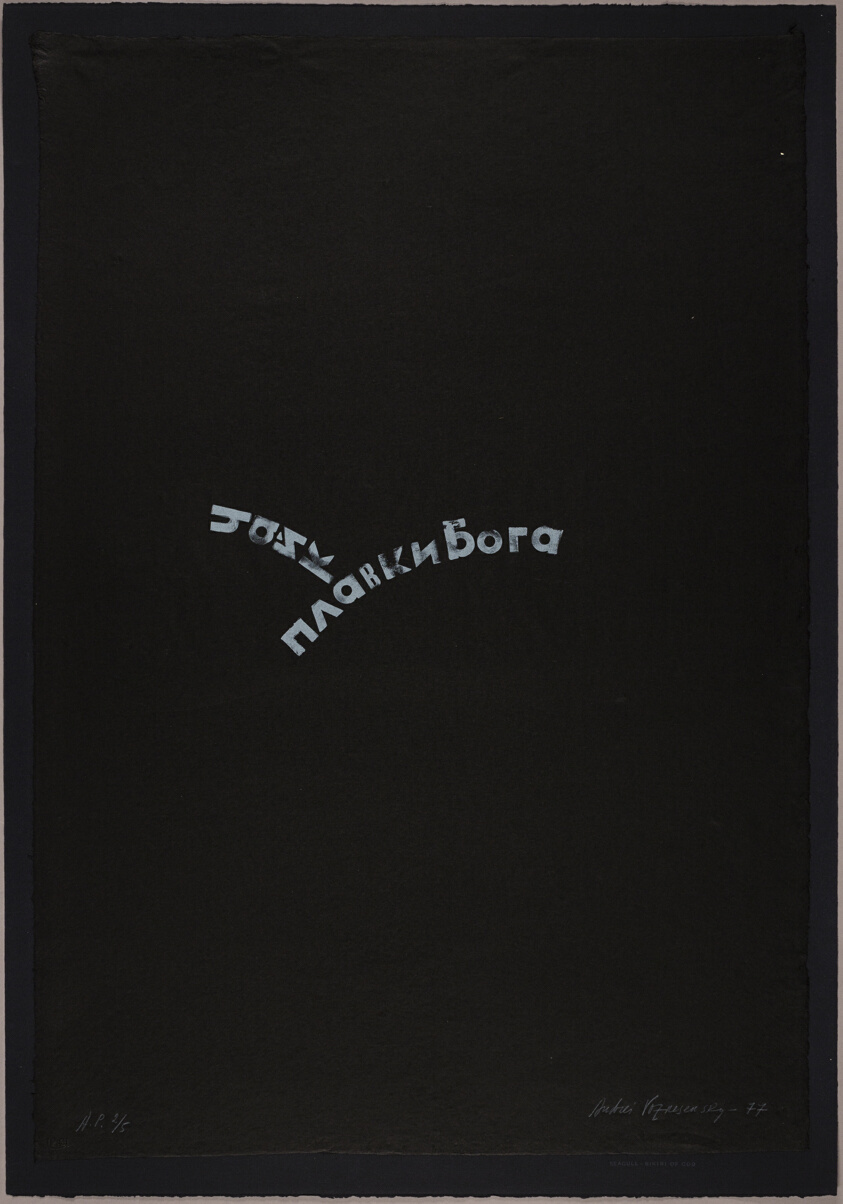 Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Все говорят, что моя поэзия очень визуальна и метафорична. Есть идеологическое инакомыслие, которое еще могло пройти, если поменять конец или что-то изменить. Художественное же инакомыслие воспринималось всегда в штыки. В качестве образца такого новаторства называли поэму «Мастера», стихотворение «Я – Гойя». Все это было связано с живописью. Изобразительный образ шел параллельно поэтическому.
А когда появились видеомы, это стало своего рода концентрацией поэтического. Поэтому в видеомах фигурируют поэты: Ахматова, Есенин, Маяковский, Мандельштам. Это попытка метафорически, изобразительно прочесть поэта.
– Интервью Натальи Кочетковой с Андреем Вознесенским «Игра + аура Вознесенского». Газета «Известия», 24 апреля 2006
 Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Мать-мать...». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Мать-мать...». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Среди казацких шаровар, безбожников со свечками, вызывающих патриархальный капитализм XIX века, нет места диаматовской спирали. Мне открылось новое явление языка, движение смысла по кругу, я назвал бы этот жанр «словалами» или более научно – «кругометами».
Вспомним Хайдеггера: «Язык называет такое замыкающееся на себе отношение кругом, кругом неизбежным, но одновременно полным смысла. Круг – обособленный случай названного переплетения. Круг имеет смысл, потому что направление и способ круговращения определяются самим языком через движение в нем».
Кругометы – метафизические метаморфозы, кометы смысла. Магометане сквозь очертания первой буквы Корана видят очертания минарета.
– Андрей Вознесенский. «Сюр. Заметки об академизме-XX», 1994
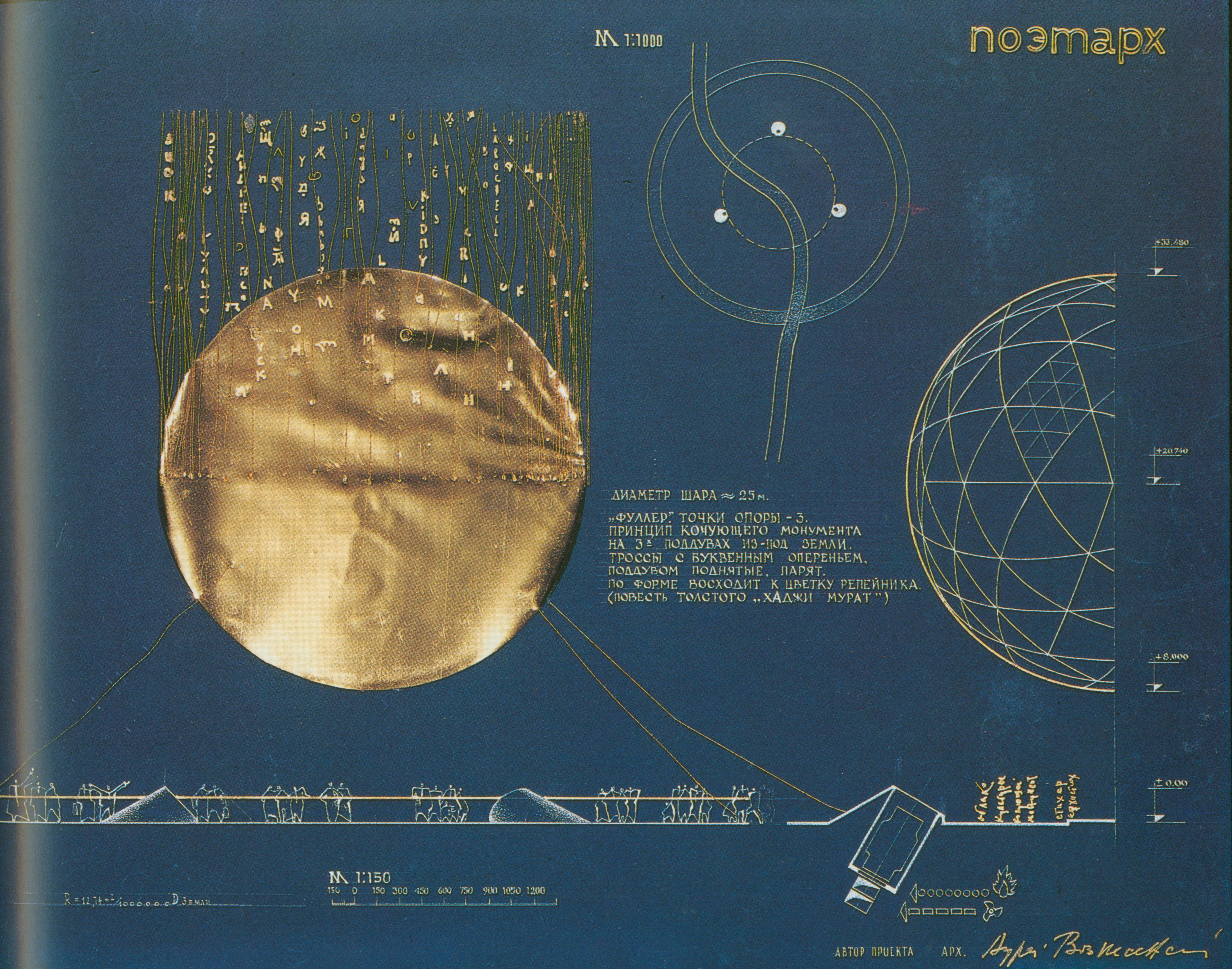 Андрей Вознесенский. Проект инсталляции «Поэтарх» для Парижской выставки. 1989. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Андрей Вознесенский. Проект инсталляции «Поэтарх» для Парижской выставки. 1989. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Дух светлый ли, аномальный ли является нашему сознанию в виде видения. В новых работах, которые называю «ВИДУХИ», я пытаюсь постичь духовное через видео. В случае портретов человеческих судеб называю их – ВИДЕОМЫ.
<…>
Искусство – священные черепки, черепки будущего.
Несколько лет назад, когда трещины еще не трещали, а лишь угадывались, я начал рисовать видеомы, и лишь потом я понял, что это осколки, черепки смысла и распадающейся [советской] цивилизации.
Перечти черепки.
<…>
Молюсь именам, зернам культуры и гармонии. Приведу неопубликованные строки Флоренского, вникавшего в имена и религии многих народов: «Одни исповедания живут на полной свободе, другие в огороженных парках, третьи в огороженных дворцах, четвертые в узких башнях, пятые в юртах ... но небо, от которого получают свет они, – не одинаковое, а одно небо».
Небо прочитает наши черепки со своими отсветами на них.
– Андрей Вознесенский. «РОССИЯ – POЄSIA», 1990
Медуницы и осы тяжелую росу сосут...
И вчерашнее солнце на черных носилках несут, –
это он [Осип Мандельштам] о Пушкине писал, но собственная судьба его неосознанно уже шептала сквозь строки – «ос, ос, Осип...»
Нам остается только имя,
Чудесный звук, на долгий срок...
Эти осы мучительно звенят по всем его строкам: «Оссиан», «острог», «особь», – ос, ос, Осип... Как Татьяна писала на морозном стекле вензель «О», так и он бессознательно вписывает свои «О» в морозные узоры четверостиший.
Что означает имя для поэта? Да все означает. Повторяю, имя связано со святцами, со звездами, с гороскопом. В имени любого поэта как бы закодирована его поэтическая программа, судьба. Поняв это, мы по-новому прочитаем классиков.
– Андрей Вознесенский.«Осы Осипа», 1992
 Андрей Вознесенский. «Портрет Алена Гинсберга». 1991. Изображение предоставлено Центром Вознесенского
Андрей Вознесенский. «Портрет Алена Гинсберга». 1991. Изображение предоставлено Центром ВознесенскогоИз книги «Casino "Россия"» (1997)
.png) «Ski kiss»
«Ski kiss».png) «Gin tonic»
«Gin tonic».png) «Ромашка-мошкара»
«Ромашка-мошкара».png) «Комар-маргаритка»
«Комар-маргаритка»
«Флаги» благодарят Центр Вознесенского за предоставленные изображения и всемерную помощь с подготовкой материала
Ненадежный рассказчик: апология Вознесенского
Ещё совсем недавно после слов «я пишу статью про Андрея Вознесенского», произнесённых мной перед друзьями-поэтами, следовало неловкое молчание, потом сочувственные взгляды, смех и, наконец, несмелая фраза: «Ну, это же на заказ…». Теперь, по прошествии нескольких месяцев, Андрей Вознесенский стал одной из обсуждаемых фигур в кругу молодых поэтов. Эта статья – стенограмма лекции, которую я читала на ВДНХ в рамках «Вознесенский FEST» в 2023 году. Именно этим обусловлены некоторые устные обороты, импровизационные виражи и другие специфические черты переложенной на бумагу речи. С другой стороны, материал требовал некоторого структурирования, так как именно этой статьей я надеюсь объяснить феномен неожиданной реабилитации Андрея Вознесенского в современной поэзии. Итак, это с одной стороны стенограмма, сохраняющая формат «доверительного диалога», с другой – программная статья.
– Юлия Тихомирова
Что мы можем считать визуальной поэзией? Наиболее продуктивным определением того, о чём я хочу рассказать, будет «поэзия, которая стремиться убежать за свои пределы», то есть использовать тот медиум, который оказывается для поэзии непривычным, неестественным, необязательным.
О необходимости интермедиальности писал ещё Валерий Брюсов в «Опытах по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (1912-1918): под «евфонией» Брюсов понимает учение о стихотворной речи, задача которой заключается в «установлении хорошей» («музыкальной», «певучей», вообще отвечающей содержанию) речи. Это близко и идеям гезамткунстверка, и синтезу искусств, о котором пишет Павел Флоренский. Разве что Вагнер, говоря о тотальном произведении искусства, как раз-таки протестует против главенства какой-либо из составляющих, которое присуще синтезу, а визуальная поэзия зачастую оставляет поэтический фундамент, расшатывая границы, но не снося их.
Но не только искусство как таковое стремится расшатать стены, выйти за пределы. Не только искусству для жизни требуется не замыкаться на самом себе. Покинуть приятные чертоги необходимо и историку искусства, искусствоведу. В искусстве, в литературе есть так называемый «устоявшийся канон», который предполагает планомерное развитие магистральной линии, и противопоставленные ему маргиналии: самые революционные идеи и «ну было и было, в конце семестра пройти можно», «стоящее искусство» и «прочее». Не отказываясь от критериев качества вовсе, необходимо критически относиться к статическому мышлению: что такое канон? Или, что радикальнее: что такое смена одного канона на другой? Это смена замкнутых на себе фигур, грубый кадровый монтаж. Кадр: одна экспозиция. Другой кадр: другая экспозиция. Но что, если попробовать посмотреть на историю искусства не как на смену канонов, а как на динамику, диалектику и движение во всей его сложности? История искусства может быть написана не при помощи логики параллельных путей и даже не через логику ризомы, но явлена через образ складчатого занавеса, переливающегося так, что одна и та же материя попеременно становится то «низиной» складки, то «вершиной».
Абстрактно об этом говорить невозможно, поэтому перейдем к примерам. Долгое время в изучении истории советского искусства главенствовало так называемое «неофициальное искусство», а если уточнять, то наибольшим успехом пользовался московский романтический концептуализм. На то есть причины качественные, заключающиеся в самих произведениях, которые действительно специфичны и интересны, и причины внешние: битва за контекст, выигранная критиками, которые связаны с кругом этих художников. Как известно, историю пишут победители, поэтому канон оказывается установлен постфактум и безальтернативно. Писать историю советского искусства с позиции, скажем, левого МОСХа или художника Виктора Попкова посчитают крамолой даже прогрессивные критики. Как я уже говорила, консервативна сама логика смены одного взгляда на другой. Радикально будет показать калейдоскоп взглядов, множественность их – тогда история будет иметь возможность предстать в своей полноте. Концептуалисты – ненадежные рассказчики. Как и неприкаянные художники-одиночки. Как и современные поэты. Как и Андрей Вознесенский. У каждого своя легенда, но, парадоксально, чем больше легенд, тем реальнее оказывается история.
Именно поэтому сегодня мы говорим о таком художнике, как Андрей Вознесенский. Не то чтобы кураторы Центра Вознесенского достали его совсем уж из небытия [речь идет о выставке «ЕЩЁ» в Центре Вознесенского, к которой была приурочена лекция – Ю.Т.]: в конце концов, его выставка в 90-е проходила в ГМИИ им. Пушкина. Но ни я, ни герои моего сегодняшнего рассказа о Вознесенском-художнике и визуальном поэте не знали вовсе. Знали популярного поэта, но не знали перформера и автора псалмов «Россия воскресе», знали шестидесятника, но не знали девяностника. Поэтому для поколения двадцатилетних новый образ Вознесенского – это действительно открытие. Конечно, нет смысла говорить сегодня о молодых поэтах как о последователях ААВ, как можно было бы говорить об учениках Драгомощенко или Таврова. Тем интереснее смотреть, как пути, намеченные Андреем Вознесенским в девяностые-нулевые оказываются доведены до исступления и излома современными поэтами, как то, что считалось диковинкой тогда, становится нормой и даже хорошим тоном сегодня.
Поздние работы Вознесенского далеки от аскетизма концептуалистов. Как только это стало возможным и относительно несложным, он вводит в работы цвет, использует компьютерную графику – что от неопытности и специфики насмотренности (речь идет все-таки о 90-х и о визуальной культуре того времени) смотрится несколько кустарно и аляповато, китчево, кринжово. Для него в принципе нет изолированных зон, нет герметичных пространств, куда не проникали бы веяния иных медиумов: тут свою роль играет и стадионная поэзия, приучившая Вознесенского искать все новые и новые пути коммуникации с аудиторией. Стадионная поэзия – это поэзия, которая должна звучать. Вознесенский вспоминает, как за границей отвечал на обвинения в том, что декламационность чужда западноевропейской поэзии, наивна, свидетельствует об упрощении языка и смыслов. Обращаясь к площадной культуре (и, соответственно, к Бахтину), Вознесенский, напротив, говорит о важности выхода за грани бумажного листа. Чувствуется, что для него о неестественности свидетельствует как раз замкнутость поэзии.
Впрочем, остановимся подробнее именно на игровом начале. Вышедшее в 90-е «Гадание по книге» представляет собой сборник стихов и эссе с проделанными внутри дырами. То есть буквально: книга зияет дырами. Одно из первых произведений – инструкция: как гадать. От читателя-игрока требуется определённым брасом кидать игральные кости сквозь эти дырочки в книге. Читать можно в соответствии с тем результатом, который выпадает. Принцип прост, но сама верстка изобретательна. Здесь может вспомниться опыт перформативной поэзии Льва Рубинштейна, но при некоторых сходных решениях два поэта исходят из разных предпосылок и имеют разное же целеполагание. Рубинштейн вводит в перфокарты непредставимые, нематериальные, умозрительные конструкции, которые парадоксально резонируют с формой повелительного наклонения, создавая невозможный «романтический» эффект недостижимости. Об этом как о сбое в системе выполнения алгоритма, сбое в чёткой логике концептуализма пишет Гройс. Для критика это выход из структурализма к постструктурализму. Вознесенскому же чёткая логика алгоритма вовсе чужда, ему незачем её опровергать, она лежит в иной системе координат. Язык для него не структура, ему ближе хайдеггерианская логика: язык как путь, язык как динамика, как влекущее. Язык для него существует как субстанция, из звучания и жизни которой могут произрастать образы и смыслы. Элементы языка в такой перспективе обладают субъектностью, собственным движением и динамикой, никакой границы у языка нет: созвучия и отзвуки могут встречаться в английском и русском, создавать такие сопоставления, что видимые образы будут за ними едва поспевать. Взаимодействие со зрителем для него завязано не на ограничениях и невозможностях, а на «я даю тебе все карты в руки», на свободе интерпретации и всевозможности. Все, кто когда-либо гадали по книге, понимают, что, в сущности, самое важное там – это интерпретация, и чем она веселее, необычнее и абсурднее, тем лучше проходит сеанс гадания. Дело не столько в хороших совпадениях, сколько в возможности реципиента что-то с ними сделать, зритель тут становится полноценным соавтором. Просто совпадения – не панацея даже в игре в «изысканный труп». (Собственно, именно сюрреализм является ещё одним важным понятием для Вознесенского.)
Партиципаторные элементы включает в свою поэзию поэтка Софья Суркова. Пока что не оконченный текст «Выгляни в окно» представляет собой путешествие среди гиперссылок, выбор которых зависит как от фазы луны за окном, так и от личного желания игрока-интерпретатора. Локации, к которым нас ведут гиперссылки, сказочны, будто бы мы находимся в средневековой повести или в игре, стилизованной под рыцарский роман: «отправиться на рынок дракона», «горделиво шествовать с гирляндой из веток ивы и полупустых лип на плечах», есть и локация «страна светло-зеленых вод» (впрочем, может выпасть и вариант «лечь на пол и плакать»). Сама поэтика Сурковой развивает ветвь Велимира Хлебникова; как справедливо заметила Оксана Васякина в предисловии к книге «Лазурь и злые духи», игровое, головокружительное, перетекающее, сюрреальное и неустойчивое начало тут не связано с инфантилизмом: мир Софьи величественен в своём размахе от древнейших живых существ до VR-миров будущего. Соединение архаичного и новейшего, уже-не и еще-не для Сурковой естественно, игра тут – способ существования, познания мира, который заведомо кажется нам нерасколдованным, ведь даже сама авторка тут не демиург, а субстанция, перетекающая из одной ипостаси в другую. Её пожирают слова, звуки, липкие субстанции языка, а потом они же вновь формируют уже иного рассказчика с иным ртом, глазами, точкой и диапазоном зрения. Непостоянность и неустойчивость, цикл жизни поэтического языка, темпоральные створки и складки прошлого и будущего, VR-миры и рыцарские баллады позволяют говорить о том поиске, который проводит молодое поколение поэтов и поэтесс в современной России. Следуй за языком как за проводником и не бойся стать его частью. Язык не как структура, а как существо или как Вещь, подобная всем фантастическим тварям на страницах «Лазури и злых духов». Эта оптика уже не связана с шоком от объектно-ориентированной онтологии Грэма Хармана, с шоком от сопоставления и от постмодернистской отмены «низкого и высокого». Софье близко раблезианство (вновь Бахтин, вновь игрища) – цитирую Васякину: «поэзия слизи и мягких тканей». Современная поэзия – это метаболическая поэзия, поэзия перетеканий, неустойчивости, метаморфоз. Поэтому рыцарская баллада здесь уместно сосуществует с интерфейсом праздного путешествия по гиперссылкам и отсылает к VR-мирам, подобным тем, что выстроили на идущей сейчас выставке «Облачное хранение» Полина Абина и Алексей Себякин: «Alles habt ihr gut gemacht / Und die liebe Sonne lacht (Вы всё сделали хорошо, и солнышко смеется)» (2023). Это эстетика цифровой и природной неразделимости (в случае Сурковой двигателем и плавильным котлом являются язык и речь, в авторском прочтении стихи звучат очень уместно и органично).
В 90-е Вознесенский спускается на самый низкий уровень дискурса – туда: в мир заголовков «СПИД-Инфо», жёлтых газет, сплетен всеобщего потребления, – спускается и достаёт оттуда, как старатель – золото, необычайно сильные в своей искренности и истинности словообороты. Это абсолютно справедливое замечание: Вознесенского действительно завораживает реклама, кричащие заголовки, кислотные цвета, игра со шрифтами, темы на грани фола. Всё это сочетается у него с религиозно-мистическим пафосом (а религиозный пафос для него – тема самоидентификации, собственной идентичности, связанной с «поповской» фамилией) и абсолютно серьезным вопросом о будущем страны. Да и не только страны, всего мира. Сюрреализм для Вознесенского – это психогеография во времени и пространстве. Он создает карты встреч, карты Москвы, России в сюрреальном духе. Психогеография новой, пустотной Москвы являет себя в перформатичной инсталляции Вознесенского «Пасхальная инсталляция» и в псалмах «Россия воскресе», которые необходимо зачитывать, стоя у неё. Инсталляция – это огромное пасхальное яйцо, приставляющее геополитическую карту мира с зияющим провалом по контуру СССР. «ХВ» благодаря софитовой тени читается как «XX В». Сквозь провал виден поддерживающий каркас, напоминающий строительные леса замороженной стройки, остановленное становление – явленная пустота, взбесившаяся энтелехия, прореха на карте и, в сущности, попросту провал. Всё, кажется, очень доступно и просто. Сегодня подобная инсталляция вкупе со стихами («Россия Воскресе», безразмерный молитвенный сонет) выглядит на грани фола: или имперский ресентимент, эксплуатирующий религиозную риторику, или первый акт панк-молебна «Pussy Riot». Аргументы можно найти как к защите первой интерпретации, так и к апологетике второй – текст псалмов в помощь. Но каков же центральный образ, поэтический и художественный нерв как инсталляции, так и ее поэтического сопровождения, как точно этот образ состыкуется с сегодняшней реальностью?
Молитвенный сонет не постфактум-комментарий к инсталляции, равно как и инсталляция не является попросту иллюстрацией к псалмам: для полного раскрытия их необходимо мысленно соединить в единое произведение искусства. Сделать это можно, задав вопрос: в какой позиции по отношению к России находится сочиняющий стихи и возносящий молитвы? Автор и лирический герой поэтической молитвы находится в Москве: он многократно подчеркивает это, вводит многочисленные топонимы, делает акцент на конкретике нахождения внутри ситуации. Но, как мы видим в инсталляции, Россия – это Пустота. Следовательно, полифоническая молитва (а она именно полифоническая, несмотря на постоянное возвращение к голосу поэта, его ведущей мелодии, иные голоса не могут перестать терзать текст, один из псалмов так и назван – «Многогласый») доносится из Пустоты.
Этот простой, но точный образ безвременья и не-места оказывается конгениален сегодняшнему состоянию многих людей: тезис «Where are we? Nowhere now» звучит на разные лады в беседах независимо друг от друга [1]. Нигдейность и потерянность становится тем, что соединяет «Пасхальную инсталляцию» с современностью. Важно, что из Пустоты доносится именно что многоголосие, а не диктат одного голоса или одного непререкаемого утверждения: лирического героя терзают как иные голоса, так и сомнения («Псалом слома») в необходимости воскрешения. Бродящие в пустоте Марии вытаскивают из волос репейники Империи. Пустотная полифония. Но стоит примириться с этим образом, как вновь не даёт покоя вопрос: а что есть, в сущности, эта Пустота? Уже отмечалось, что Пустота у Вознесенского это и портал для вуайеризма, и сам вуайерист, и звук, и явление героя... в случае «Пасхальной инсталляции» Пустота – это топос. Ещё Хайдеггер отметил, что Пустота не есть Ничто. Следовательно, она нечто, более того, нечто конкретное, ведь у нас есть картография Пустоты, опять-таки данная нам поэтическим молебном. Это Москва, но не просто привычная нам столица, а город мерцающей метафизики, где правит бал экзальтированная мистика; можно сказать – это Москва, в которой происходит какой-то сюр. Это метафизика шлягера, своей вампирической природой по отношению к массовой культуре она сходна с кэмпом. Этот мир находится на грани между пошлостью и божественностью. Подобный мистицизм всегда оставляет возможность усомниться в истинной природе ощущаемых чудес: он близок как к пошлым спиритическим сеансам, так и к возвышенным мистериям служб, как к декадентским разговорам с призраками, так и к неопалимой купине.
У Вознесенского же мы читаем: «...России последний евангелист я – Голгоф, принимаемых за Пречистенки» – миссионерство поэта может оказаться как истинным, так и комичным. Всё вновь на грани фола. Неслучайно многие поэтические приемы Вознесенского строятся на оговорках, словосхожести, misunderstanding божественной природы. Слова скользкие, взгляд не может уцепиться, срывается вниз, запинается, оговаривается склизкий язык. Можно играть в слова и проиграть. Москва Вознесенского – это место, где победил III Иррационал, где балом правит сюр. Неслучайно поэт посвящает целую статью выставке Сальвадора Дали в Москве. Рефреном мельтешащее суеверное косноязычие – «чур меня, сюр!» – относится не только и не столько к самому Дали, сколько к мироощущению Вознесенского касательно современности. Лукавое «чур меня!» и славословие СЮР-РЮС (russe) становятся ещё одним паззлом – осколком скорлупы развитого пасхального яйца. Пустота у Вознесенского стойко ассоциируется с Дали в частности и с сюрреализмом в целом, в статье «СЮР. Заметки об академизме-XX» вырубленные пустоты в таёжном лесу, увиденные с высоты самолета, поэт вспоминает как зримое явление сюра на территории бывшего СССР. Пустота может быть «натянута на Лицо как чулок или маска ОМОНовца во время операции» – то есть Пустота может быть и костюмом, и не разделимой с лицом маской, и точечными вкраплениями, аномальными явлениями, и выжженным полем.
Тенденция к топологической и перформативной практике переобозначения, переназывания мест, апроприированных чем-то или кем-то враждебным, и к поиску собственной идентичности через переобозначения нашла свое выражение в проекте «Ещё одна картография. Геопоэтическая прогулка» Ульяны Барановой, Михаила Бордуновского, Нико Железниково, Владимира Кошелева и Артёма Ушканова. Участники прогулки перемещались по Бутырскому району Москвы и переозначали окружающее: «Пространство района переопределяется как мыслящее тело кита, а участники уподобляются пророку Ионе и путешествуют внутри тела <…> кроме того, каждой точке присваивается название соответствующего органа в теле кита». Так, через противопоставленную геополитике геополитику, Яблоневый сад становится «чистым югом мозга», улица Руставели – «внутренним проспектом хорошей фонетики», пристройка к Московскому молодежному театру Вячеслава Спесивцева – «забытой подворотней тех эпистемологических нарезок». В «Отчёте» участники предоставили фотодокументацию прогулки и сопутствующих перформансов, явив тем самым документ, относящийся к «юрисдикции» современного искусства. Интенция к переназванию топосов, апроприированных городской властью, трансформируется в акты искусства во время перемен, сдвигов, когда оказывается, что слитые намертво места и названия расходятся, расслаиваются, не выдерживая сейсмических толчков смены парадигмы. Старое отваливается и на его место приходит пустота – тогда-то и приходят художники, чтобы заявить в том числе своё право на место. В этом пламенном манифесте важно отметить, что картография «ещё одна»: она оставляет возможность иных картографий, других невозможных рассказчиков и не претендует на гегемонию в дискурсе – таким образом не заявляя свою позицию в качестве властной.
***
Но вернёмся к Вознесенскому и нисхождению в «СПИД-Инфо». В Москве поэт принимает Пречистенки за Голгофы и наоборот, там происходит столпотворение смыслов, рифм, значений, духовное и мирское мерцают и переливаются друг другом, иногда уничтожая друг друга, иногда сливаясь в странный кристалл со множеством граней. Да, Вознесенский иногда спускается в самый низ, чтобы найти там нечто истинное.
Но можно ли сегодня без лукавства сказать: «да, только вирусные заголовки "СПИД-Инфо" шокируют нас своей грязью, пошлостью! только рассылки в вотсап "перешли десяти людям иначе год тебе счастья не видать" становятся вирусным бредом»? Поэт Егор Зернов тоже спускается в самый низ, но он подсвечивает удивительную особенность современного молодёжного культурного кода: те фамилии, имена, термины, понятия, которыми абсолютно серьезно сыпал Вознесенский, которые были кодом «распознавания своих» в СССР – стали мемами, потеряли свое значение, стали тем самым языковым шлаком, ширмой, за которой может ничего и не быть! Дискурс, парадигма, тэхнэ, различание, машины-желания в общем пространстве потоковой и стоковой речи крайне органично существуют на одном уровне с вирусными заголовками, Моргенштерном и РАЗОШЛИ ДЕСЯТИ ДРУЗЬЯМ. Это уже не смешение до неразличения высокого и низкого – это, смотря правде в глаза, аннигиляция загнанных в угол понятий, лишившихся осмысленного употребления.
При этом Егор старается увидеть чувственную сторону молодёжного интеллектуального новояза: сквозь запинки, оговорки, несуразности проглядывает истинный нерв времени. Зин «ВЫЖИГАНИЕ» посвящен разрыву с материнским, посвящён тому, что может оказаться сильнее семейных уз. Канцелярит, глитчи, сбои, – всё создает тревожный фон из запинок; прочитанное на улице, в месседжере, в витрине магазина, – всё вдруг сливается в одно виртуальное пространство, которое парадоксально оказывается самым страшным и реальным. Молодой человек перед лицом катастрофы: за что тебе держаться? Время дискурса и гламура ушло. Примечательно также, что презентация зина проходила не в виде живых чтений, а в формате показа видеофрагментов, во время которых сам поэт, стоя перед залом, показывал таблички с указаниями вроде «НЕ ШЕВЕЛИТЕСЬ». Именно такое дополнительное перформативное измерение Егор считает неотъемлемой частью своего поэтического языка.
Прямым источником и вдохновителем для Егора (как несложно догадаться даже по тому, как выглядит его текст) – драматург, писательница и эссеистка Эльфрида Елинек. Такая нетипичная немецкоязычная вдохновительница повлияла на Зернова в том числе и в используемой им форме: Егор постоянно обращается к драматическим текстам. Метод Елинек – насилие интеллектуального абсурдизма: садизм, мазохизм, проникновения, потом вдруг размышления о музыке в духе Томаса Манна, потом вновь судорога. Спазматическое, судорожное письмо и такая же речь характерны для многих работ Зернова. Впрочем, он не лишен и своеобразного юмора. Вот один из показательных текстов: «АПОЛОГИЯ. Моргенштерн-монодрама»: пародийная судебная тяжба, где эксперта защиты играет хор (явный оммаж первым образцам театра) с лицом Бориса Гройса, а судья является в виде звука, перегруженного кашлем. Хит интеллектуальной молодёжи «Коммунистический постскриптум» оказывается применён к разбору текстов рэпера Моргенштерна: заведомо комический эффект сменяется довольно серьёзной и увесистой защитой. Аутентичные философские схемы из учебника перекликаются с прямыми цитатами из треков Алишера Моргенштерна – замысловатый узор лишь иногда пульсирует проблесками истины, смысла, какого-то разумного чувства в общем хаосе и блюре.
И вновь сближение: Вознесенский воспринял философию Хайдеггера и даже встречался с ним. «Этого никогда не было, но оно не перестаёт быть от этого правдой» – так можно описать метаморфозы Хайдеггера в автобиографическом очерке о встрече философа и поэта. Из воздуха материализуется лицо-маска Сартра и наплывает на лицо Хайдеггера, сидящего перед Вознесенским. Занятно, что Вознесенский в рассказе о Хайдеггере использует около-драматургическую форму: выделяет свою и философа фамилии, наклонным шрифтом обозначает действия – это очень театрально, перекликается и с Елинек, у которой про Хайдеггера есть целая пьеса «Гора мертвецов», повлиявшая на поэта Зернова.
Ещё наметилась вот такая рифма: Вознесенский известен как автор романса «Миллион алых роз», а у Зернова есть «ОТКРОВЕНИЕ-АЛЛЫ», абсурдистская пьеса со вставками из вирусных плашек по краям сайтов для просмотра фильмов и чтения книг. Современное «СПИД-Инфо». Егора интересует прежде всего инфернальное в этих заголовках, то, что задаёт динамику отторжения-привлечения. Во всём этом лейтмотивом остается излюбленная Егором тема городского фольклора: найденные смертоносные кассеты со страшными видеозаписями, рассказы о шаровой молнии, городские сплетни, – в общем-то, типичная низовая культура. Но всё же неотъемлемая часть современного языка, к которому обращается Егор – интеллектуальная традиция замкнутых групп молодых людей, так называемая легенда о мае 68-го года. Эстетствующий богемный образ жизни Егор сталкивает с реальностью опять же в форме пьесы, только с куплетами и припевами.
Если у Сурковой реальность строится благодаря субъектности элементов языка (подход, близкий словотворчеству Вознесенского), то у Зернова языку и всему, чем он нагружен, приходится капитулировать перед сбоями – уже не просто мелкими неполадками, а самим принципом построения реальности. Абсурд, мазохизм и садизм, идущие от Елинек, пронизывают все культурные слои, которые пронзает то или иное слово, термин, понятие, скрепу. Всё дрожит, дребезжит, нервно хихикает. То, что было довольно дружелюбным сюром у Вознесенского (непонятным, сбивающим с ног, но, в общем-то, не смертельным), теперь стало пожирающим абсурдом у Зернова.
Неопределенность, непривязанность к одной ипостаси – вот что роднит уже взрослого, даже старого поэта Вознесенского в 90-е и молодых людей, поколение двадцатилетних, в двадцатые годы двадцать первого века. Позволю себе сентиментальность: финальная песня мюзикла «Юнона и Авось» начинается с обращения к детям двадцать первого столетья, и недавно я осознала, что это обращение ко мне и к тем поэтам, о которых я сегодня говорила. То, что Вознесенский наметил тогда – субъектность и движение языка, сюрреальная психогеография в пространстве и времени, раблезианство, игровое начало, органичное сосуществование глубокой архаики и виртуальных пространств будущего – развивается и имеет огромный потенциал сейчас. Пространство игры – это не пространство инфантильности, это пространство эксперимента, а значит, творческой свободы.
Поэты и поэтки, о которых я сегодня рассказала, не знали о Вознесенском во всей его сложности и разноплановости, они не его последователи и уж тем более не подражатели. Речь не идёт о застарелых приёмах, которые косплееры и стилизаторы используют из года в год, будто бы не замечая, что мир изменился и писать стихи на печатной машинке, никак от этого не дистанцируясь, уже нельзя. К сожалению, именно это произошло с каноническими поэтами стихограмм и фигурной поэзии советской формации. Молодые поэты, уловив творческий импульс Вознесенского, пошли дальше, не оставаясь безразличными к современности. То, что эти линии, подходы, модусы восприятия живы до сих пор и не стали олдскулом или памятником самим себе, является, на мой взгляд, признанием Андрея Вознесенского, комплиментом ему.
Из «Рабочего блокнота»
Цикл листов из «Рабочего блокнота» продолжает линию работы с собственным архивом, начатую книгой «Ветер по частям» (где материалом были стихи 2003-2006 годов, выложенные в «Живом Журнале»).
«Рабочий блокнот» использовался мной для записывания всего подряд зимой и весной 2005 года – в конце одиннадцатого класса. Здесь перемежаются черновики и чистовики стихов, школьные конспекты, списки дел, прослушанных альбомов и прочитанных книг, реплики и рисунки друзей. Собранные в «блокноте» разнородные записи, кажется, вполне создают картину этих странных месяцев – теперь, впрочем, частично скрытую от глаз.
– Андрей Черкасов
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
plastic(in) text
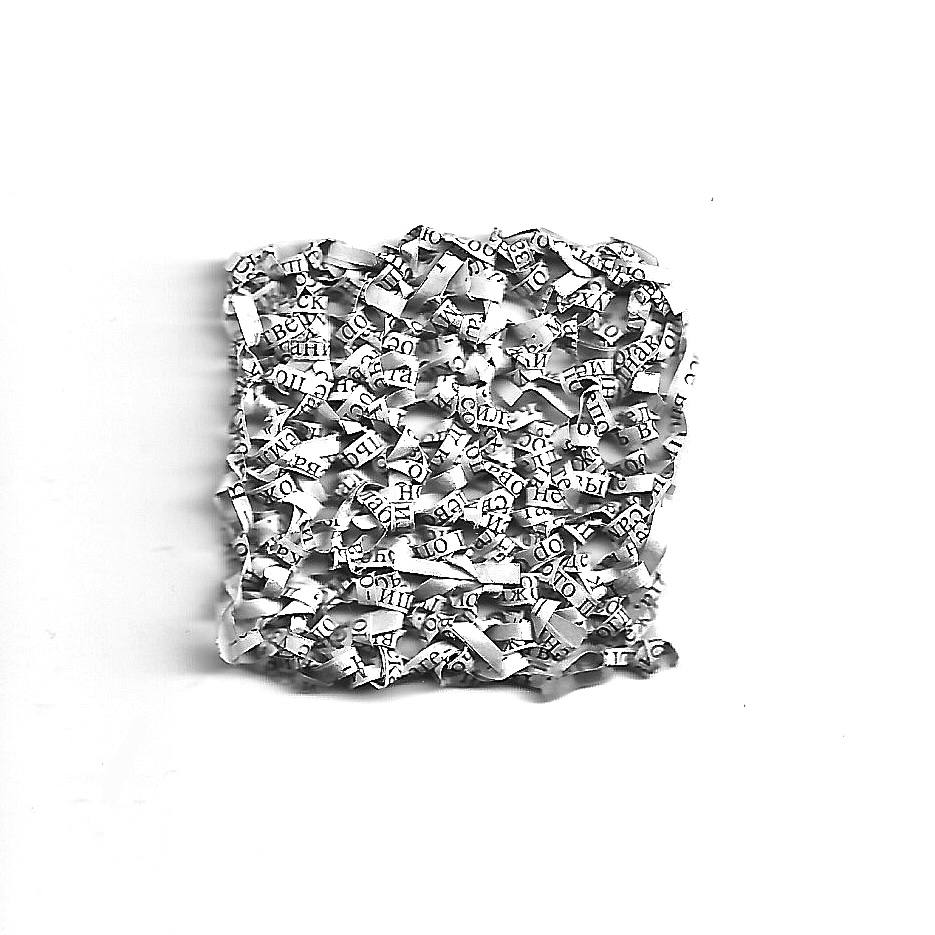
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Каллиграфия
Каллиграфия – это не «красивое написание» уже написанного, а некий особый формат поэзии, в котором поэтический смысл выявляется только в рукописном варианте. «Все слова, независимо от того, на каком языке они написаны, по форме написания соответствуют тому, что они означают» – эти слова Вальтера Беньямина как нельзя лучше описывают практику каллиграфии.
– Наталия Азарова

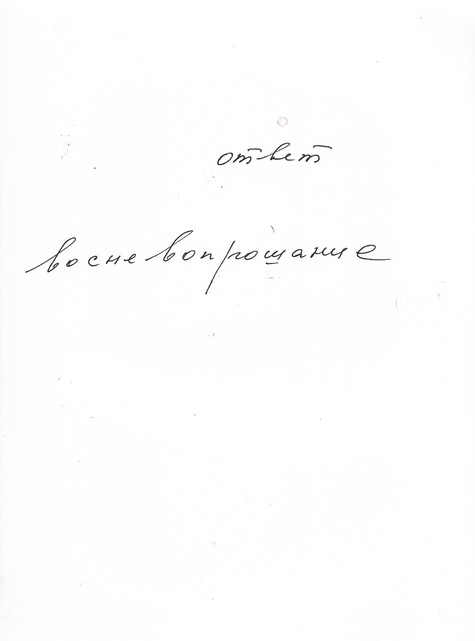
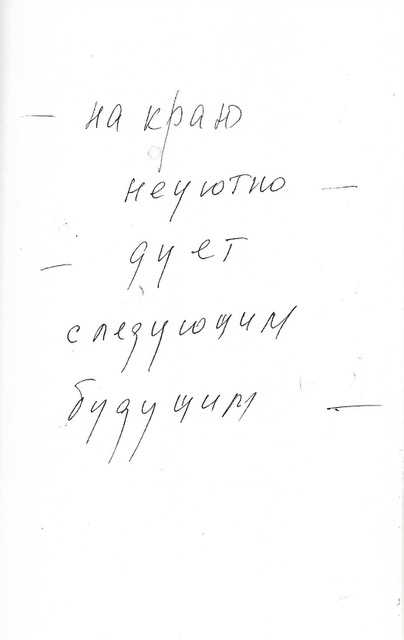
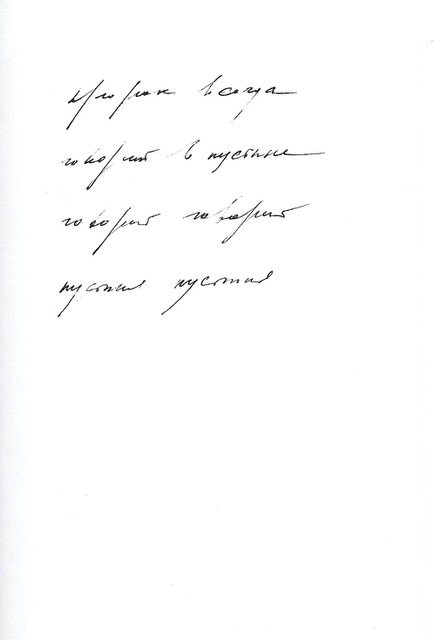
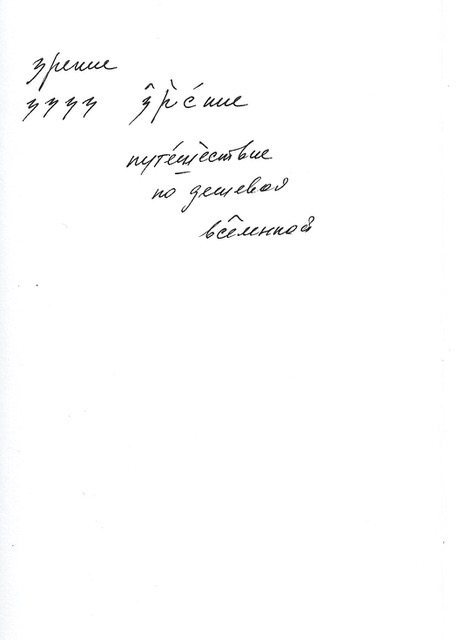
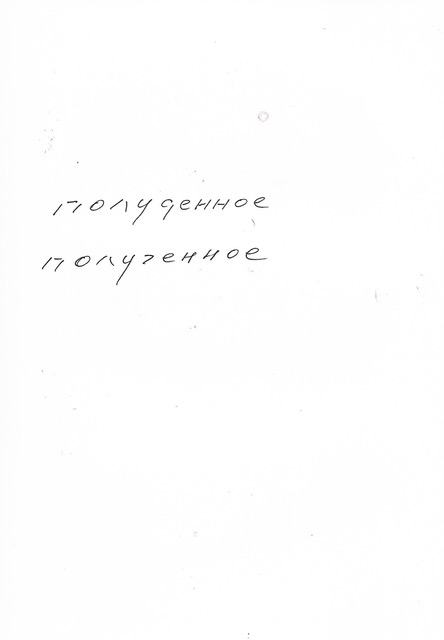
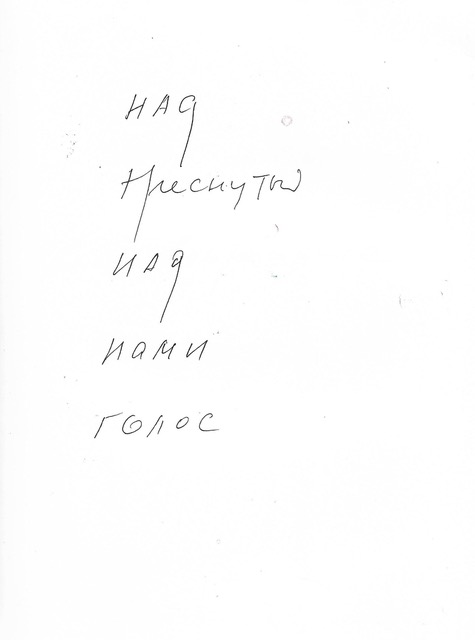
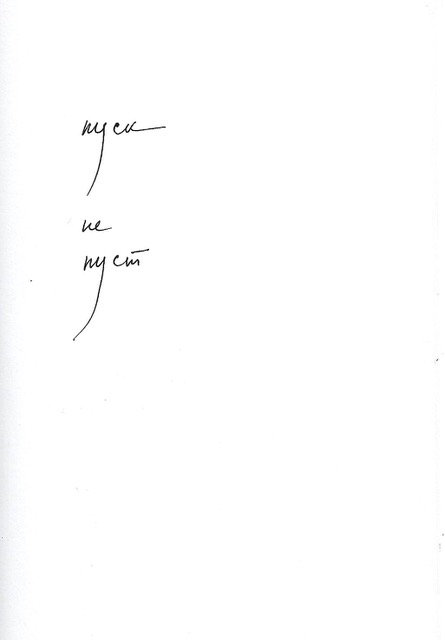
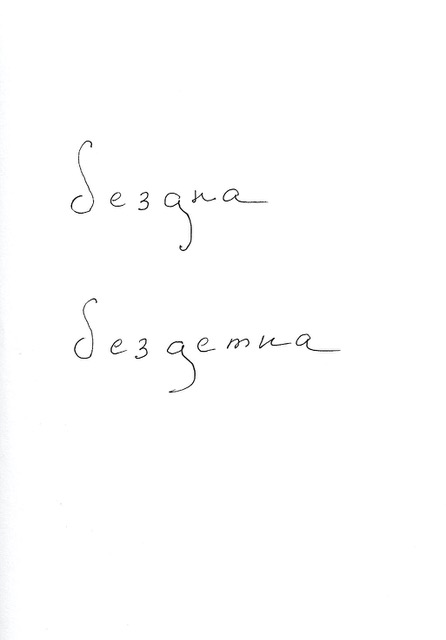
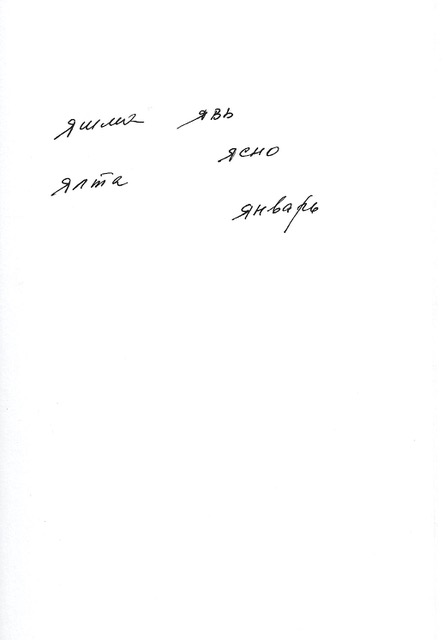
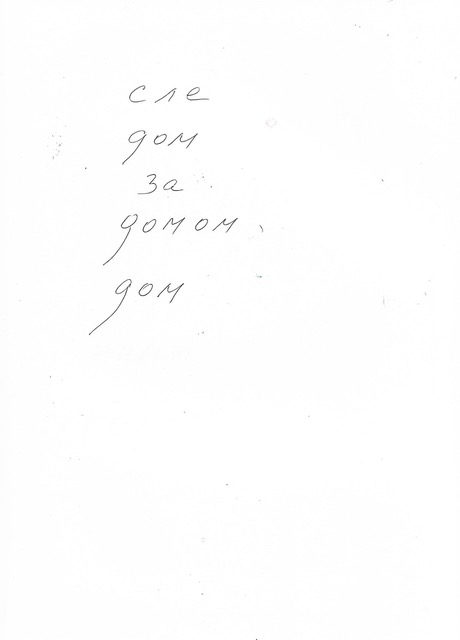
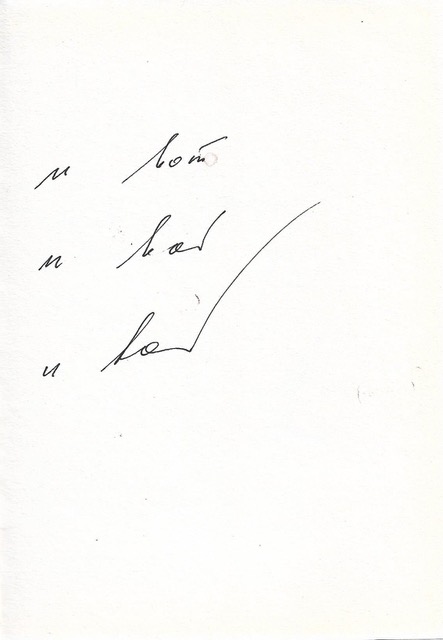
Палимпсесты (фрагменты тела)


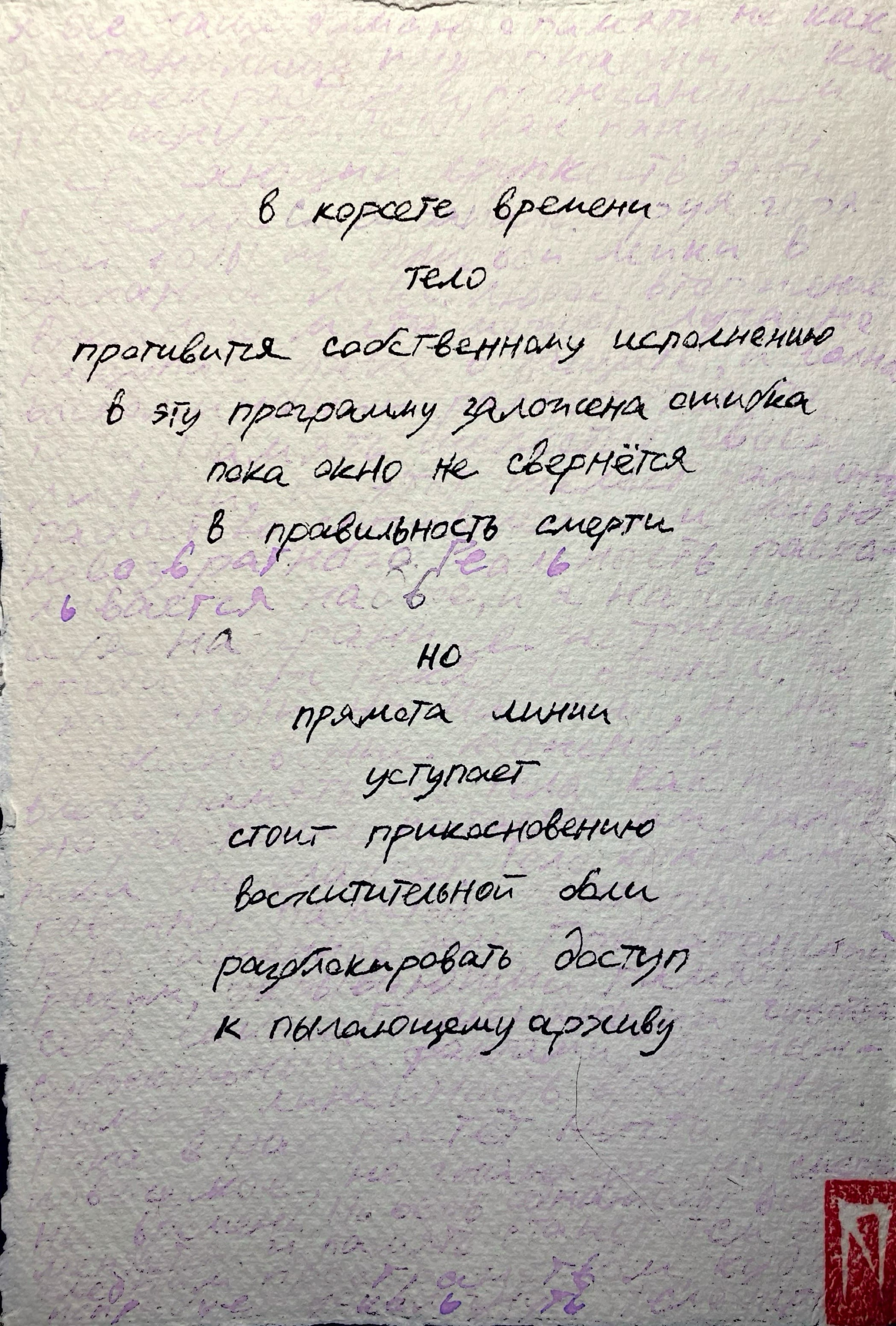



Четыре хайку
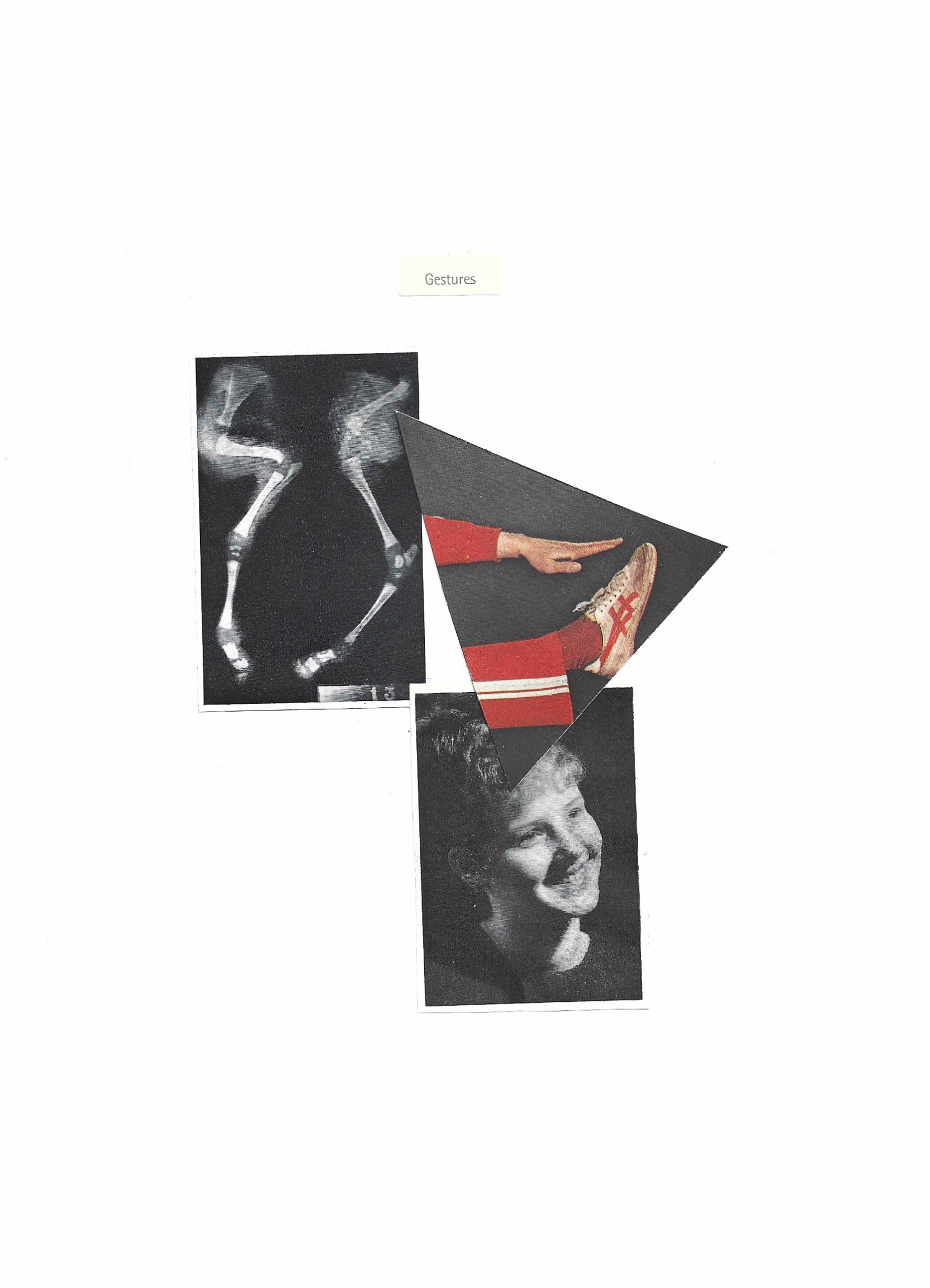

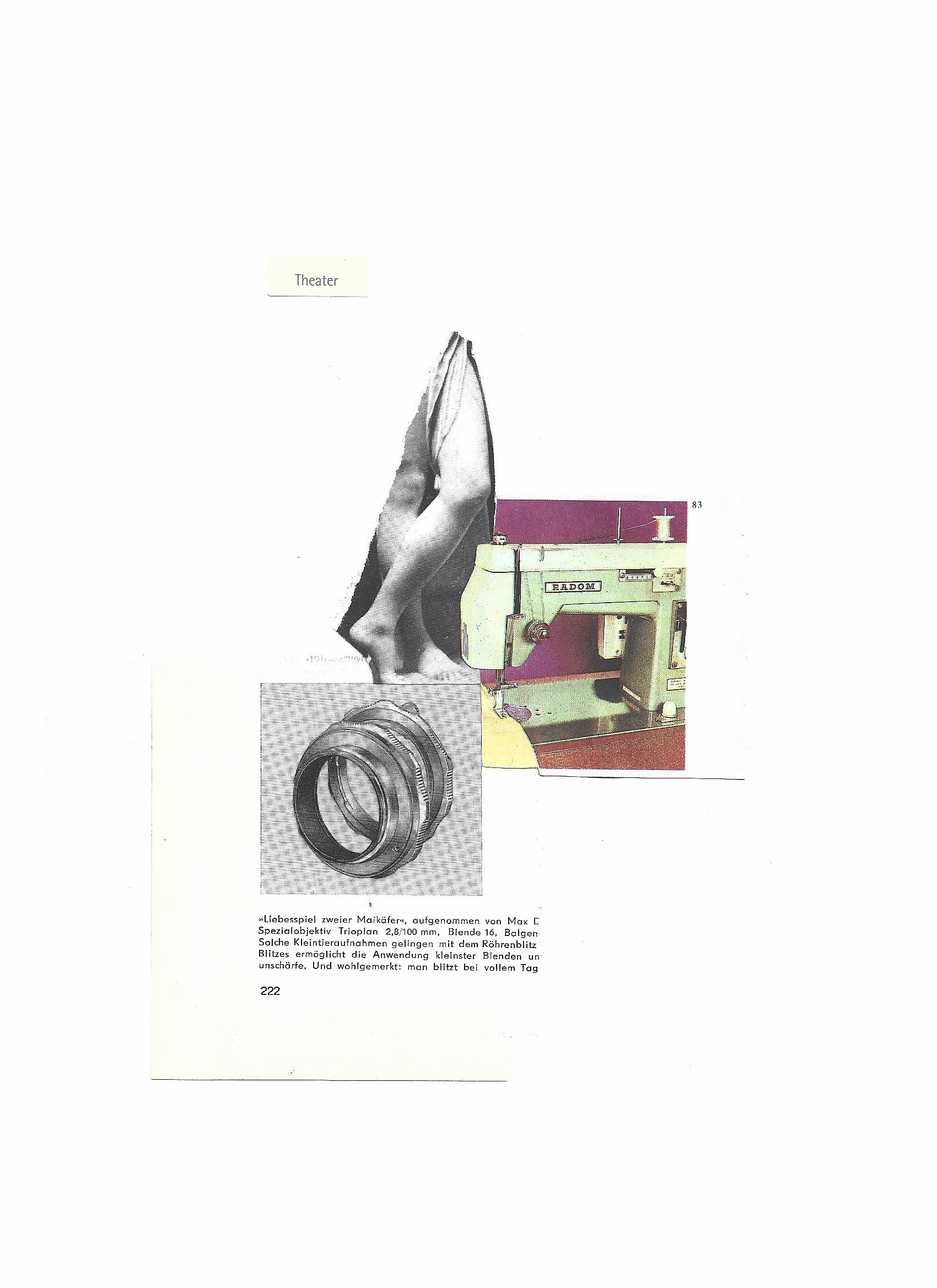
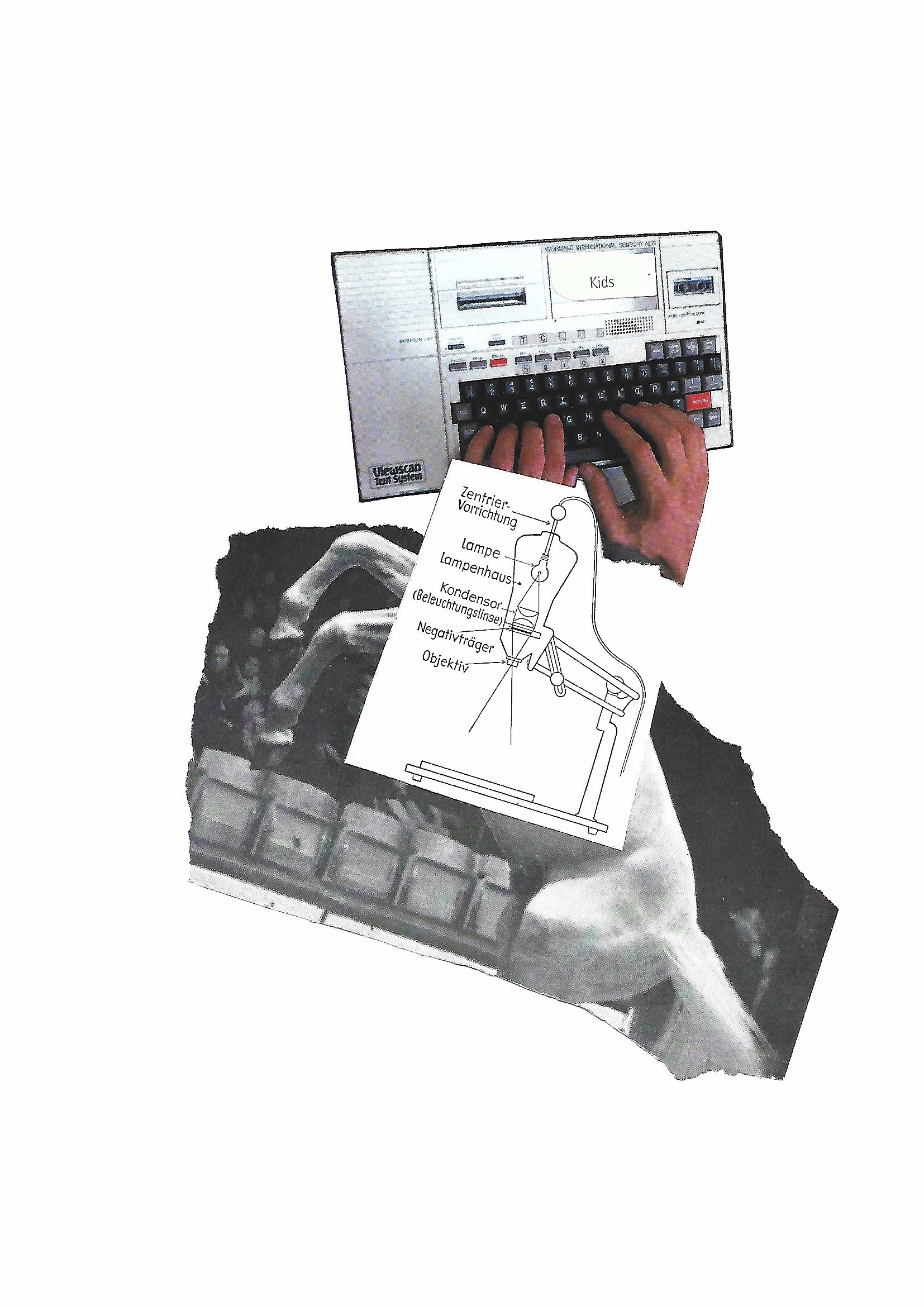
узоры из дополнительной книги
оттенки зимы
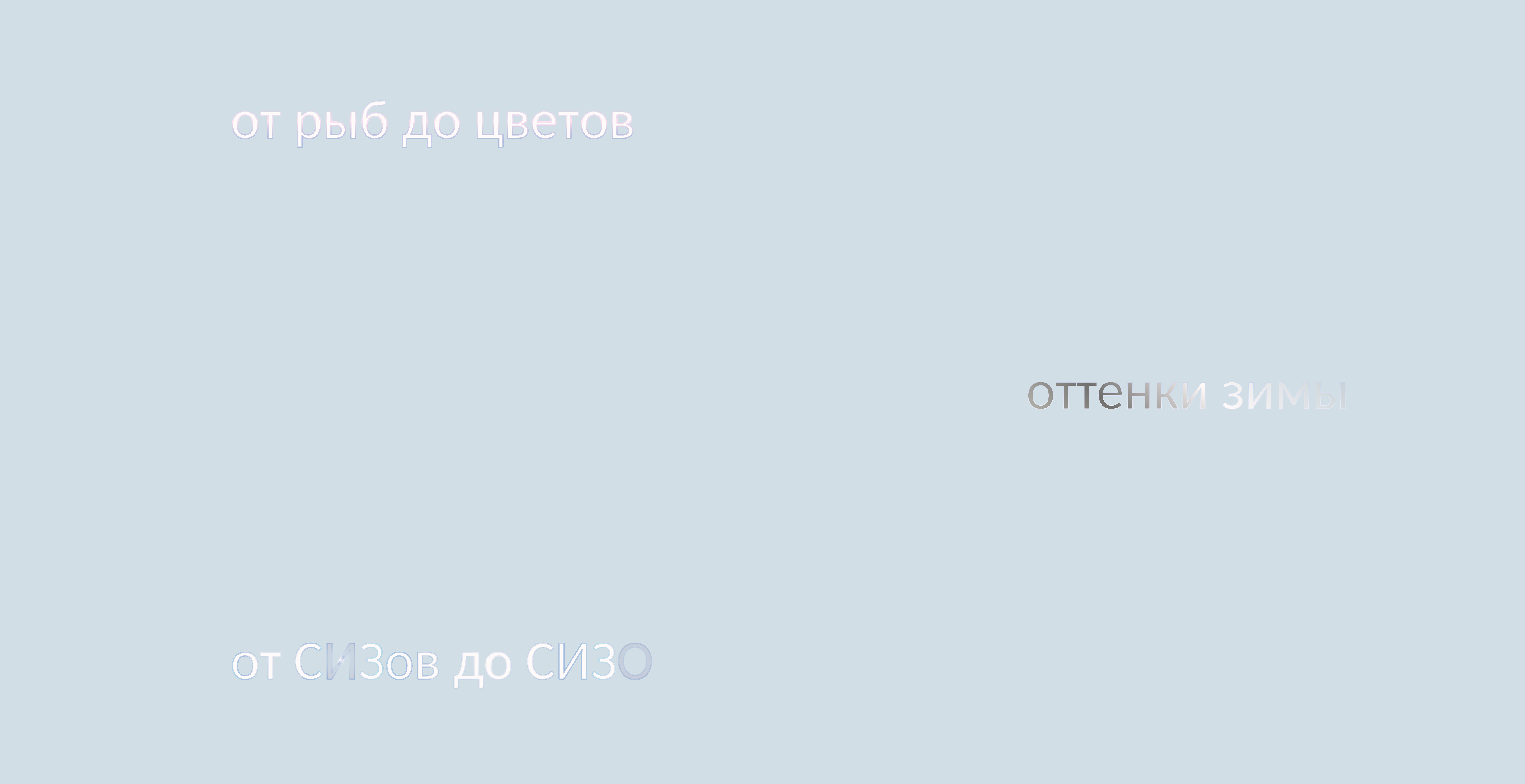



январь 2022
из книги роз
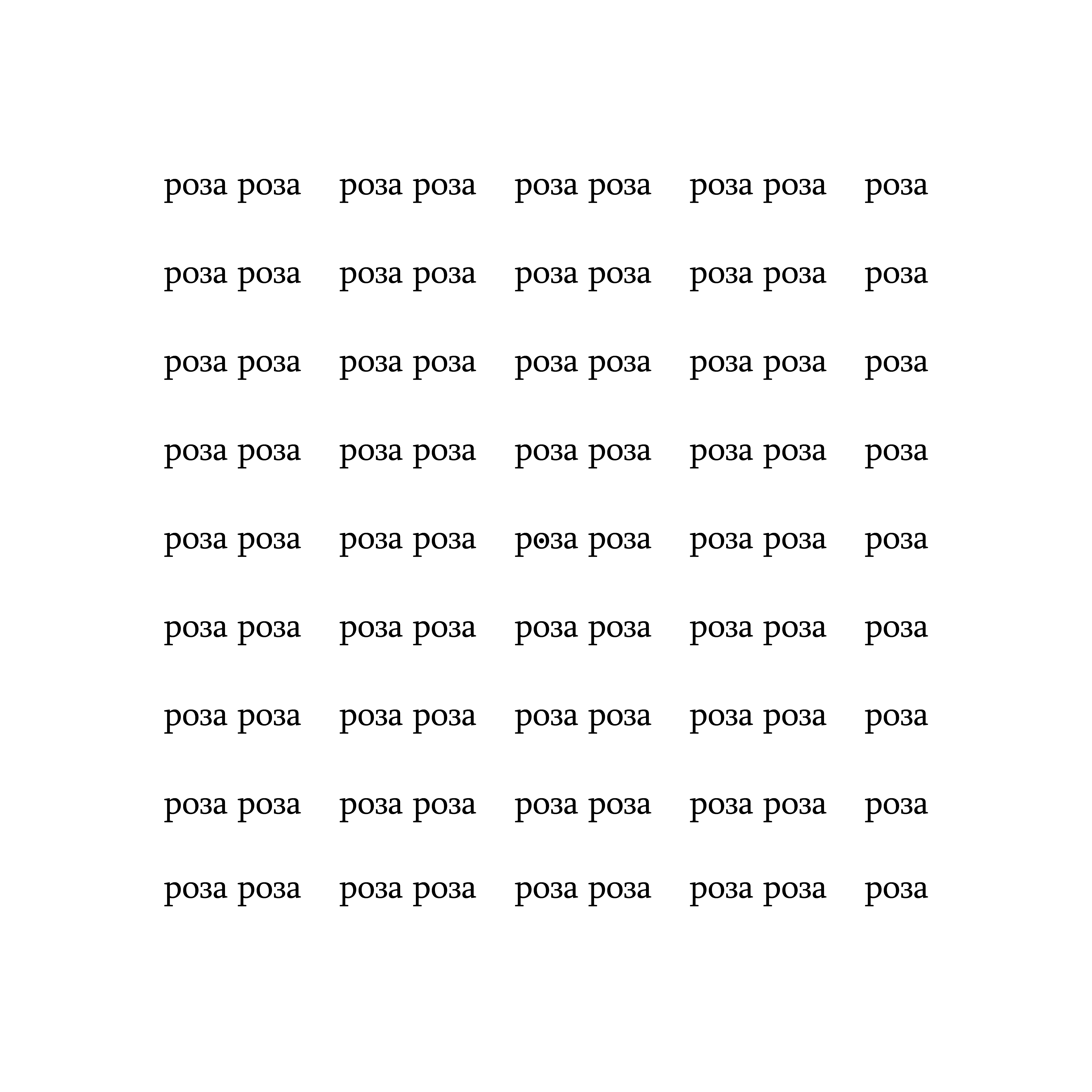



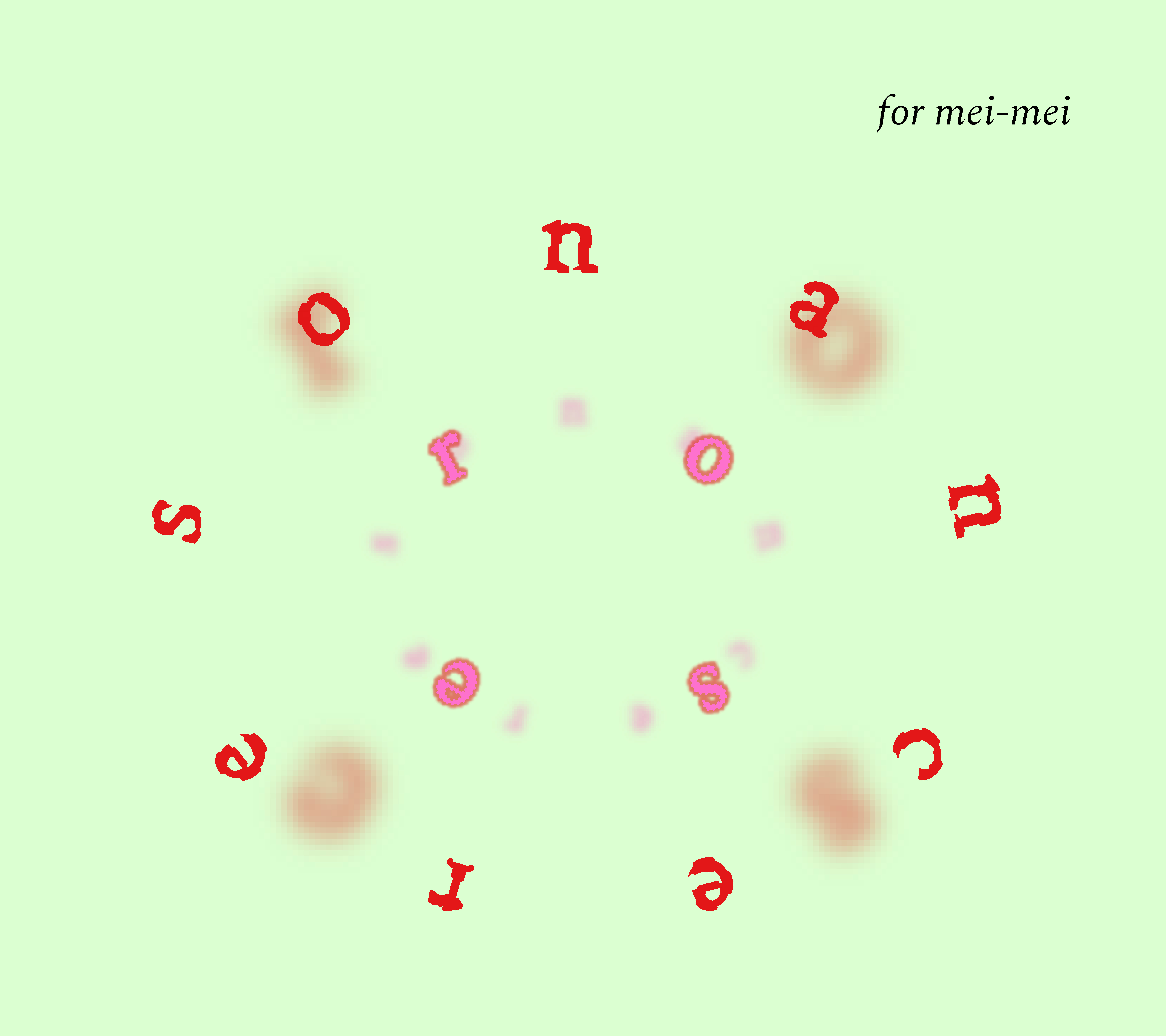
струнный квартет для саши кондакова – в четырех частях
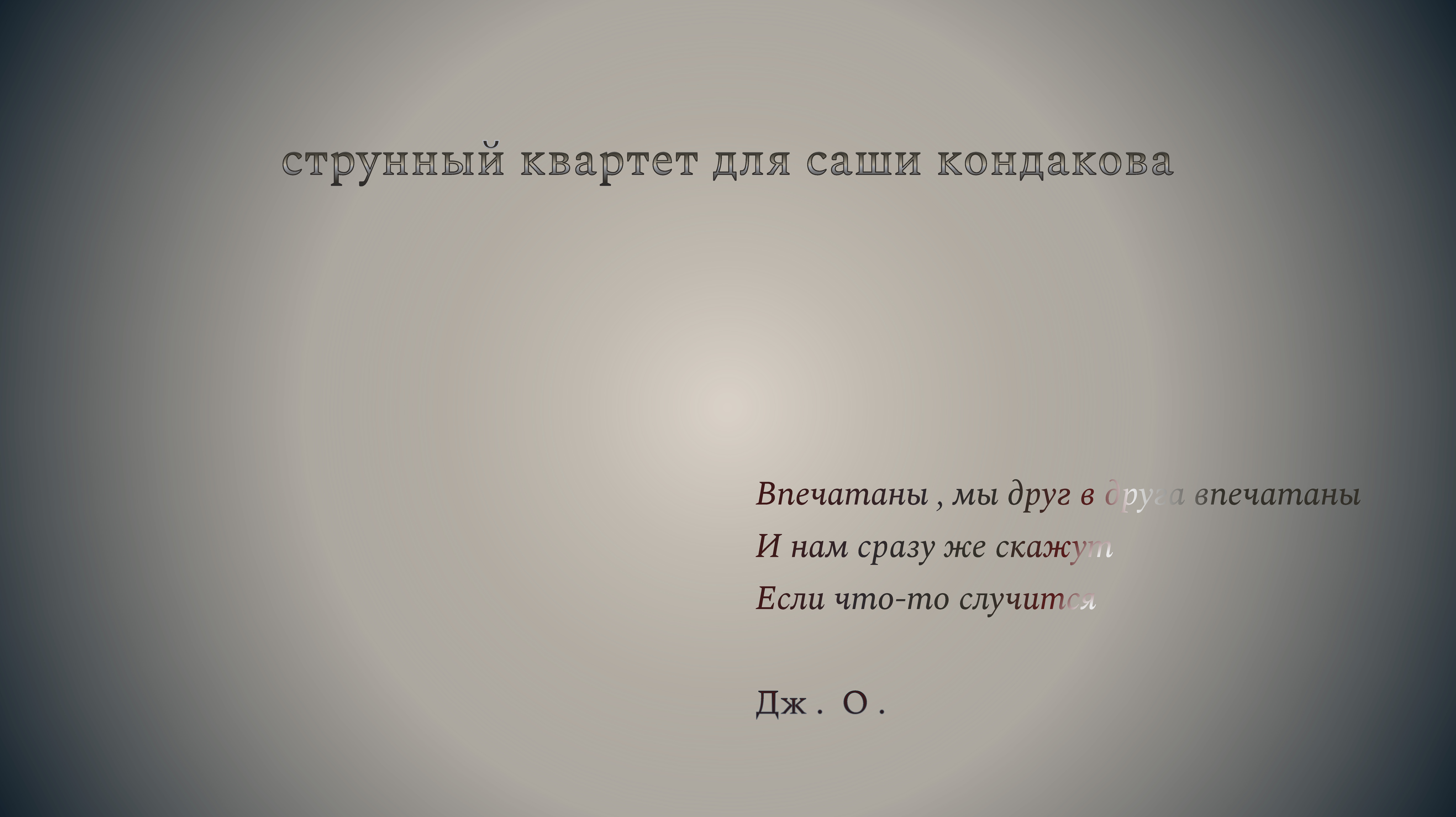
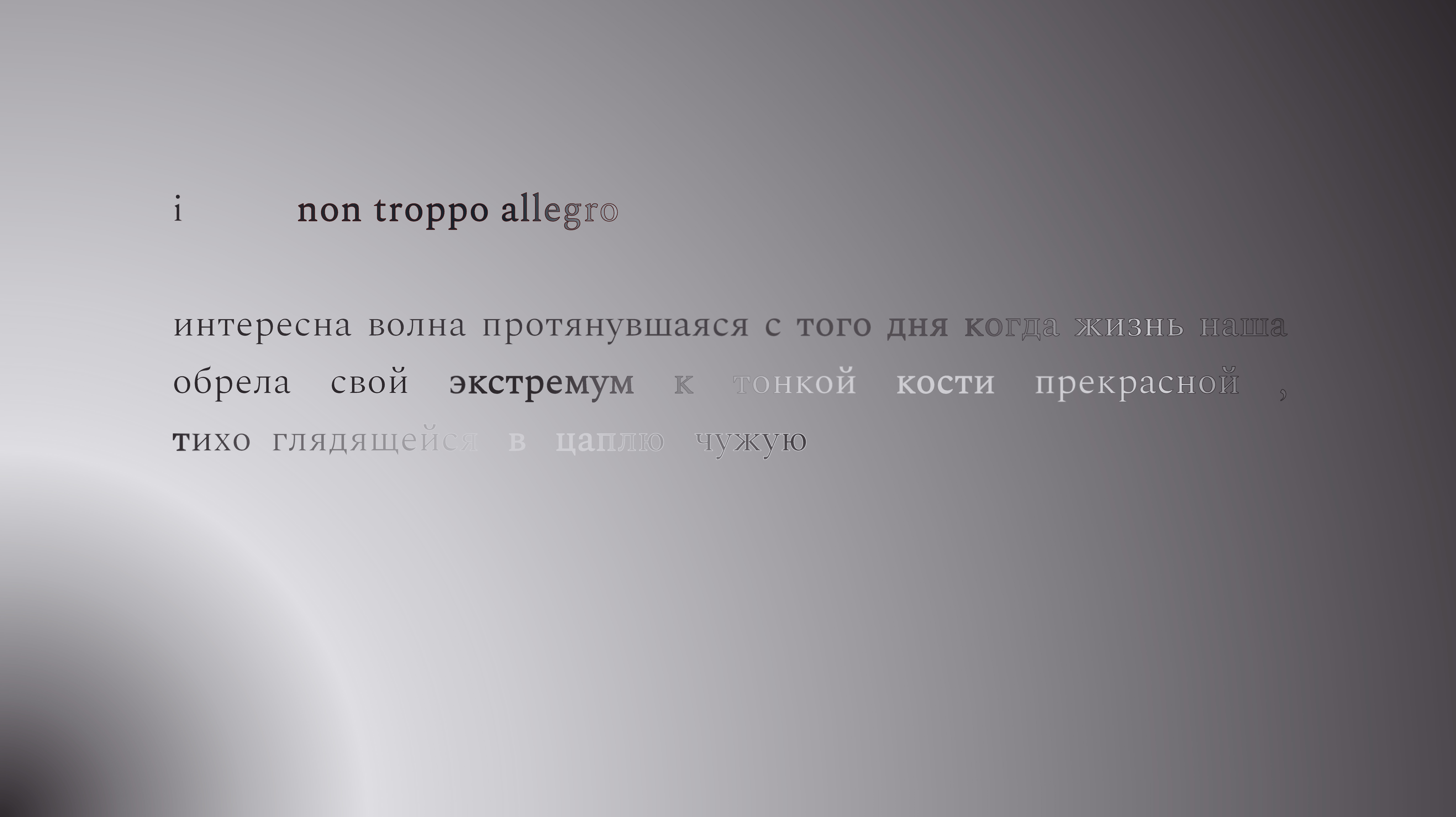
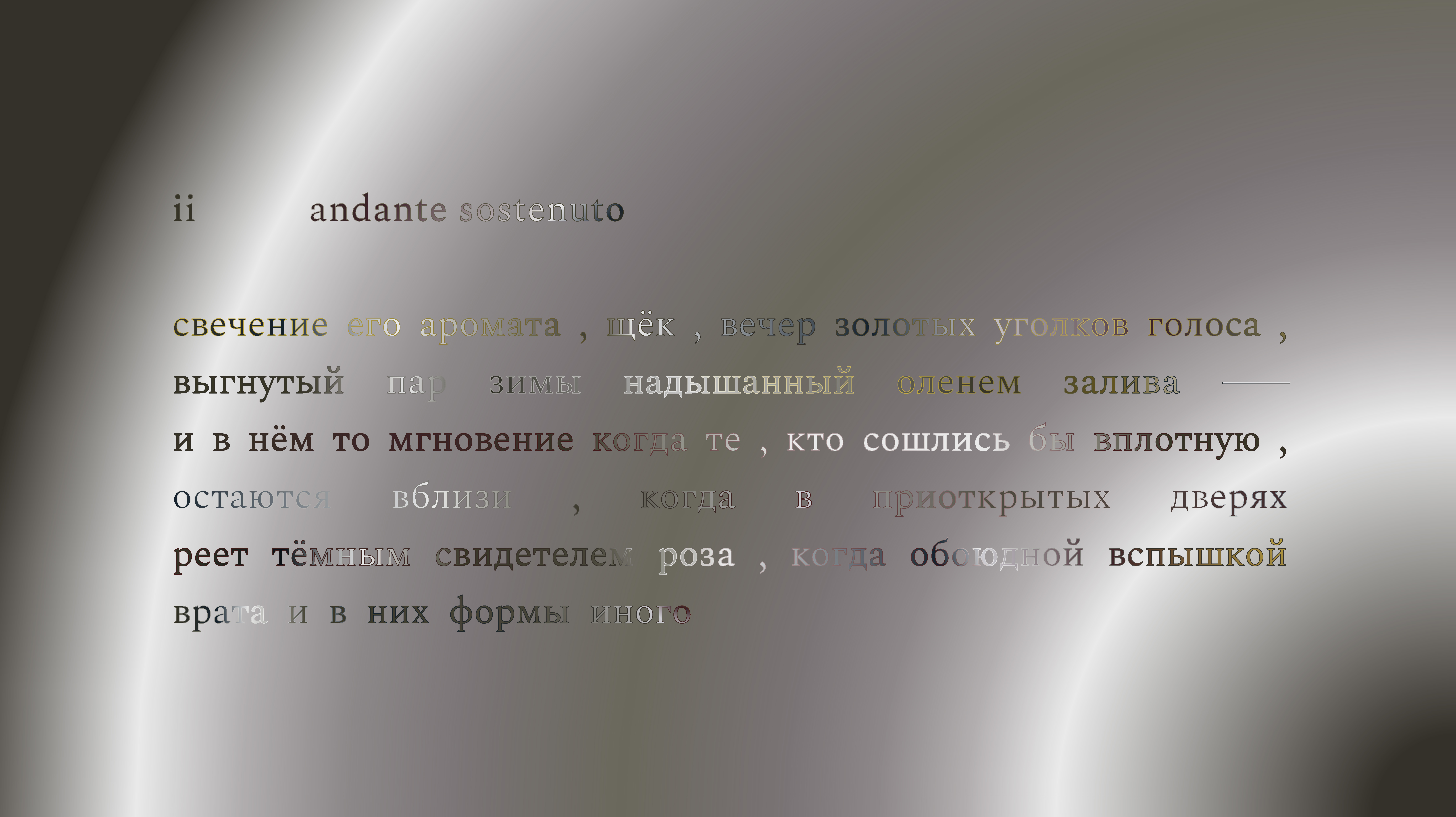
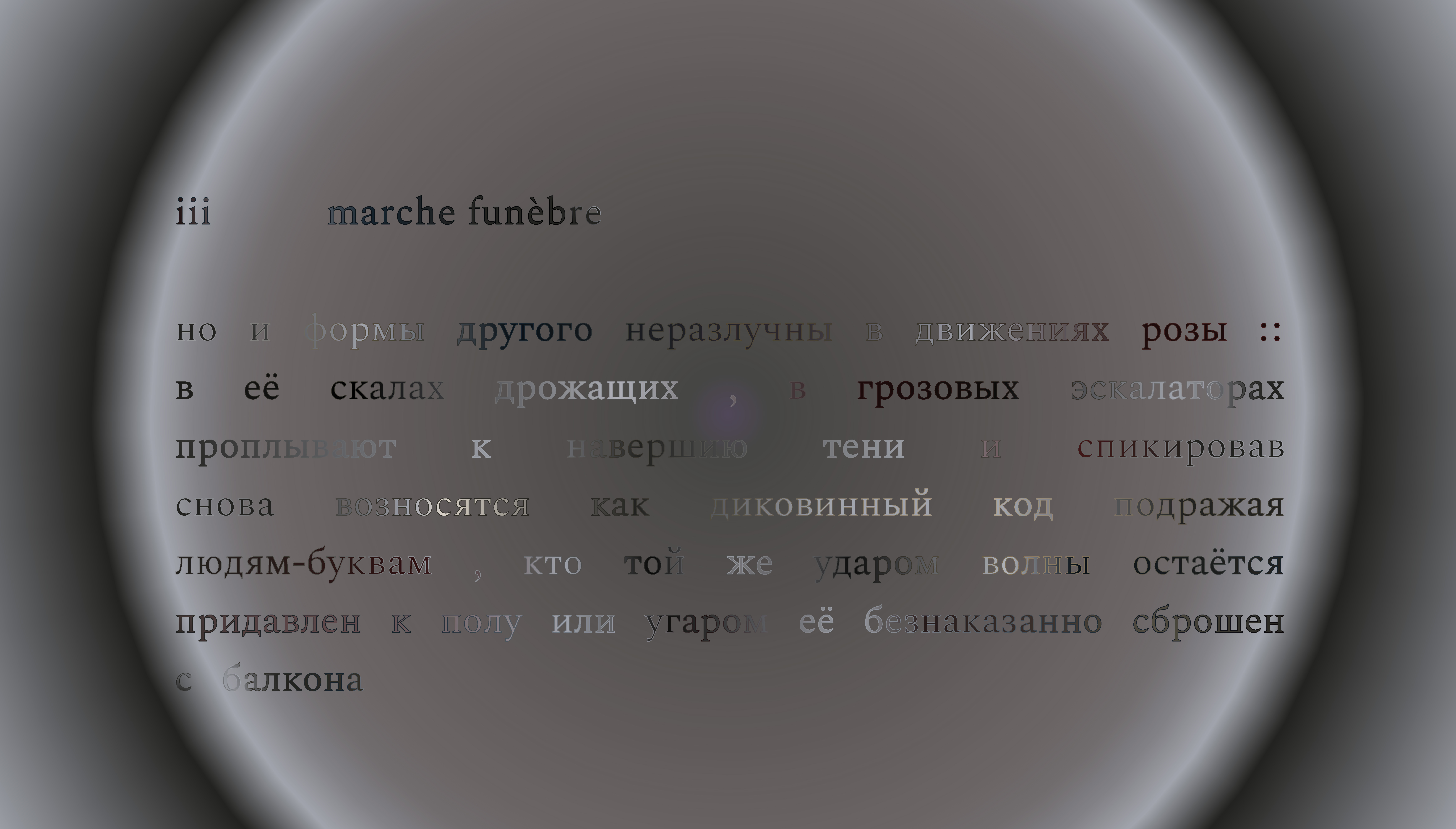
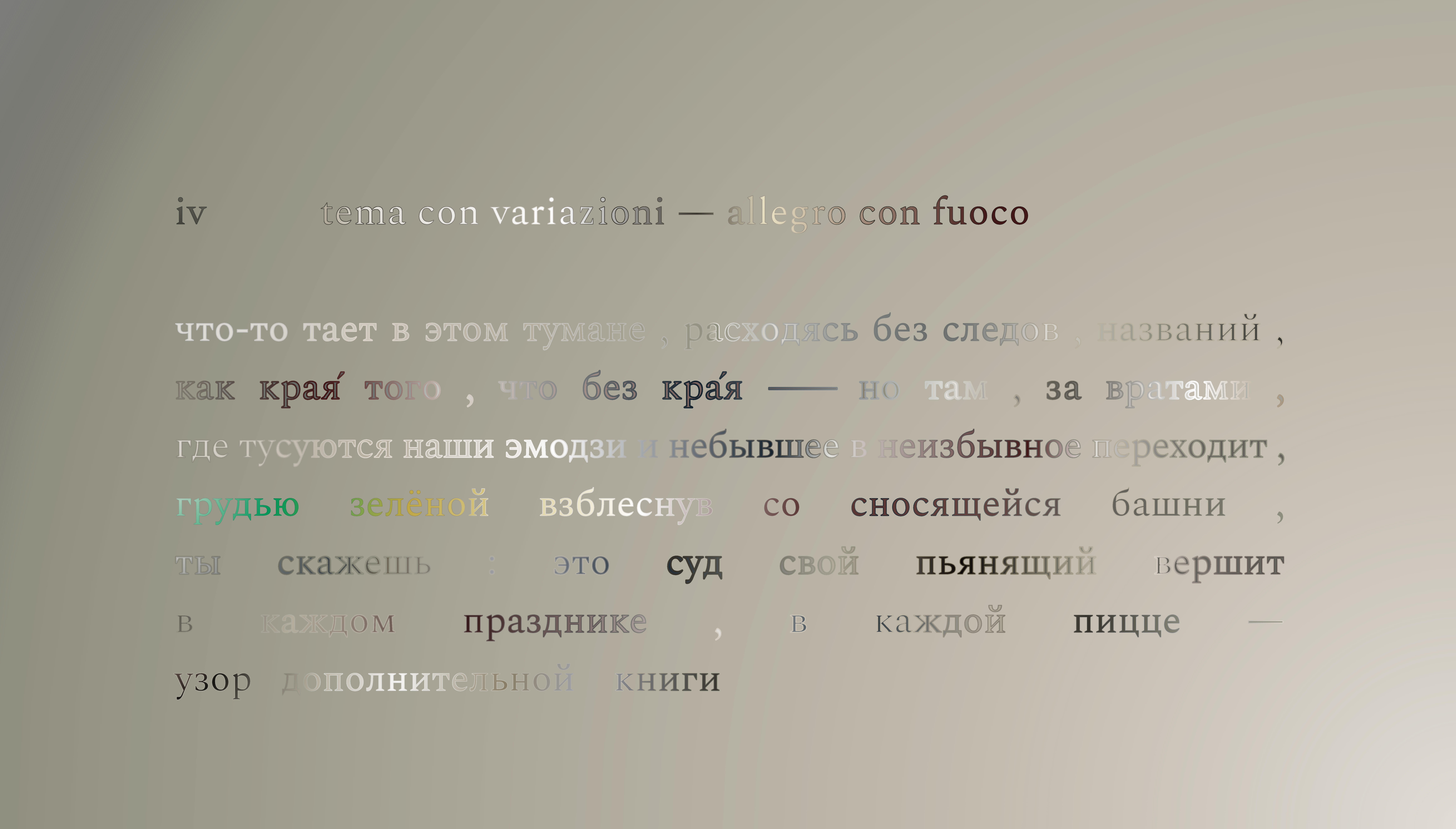
декабрь 2023
Алфавиты
Серия «Алфавиты» (2020 – наст. вр.) создавалась на основе нескольких предположений. Первое: не только человечество, но и другие крупные формы организации материи (системы лесов, полей, рек, гор, планет и дальше, дальше) могут обладать сознанием. Второе: при формировании письменностей важную роль играл не только коммуникативный (прагматический) аспект, но и эстетический. И третье: как герой в произведении (если последнее подлинно), знак в определённый момент письма начинает жить и развиваться по своим законам. И если знаки традиционных систем эту свободу утратили (её слабая тень остаётся только в особенностях почерка), то асемический антизнак обладает ей полностью.
Идея «Алфавитов» очень проста – попытаться мыслить как плющ, трясина, бархан. Почувствовать и изобразить, как могли бы выглядеть их языки. Какие могли бы рождаться знаки в толще коры, в газовых облаках, в пульсации грибниц. Представить, как в тишине (отключив бесконечный гул человеческих голосов) плывут безмолвные тексты чужих сознаний – дерев, мегалитов, стихий. И найти к этим текстам ключ. Алфавит.
– Катя Самигулина
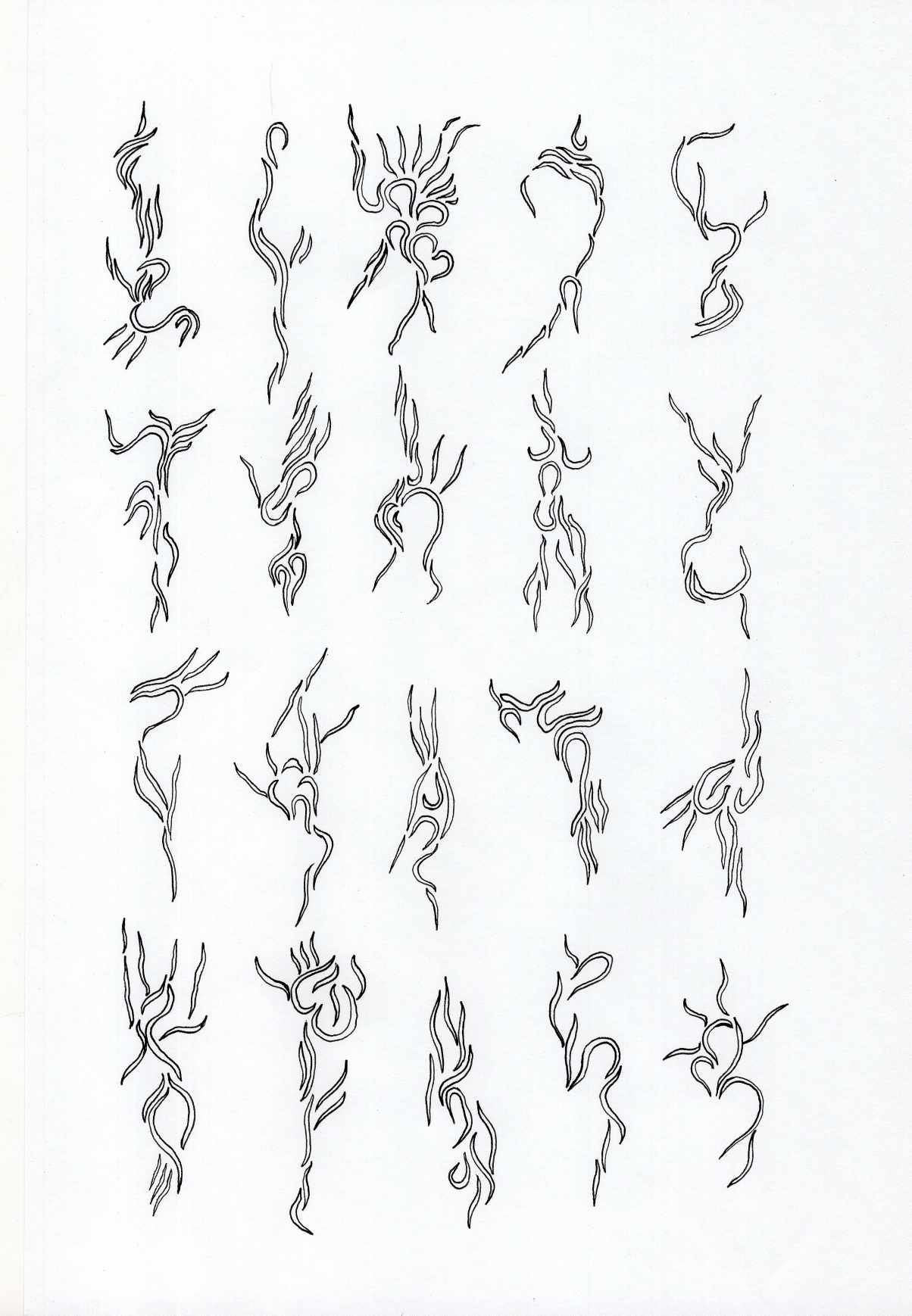
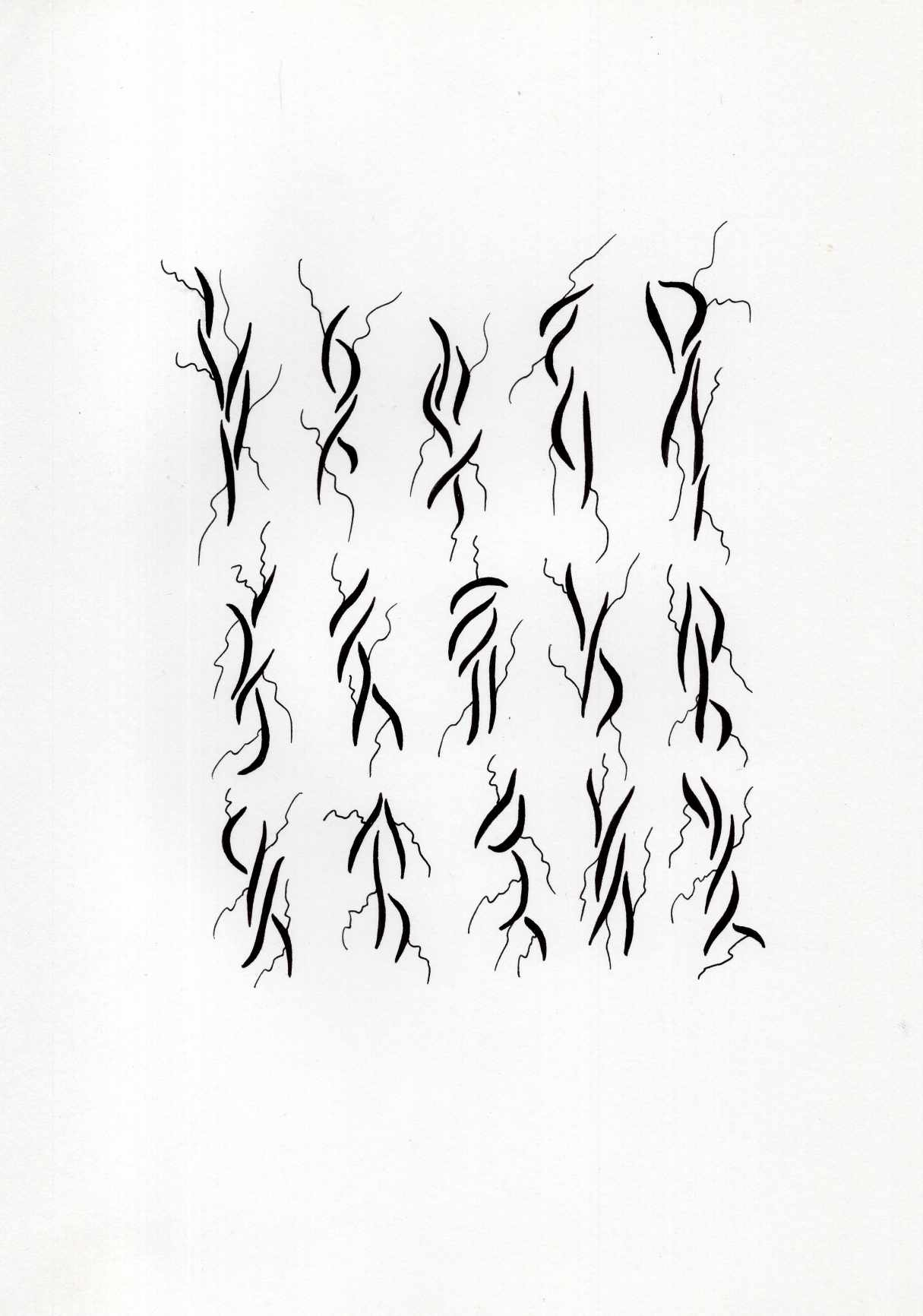
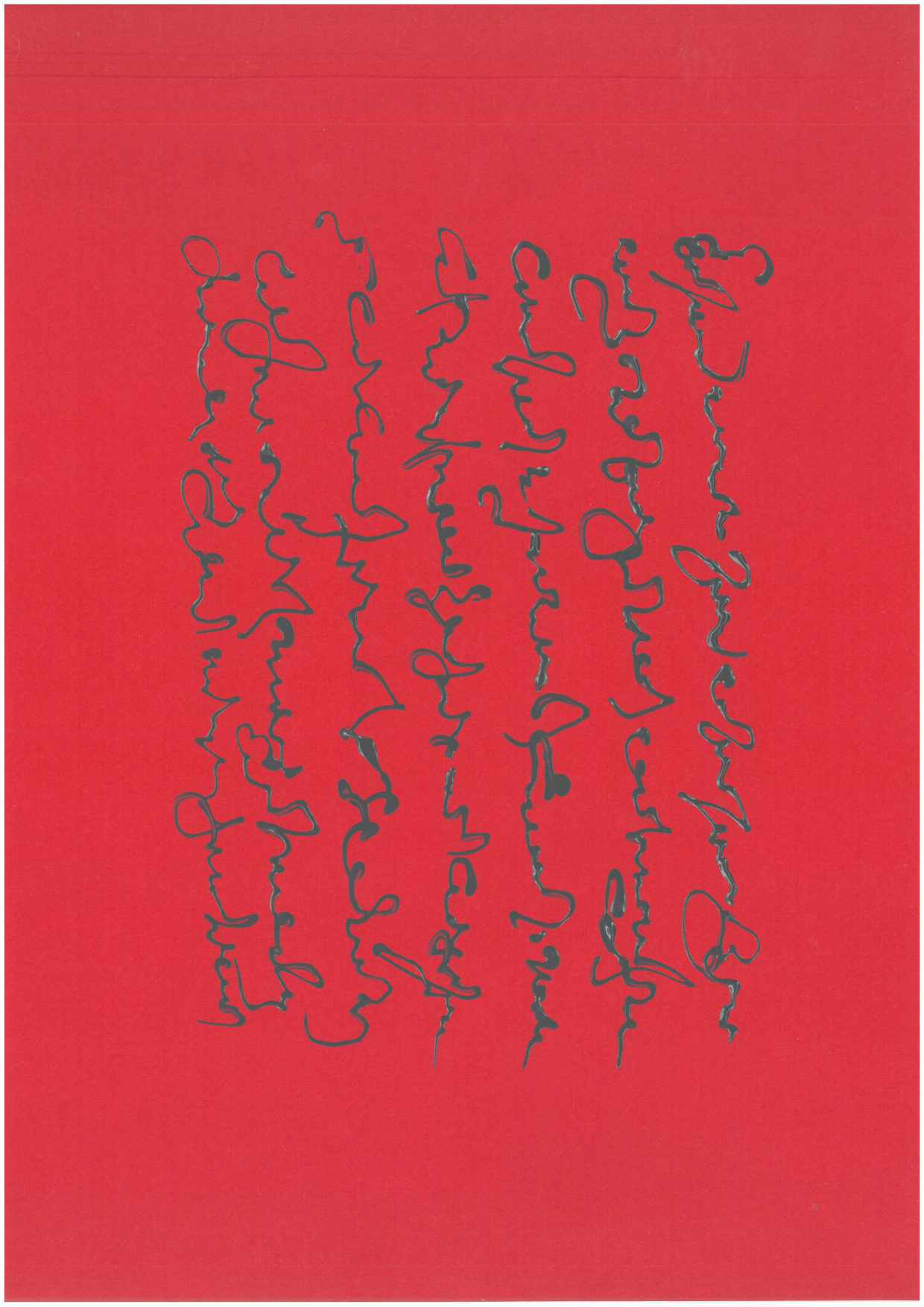

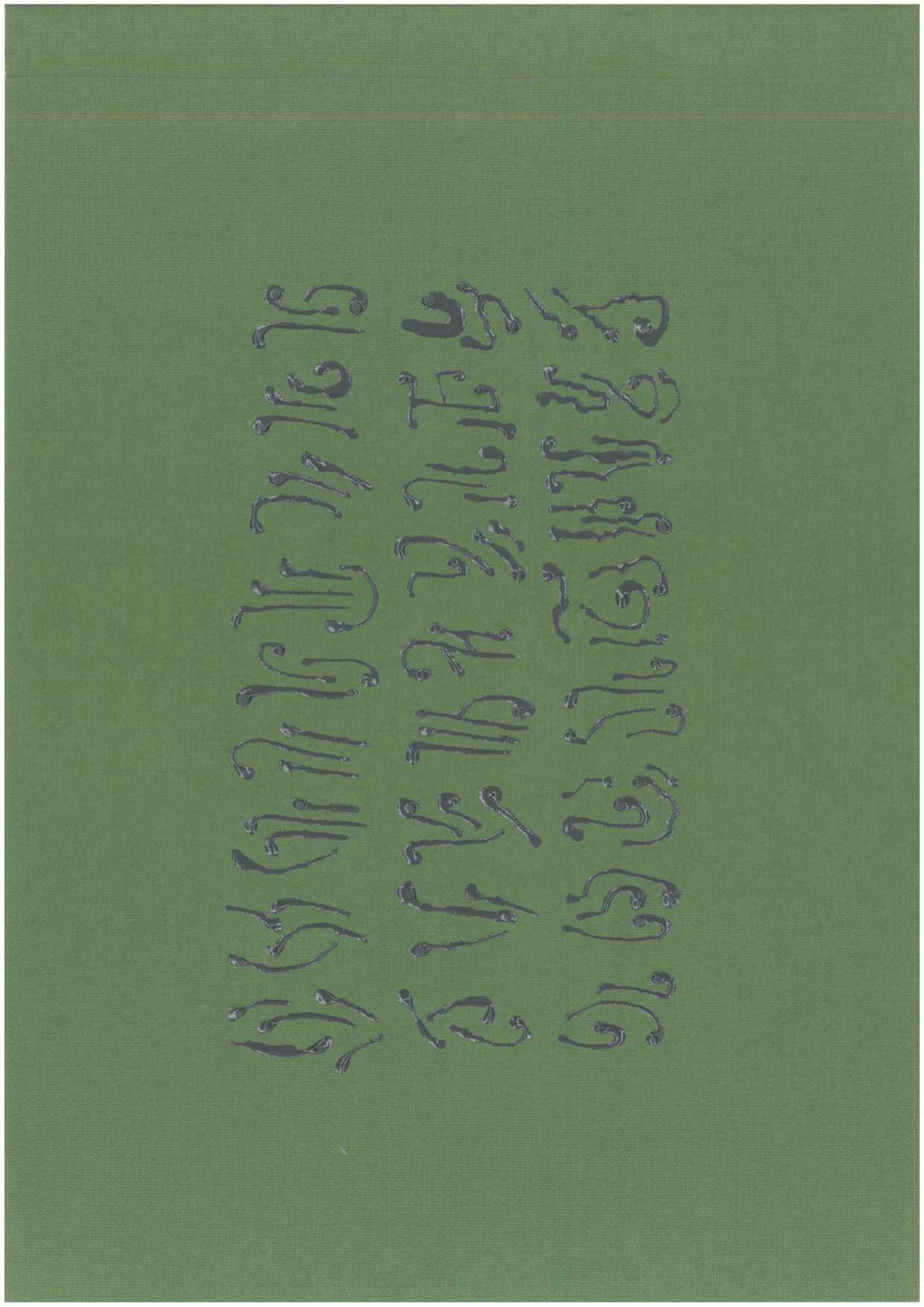
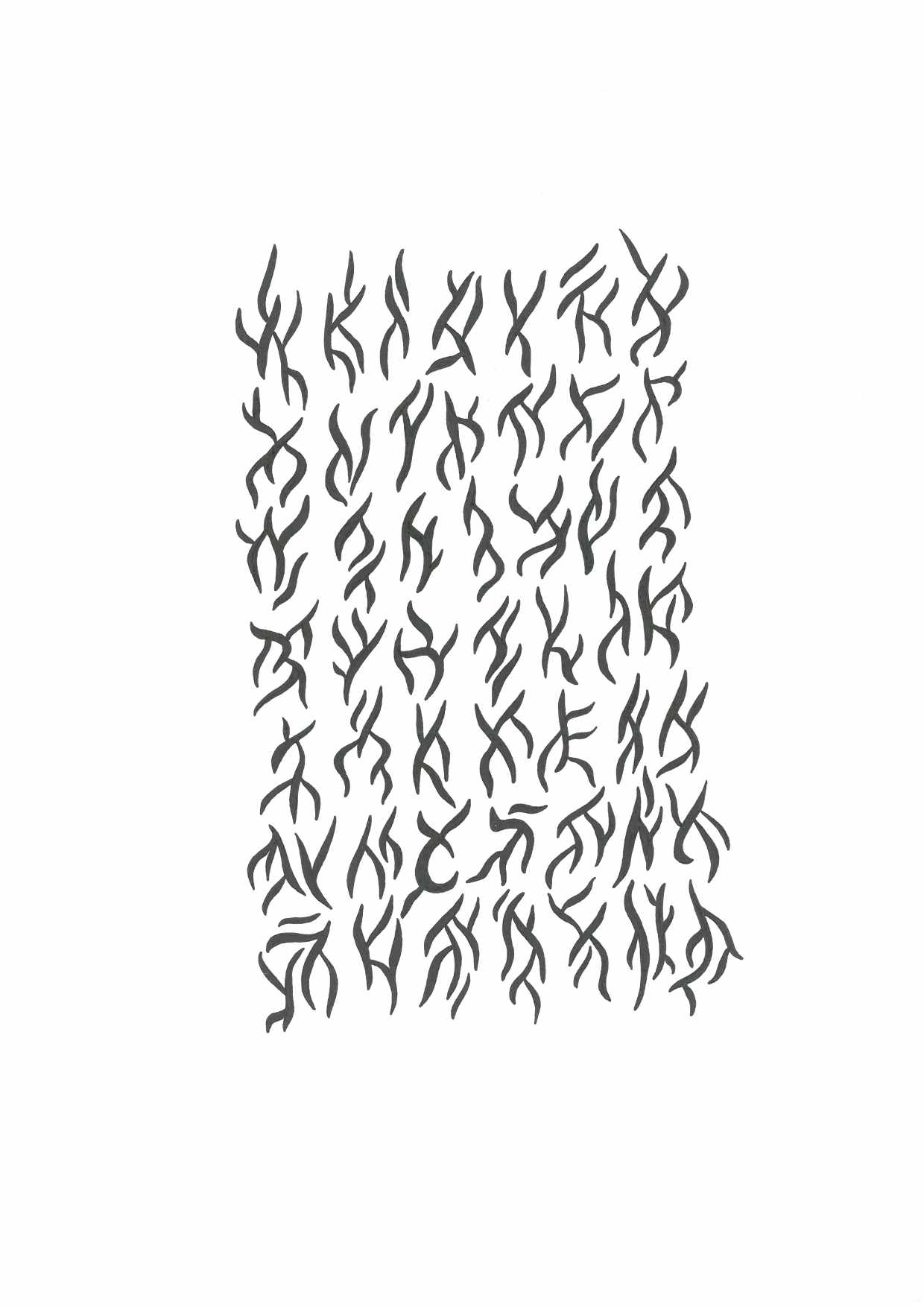
Асемическое письмо на постсоветском пространстве
В этой статье я расскажу об одном из направлений современного неинституционального искусства. Оно зародилось в конце 1990-х годов и постепенно развилось до международного движения. Я начну с общего описания асемического письма, сжато изложу его предысторию, генезис его понятия и поразмышляю о творчестве пяти асемических авторов, проживающих или проживавших в странах бывшего СССР.
Между словом и образом
Асемическое письмо – творческая техника, которая производит нечитаемые тексты, балансирующие на границе между литературой и изобразительным искусством, лишенные стабильного содержания. Асемические работы похожи на неразборчивые каракули, они бомбардируют зрителя неузнаваемыми знаками и непонятными символами, которые обещают смысл и значение, но никогда не выполняют свои обещания. Этот творческий подход привлекает наше внимание к границам, к зазорам – между текстом и образом, смыслом и бессмыслицей, письмом и рисованием, субъективным и бессубъектным. Асемическое письмо учит своих читателей понимать, проживать, ощущать и осмыслять состояние пограничного существования.
На первый взгляд может показаться, что это довольно рафинированная техника: автор должен попасть в очень узкий зазор, выйти за пределы классификаций, которые очень прочно схватывают свои предметы. Вот текст, а вот образ, а вот возможные их гибриды (визуальная поэзия, бук-арт, дизайн и прочие). Но чтобы выпасть из всех этих категорий, кажется, нужно приложить существенные усилия и изобретательность, отточить и очистить творческий метод, включать рефлексию на каждом шагу. И тем не менее, асемическое письмо окружает нас буквально повсюду: детские каракули, имитирующие письмо; расплывшиеся тэги юных граффитистов; почерк врачей; надписи на незнакомых читателю языках; штрихи и загогулины, которые рисуют в блокнотах на скучных заседаниях. Поэтому правильнее будет сказать, что асемическое письмо скорее на стороне спонтанности, бессознательного, живой игры сил, которая ускользает от структурирования и не стремится к категоризации.
На это указывает и предыстория асемического письма, которую мы можем обнаружить в области изобразительного искусства. Австралийский писатель Тим Гейз, один из основателей асемического направления, считает, что в число прототипов этой техники входит «дикая скоропись» китайского каллиграфа Чжан Сюя (VII-VIII вв. н.э.). По преданию многие его работы выполнены в состоянии алкогольного опьянения; проснувшись наутро после интенсивной творческой деятельности, автор уже не мог повторить приемы, которые открыл накануне. В этом случае протоасемическое письмо появлялось в момент расфокусировки сознания, когда движения тела не достигали поставленных целей. Языковое сообщение смешивалось с шумом, который алкоголь привнес в жизнь организма – жесты руки становились неточными, размазанными, скомканными; знаки подвергались коррозии, теряли узнаваемую форму… Такое письмо можно было бы назвать автоматическим, но, если сюрреалисты искали способы выражения бессознательного, то в случае Чжан Сюя попытка самовыражения сознания терпела продуктивный, творческий крах.
Именно поэтому я бы подчеркнул не автоматический, а экспериментальный характер асемического письма и его близость к таким авангардным течениям XX века, как визуальная поэзия или леттризм, к практикам японских групп художников «Бокуздин кай» и «Гутай». Эти эксперименты в поле визуальной выразительности языка, как мне кажется, носят синтетический характер. Здесь авангард стремится произвести гибрид буквы/слова/сообщения и образа, воплотить язык в зримой материальности, показать, как форма слова господствует над его содержанием. Асемическое письмо же ищет промежуток между словом и образом, в котором, кажется, и происходит самое главное – постоянное движение, скольжение и смещение смыслов, их деструкция и дезорганизация. И это в теории узкое пространство на практике оказывается широким полем для экспериментирования. Оно еще не вполне отрефлексировано, слабо охвачено институциями и поэтому дает доступ к тем потенциалам, которые некогда оживляли искусство авангардистов.
Эксперименты асемических авторов с образом и значением все же тесно связаны с изобразительным искусством и литературой, хотя бы на уровне генезиса понятия. Термин «асемическое письмо» был сформулирован в 1998 году в переписке американского художника и поэта Джима Лефтвича с уже упомянутым Тимом Гейзом. Они рассуждали о возможностях разрушения языковых конвенций, текста, синтаксиса, слова и буквы. В результате Лефтвич предложил концепцию асемического произведения, полностью лишенного значения, которая задает идеальный горизонт этой деструктивной интенции. Устранение значения оказывается труднодостижимым идеалом потому, что сознание может найти смысл в любой вещи или явлении. Лефтвич даже говорит о «пансемии», повсеместном присутствии значения – в фактуре камня, течении воды, языках пламени и, конечно же, в фигурах облаков. С этой точки зрения «чистая» бессмыслица может показаться практически невыполнимым трюком. Поэтому на практике асемическое письмо связано скорее с интенцией к разрушению значения, чем с ее полной реализацией.
Это понятие асемического письма продолжают развивать и уточнять многие теоретики и практики, появляются новые его прочтения (например, как формы каллиграфии), асемическое письмо видят и как пост-литературную, и как художественную практику. Сегодня с ней ассоциируют огромное количество произведений искусства. Большую роль в распространении понятия и практик асемического письма сыграла мейл-арт сеть, журнал «Asemic» (создан Тимом Гейзом в 1998 году) и блог/онлайн-галерея «The New Post-Literate», которую в 2008 году запустил американский асемический писатель и издатель Майкл Джейкобсон. Идея асемического письма вызвала большой энтузиазм среди слабо институционализированных художников, эта практика быстро распространилась по всем континентам и множеству культур. Мне недоступна статистика по количеству активных асемических авторов, но опыт и интуиция подсказывают, что их должно быть не менее сотни.
Асемическое письмо в России и Беларуси: лихие 2010-е
Русский перевод термина asemic writing появился относительно недавно. Однако, в России и сопредельных странах, работы, которые можно классифицировать как асемические, присутствовали задолго до апроприации соответствующего термина – достаточно вспомнить эксперименты русских футуристов с заумным языком. Тем не менее, появление термина в рунете, на мой взгляд, помогло переориентировать уже происходящие процессы, дать художникам и писателям материал для размышлений и новые возможности для самоидентификации.
Насколько мне известно, дискуссия об асемическом письме на русском языке началась с публикаций литературно-художественного журнала «Слова», который я издавал совместно с драматургом Инной Кирилловой (2007-2018). В шестом номере журнала появились переводы эссе Тима Гейза и интервью с ним. Затем вышли переводы интервью с Майклом Джейкобсоном и Дэвидом Широ (асемический автор из США, выделяющийся своей техникой переноса асемических паттернов с рельефных поверхностей на бумагу), а также перевод его эссе, рецензия на книгу Тима Гейза «100 сцен» и критическая статья об асемическом письме белорусской художницы, поэтессы и исследовательницы литературы Екатерины Самигулиной. Работы асемических авторов публиковались и в литературно-художественном журнале «Другое полушарие», который издавал поэт и художник Евгений В. Харитоновъ.
В 2010 году в Смоленске состоялась «Первая выставка асемического письма в России», в которой приняли участие 19 авторов из России, США, Австралии, Финляндии, Франции, Мексики и других стран (курировали выставку я и Инна Кириллова). В 2011 году редакторы журнала «Слова» организовали следующую выставку – «Дэвид Широ в Смоленске», на которой были представлены репродукции асемических работ американского художника. В 2012 году в Могилеве прошла «Первая выставка асемического письма в Беларуси», которую курировала Екатерина Самигулина. В выставку вошли репродукции прото-асемических работ от Чжан Сюя до Кристиана Дотремона и работ современных асемических авторов из Беларуси, США, Финляндии и других стран. В 2015 году в Смоленске прошла выставка-презентация 15 номера журнала «Asemic» под названием «БезСлов» (роль кураторов вновь взяли на себя я и Инна Кириллова). В 2016 году в Москве в Зверевском ЦСИ прошла «Первая международная выставка абстрактной каллиграфии» (куратор Алексей Мелёшкин), на которой были представлены асемические работы авторов из России, Беларуси, Германии и других стран. Параллельно с этими процессами начали появляться первые научные публикации об асемическом письме на русском языке. Одним словом, можно сказать, что к середине 2010-х годов сформировалась почва для осмысления асемического письма в сообществе русскоязычных художников и теоретиков.
Чтобы показать, в каких формах асемическое письмо присутствует в постсоветском культурном пространстве, я хотел бы обсудить творчество пяти авторов: Дмитрия Бабенко, Юлия Ильющенко и Екатерины Самигулиной (речь пойдет об их совместных работах), Эдуарда Кулёмина и Вилли Мельникова. Есть несколько оснований для такого выбора. Во-первых, я довольно хорошо знаком с их творчеством, что повышает шансы на адекватные обобщения. Во-вторых, все эти авторы эксплицитно определяли свои работы как асемические, все они публиковались в асемических журналах и участвовали в асемических выставках. В-третьих, я хотел бы почтить память покойных Дмитрия Бабенко и Вилли Мельникова и лишний раз напомнить об их вкладе в культуру. И, наконец, в-четвертых, эти авторы используют важные, на мой взгляд, концептуальные ходы, которые проявляют специфику асемического письма как творческой техники.
Безусловно, эти авторы никоим образом не исчерпывают все богатство приемов и концептов, употребляющихся асемическими авторами на постсоветском пространстве, однако, силы мои ограничены, как и объем этой статьи. Поэтому я могу лишь предложить читателю познакомиться с работами Светы Литвак, Александра Моцара, Володимира Бiлика, Юрия Гика, Евгения В. Харитонова и многих других.
Я также хочу оговорить способ дальнейшего изложения. В каждом случае я буду начинать с общей характеристики автора, которая направлена скорее на выявление основных идей и принципов, проявляющихся в его или ее творчестве. Я воздержусь от позиционирования этих авторов в историческом и современном контексте, поскольку меня больше интересует, так сказать, философское содержание их работ, те концепты и проблемы, к которым отсылает их творчество. Абстрактные рассуждения я дополню интерпретацией конкретных работ, отчасти с тем, чтобы продемонстрировать возможные способы чтения асемического письма (безусловно, существует бесконечное множество таких способов), отчасти для того, чтобы показать, как абстрактные принципы управляют конкретными творческими решениями.
Жизнь материи в работах Дмитрия Бабенко
Дмитрий Бабенко (1970–2022), художник, жил и работал в Краснодаре. С 1994 года включился в мейл-арт сеть и в международное неинституцональное арт-сообщество в целом. Известен, прежде всего, как бук- и мейл-артист. В 2011 году принял участие в «Первой выставке асемического письма», некоторые свои работы идентифицировал как асемические.
Первое, что я отмечаю в работах Бабенко – их материальную весомость. Бабенко часто использовал материалы с выраженным рельефом – шершавый картон, плотную бумагу, фактурное дерево и ткань. Этим, видимо объясняется особое ощущение плотности, которое я замечаю в себе, разглядывая работы Бабенко. Это полновесные, замкнутые объекты, которые хочется потрогать, исследовать, каким-то образом употребить. Такое приглашение к взаимодействию определяется и с материальной, и с формальной точек зрения: выбор материала обеспечивает обилие деталей работ, их сложную структуру и неравновесное распределение плотности в них, а форма всячески поддерживает и развивает в зрителе тягу к прикосновению (в случае бук-арта это становится очевидным и неизбежным). Поэтому я бы отметил в работах Бабенко мощный тактильный момент, который развивается на основе той визуальной образности, которую они поставляют в чувственный аппарат. В связи с этим вспоминаются размышления Делеза и Гваттари о гаптическом зрении из «Тысячи плато». Глаз, считают философы, может быть осязающим; существует особый способ зрения, который обеспечивает близость, соприкосновение с объектом, которое можно противопоставить отстраненному восприятию издалека, порождающему разделение и иерархию между субъектом и объектом. Работы Бабенко, на мой взгляд, провоцируют, развивают, и, может быть, даже воспитывают гаптическое зрение.
 Дмитрий Бабенко. Text (2010)
Дмитрий Бабенко. Text (2010)
Работа Бабенко «Text» (2010) выставлялась на «Первой выставке асемического письма в России». Три самостоятельных фрагмента из плотного картона при сборке образуют незавершенный прямоугольник – на долю зрителя достается лишь три четверти текста. Интересно, что каждый из фрагментов пришел к кураторам выставки в отдельном конверте. Сразу же закралось подозрение, что последняя четверть потерялась где-то в бесконечных кишках почты России. Но нет, автор изначально предполагал такую незавершенность формы и содержания, а пересылка частей текста в отдельных конвертах была, быть может, смелым вызовом художника судьбе, который, к счастью (или нет?), остался безнаказанным.
Плотный картон покрыт толстым слоем краски, что еще больше утяжеляет работу, добавляет ей рельефности и детализации. Массивная «рама» с кроваво-красными вкраплениями доминирует над невнятно-серым фоном, который, в свою очередь, подавляет нечитаемый текст. Пожалуй, это случай, когда сообщение сводится к тому, что медиум его сожрал. Или, если посмотреть несколько шире, в работе Бабенко присутствует возражение против популярного с середины XX века представления о том, что материальность формируется языком, что (социальное) бытие конструируется порядками и правилами, которые определяют возможность высказывания. «Text» парадоксальным образом воплощает торжество внеязыковой реальности, ее самостоятельности, непокорности. И отсутствие части текста можно трактовать как беспощадное вторжение природных сил, искажающих и трансформирующих языковое сообщение.
Проявление этих смыслов стало возможно благодаря кропотливой работе художника. Как мне кажется, работы Бабенко сложны и полны деталей не только из-за выбора материала, но и потому, что он тщательно продумывал и прорабатывал каждый аспект своих произведений. Эти неожиданные в наше время серийного производства трудолюбие, неспешность и последовательность напоминают нам: искусство, как и все человеческое, рождается из труда, т.е. из такого соприкосновения тел, в котором власть и агентность никогда не переходит всецело на одну сторону.
Юлий Ильющенко и Екатерина Самигулина – асемическое письмо с социальным звучанием
Теперь я хотел бы обратиться к примеру асемических текстов, созданных в соавторстве – работам Юлия Ильющенко и Екатерины Самигулиной. Юлий Ильющенко (также известен как Karen Karnak; род. 1985) живет в Минске, пишет стихи и создает визуальные работы. Екатерина Самигулина (род. 1988) совмещает интерес к литературе и визуальному искусству, дополняя его исследовательской работой в области литературоведения. Также живет в Минске.
Ильющенко выражает свое отношение к асемическому письму следующим образом: «Для меня есть разделение на asemic writing и asemic art. Первое явление лежит в границах постлитературы. Оно выразительно и идейно мне ближе, так как позволяет автору работать в зазоре между языком и эмоцией. И более того, на визуальном уровне позволяет делать отсылки к тому или иному языку. Именно поэтому работы, похожие на арабскую вязь, сделанные в Берлине в далеком 2016 году, кажется, спровоцировали такую реакцию «страха», что был вызван наряд полиции. А значит в таком письме сохраняется «социальное» и «политическое» напряжение. Asemic Art развивается в целом по канонам абстрактной живописи, и, как мне кажется, использует письмо как прием – не более, что в итоге уводит письмо в декоративность и дизайн. Приятно глазу, но лишено критического высказывания» (из личной переписки). Ильющенко, таким образом, стремится к чистоте стиля и творческого приема. Для него важны разделения, которые помогают получить феномен в чистом виде.
Самигулина трактует асемическое письмо более широко, делая акцент на его универсальности: «Сегодня я рассматриваю асемическое письмо как некую разновидность колангерства, когда вместо работы с грамматикой, фонетикой и т.д. создатель концентрируется на эстетике антизнаков и личной мифологии, которую можно в них выразить. Я говорю "сегодня" потому, что за счёт своей "бессмысленности" асемическое письмо – идеальная протеическая форма для воплощения любых идей (и художественных, и политических), и мой подход к этому явлению менялся не раз. И, вероятно, ещё не раз изменится» (из личной переписки).
Эти установки вступают в резонанс в совместных работах художников. Часто они выполнены с применением небольшого количества материалов, средств и приемов. Асемическое письмо Ильющенко и Самигулиной проявляется, прежде всего, как письмо в обыденном его понимании – как фиксация жестов руки, как нанесение послания на поверхность. И, как показывает пример, приведенный Ильющенко выше, такое «чистое» письмо вступает в неожиданный резонанс с контекстом. Оказывается, что форма произведения может задевать глубоко залегающие нервы социума.
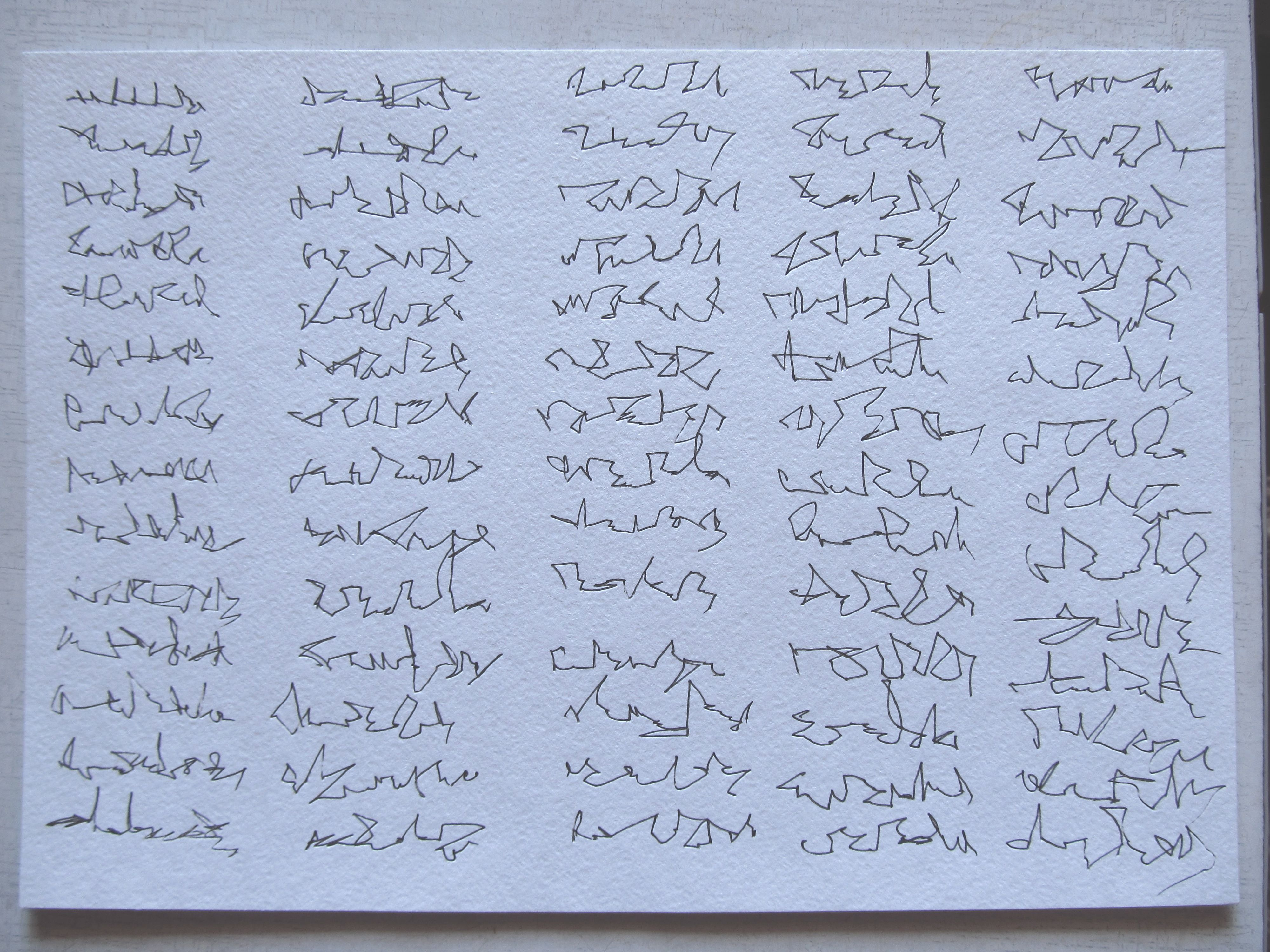 Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское
Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское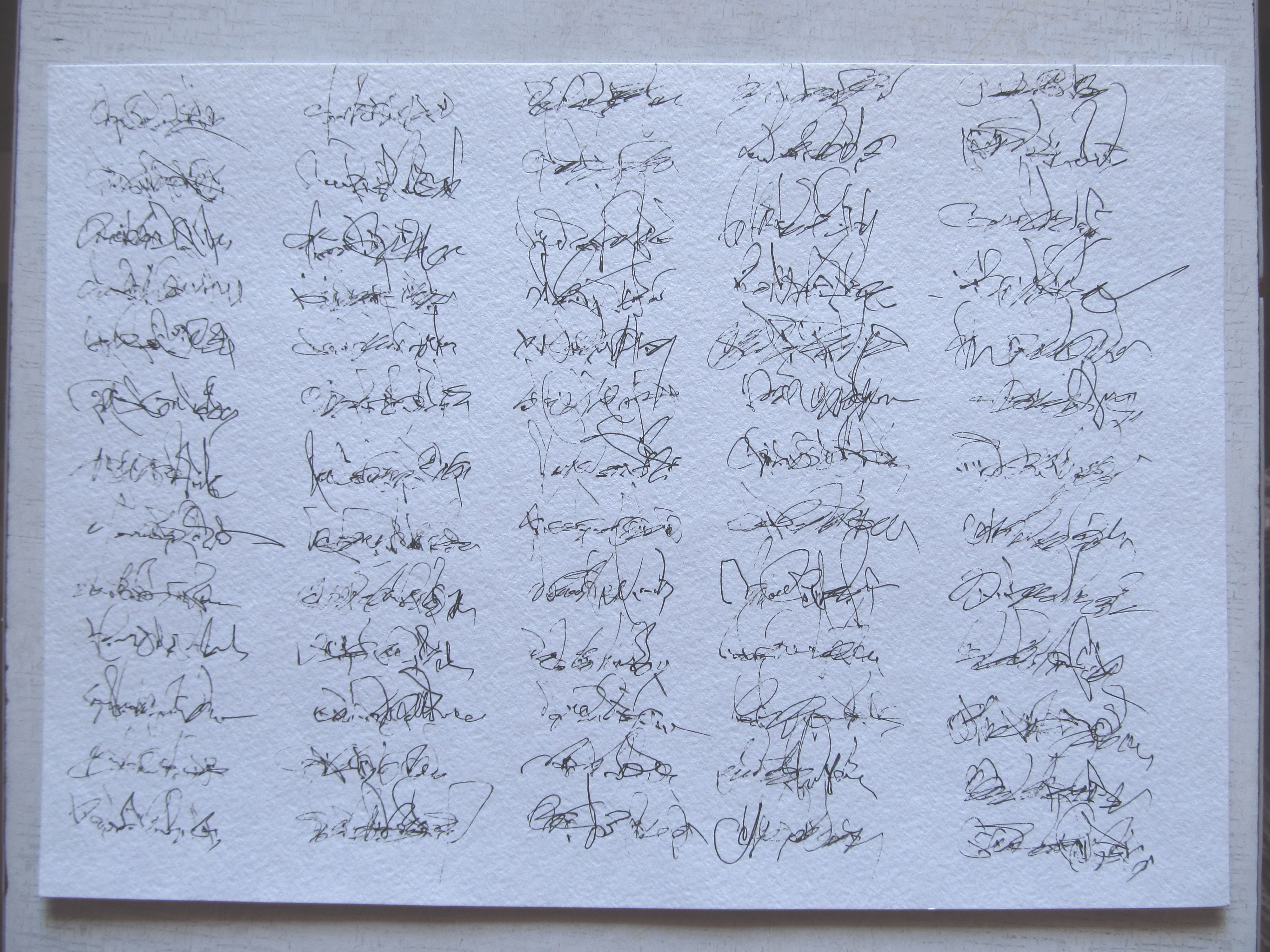 Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское
Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское
Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское
Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское
В качестве примера творчества Ильющенко и Самигулиной я выбрал работы из цикла «Асемические таблицы – мужское/женское» (2012). Он включает работы, каждая из которых, предположительно, сделана только Екатериной или только Юлием. Соавторство осуществляется на уровне замысла и итоговой компоновки работ в таблицу. Все работы цикла реализуют один и тот же композиционный принцип: на листе бумаги расположены от трех до семи вертикальных колонок, составленных из асемических строк, которые выполнены в одном и том же стиле, но не повторяющих те же самые очертания во всех случаях. Работы разделены на две группы – мужские и женские, которые можно сопоставить, чтобы, как пишут об этом авторы в сопроводительном тексте, составить представление о мужской и женской чувственности. Логика гендерных различий, таким образом, оказывается ведущим моментом в построении цикла. Это бинарное разделение не обязательно следует связывать с бинарным пониманием гендера; я думаю, что в данном случае дистинкция служит цели исследования асемическими авторами собственных идентификаций.
Более того, на мой взгляд, асемическое письмо, классифицированное по гендерному признаку, не проявляет существенных различий. Поэтому я бы истолковал работы Ильющенко и Самигулиной, как художественную практику, демонстрирующую диалектическое снятие-преодоление противоположности. Мы начинаем в ситуации соседства крайностей – мужское и женское утверждаются в форме классических противоположностей, связанных через отрицание. Еще пифагорейцы выразили половое различие в таких формах, включив мужское и женское в десять пар начал, организующих действительность. Асемическое письмо становится способом преодолеть это противопоставление и перейти к единству противоположностей, проявляющемуся на новом уровне (уровне совместной деятельности), сохраняющем изначальное противопоставление в смягченном, лишенном драматизма, виде.
Конечно, это одна из возможных стратегий прочтений цикла: обращение к идеологически и политически заряженным темам пола и гендера легко может привести к разворачиванию точек зрения всего политического спектра, что только поддерживается изначально открытым характером асемического письма. Творчество Ильющенко и Самигулиной, таким образом, показывает как, казалось бы, нейтральное и инертное асемическое письмо может стать медиумом для политической дискуссии и инструментом исследования.
Противоречь Эдуарда Кулёмина
Эдуард Кулёмин (р. 1960) живет в Смоленске, участвовал в организации множества временных творческих объединений авангардного и контркультурного толка – КЭПНОСа, Ассоциации Проклятых Поэтов, Группы Неизвестных Художников и других. Активен как поэт и художник. Кулёмин тяготеет к синтетическим формам – начиная с 1990-х годов он создал множество визуально-поэтических работ, затем, в 2000–2010-х, включил в свой творческий арсенал видео-поэзию, видеоарт и гиф-арт. Начиная с 2010-х асемическое письмо занимает все больше места в творчестве Кулёмина.
Свою оценку асемического письма Кулёмин формулирует так: «В эпоху тотального логотеррора и экспансии информационно-знаковых систем асемическое письмо является одним из способов трансляции неизъяснимого. Именно в дебрях этого бессловесного инакомыслия интуитивно угадываются трансперсональные формы общения на воображаемых просторах постчеловеческого будущего» (из личной переписки). На логотеррор современности Кулёмин отвечает своим художественным террором. Его визуальным работам свойственна брутальная прямота и суровая экономия выразительных средств, бросающая вызов декоративному минимализму. Кулёмин как правило использует в своих работах лишь несколько цветов, чаще всего только черный и белый, и эта обсценная вариация языка офисной распечатки концентрируется до физически ощутимой плотности и конкретности. Впрочем, конкретность в данном случае не уживается с ясностью и определенностью. Во многих визуальных работах Кулёмина повторяются лозунги «Главное – сбить с панталыку!» и «Противоречь!». Их визуальное выражение – грубость, скомканность (иногда вовсе не метафорическая) и обостренная контрастность форм – может производить шокирующий эффект, эффект удара.
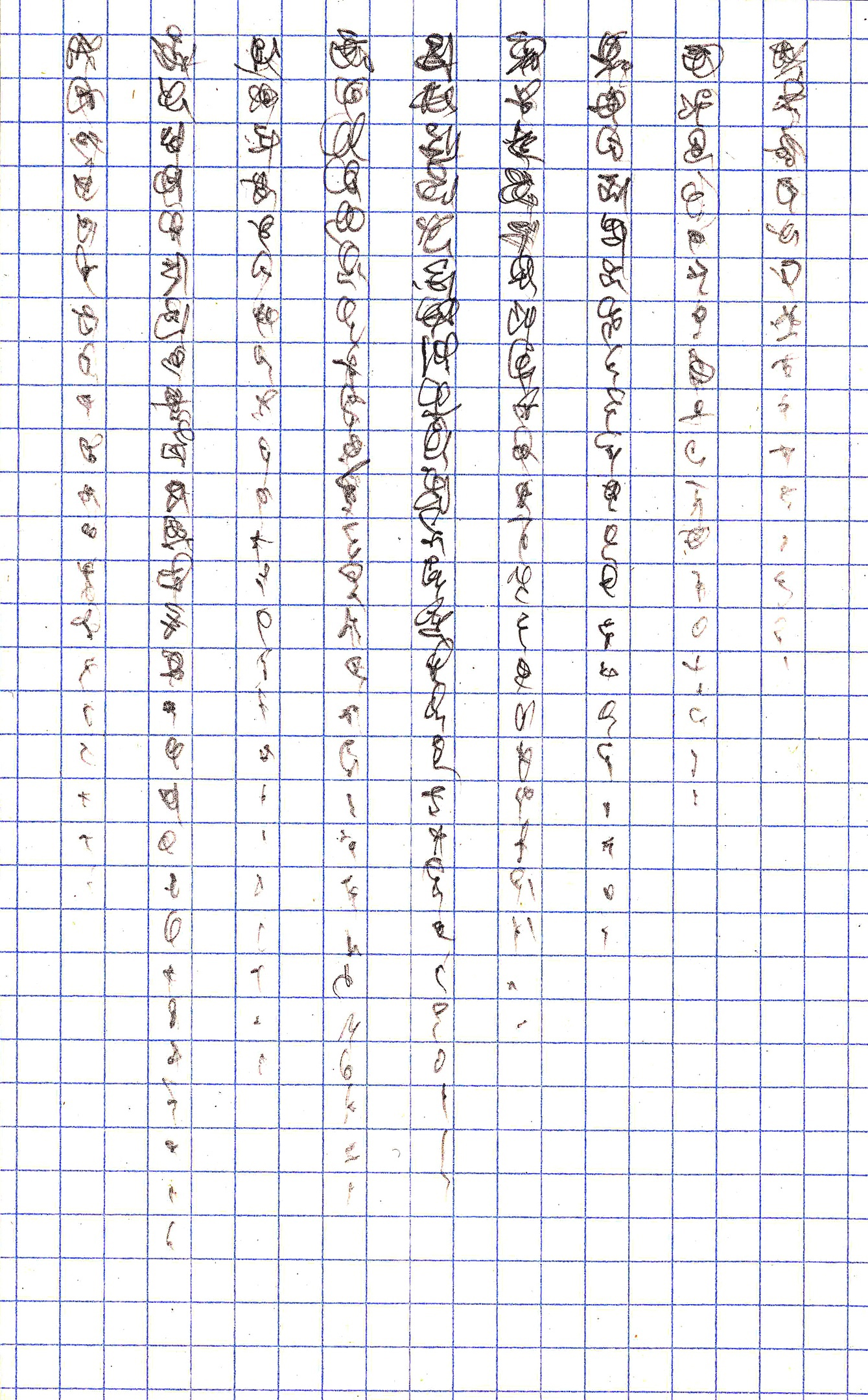 Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)
Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)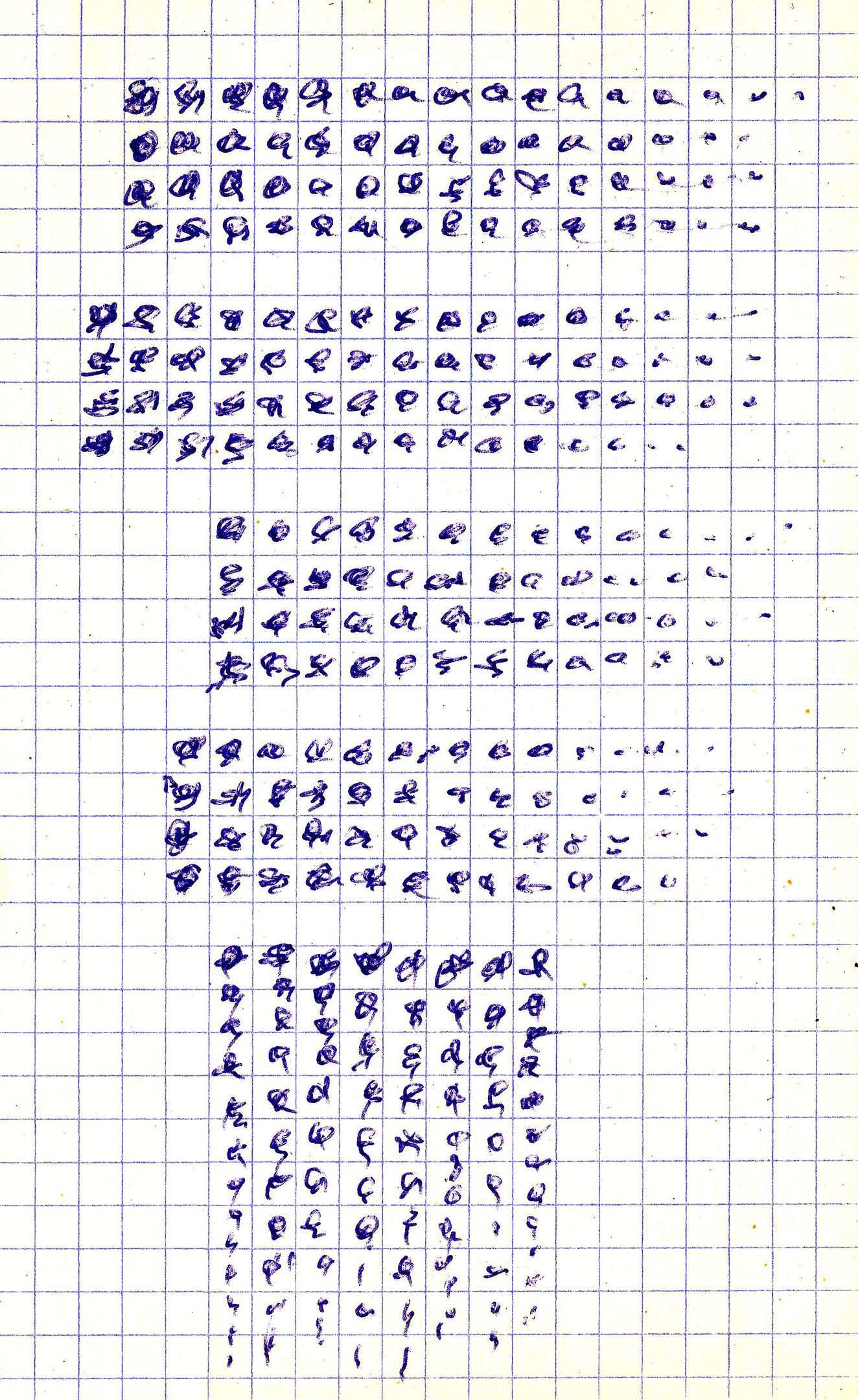 Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)
Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023) Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)
Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)
Аналогичные тенденции я наблюдаю и в асемических работах Кулёмина. Возьмем, например, работы из цикла «Рудиментарная поэзия». Клетки на листе бумаги заполнены асемическими знаками с помощью шариковой ручки. Очень просто – один инструмент, два цвета. Без труда считывается узнаваемая структура стихотворения западной или восточной традиции (горизонтальное и вертикальное направления письма), иногда Запад и Восток формируют совмещенные структуры, подчиняясь некоему комбинаторному правилу. Такое жесткое, агрессивное упорядочивание структуры парадоксальным образом обостряет ощущение беспорядка и неряшливости, возникающее у меня при рассматривании работ. В завершении каждой строки текст деградирует, растворяется в фоне. Напряженность между порядком и хаосом перерастает в конфликт между высказыванием и молчанием.
Подобное обострение и выдвижение на первый план противоречий и негативности, на мой взгляд, свойственно творчеству Кулёмина в целом. Обращаясь к асемическому письму, он обнаруживает неисчерпаемый ресурс для создания и выражения конфликта. Это асемическое письмо повествует о разрывах и противоречиях, о борьбе и жестокости, о вражде, которая, как говорил Гераклит – отец всего.
Вилли Мельников: игра с субъективной асемией
Вилли Мельников (1962–2016) – поэт, художник, фотограф. Родился и жил в Москве. В 1985 году, проходя срочную службу в Афганистане, получил контузию, последствия которой изменили его восприятие иностранных языков. По утверждению Мельникова, его изначальные склонности к усвоению языков существенно усилились, и в результате он в той или иной степени овладел более чем двумястами языками.
Визуальные работы Мельникова часто включают надписи на редких и экзотических языках, которые смогут идентифицировать немногие. Не исключено, что некоторые или даже большинство этих языков вымышлены; достоверную атрибуцию этих причудливых письменностей я доверяю специалистам. Для меня же важнее визуальная и смысловая составляющая работ Мельникова. В этом случае мы сталкиваемся с тем, что Тим Гейз называет субъективным асемическим письмом – ситуацией, когда текст написан на иностранном языке, непонятном читателю. Это интересный случай, когда присутствует некоторая социальная конвенция, гарантирующая наличие значения, но у нас нет доступа к нему. Если мы сталкиваемся, например, с вывеской на незнакомом языке, то наша презумпция смысла имеет довольно прочные основания. Произведение искусства же ставит нас на топкую почву – автор утверждает, что перед нами связный текст, но можем ли мы верить этому, особенно в контексте искусства постмодерна, пропитанного духом иронии, провокации и прямого обмана? Такой вопрос ставят работы Мельникова, в которых последовательности причудливых знаков формируют расплывающиеся, асимметричные, неуклюжие композиции.
Насколько мне известно, Мельников демонстрировал свои тексты без перевода, поэтому гарантом значения становится лишь слово автора. В названиях работ он обозначает язык и литературную форму представленного произведения – «Стихотворение на сиги-со», «Поэзотрактат китайско-персидский», «Круговой стих на маурья». Остальное остается на откуп зрителю. Подозреваю, что такие условия взаимодействия с художественным произведением для многих могут быть дискомфортными. Но есть в таких правилах игры и определенный азарт, стимул для воображения, что и привлекает меня в творчестве Мельникова.
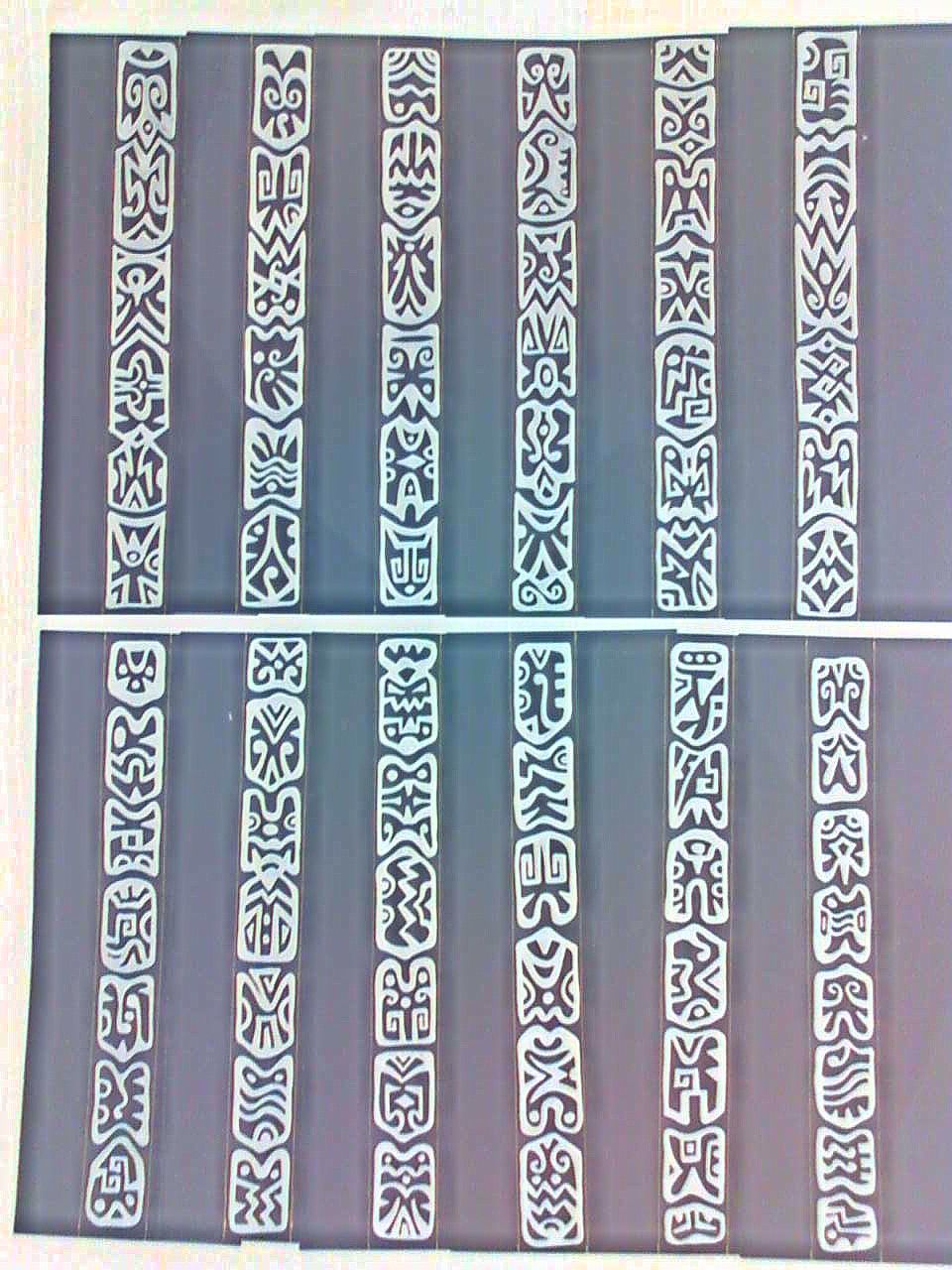 Вилли Мельников. Двенадцатистишье на тлацкотеле
Вилли Мельников. Двенадцатистишье на тлацкотеле
Посмотрим для примера на «Двенадцатистишье на тлацкотеле». Существует ли этот язык вне произведений Мельникова, мне неизвестно. Название языка навевает ассоциации с индигенными народами Америки, как и формы, изображенные на двух листах бумаги. Мы видим двенадцать вертикальных строк, составленных из изолированных знаков, возможно, иероглифов. Ни один из них, кажется, не повторяется. Однако, в целом форма строгая и понятная, вполне стихотворная, в ней присутствует ритм и регулярность. Очертания некоторых знаков комплементарны, в этом мне видится приглашению к установлению связей, к реконструкции синтаксиса. Чем дольше я вглядываюсь в это изображение, тем больше нахожу аналогий с известными мне языковыми и литературными структурами. Нечто чужое и чуждое постепенно перетолковывается в знакомых терминах – я даже начинаю чувствовать некоторое родство с (воображаемой?) культурой, породивший тлацкотель. В то же время приходят на ум мысли о колониальных тенденциях западного мышления, о периоде первичного накопления капитала, о грабеже и геноциде, осуществленными европейцами во многих частях света. Недоверчивое вглядывание в (субъективно) асемический текст постепенно перетекает в политические и этические размышления.
В этом, как мне кажется, и заключается одно важных свойств работ Мельникова. Он вводит во взаимодействие между зрителем и произведением существенную ассиметрию: мы не понимаем этот язык, но есть по меньшей мере гипотетический другой, который может его понять и извлечь из странных символов мелодию речи, богатство смыслов, вполне стабильные и определенные значения. И если задуматься над этим образом другого, поразмышлять о его свойствах и чертах (безопасный другой или угрожающий? близкий или далекий? вовлеченный или отчужденный? открытый или скрытный?), то можно многое сказать и о себе самом. Ведь этот образ другого вылеплен и личной биографией, и политическим фоном (в его конкретном отношении к конкретному индивиду), и выразительностью конкретной работы, и мимолетными ассоциациями (открывающими дорогу к бессознательному). Поэтому мне кажется, что в работах Мельникова обострен момент призыва к самопознанию и рефлексии, которая может быть иногда жизненно важна в наших отношениях со иными культурами, языками, людьми, институциями и силами.
Закрытое общество и его враги
Надеюсь, мой обзор показал, что асемическое письмо можно считать техникой и практикой, которая принимает множество форм и выражает (или даже решает) множество разнородных концептов или проблем. Самое главное, на мой взгляд, – что асемическое письмо дает новую точку зрения на взаимодействия произведения и зрителя. В отличие от акционистских и подобных арт-практик, асемическое письмо не подходит к взаимодействию с аудиторией прямо, но все-таки интерактивность играет для асемического письма ключевую роль. Этот творческий подход нуждается в зрителе, точнее – в читателе. Отсутствие предзаданного значения в асемическом письме компенсируется участием читателя, который истолковывает нечитаемый текст так, как ему заблагорассудится. Асемическое письмо, кажется, идеально подходит для того, чтобы образовывать мягкие связи с аудиторией и внутри аудитории, оно размывает границы между автором и реципиентом, формируя их нестойкий, временный альянс. Учитывая маргинальное положение асемического письма в инфраструктуре современного искусства, можно надеяться на то, что в рамках этого направления вызревают практики эмансипации, которые ускользают от репрессивных механизмов мягкой и жесткой силы.
Визуальные стихотворения: Полихромность предвестья & из цикла «deep/pression»
Полихромность предвестья

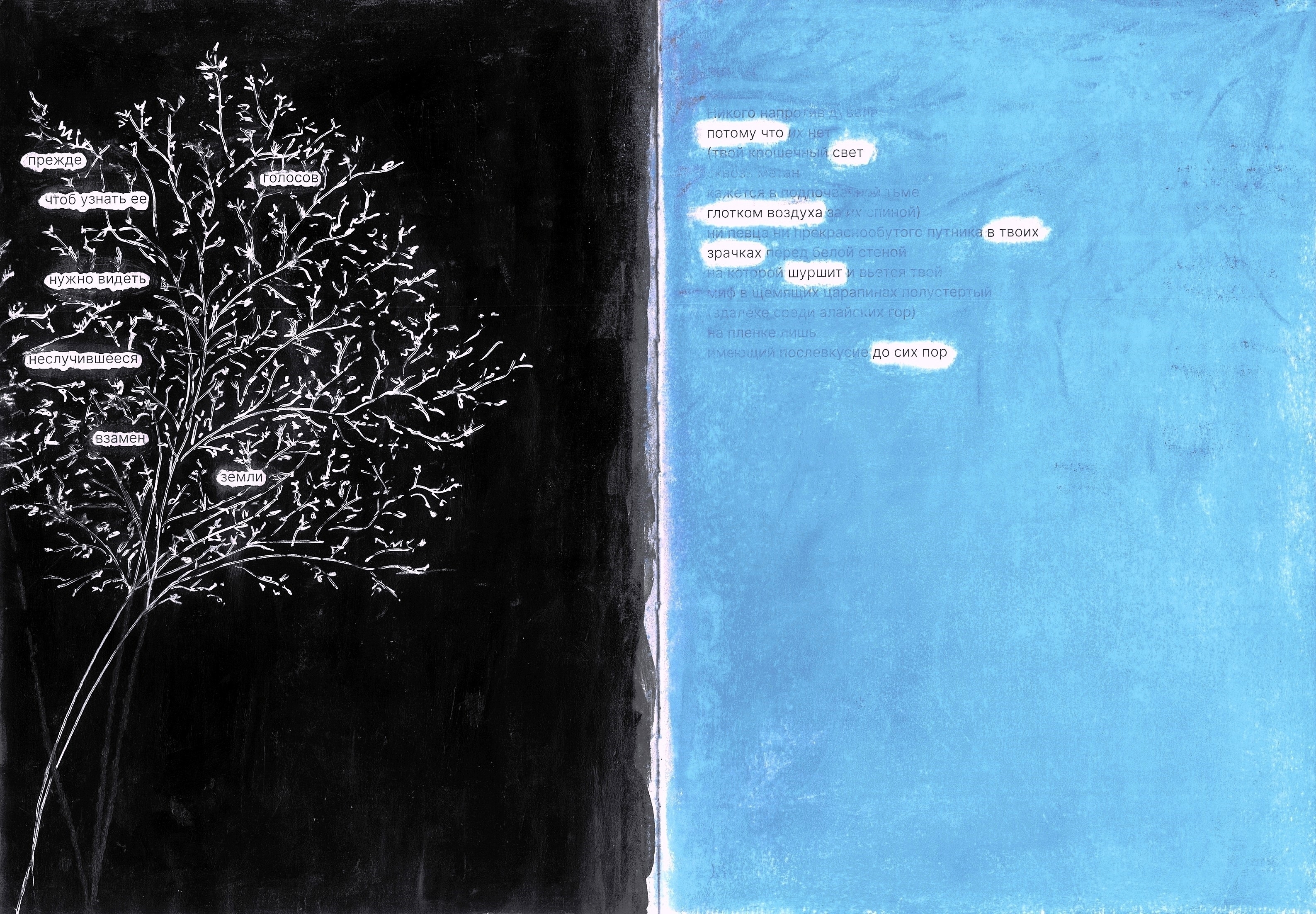

Из цикла «deep/pression»
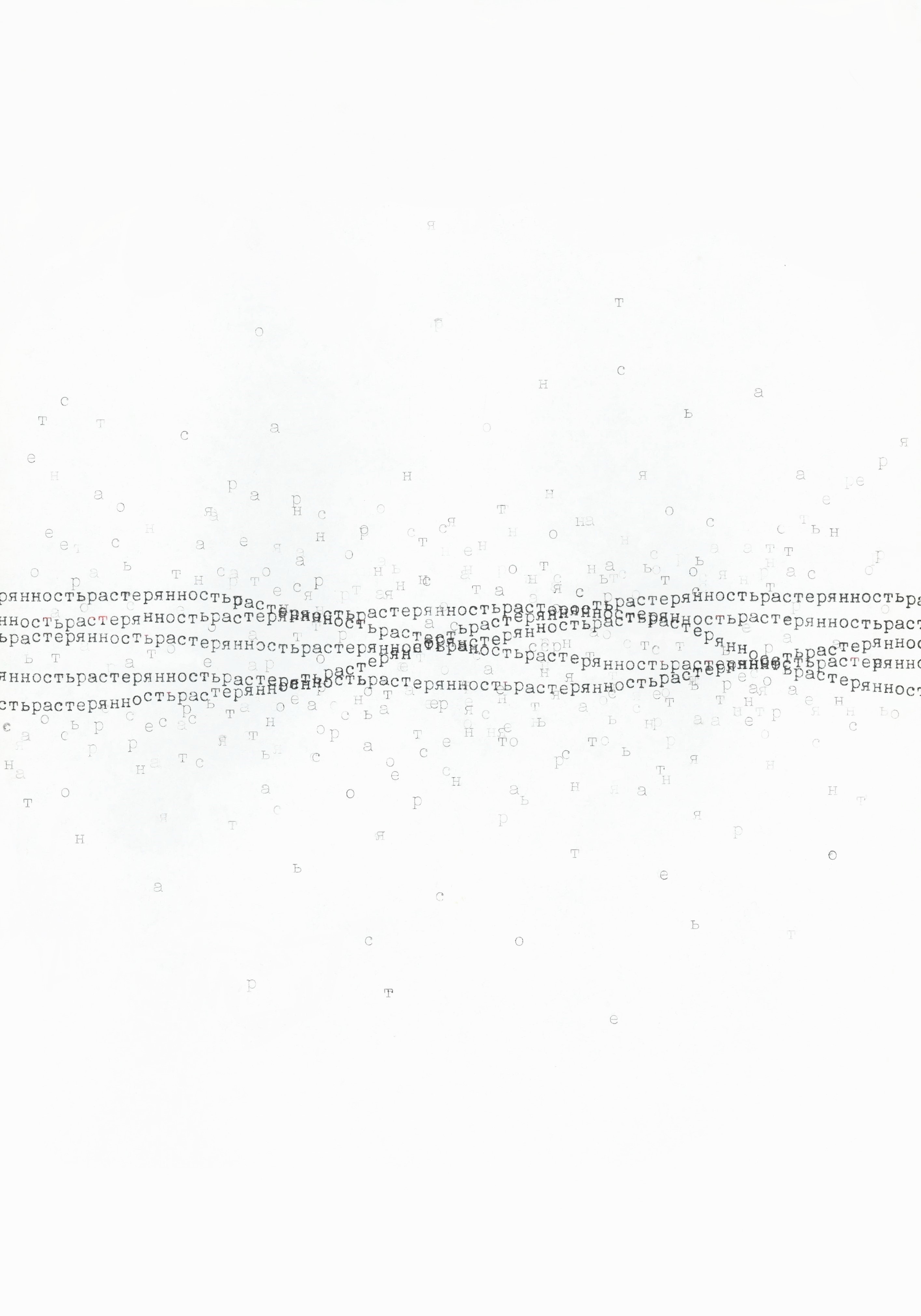

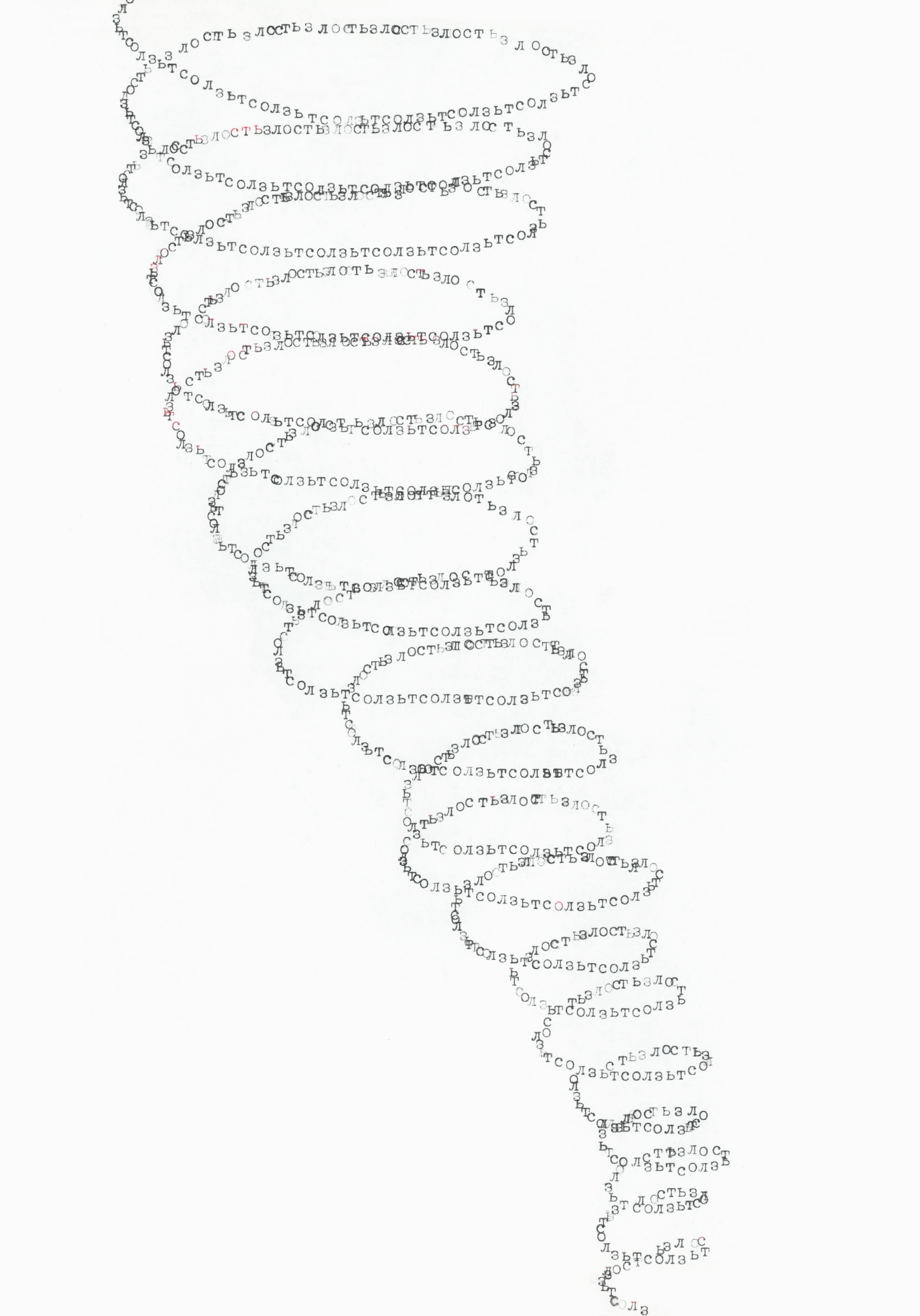
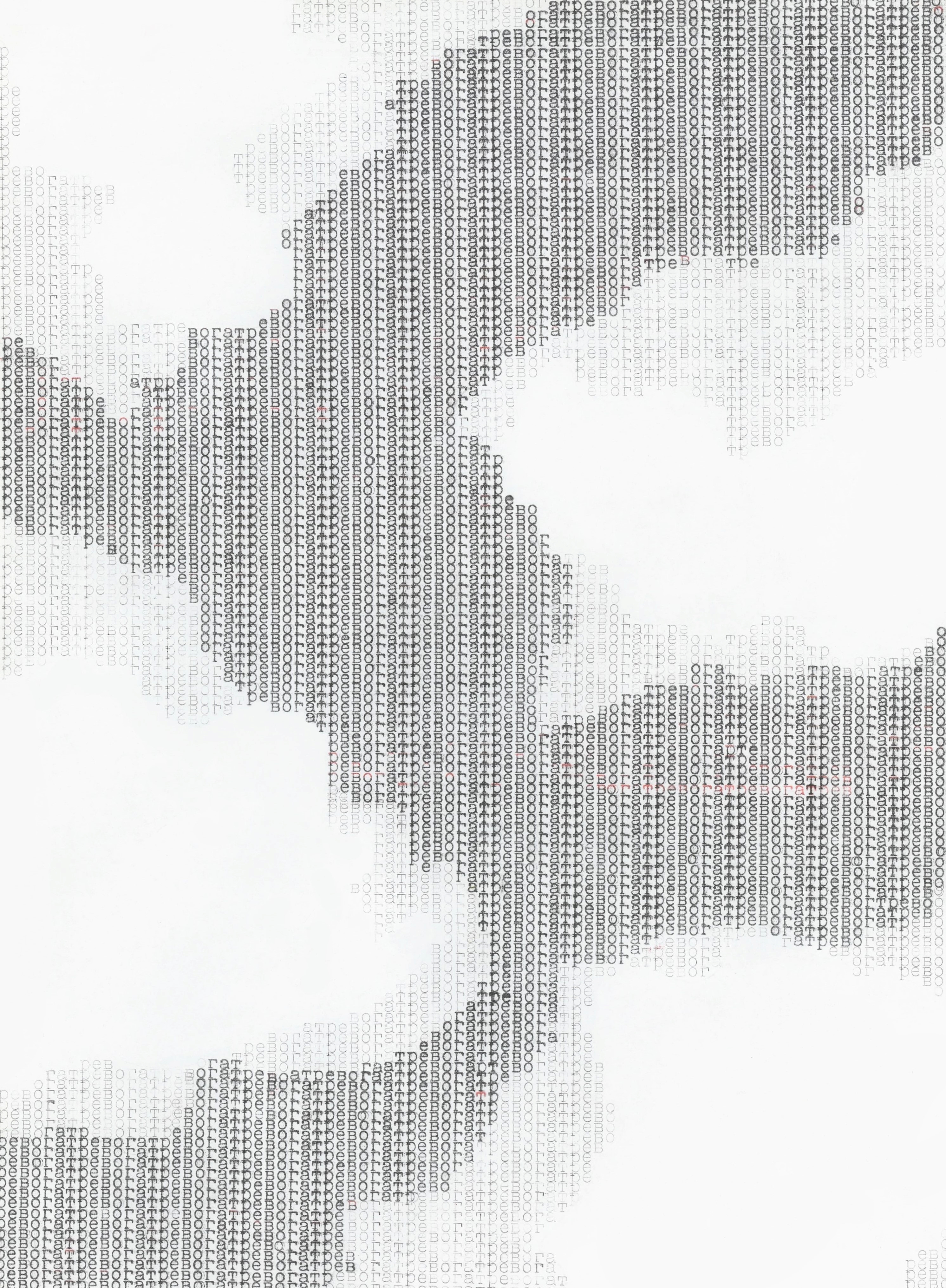

~500 блэкаутов
Серия-диптих Анны Лебедевой и Ульяны Мор (~500 блэкаутов & ~500 блэкаутов) посвящена пространству и действию как таковому: любая случайность, помноженная на осознанное восприятие, даёт нечто третье. Так, «чтение» обратной стороны блэкаута, взятого на просвет, перевернутые страницы, смазанные во время сканирования слова и сами структуры изображения становятся медиумами, дополнительно остраняющими этот вид поэтического эксперимента. В некотором смысле эта серия дигитальна и анти-дигитальна одновременно: сопротивление машине и перекладывание ответственности.
– Владимир Кошелев, Михаил Бордуновский
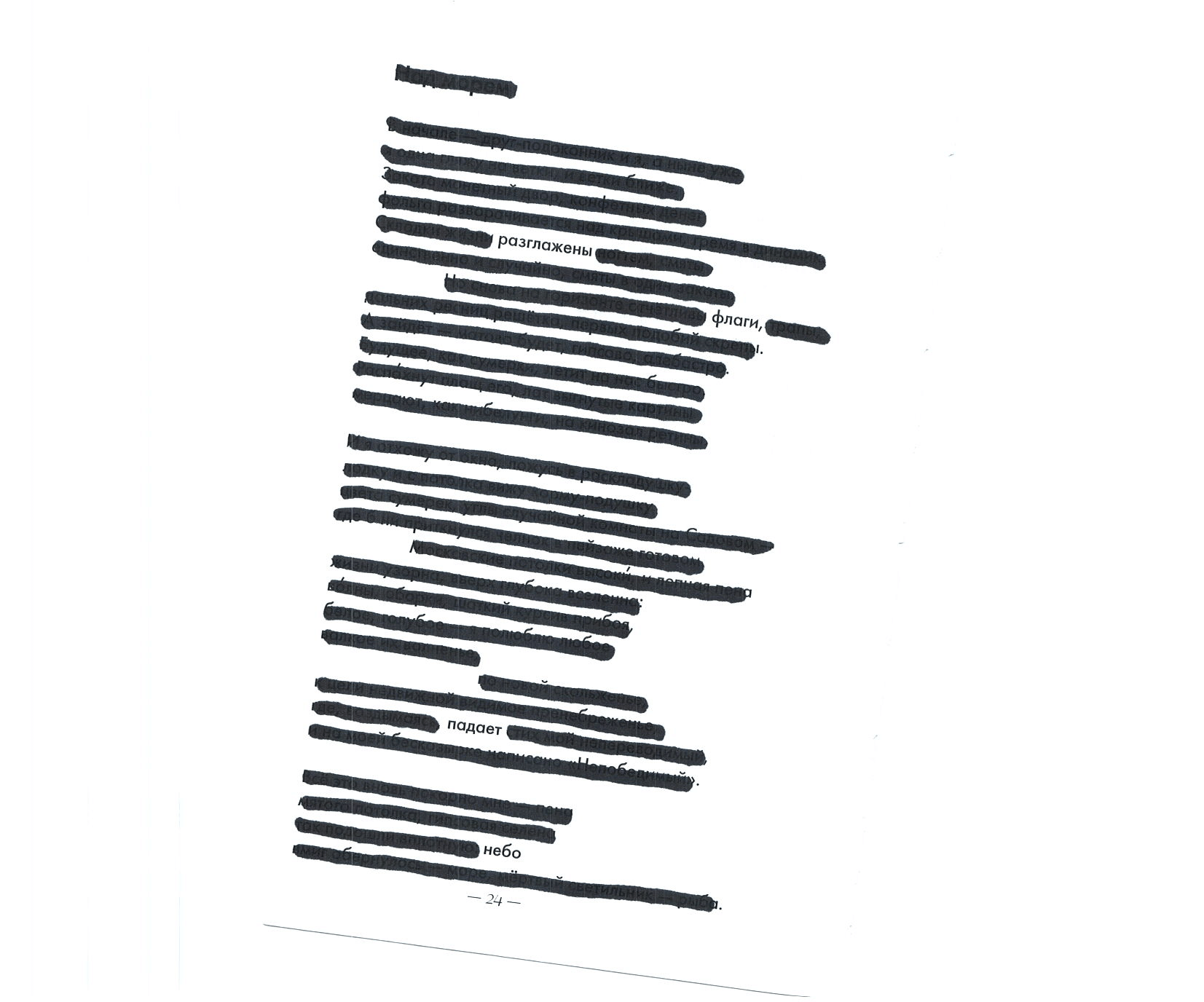
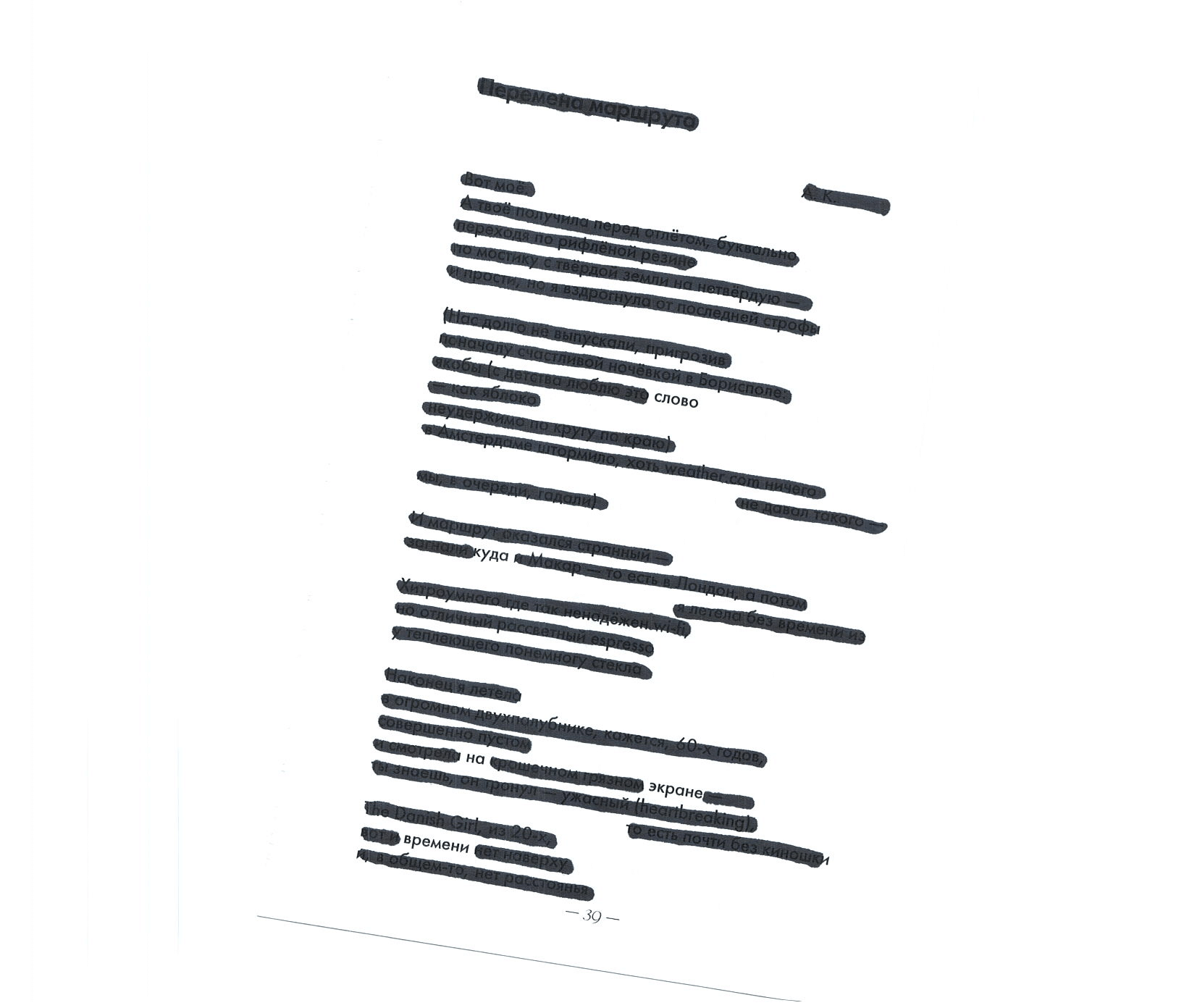
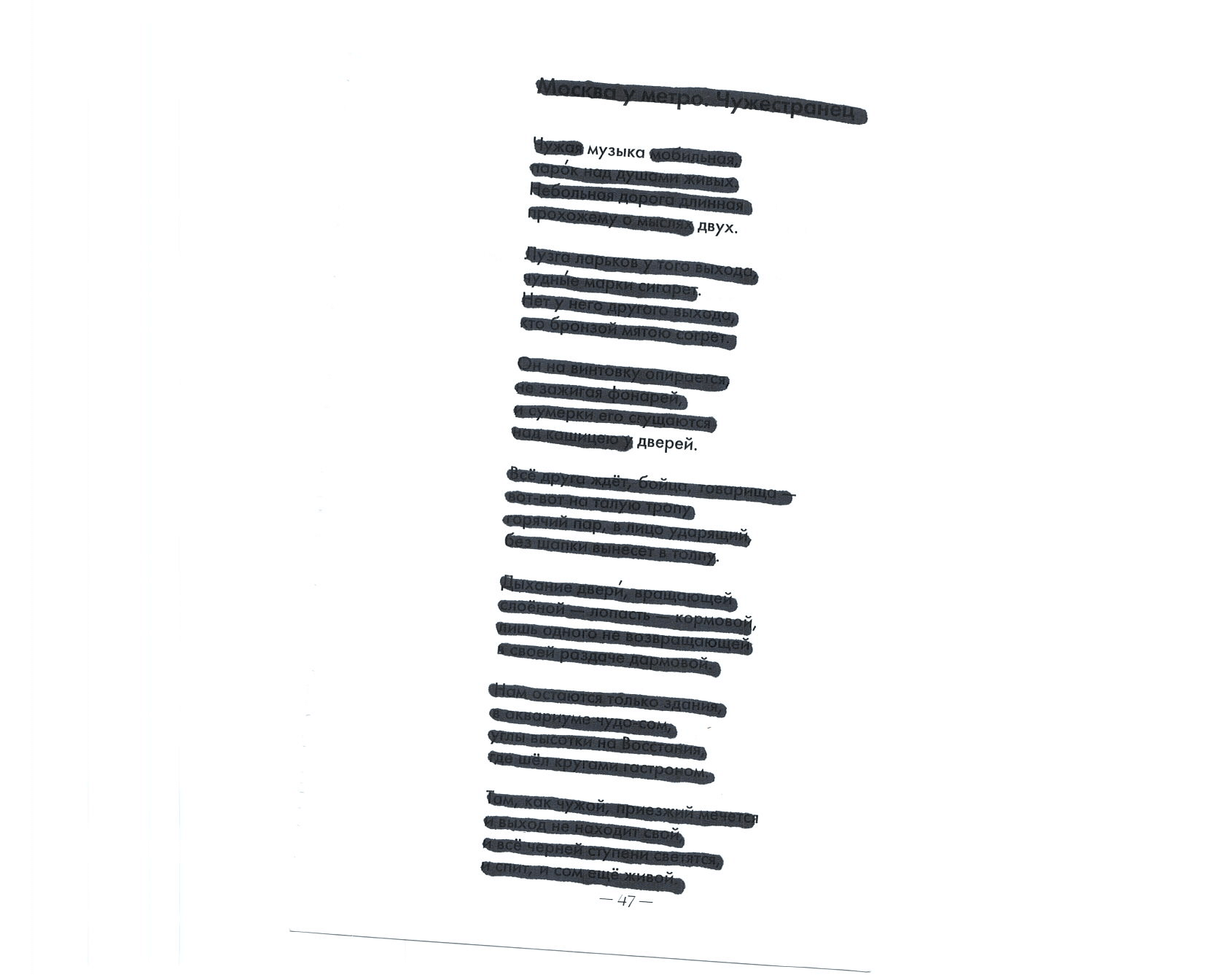
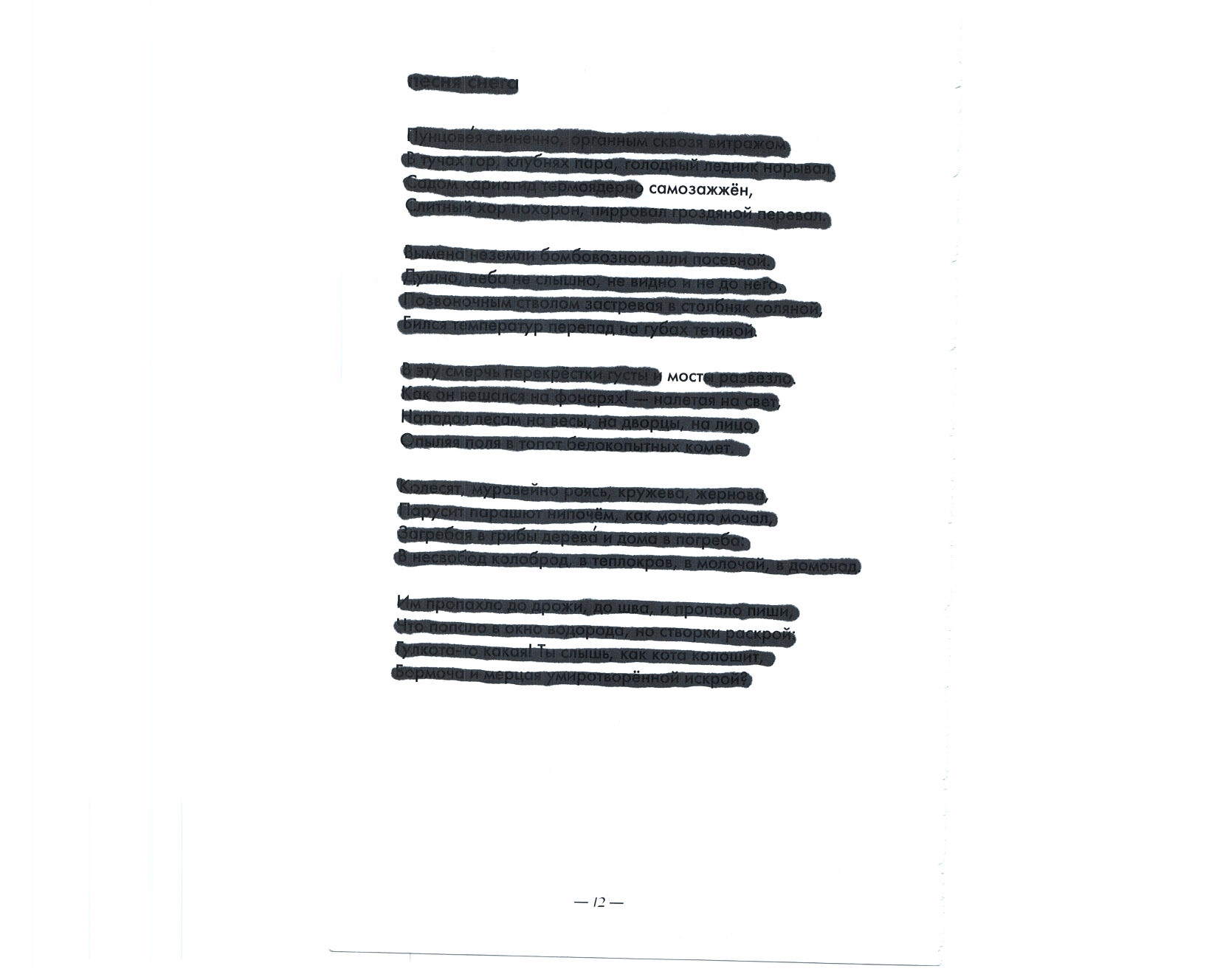
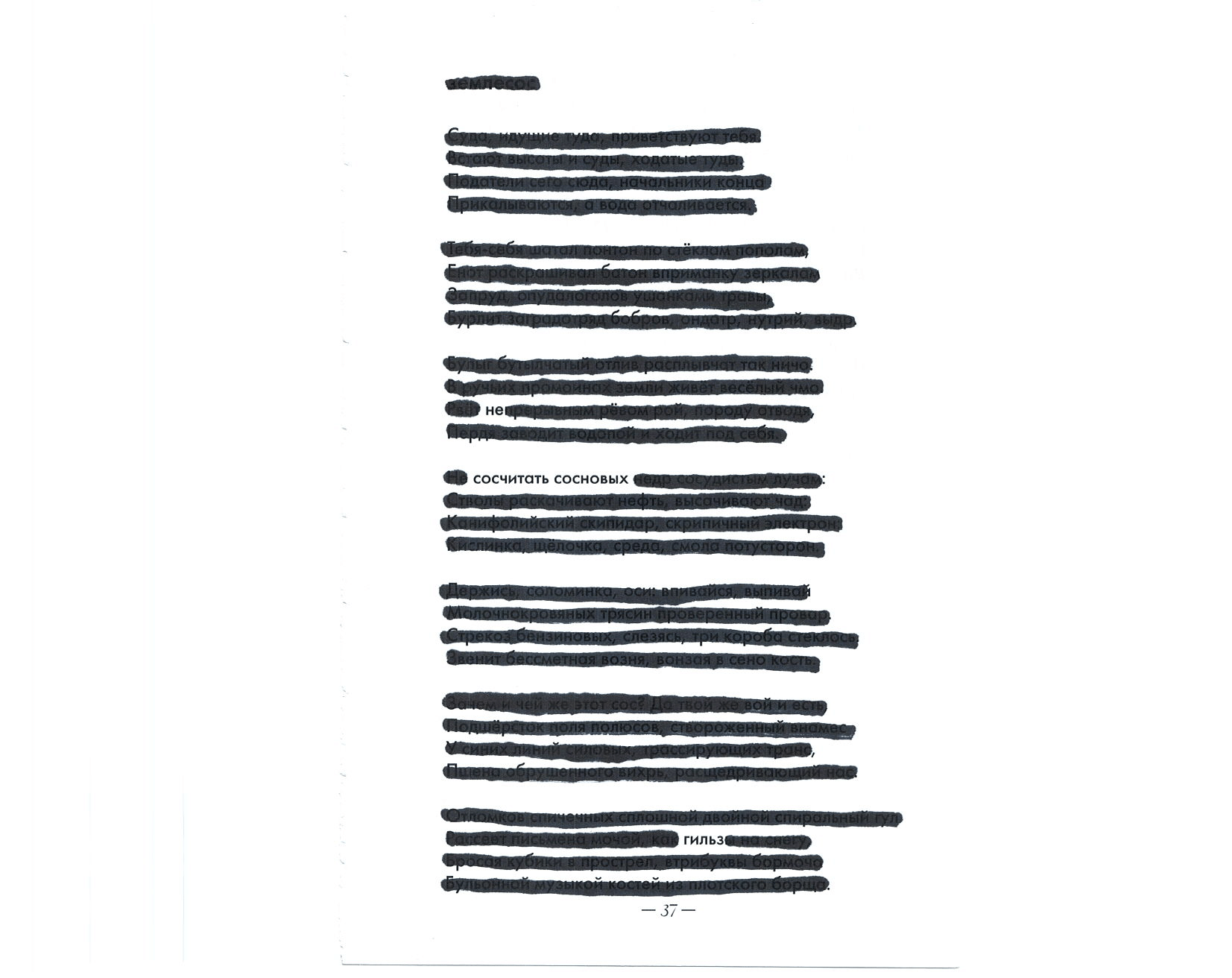
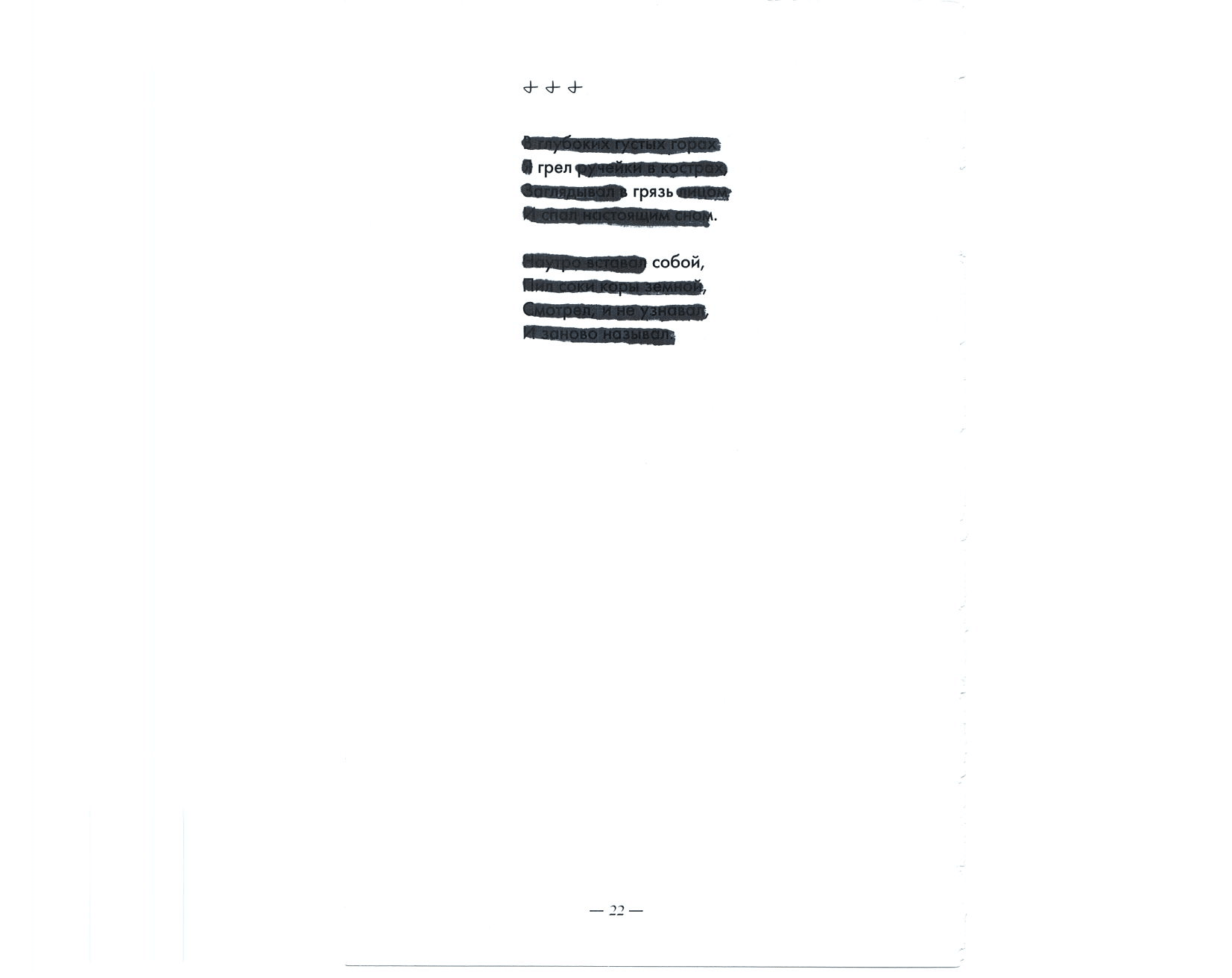
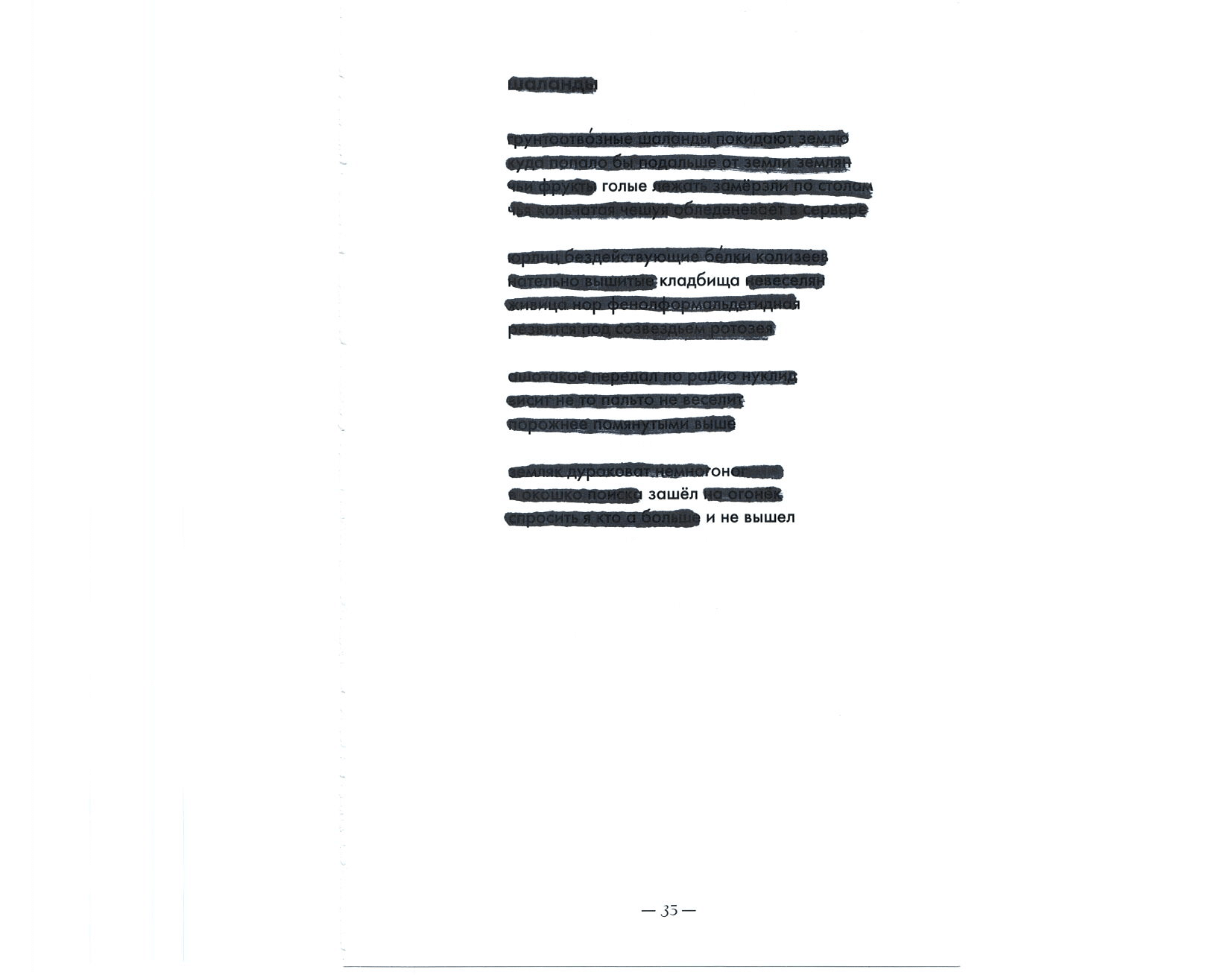

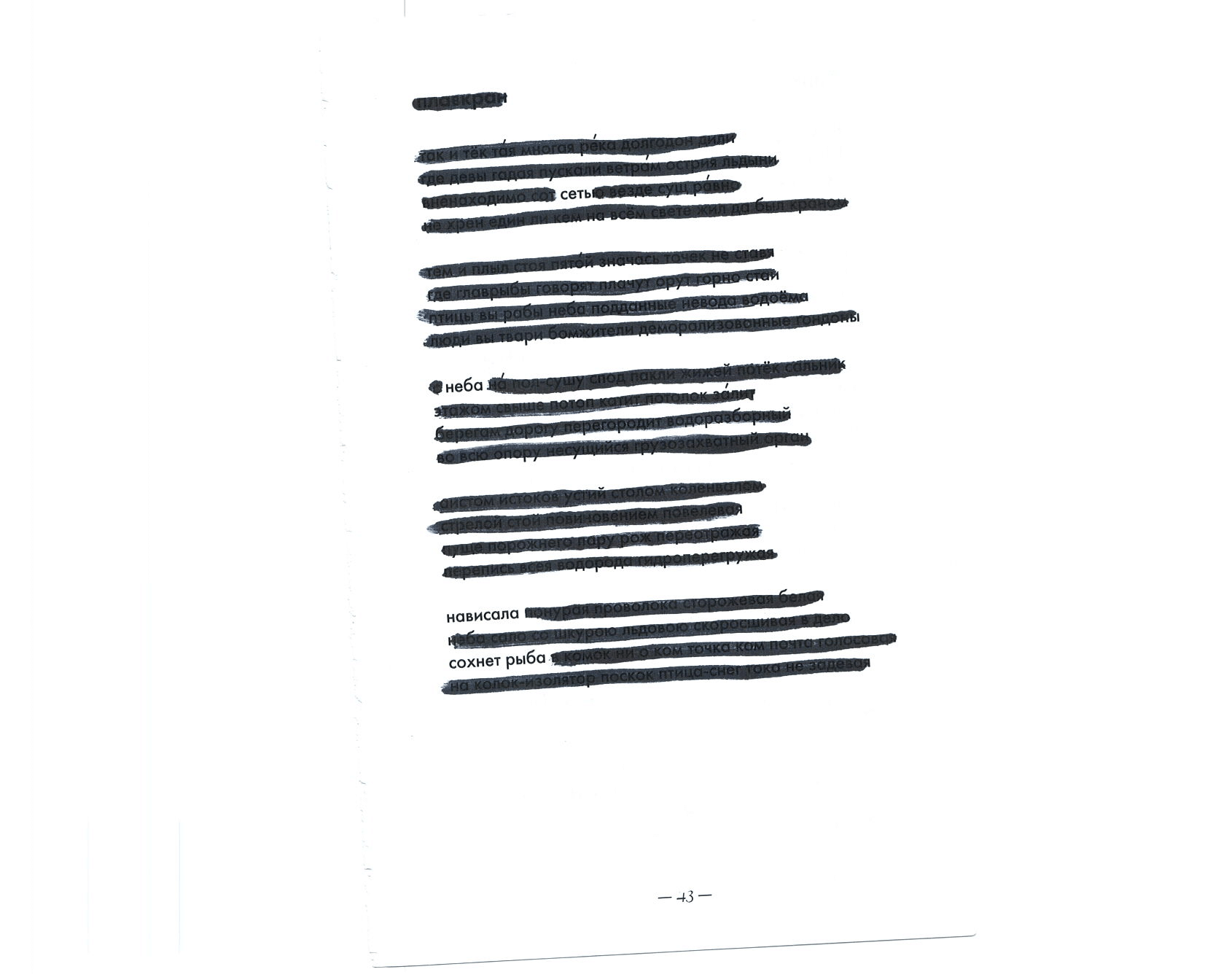
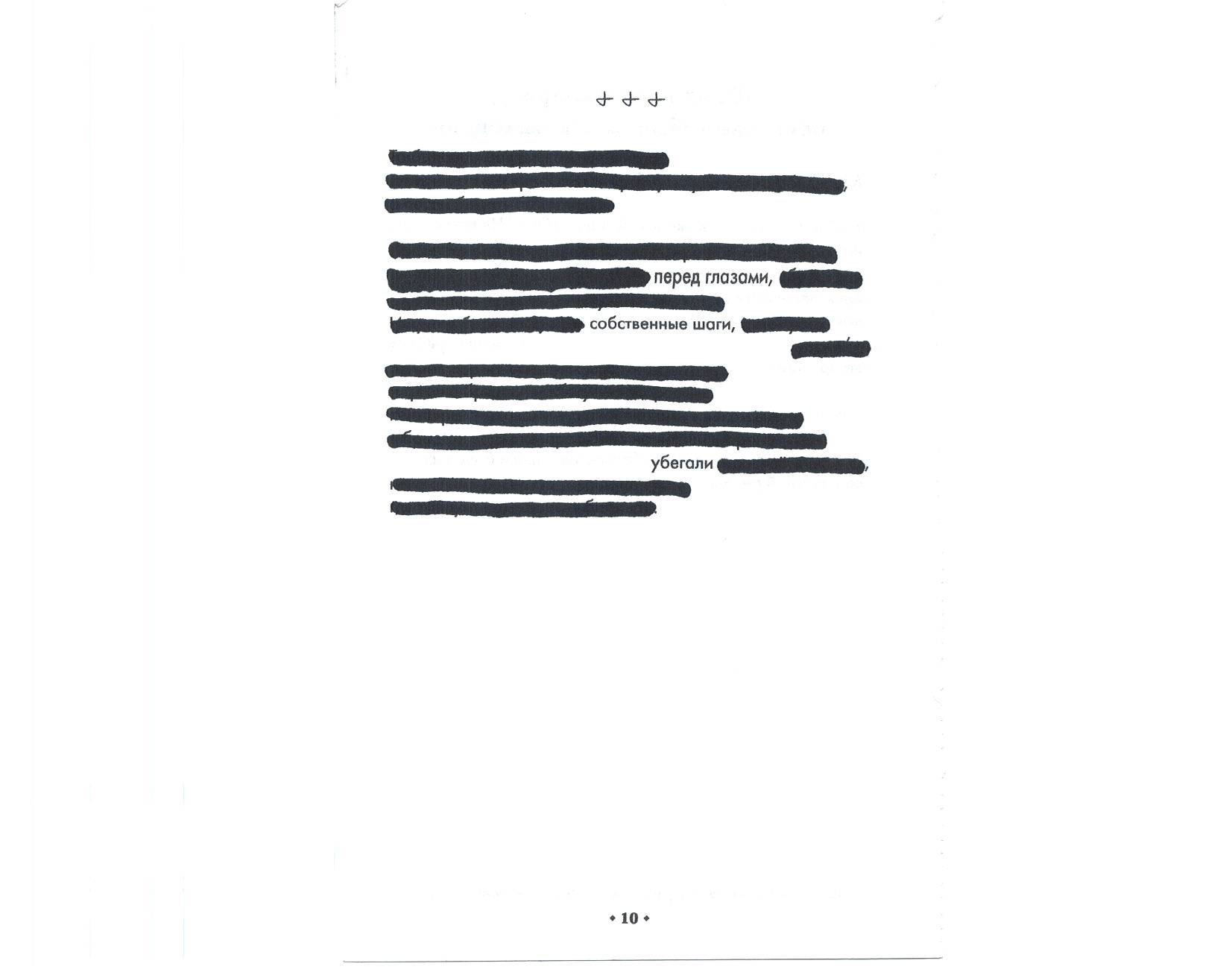
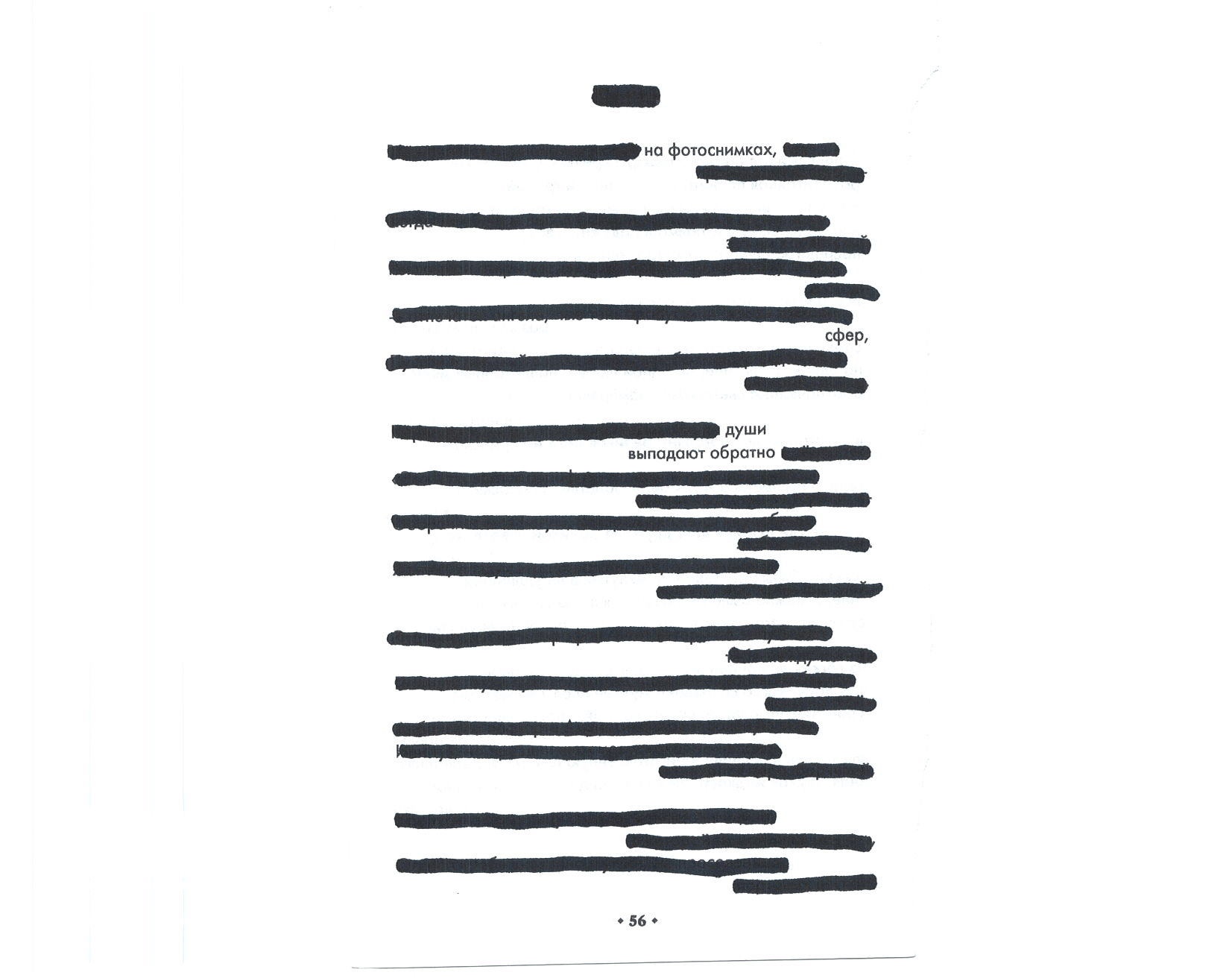
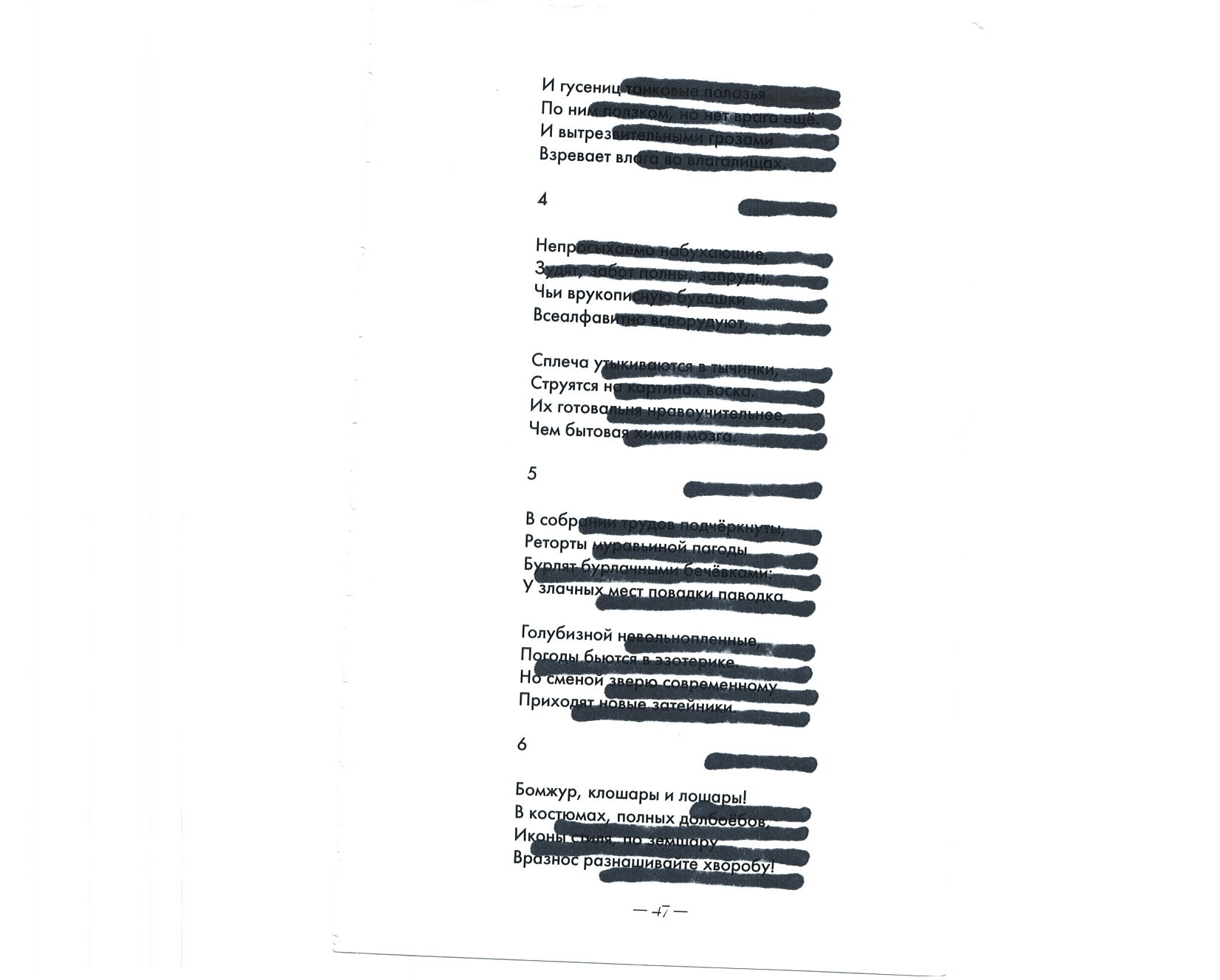
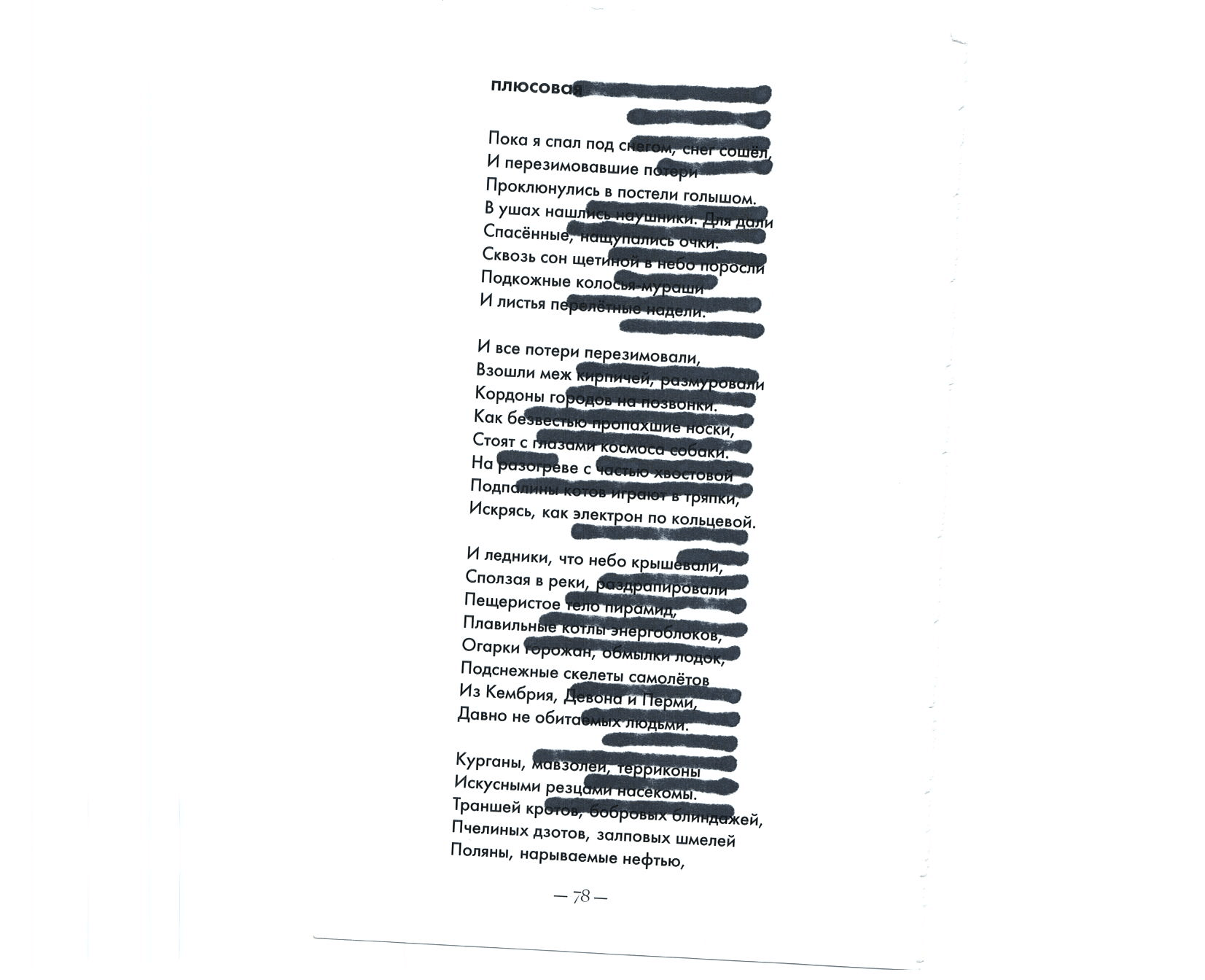
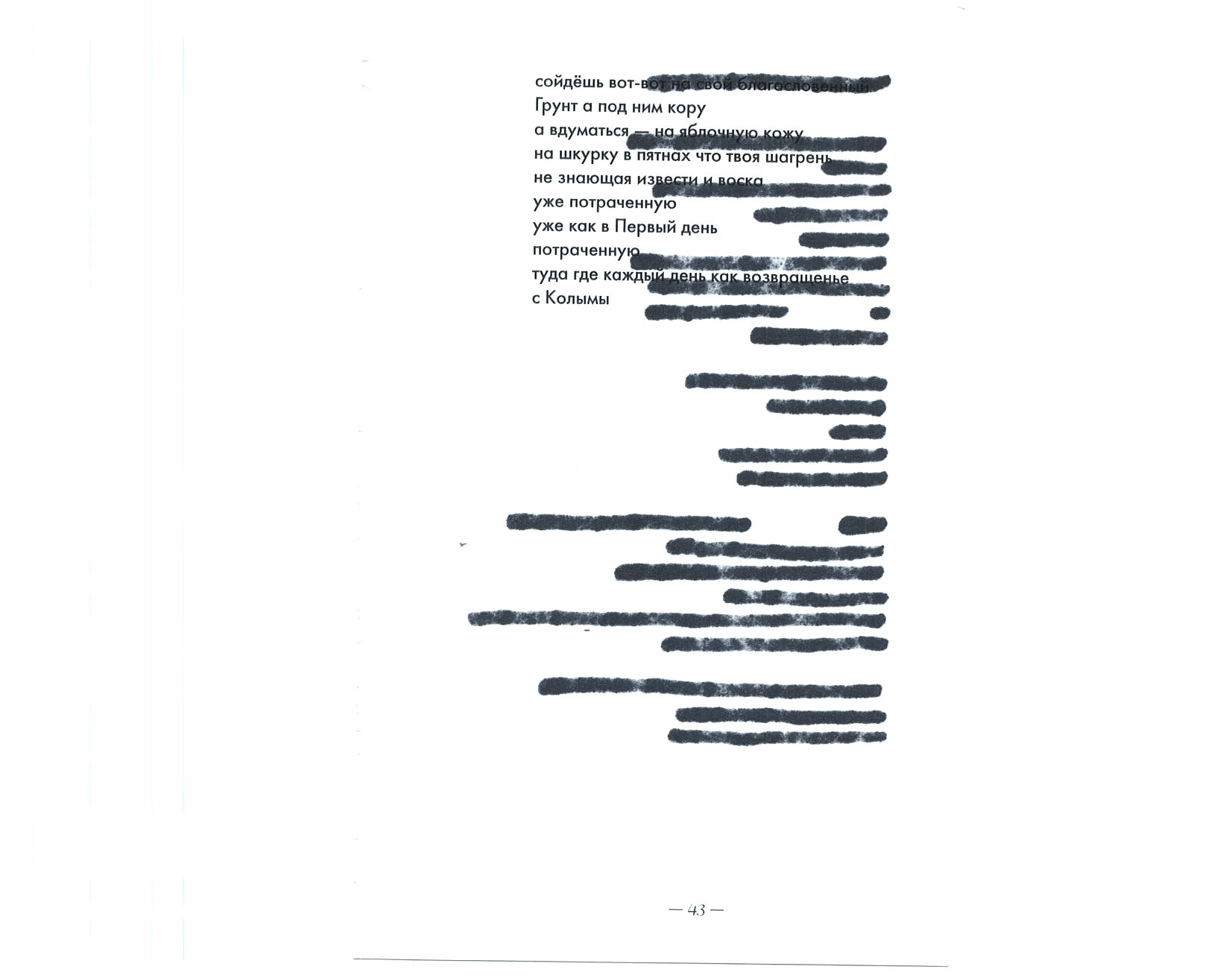
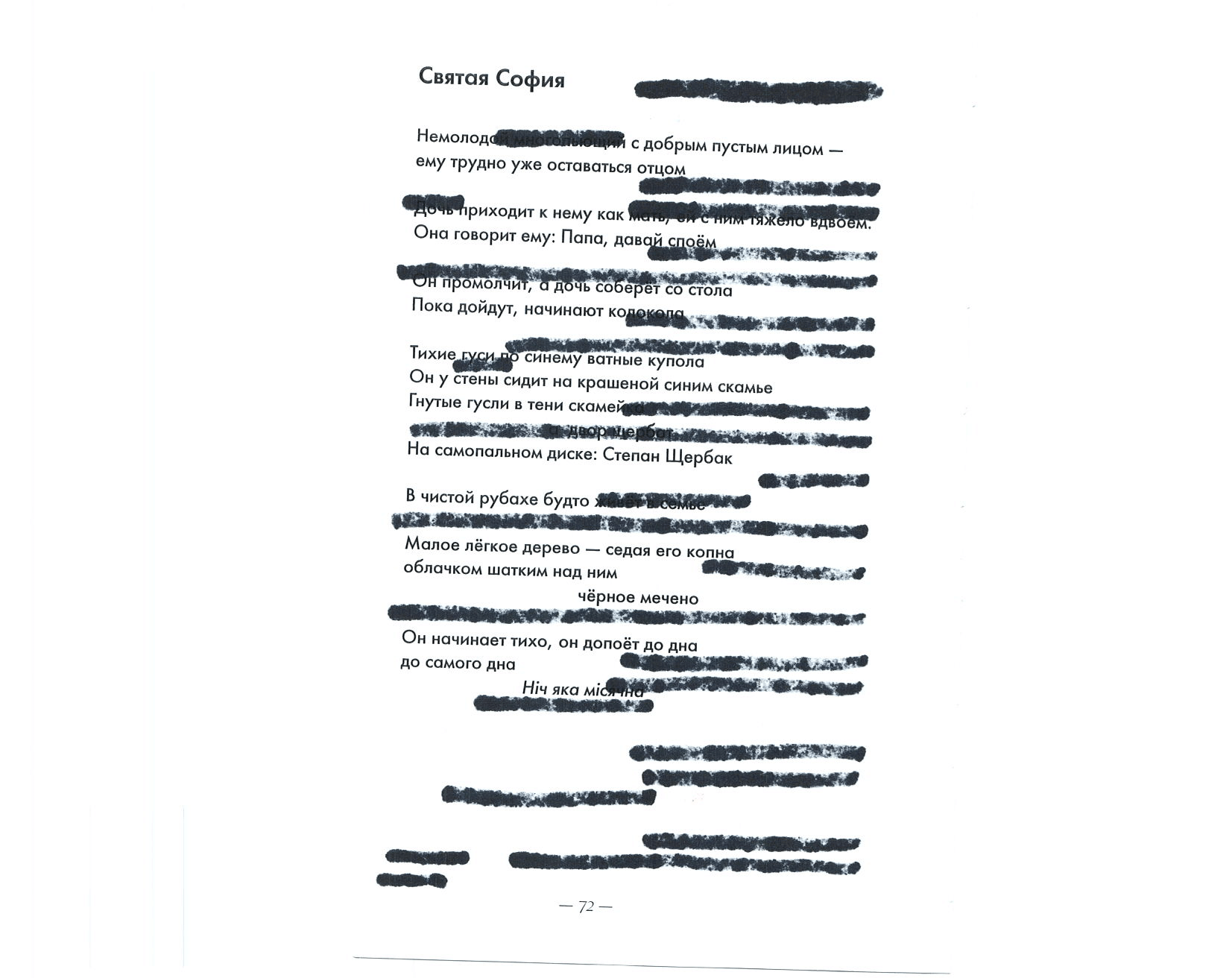
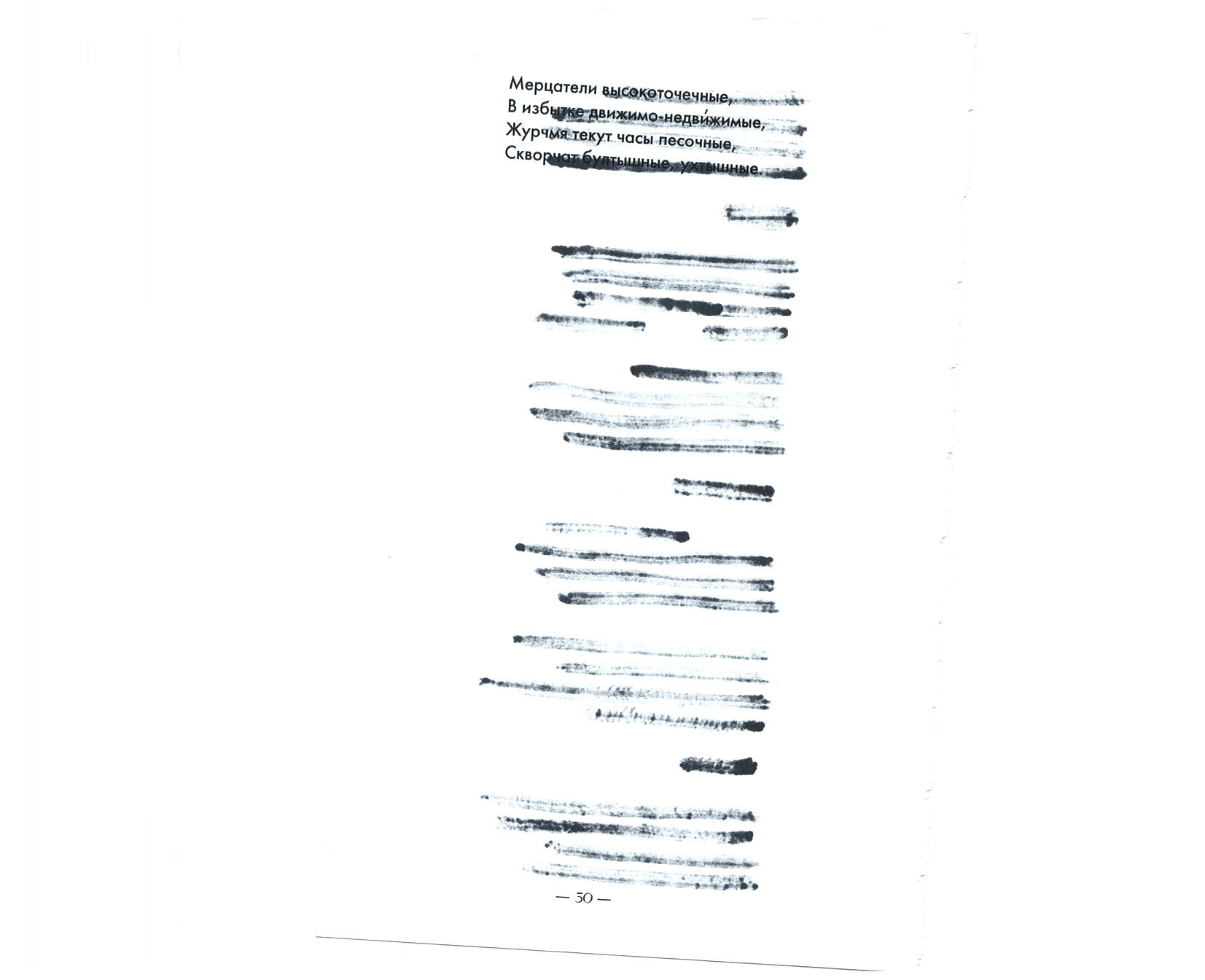
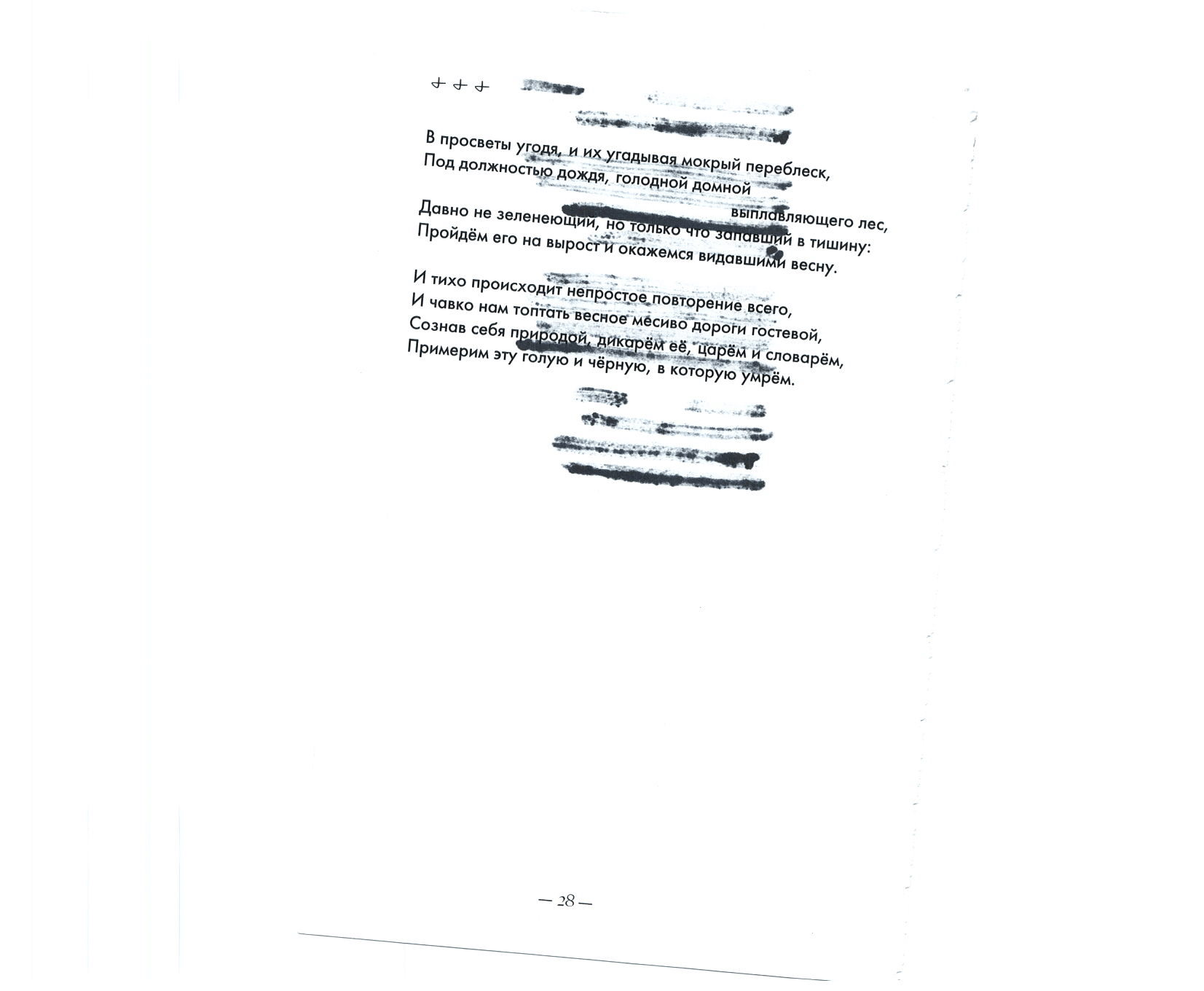
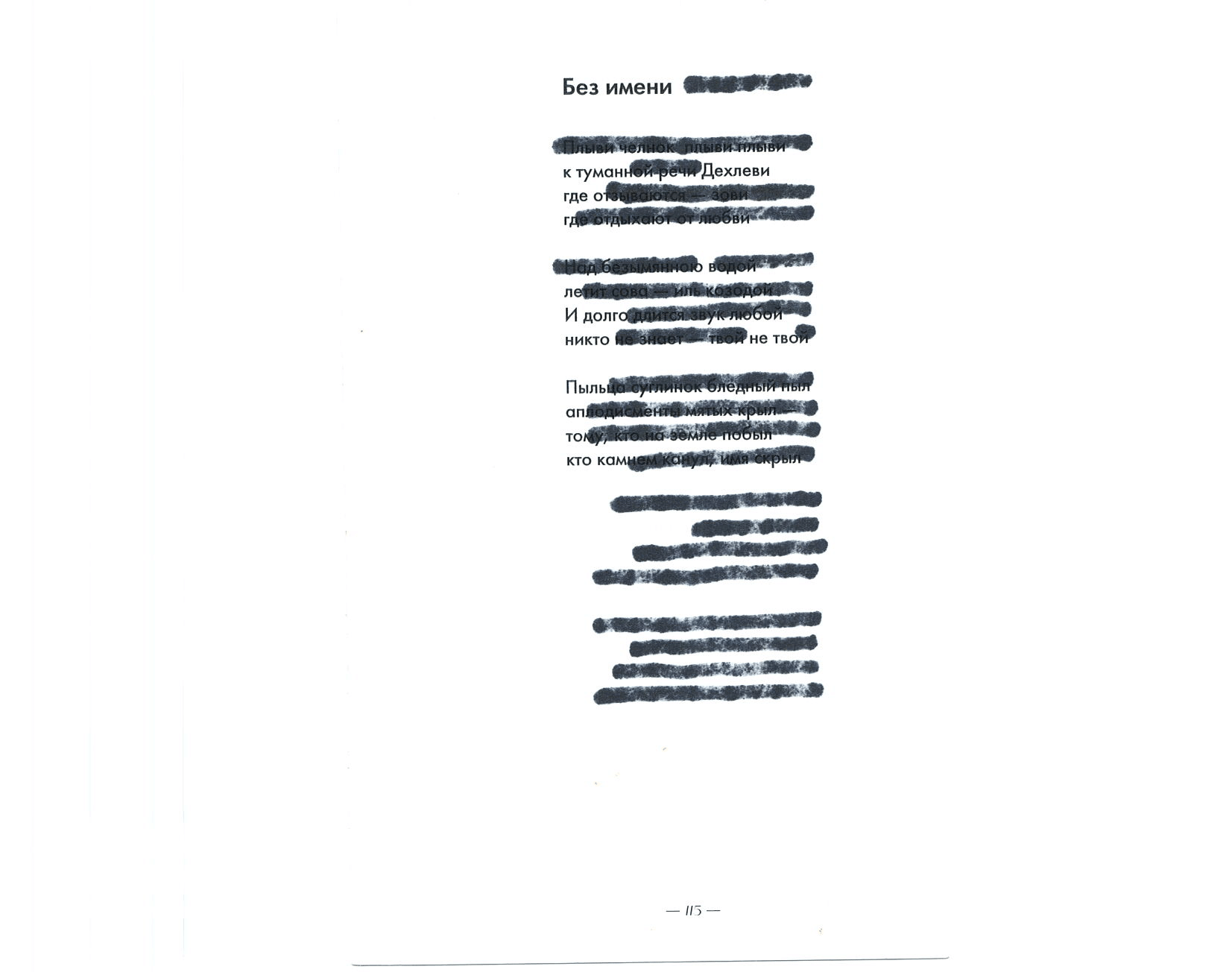
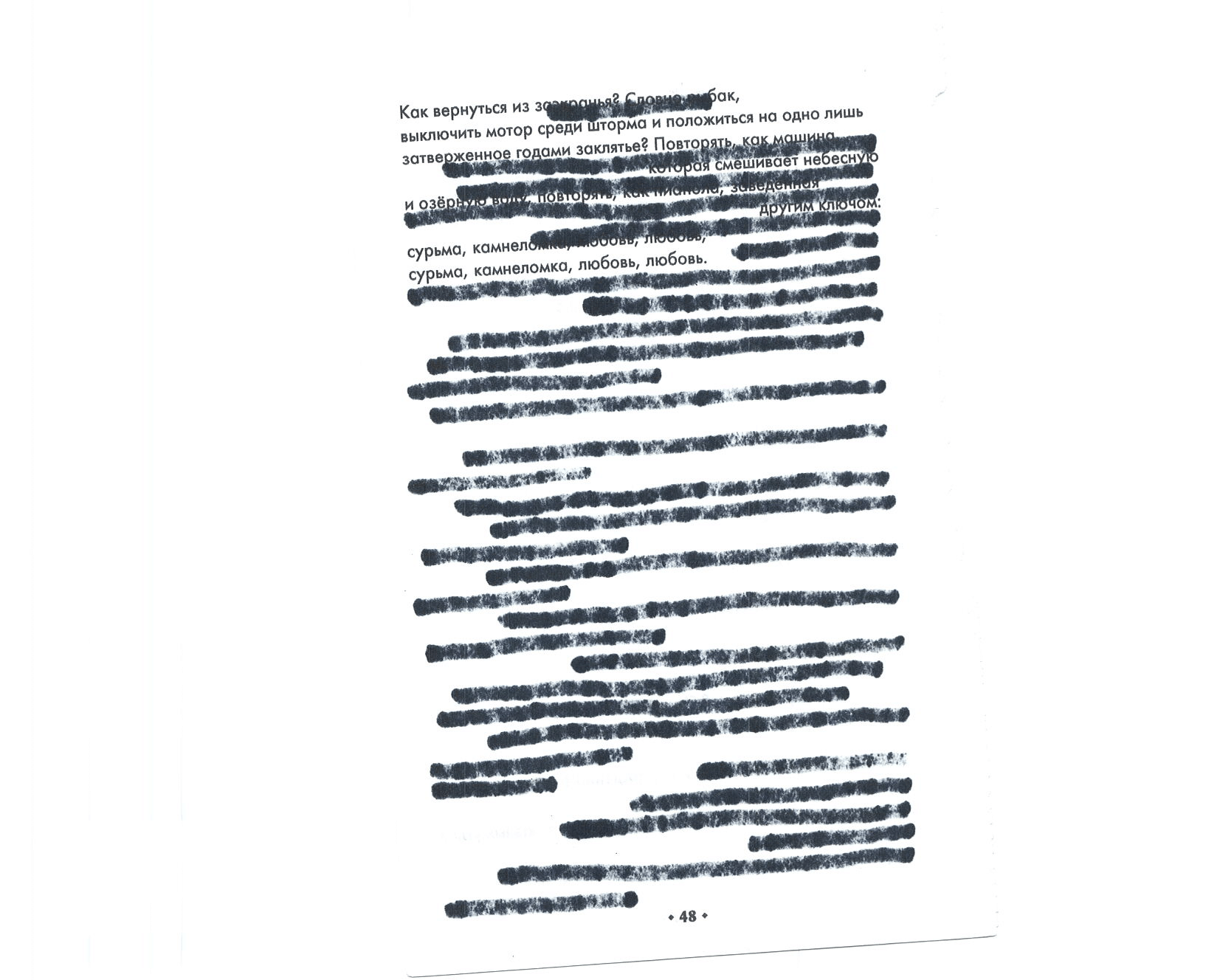
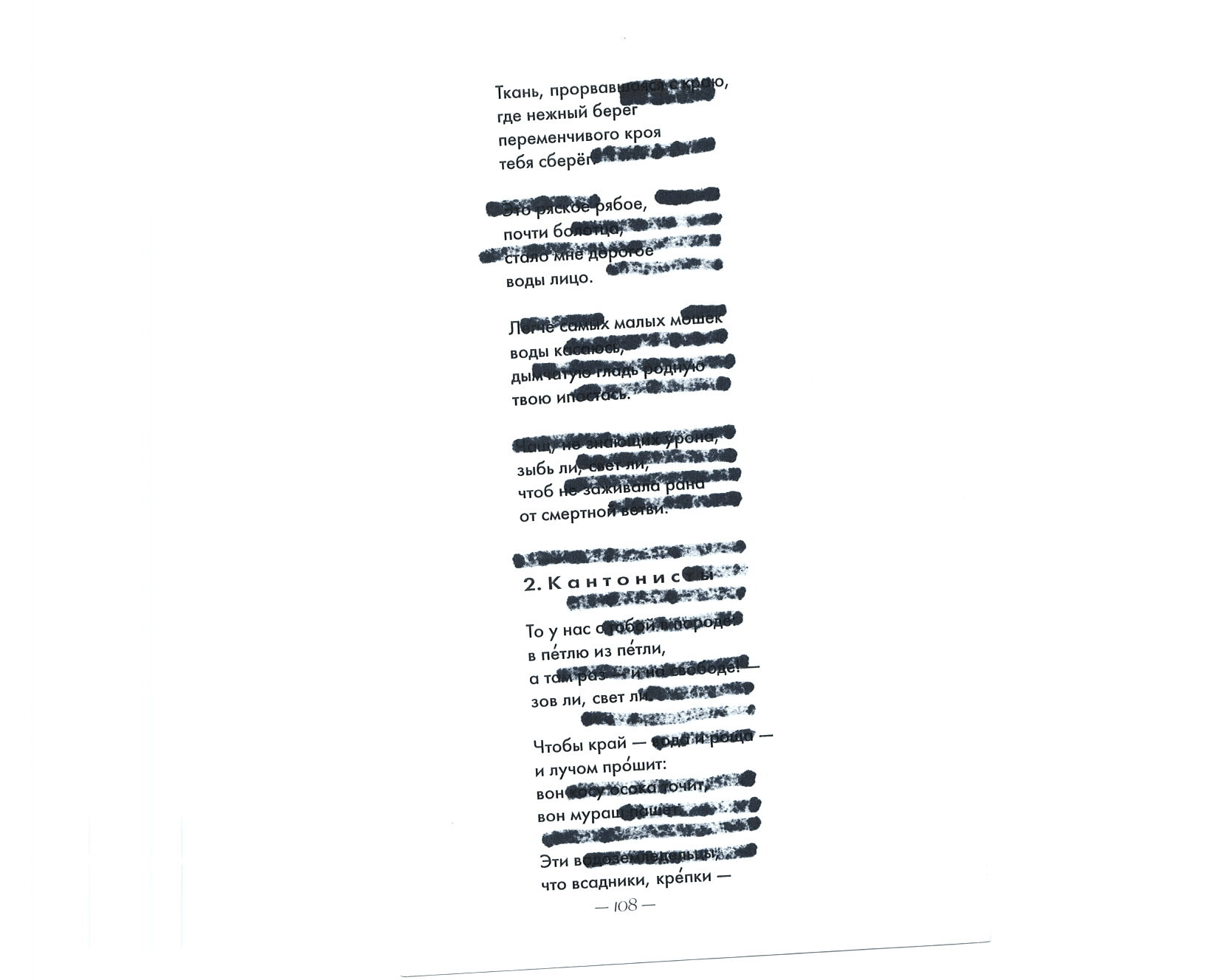
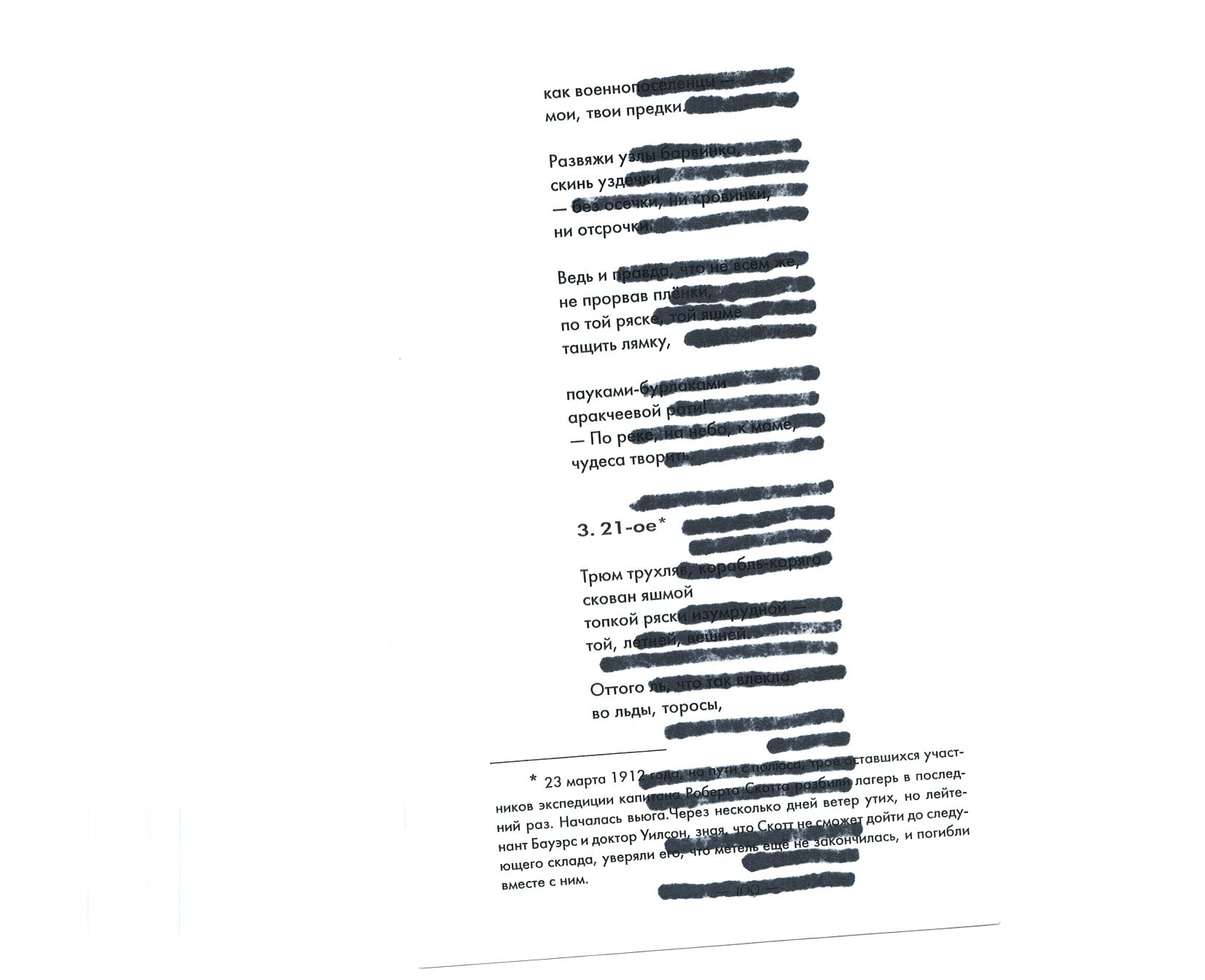
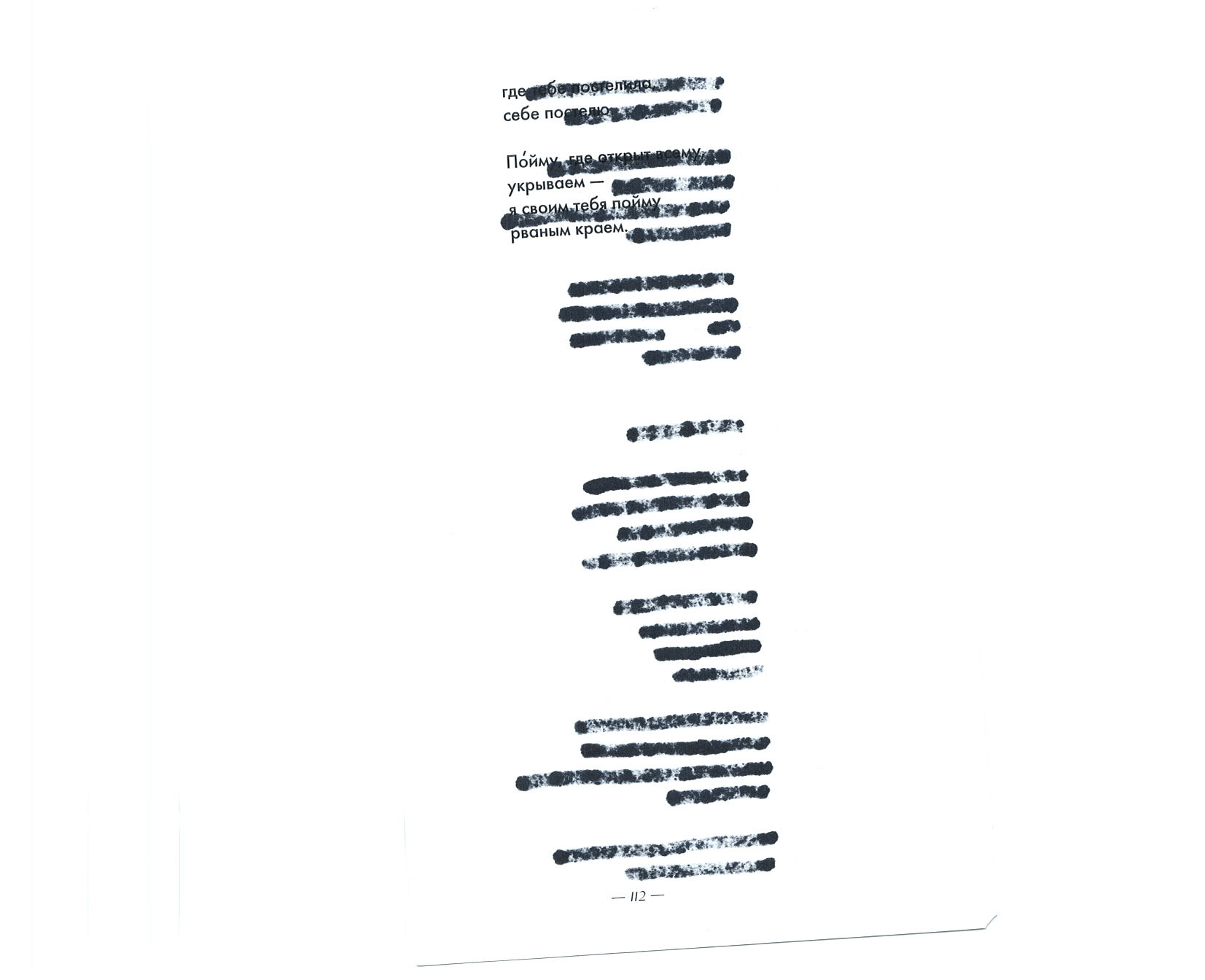
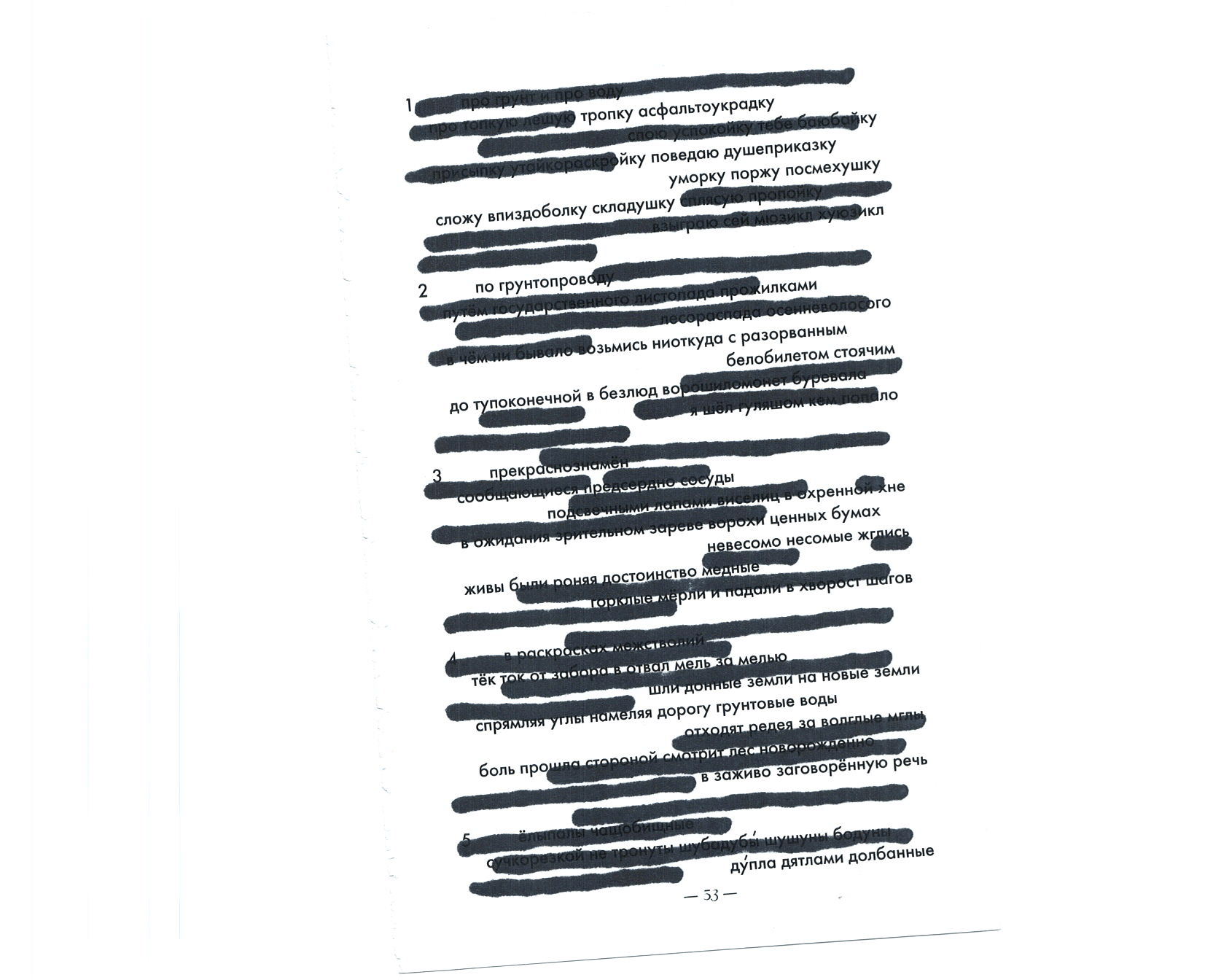
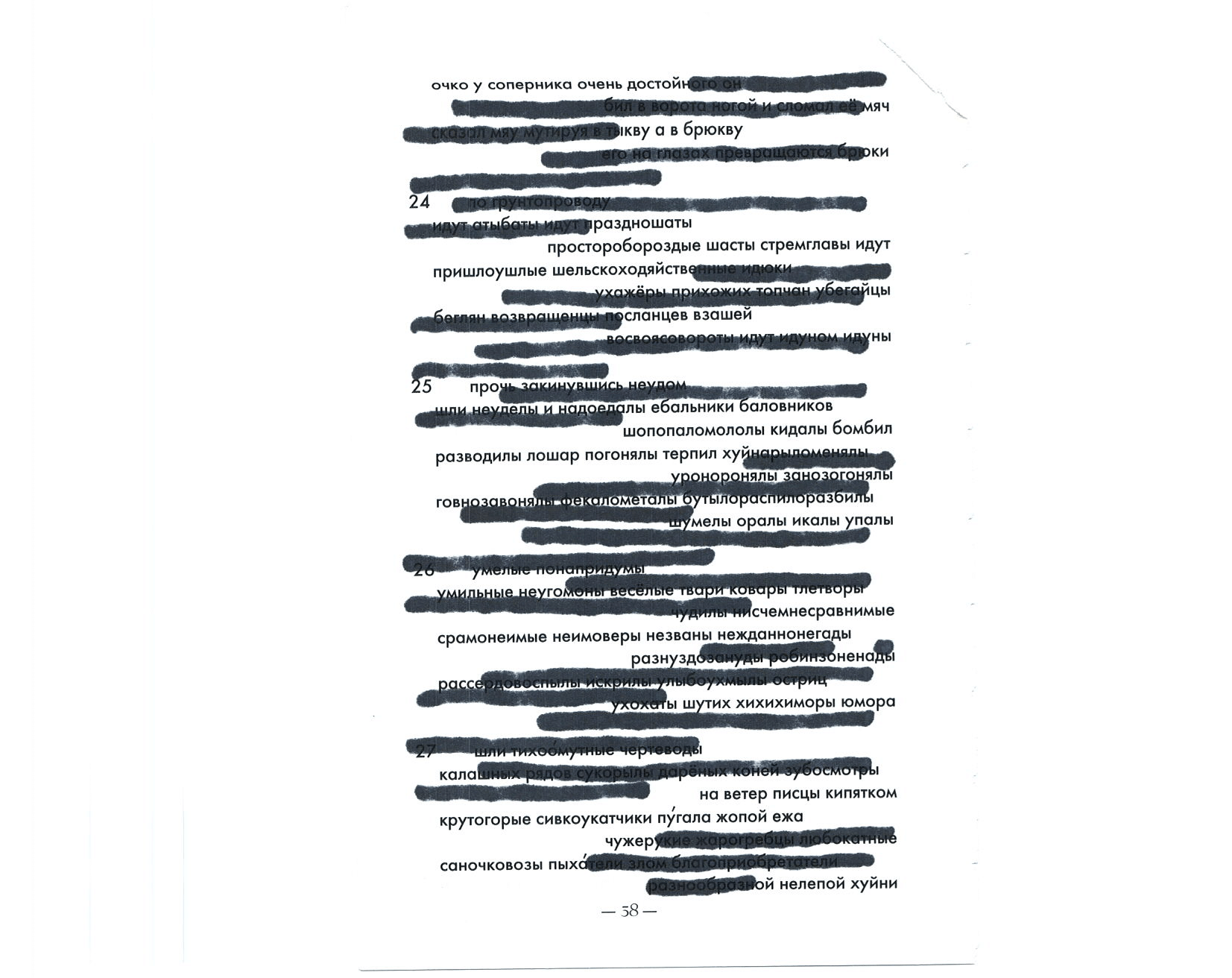
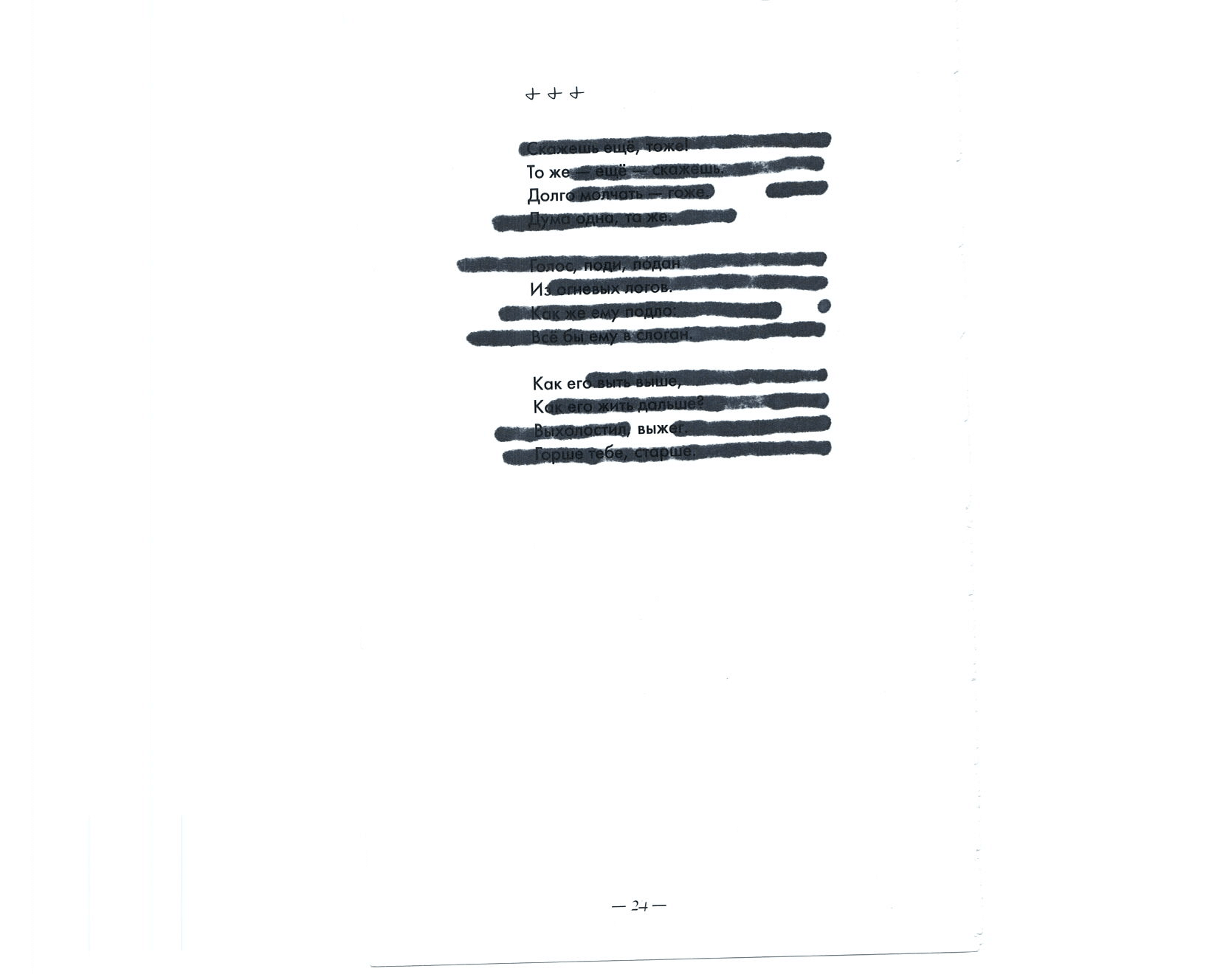
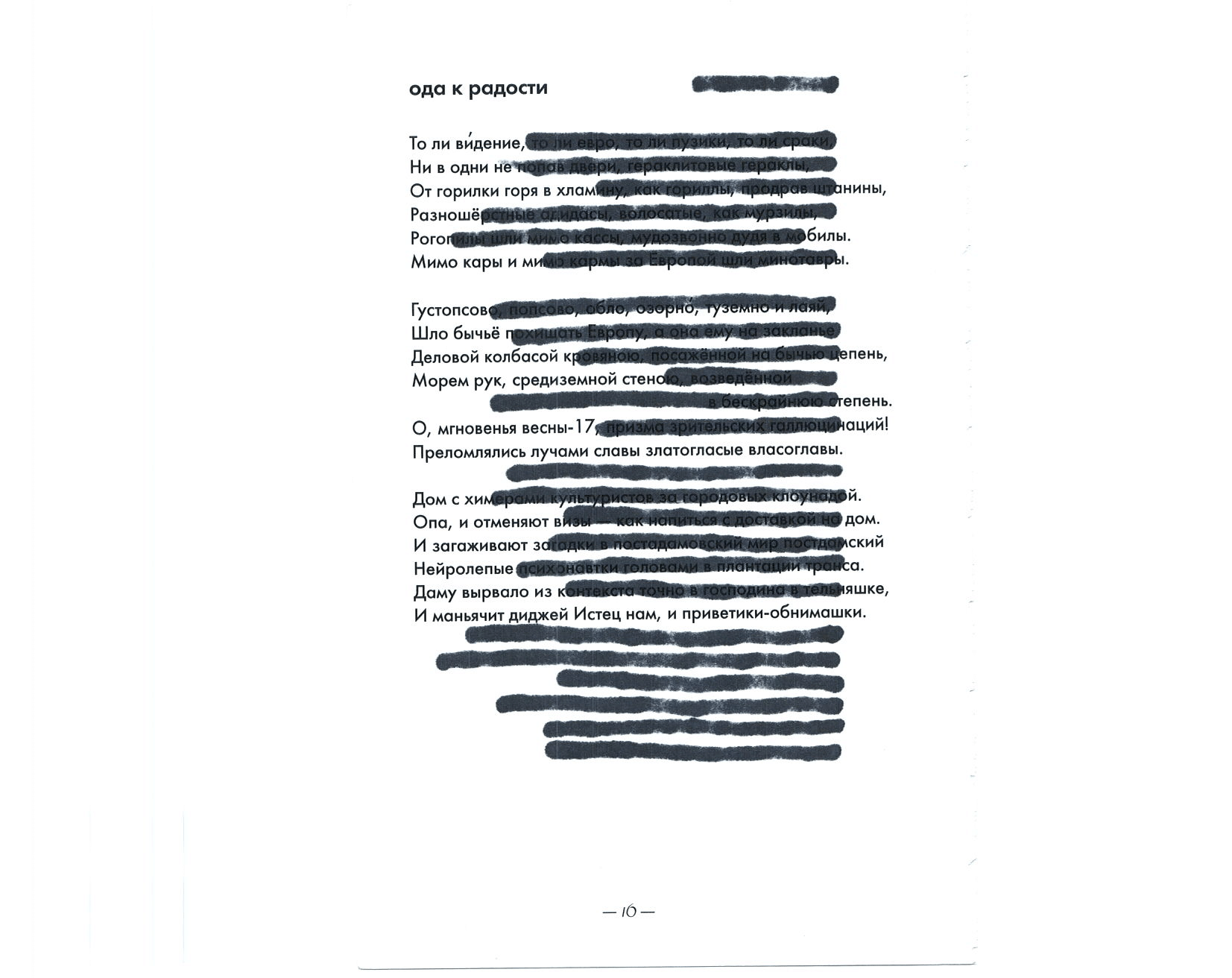
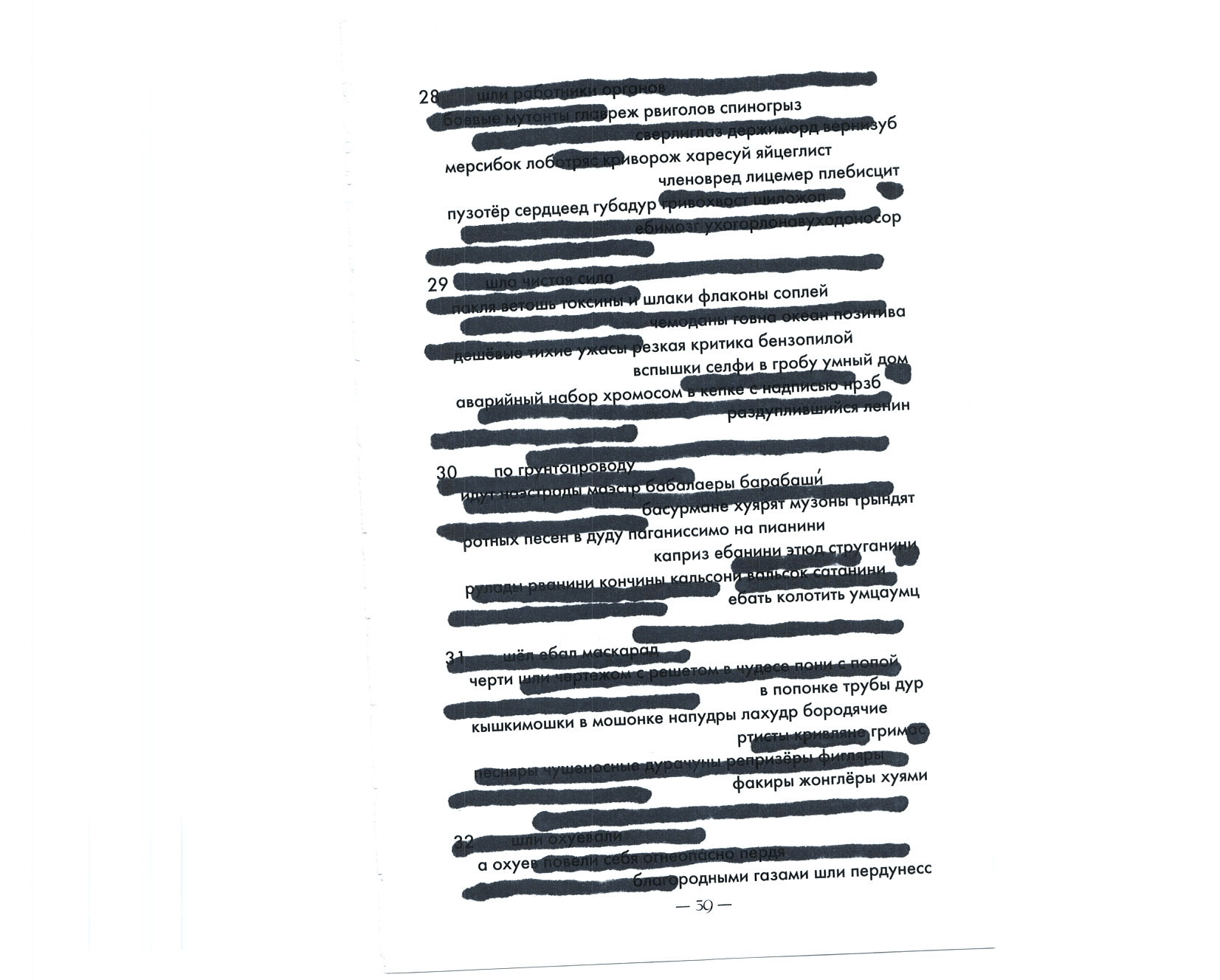
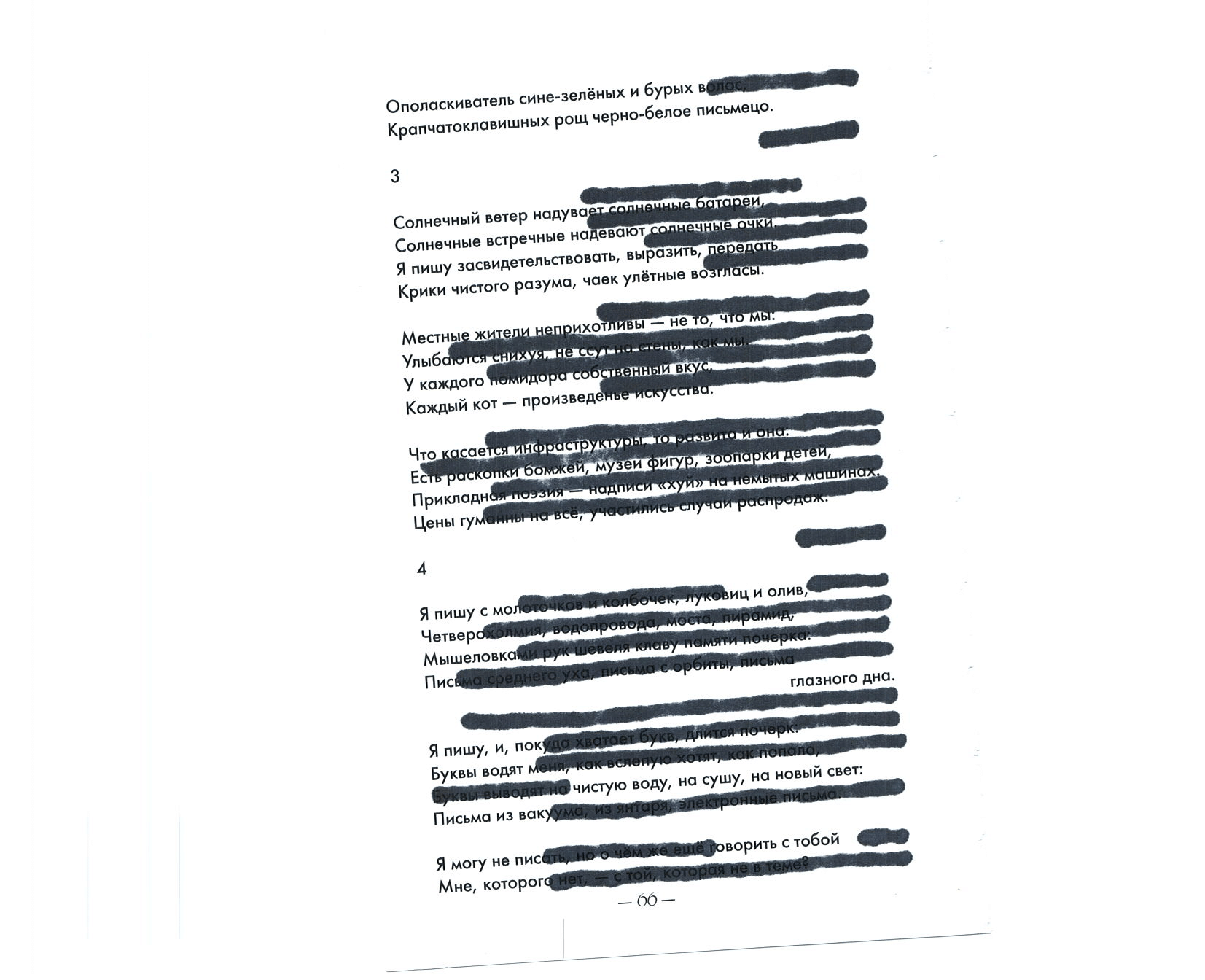
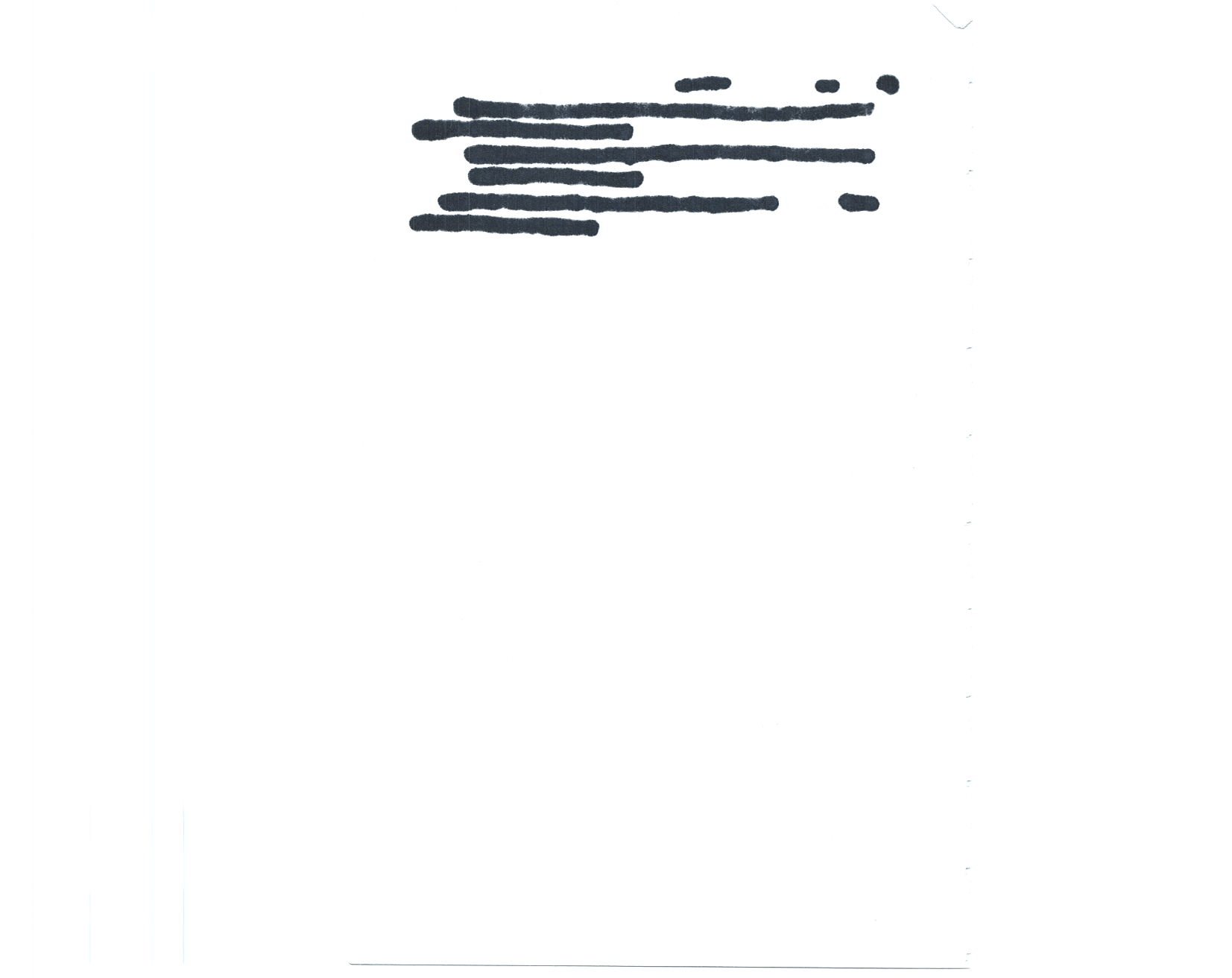
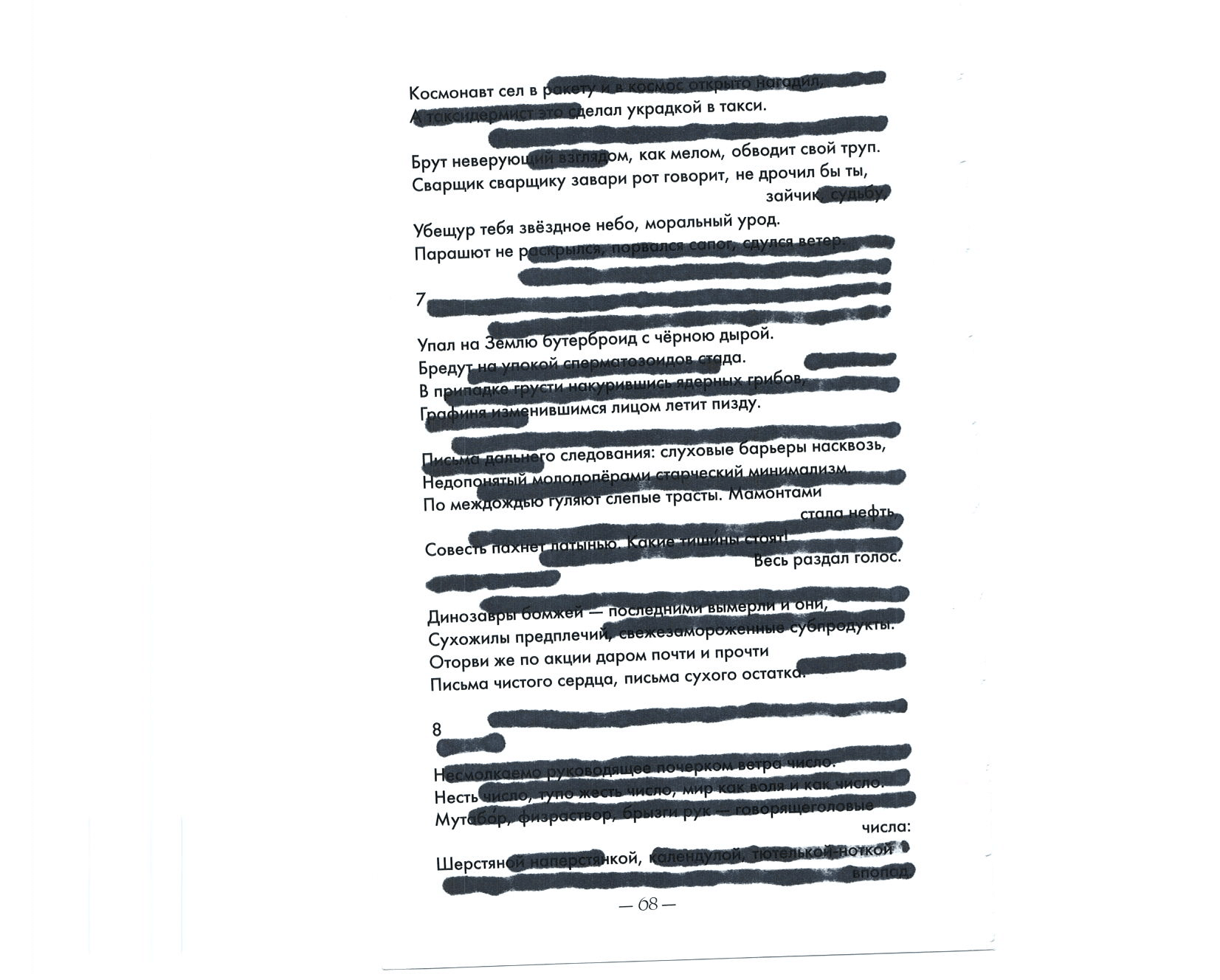
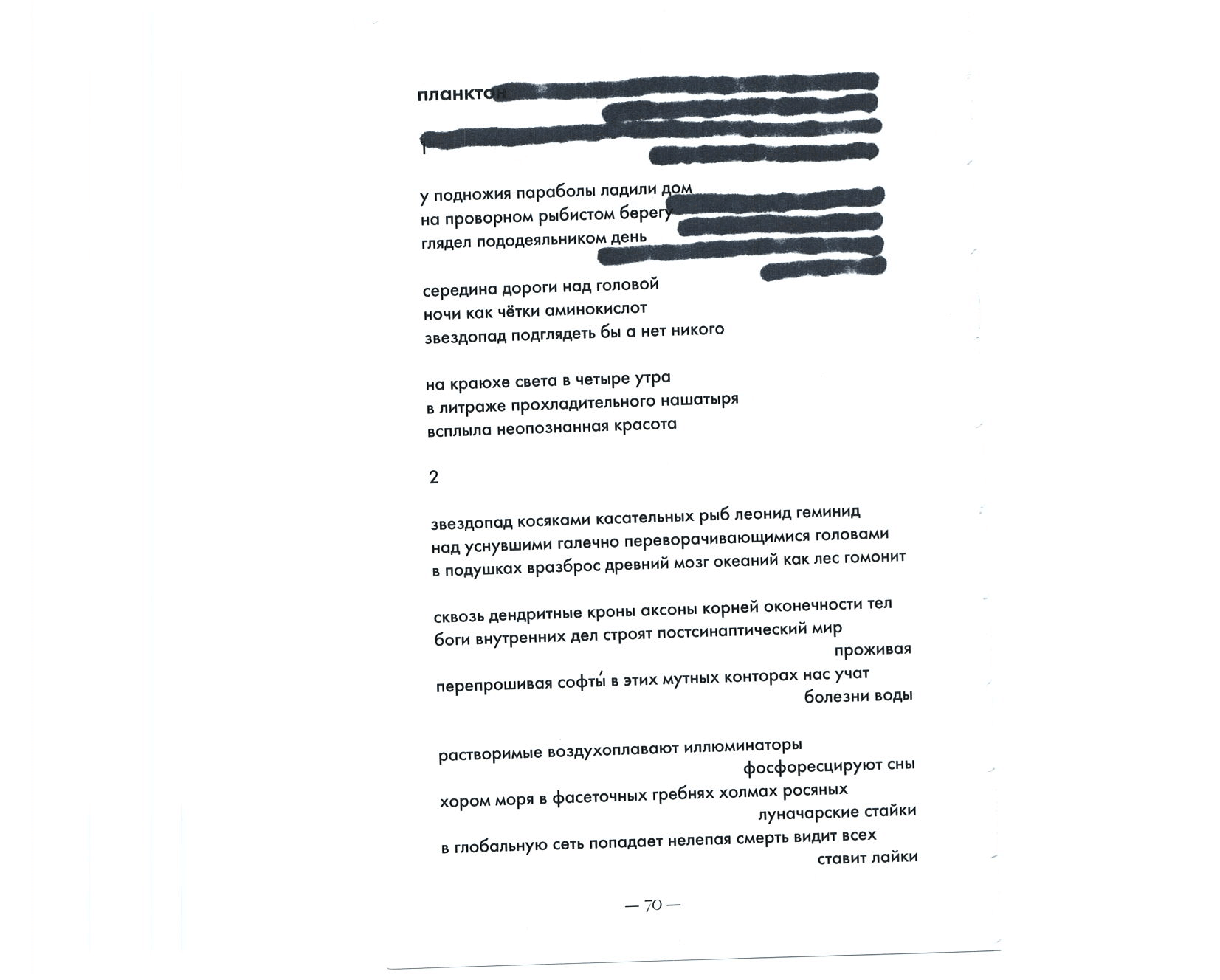

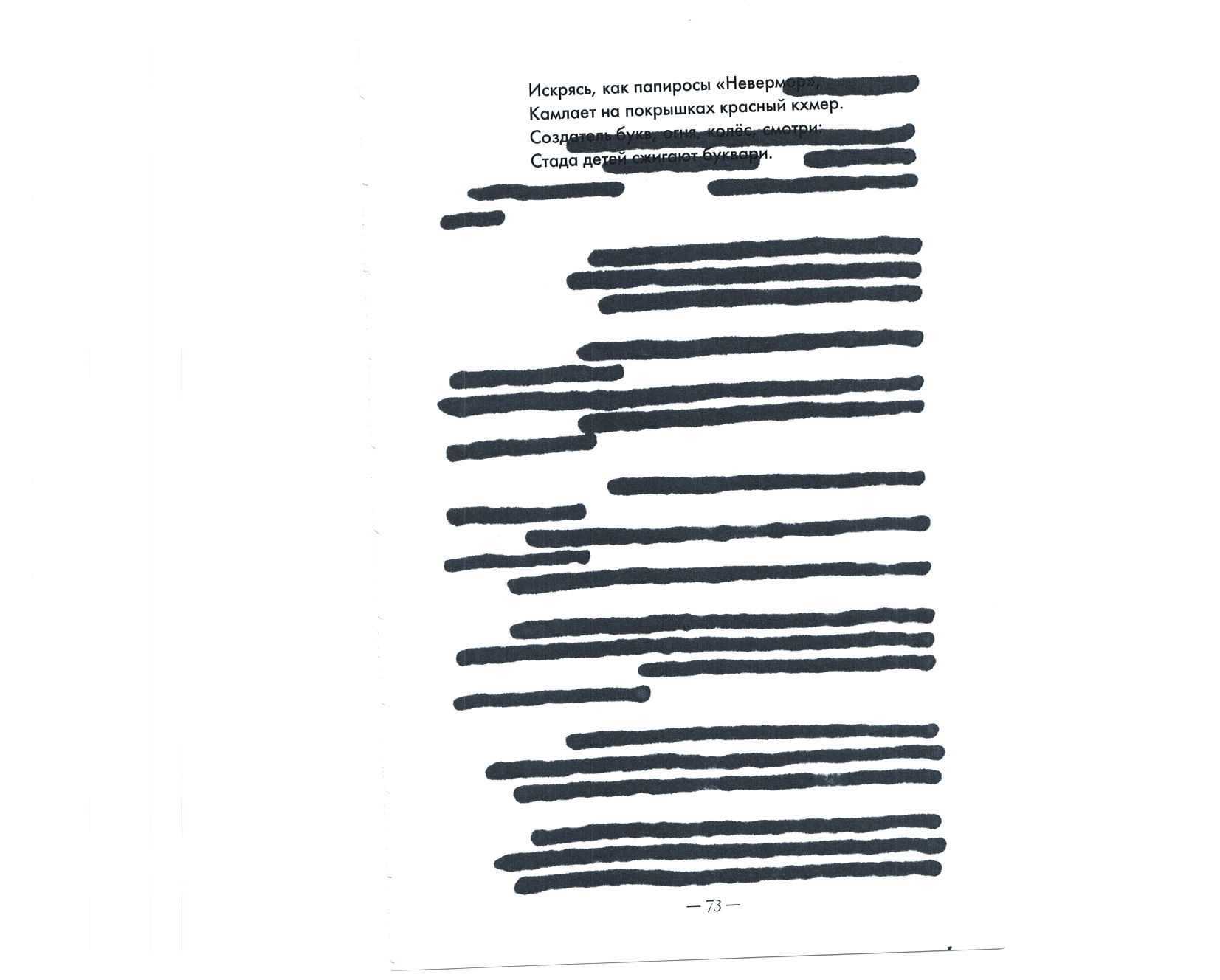
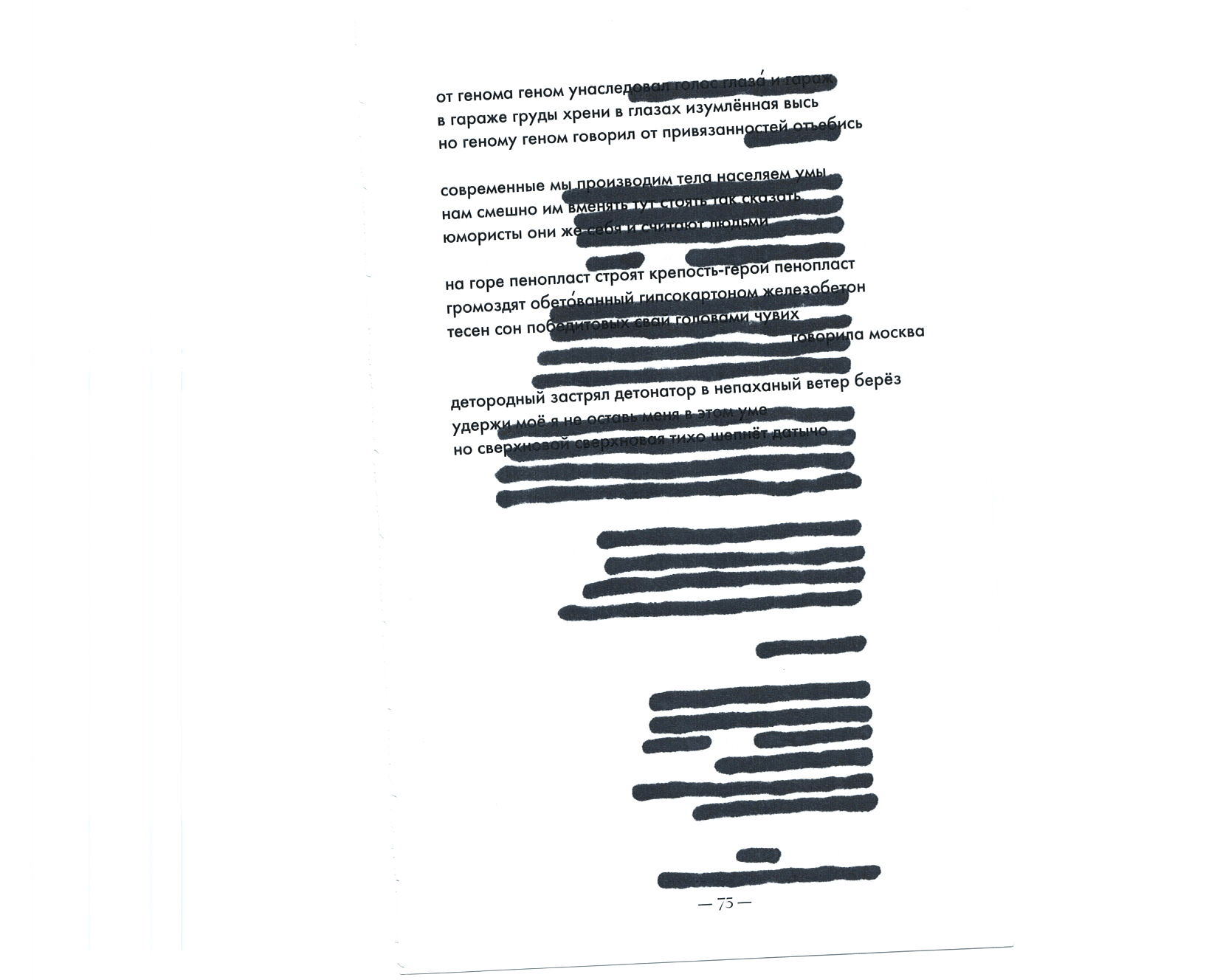

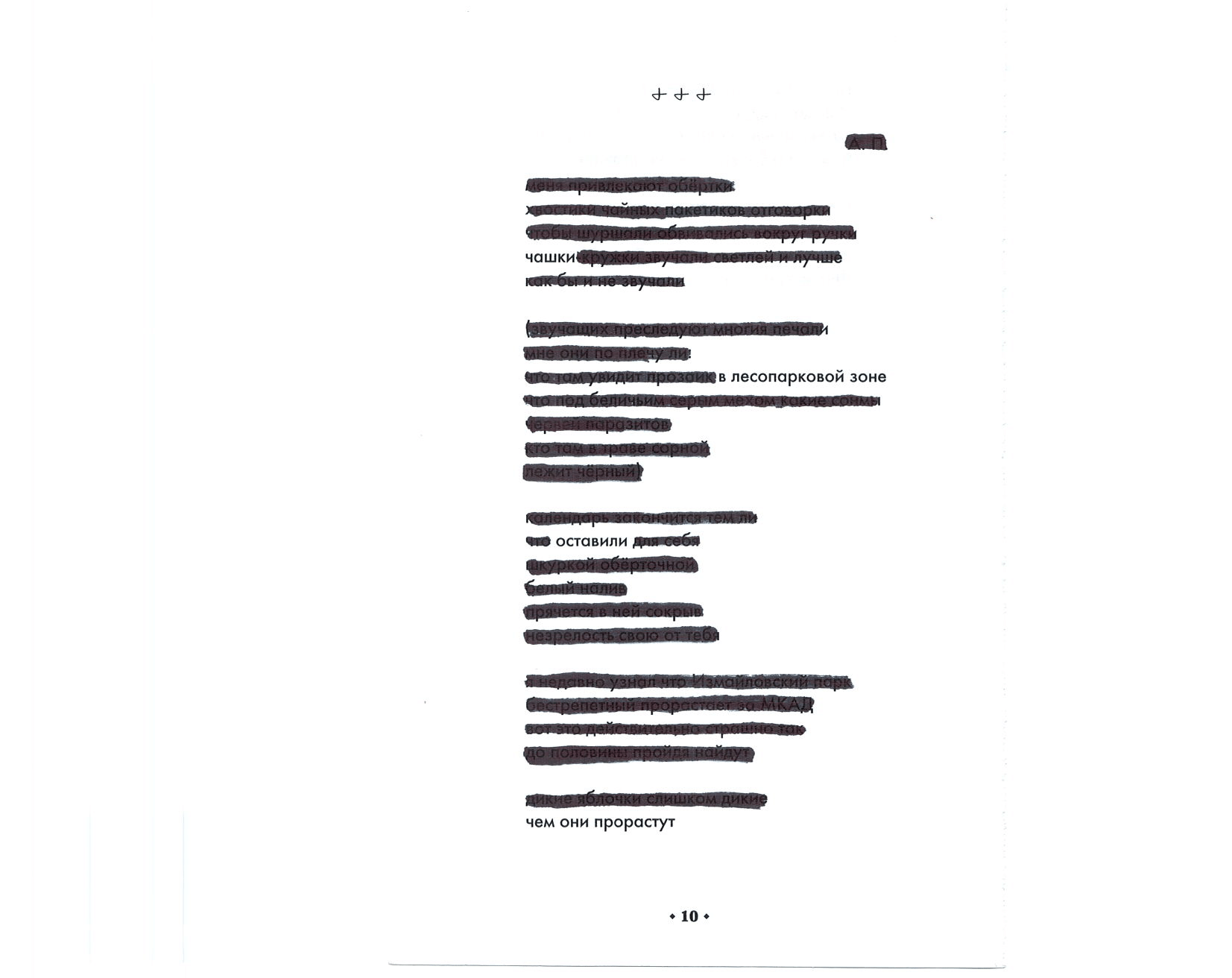
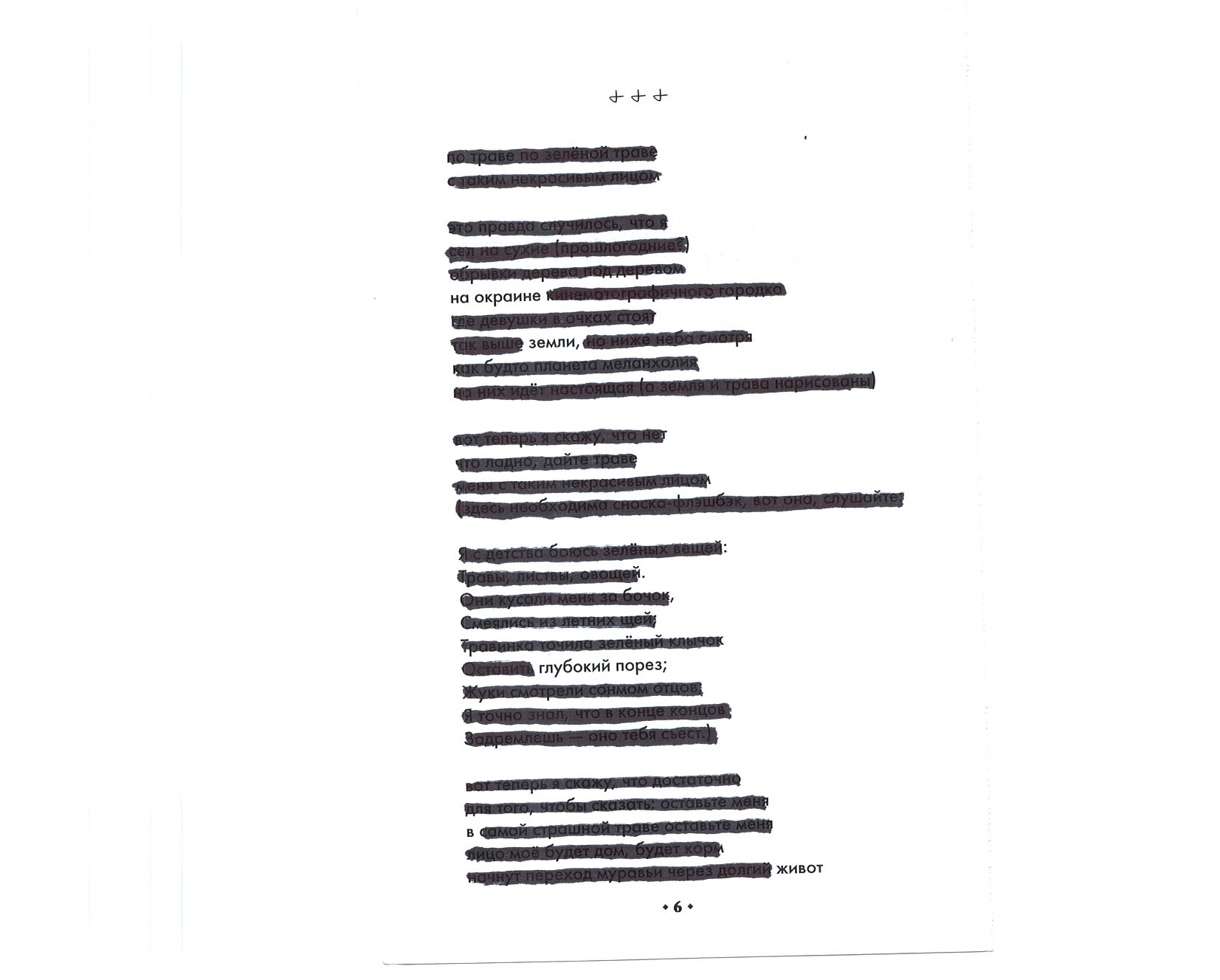
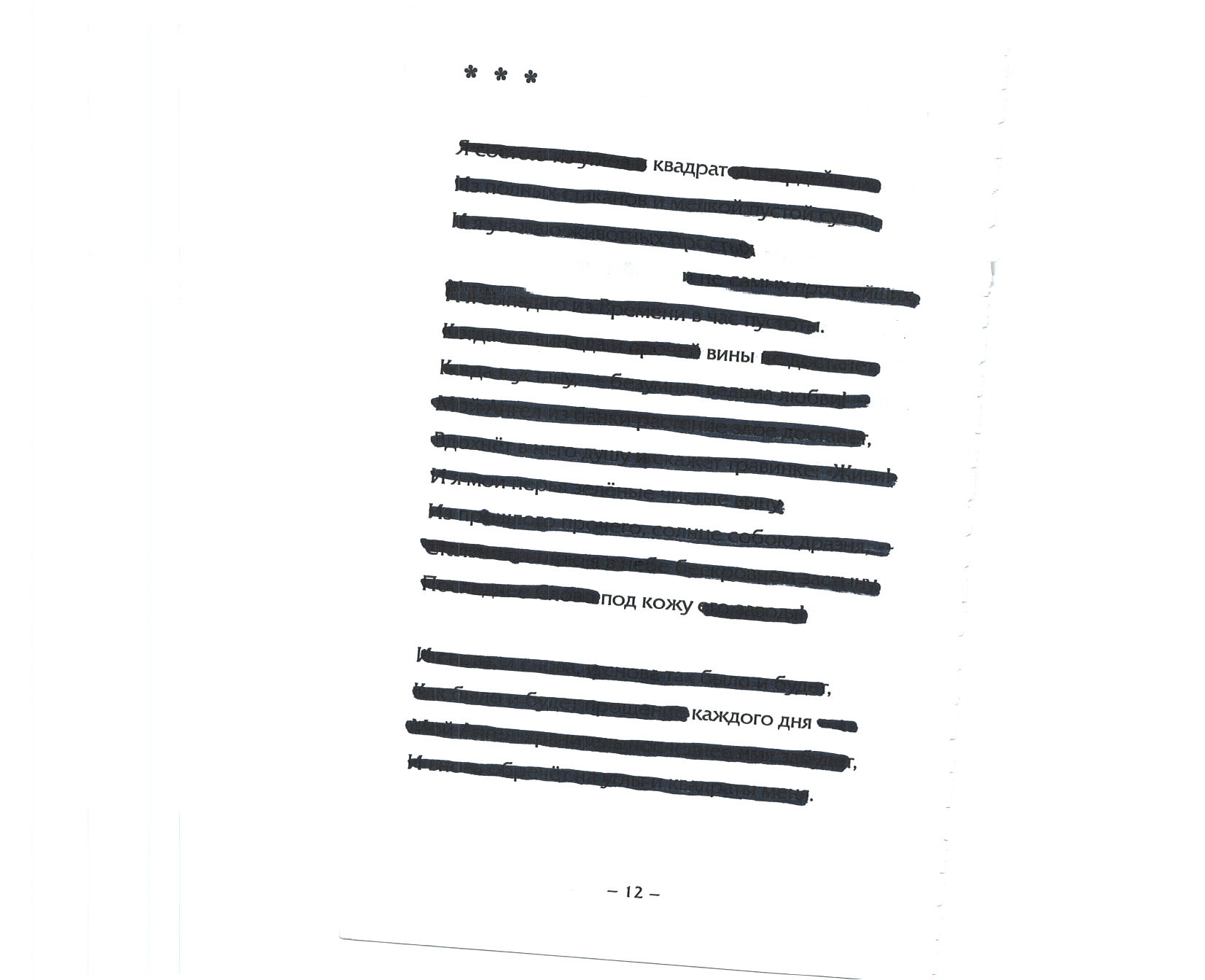
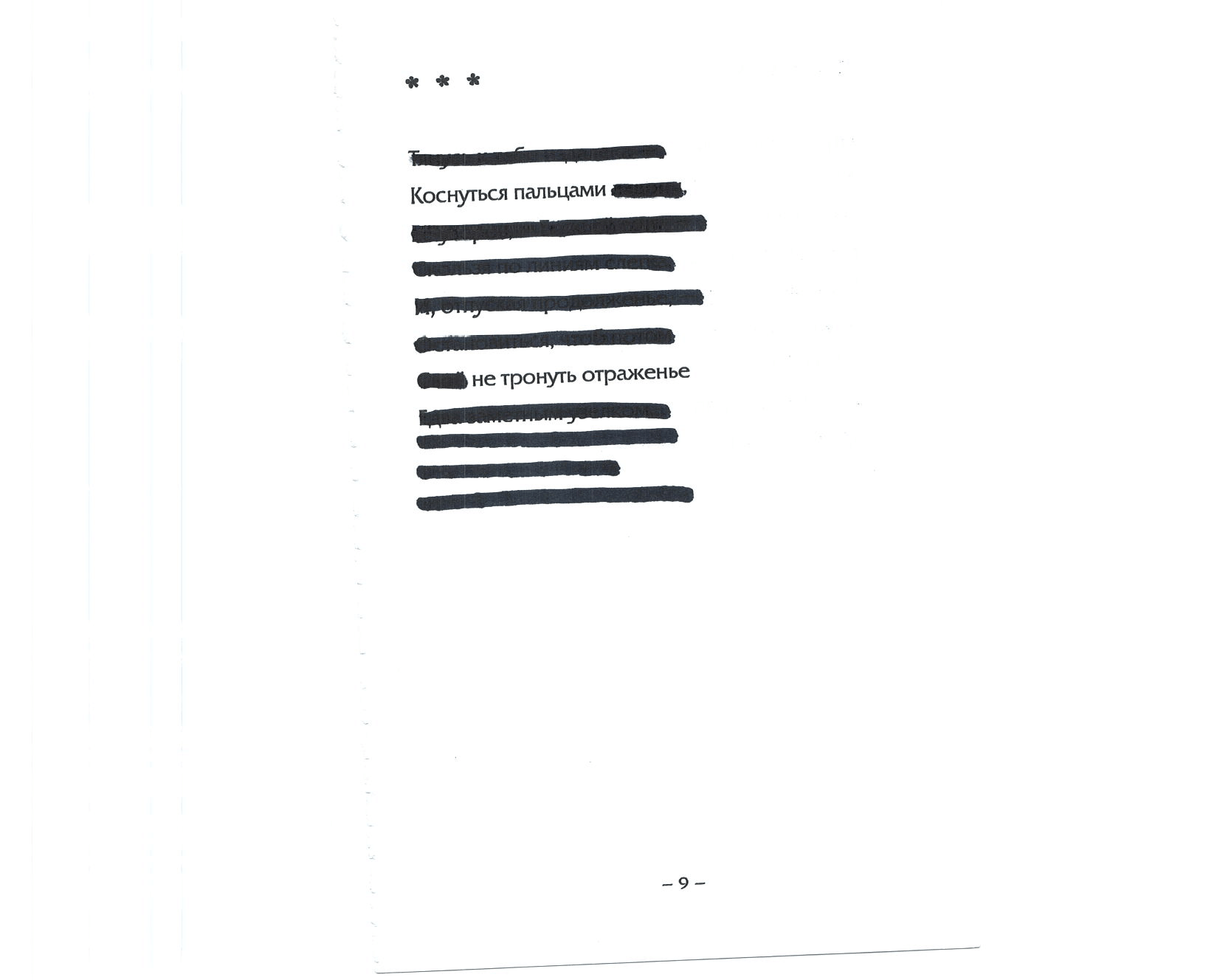
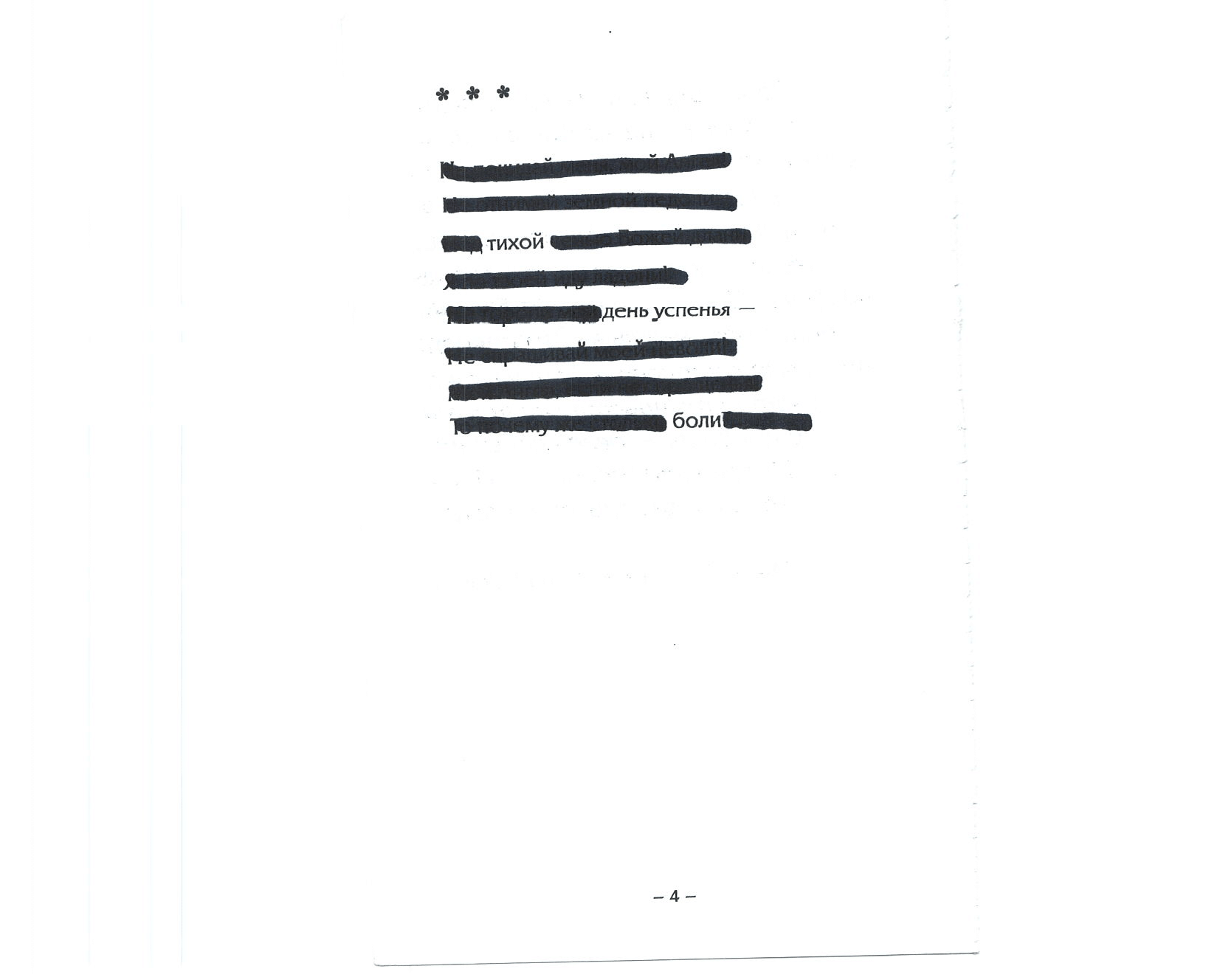

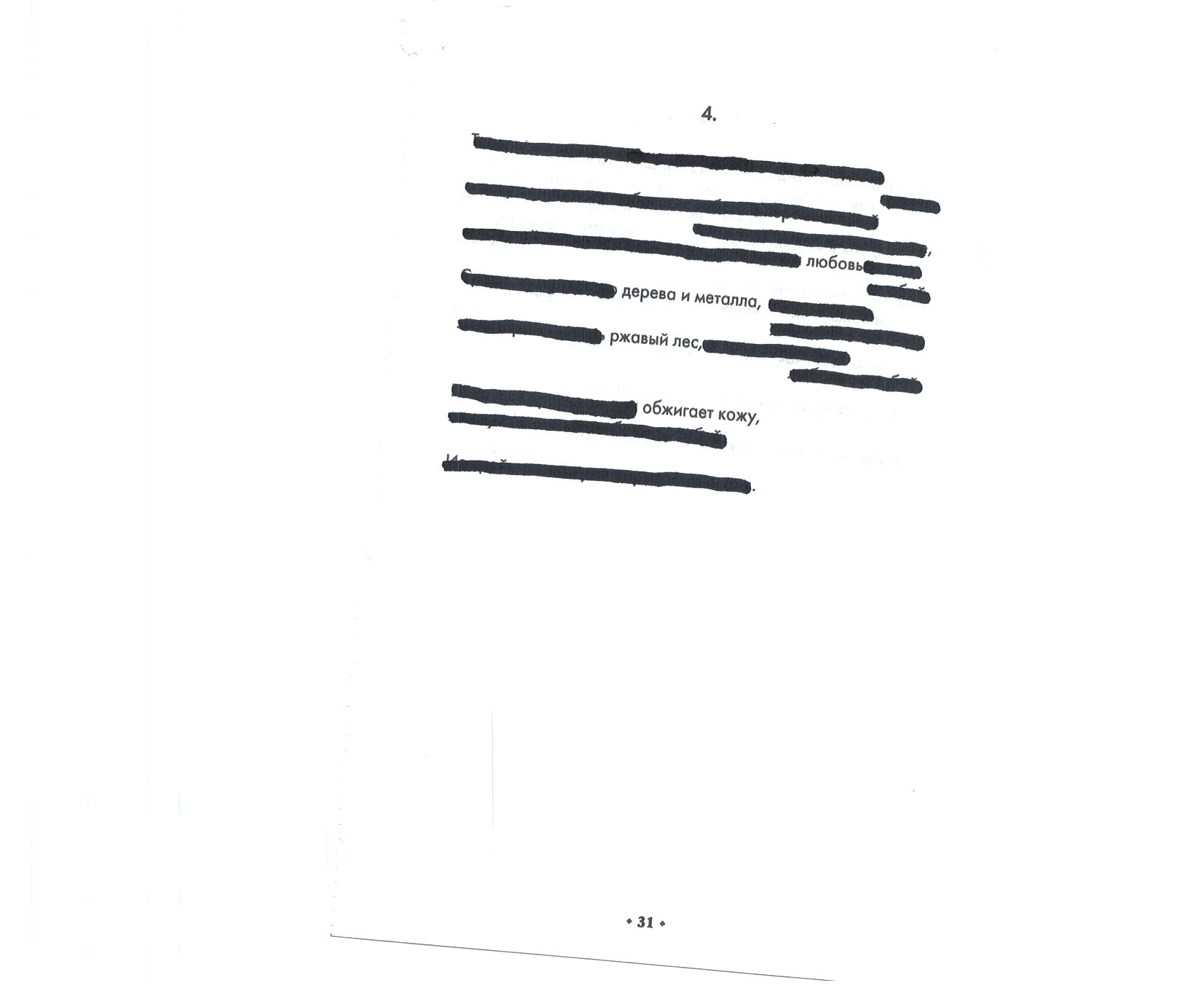
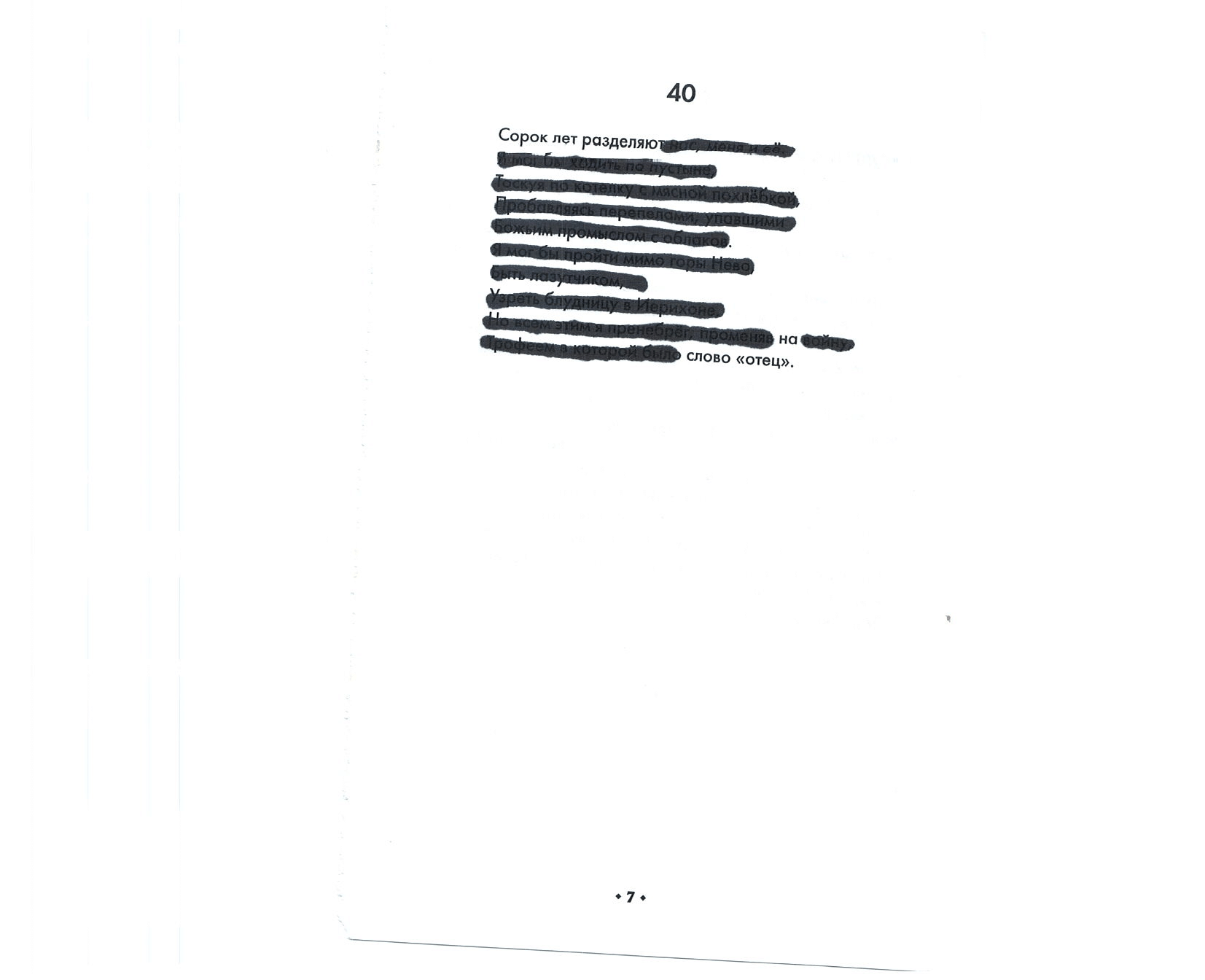
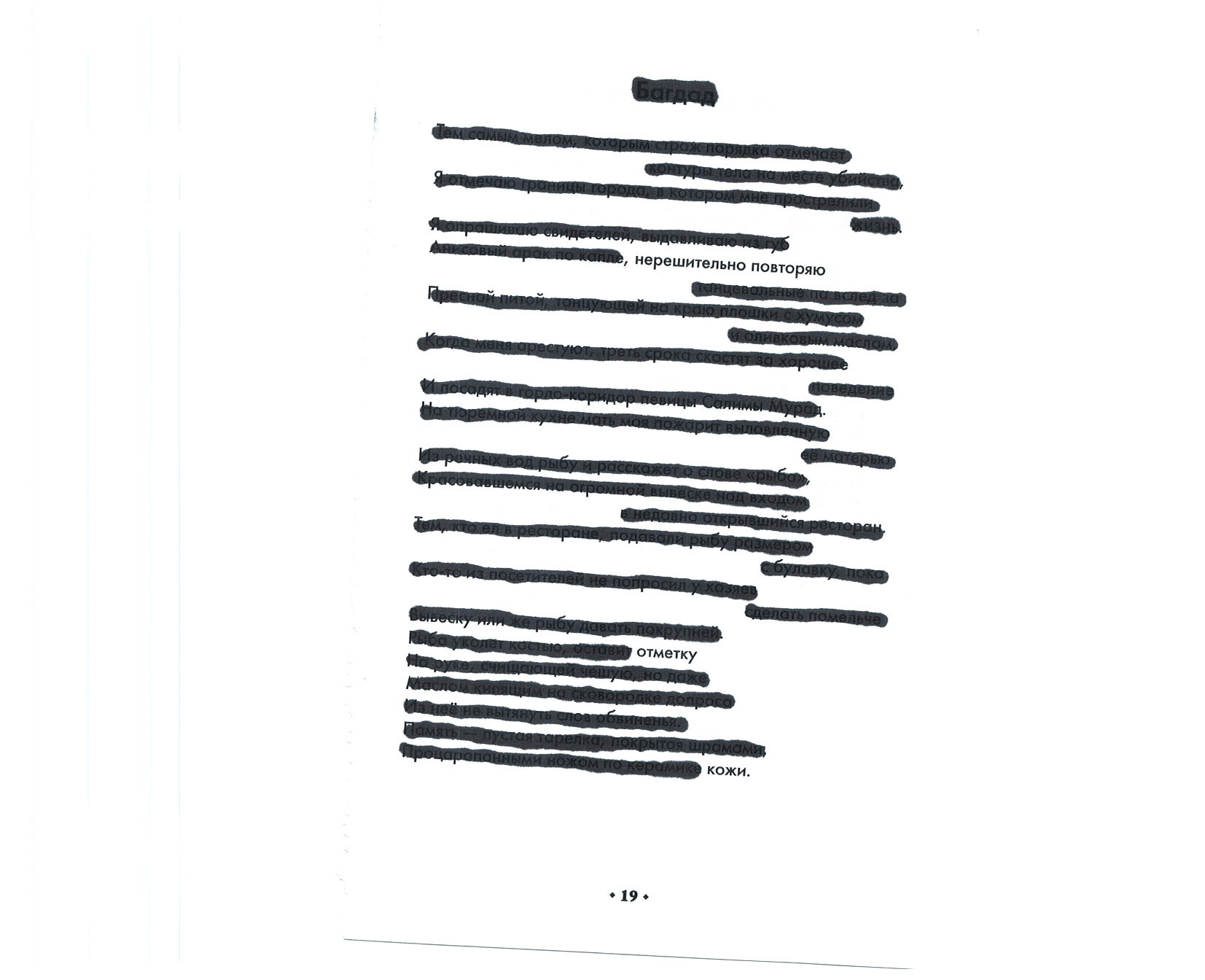
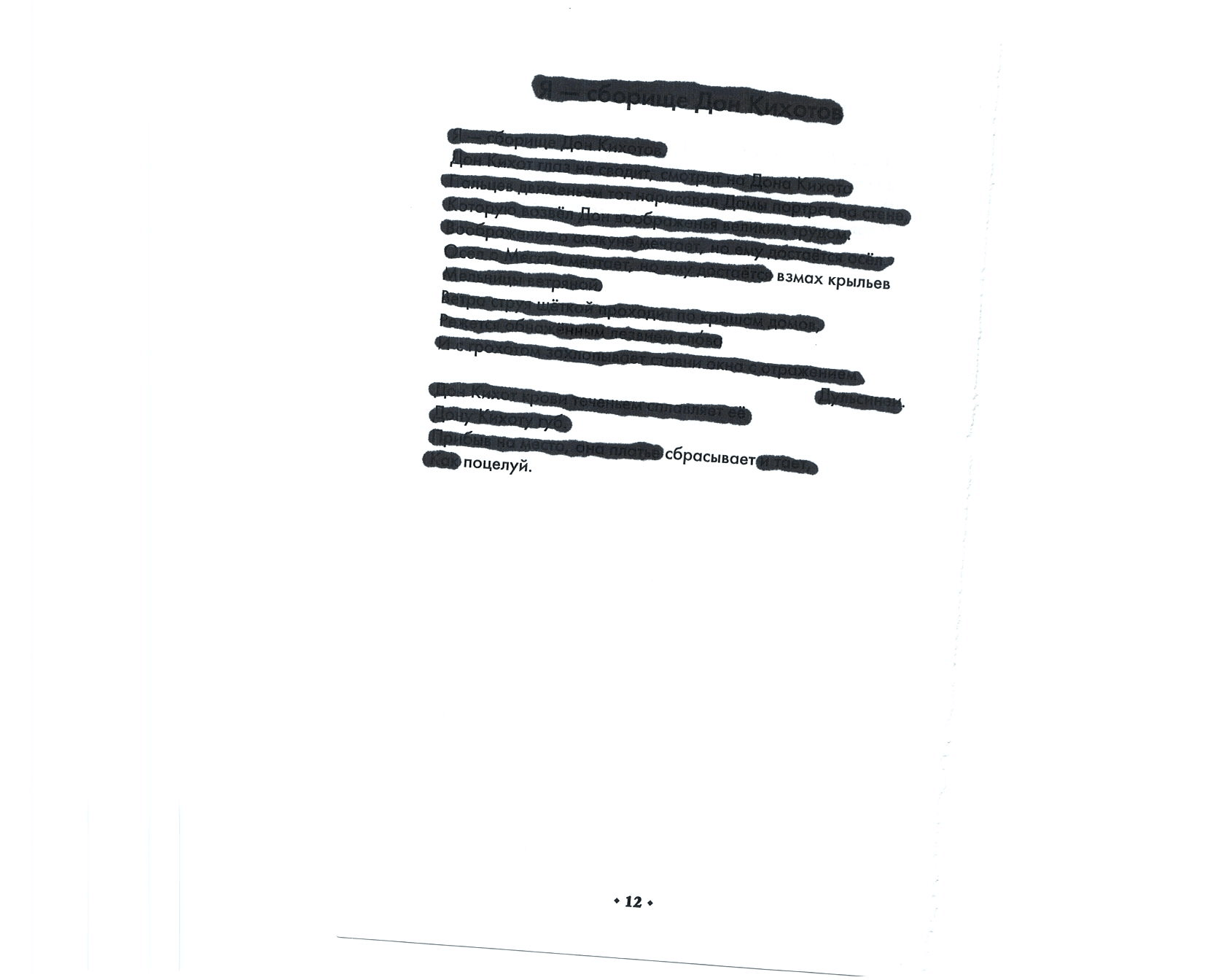
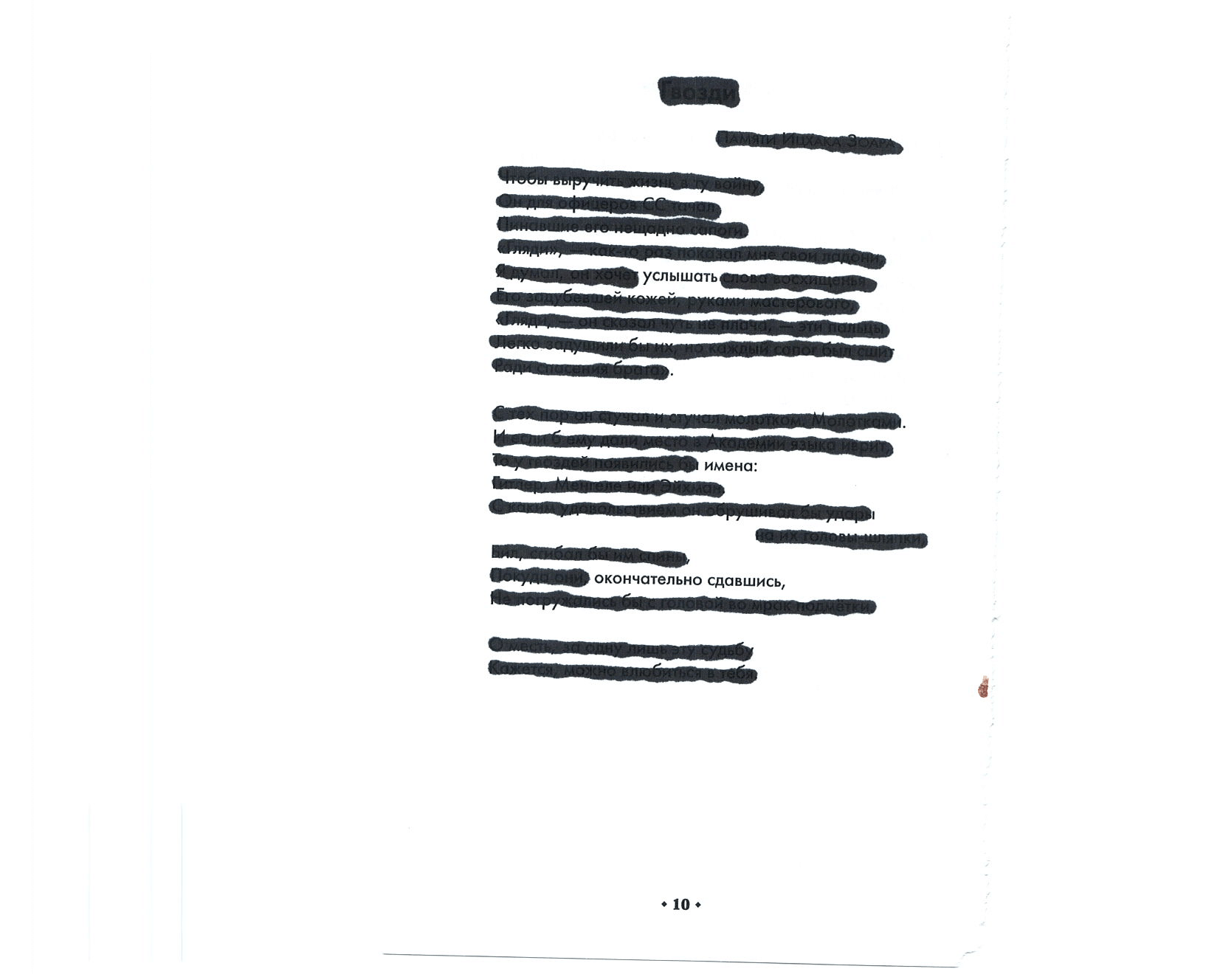
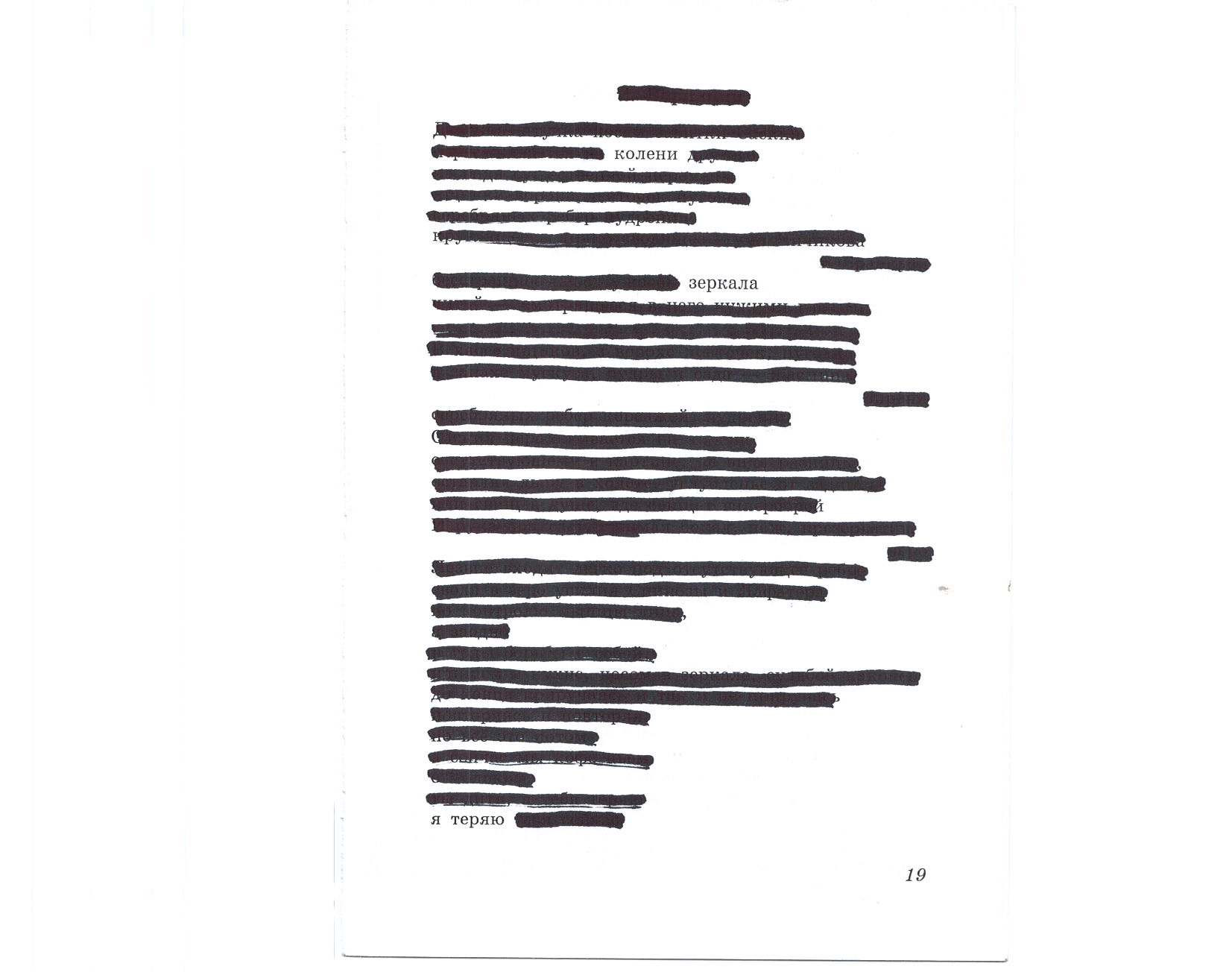
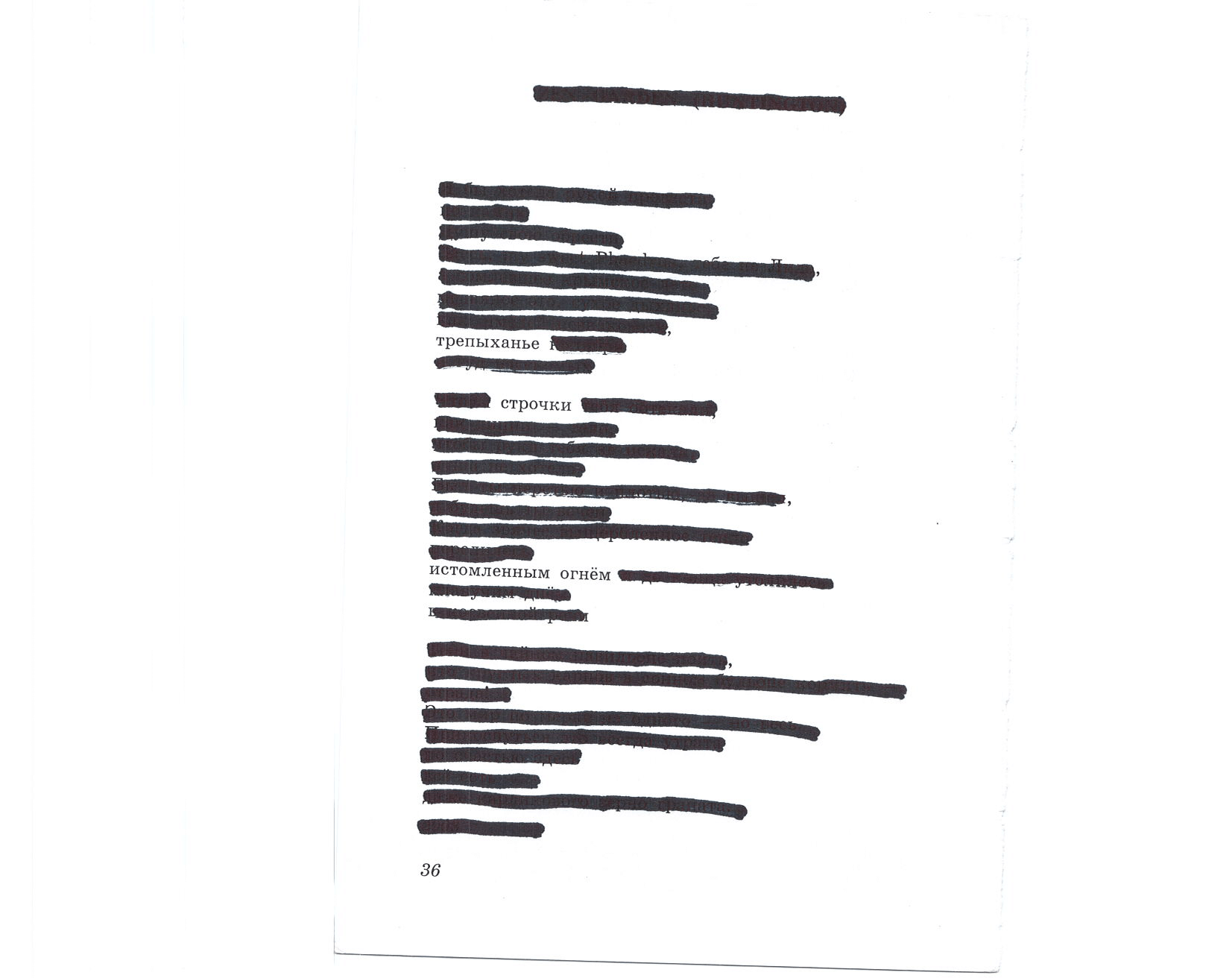
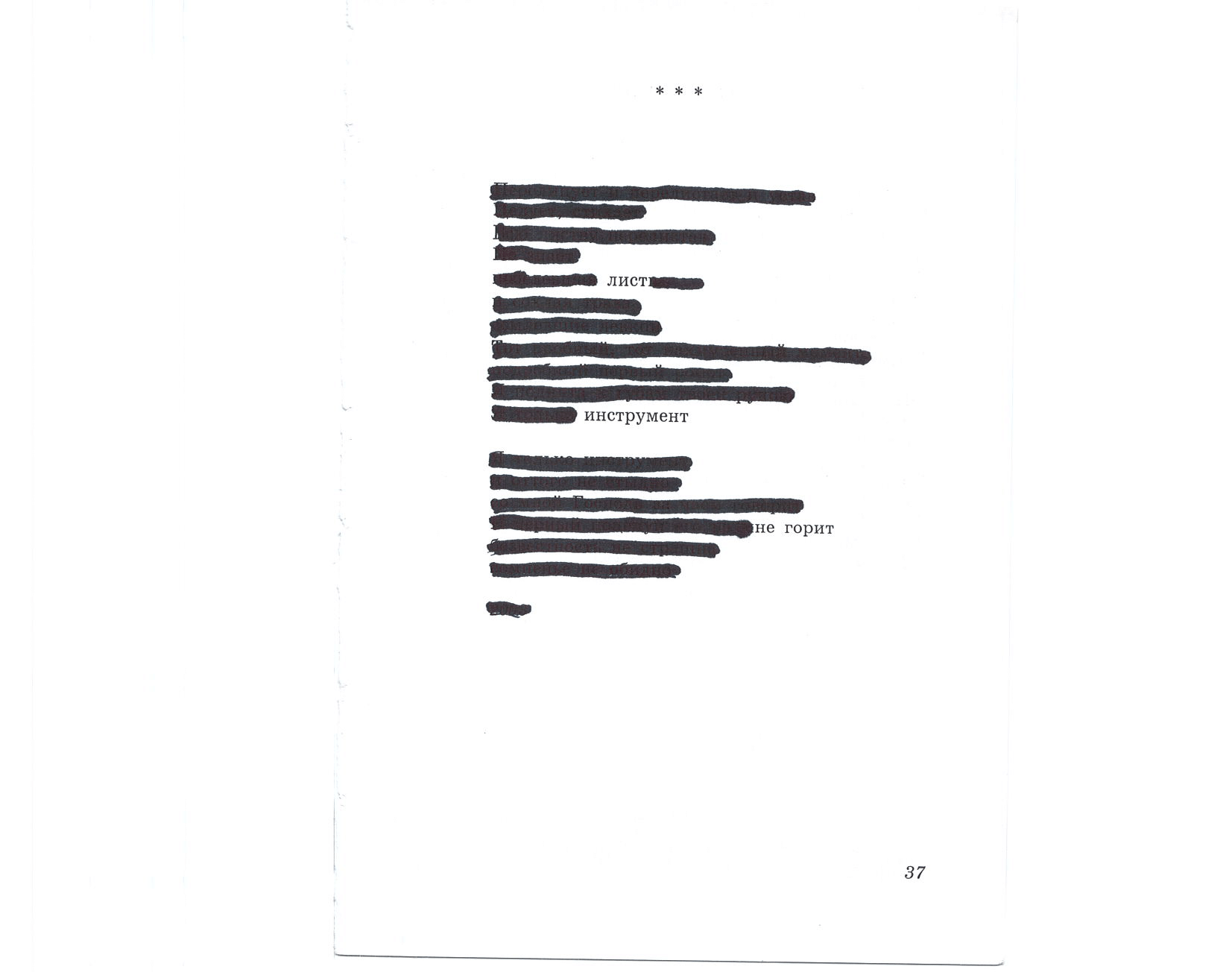
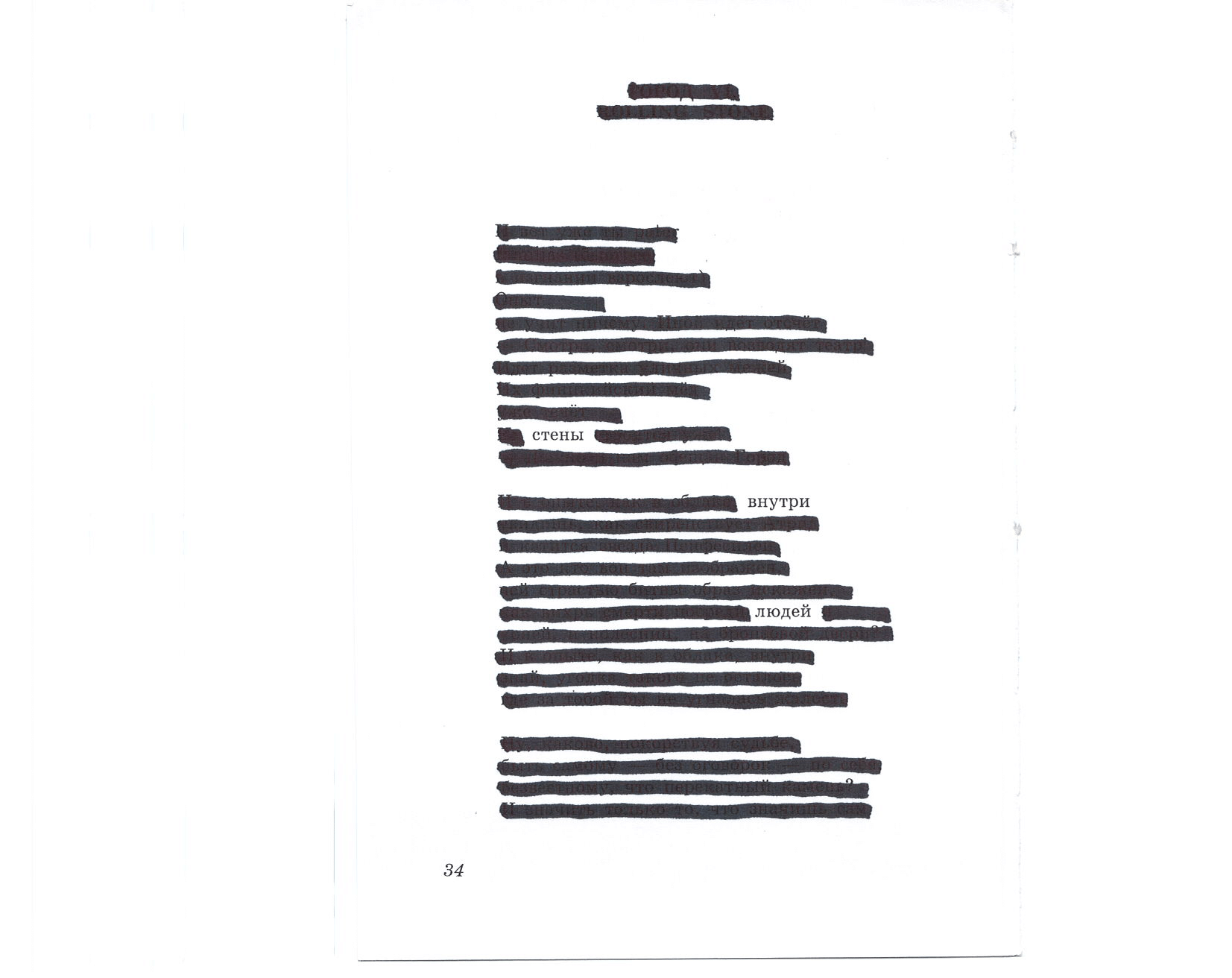
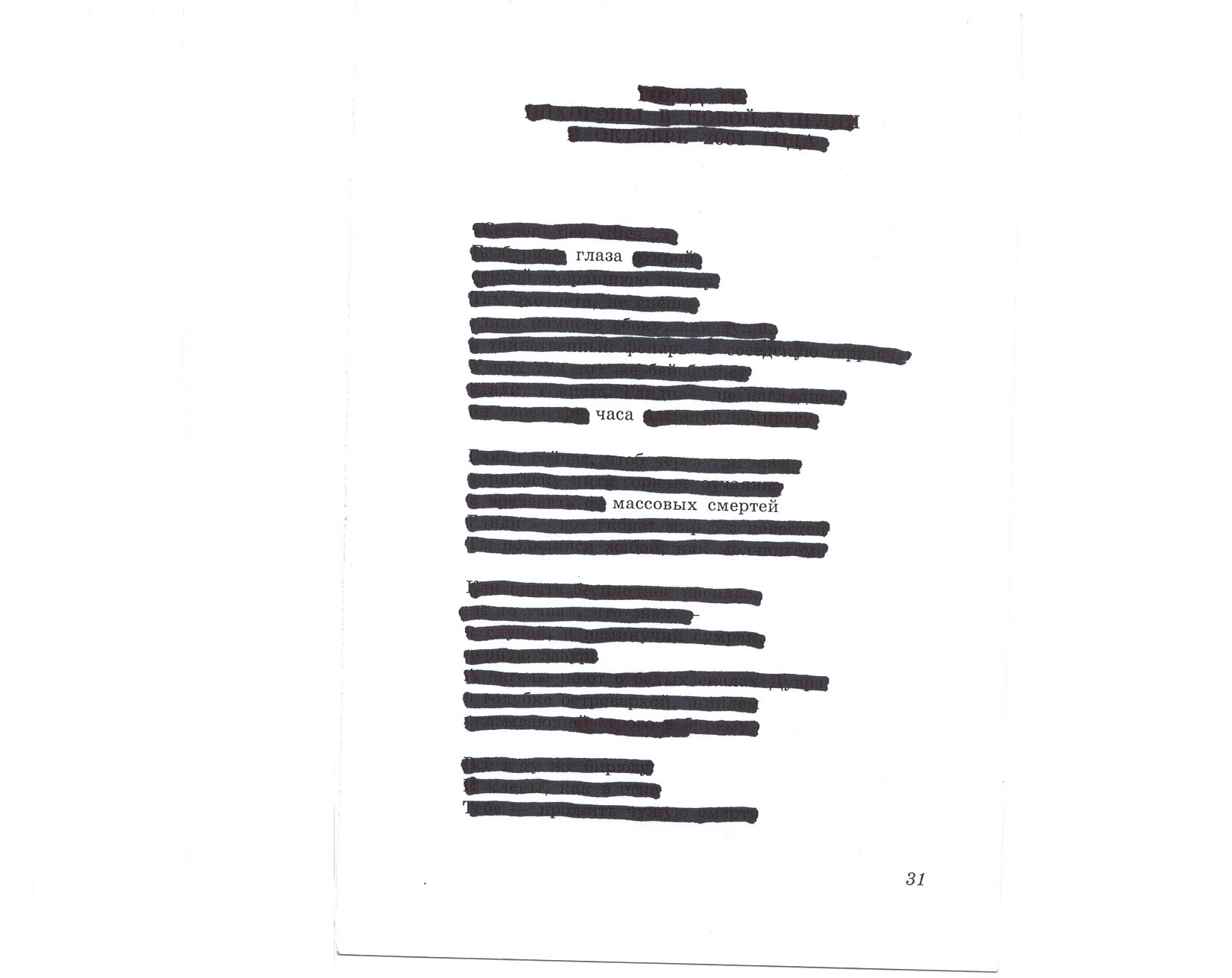
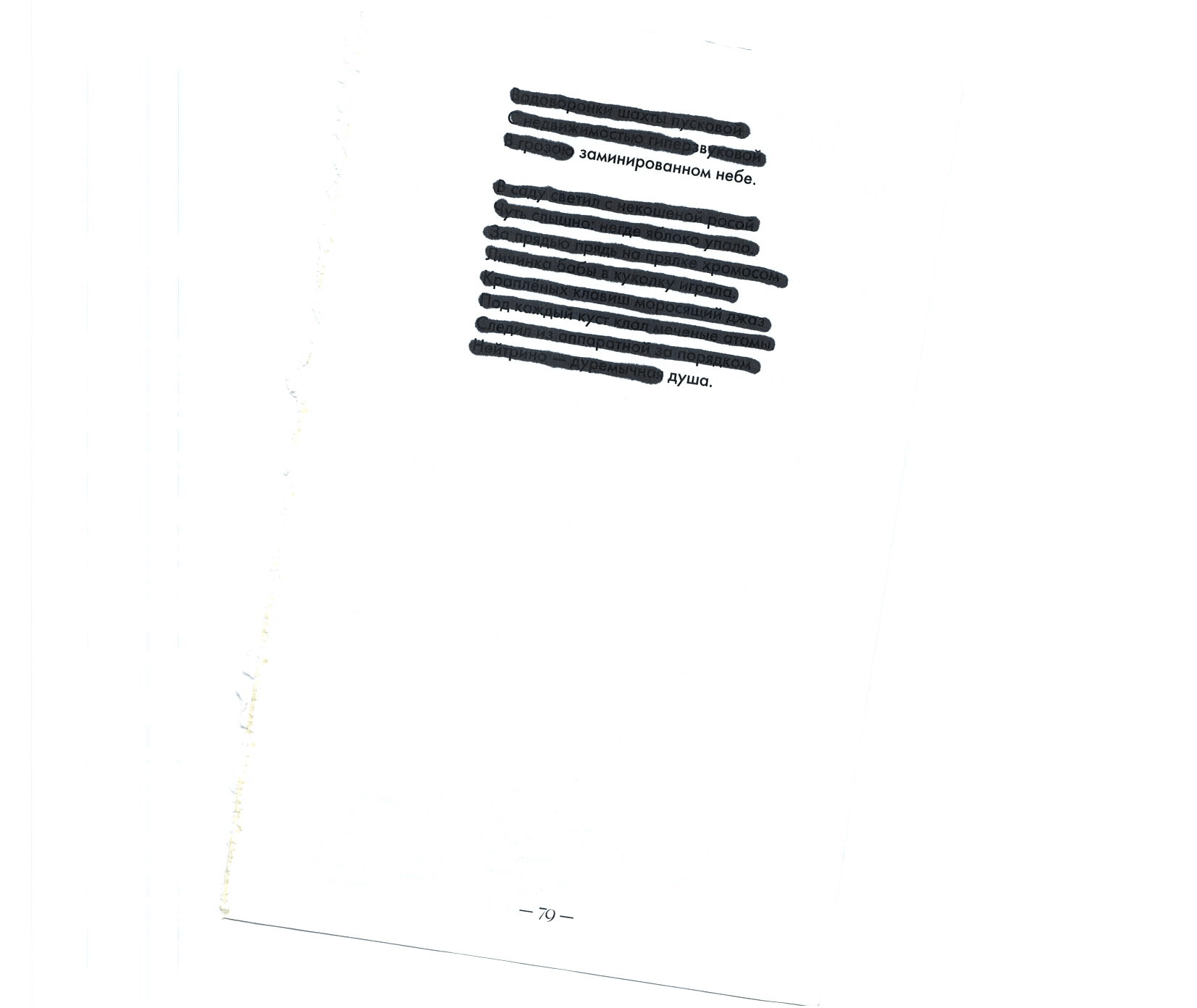
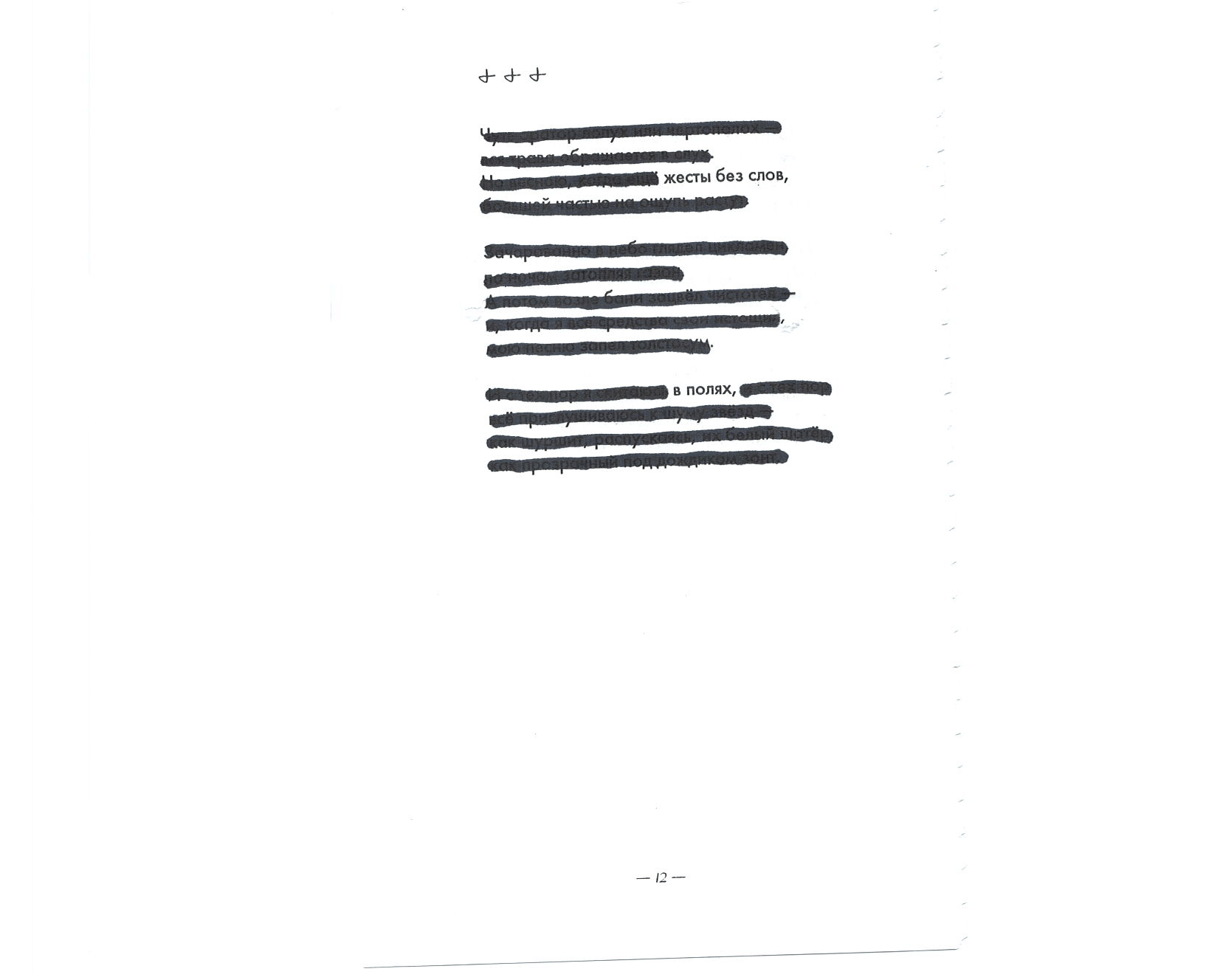
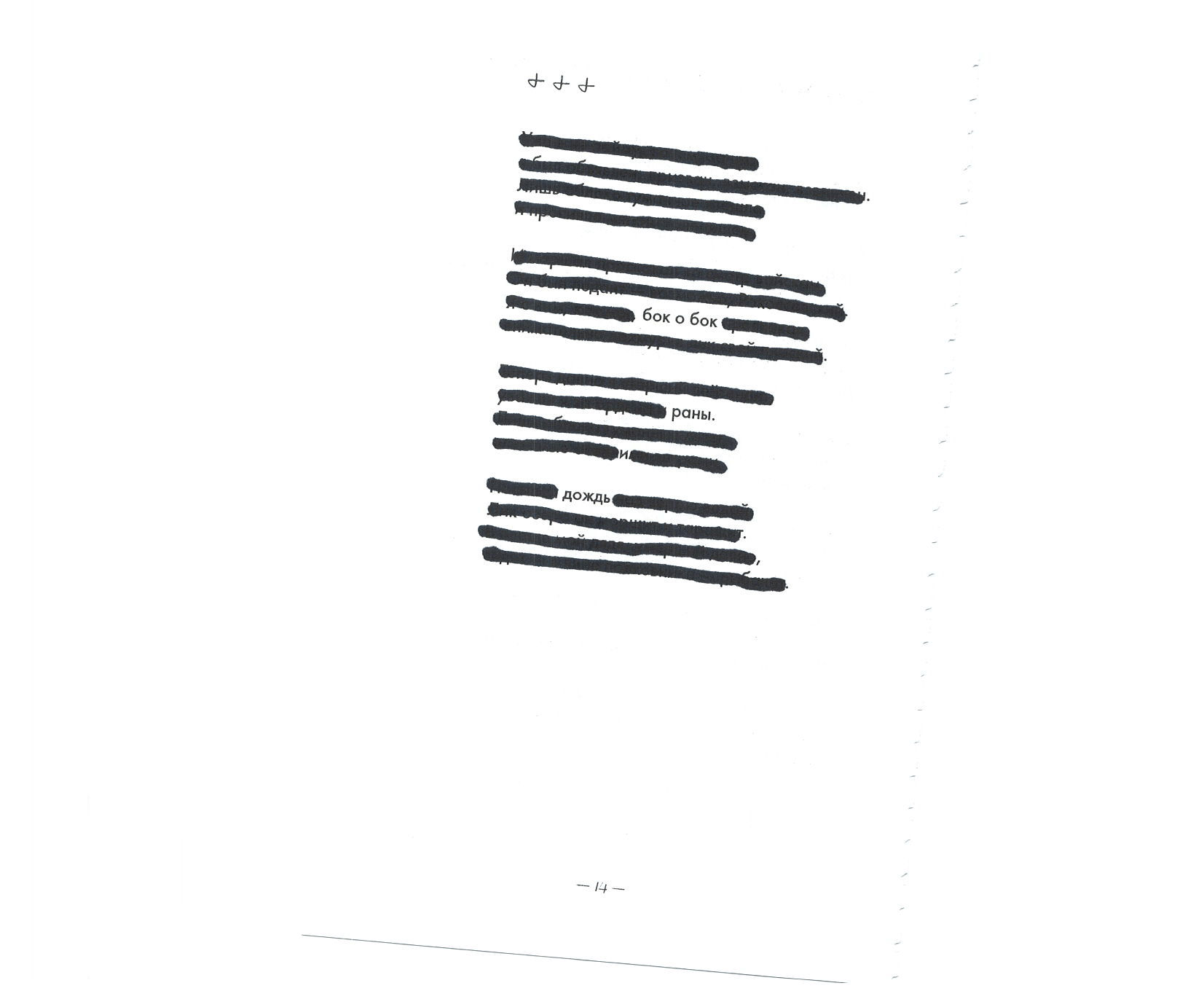
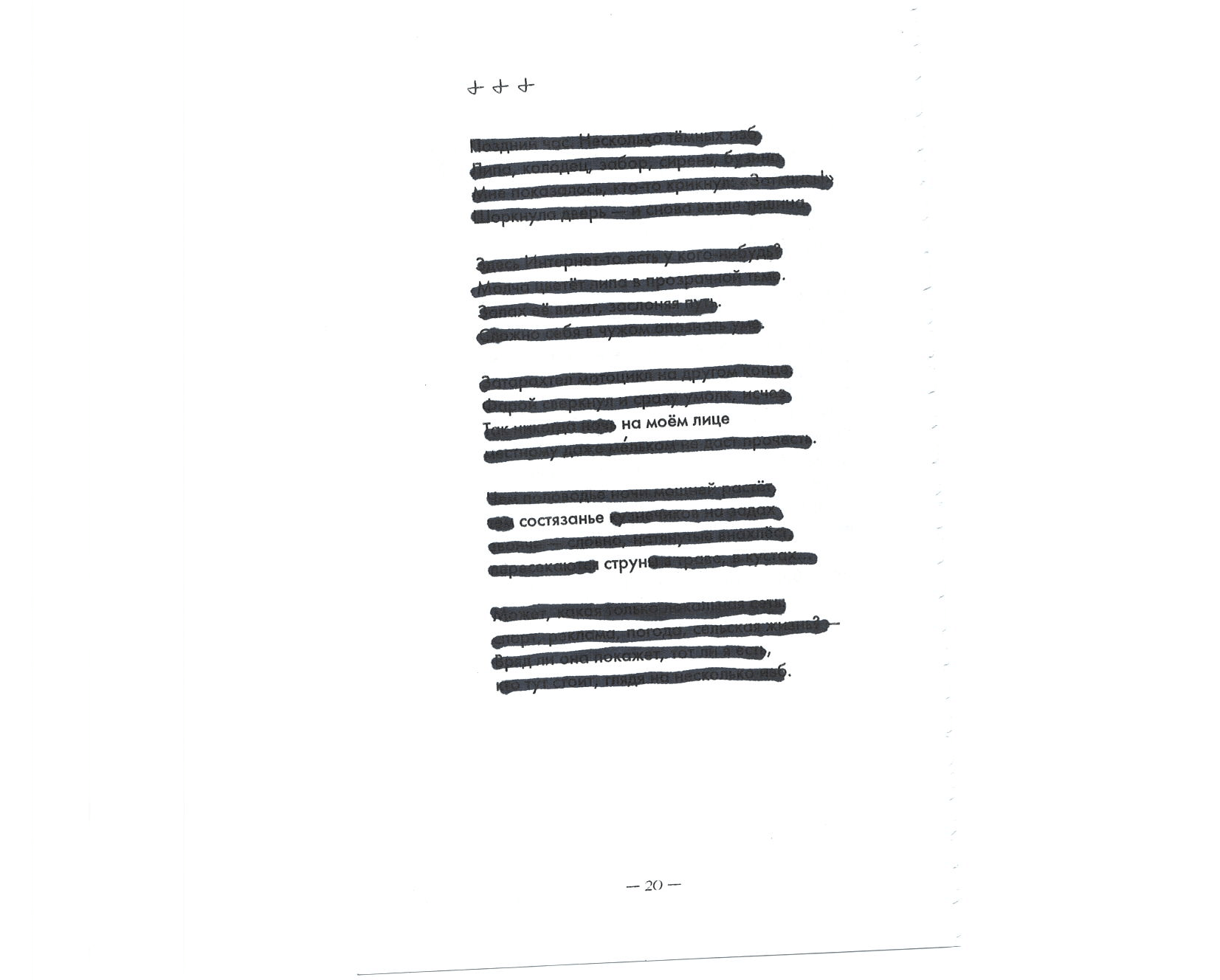
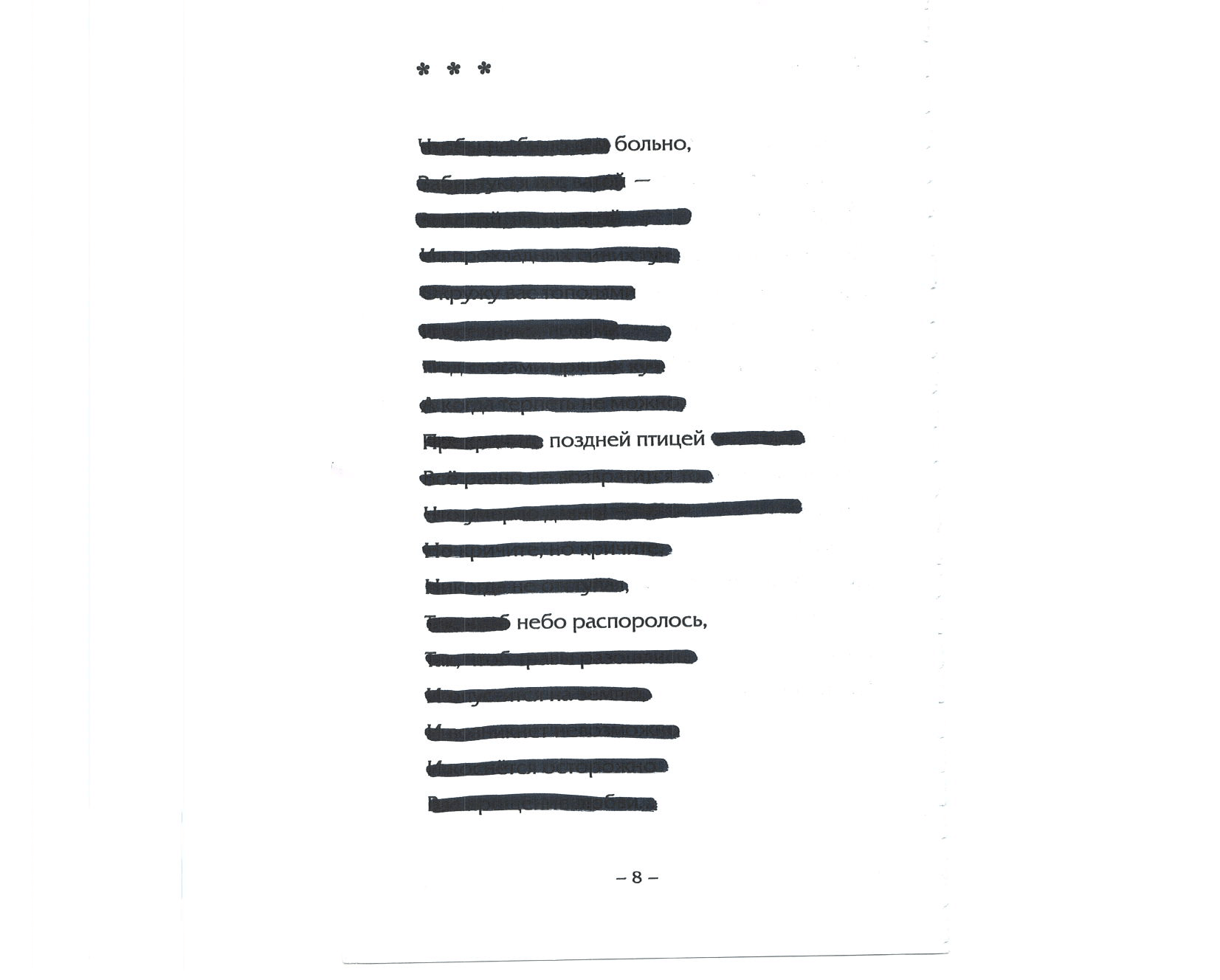
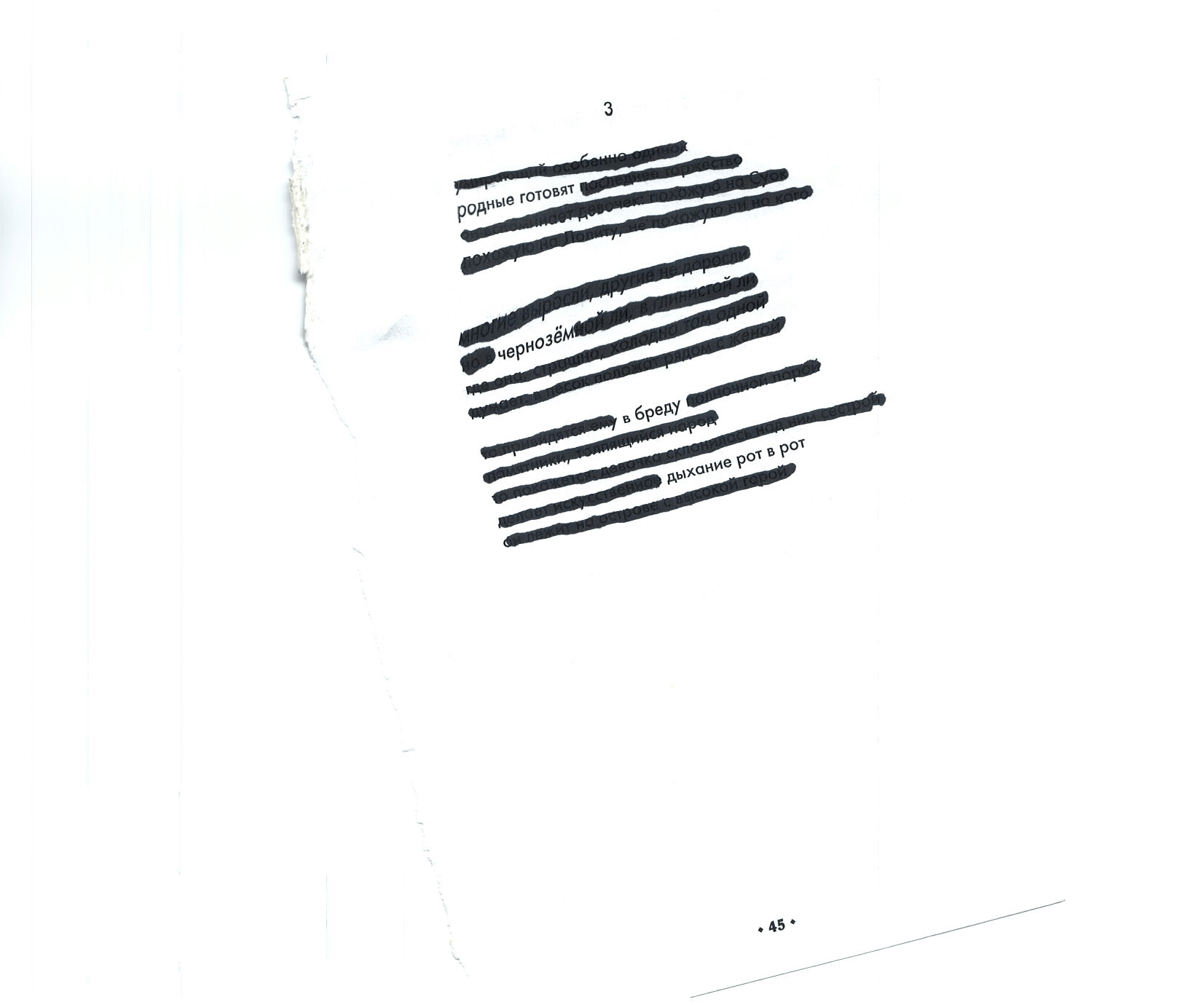
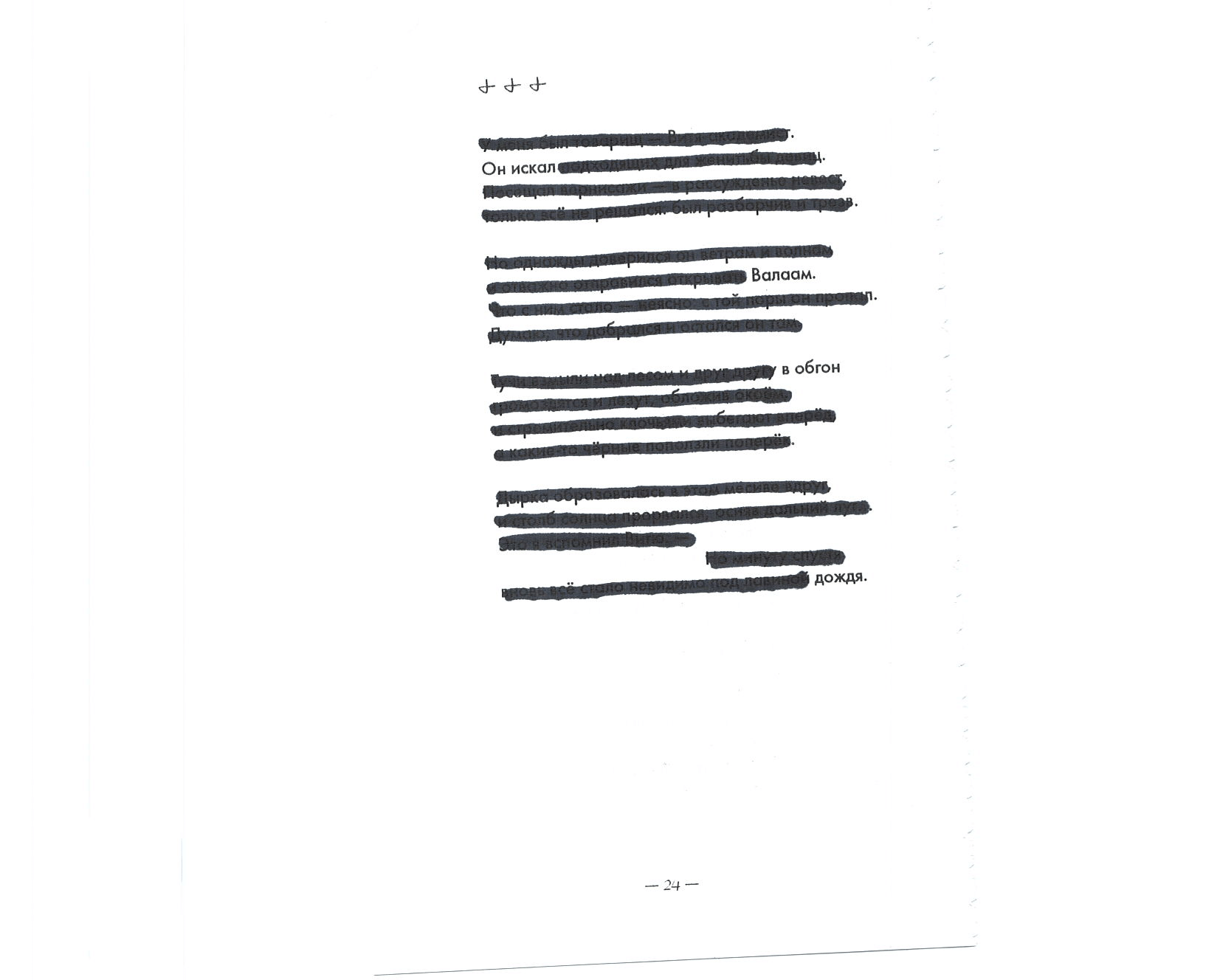
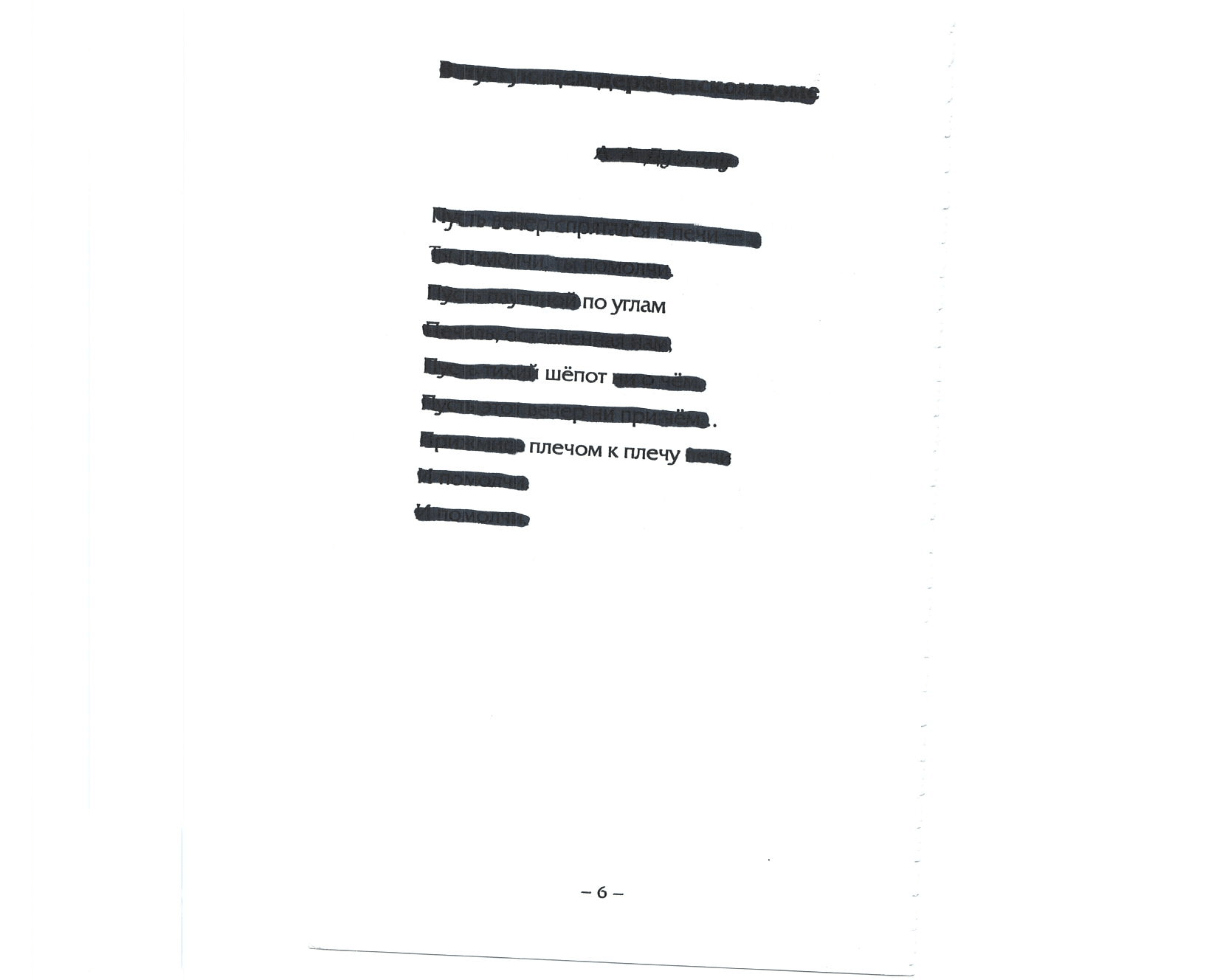
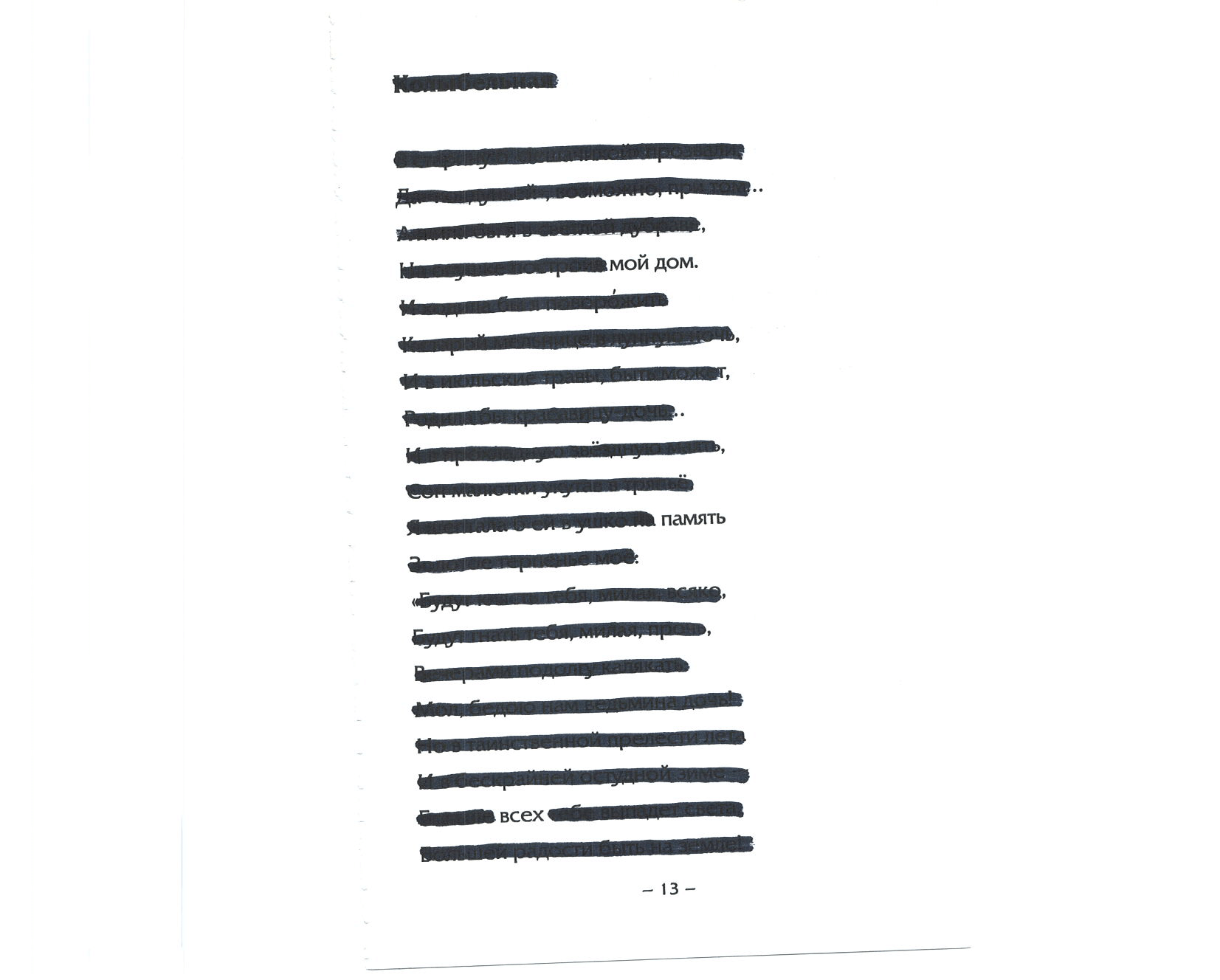
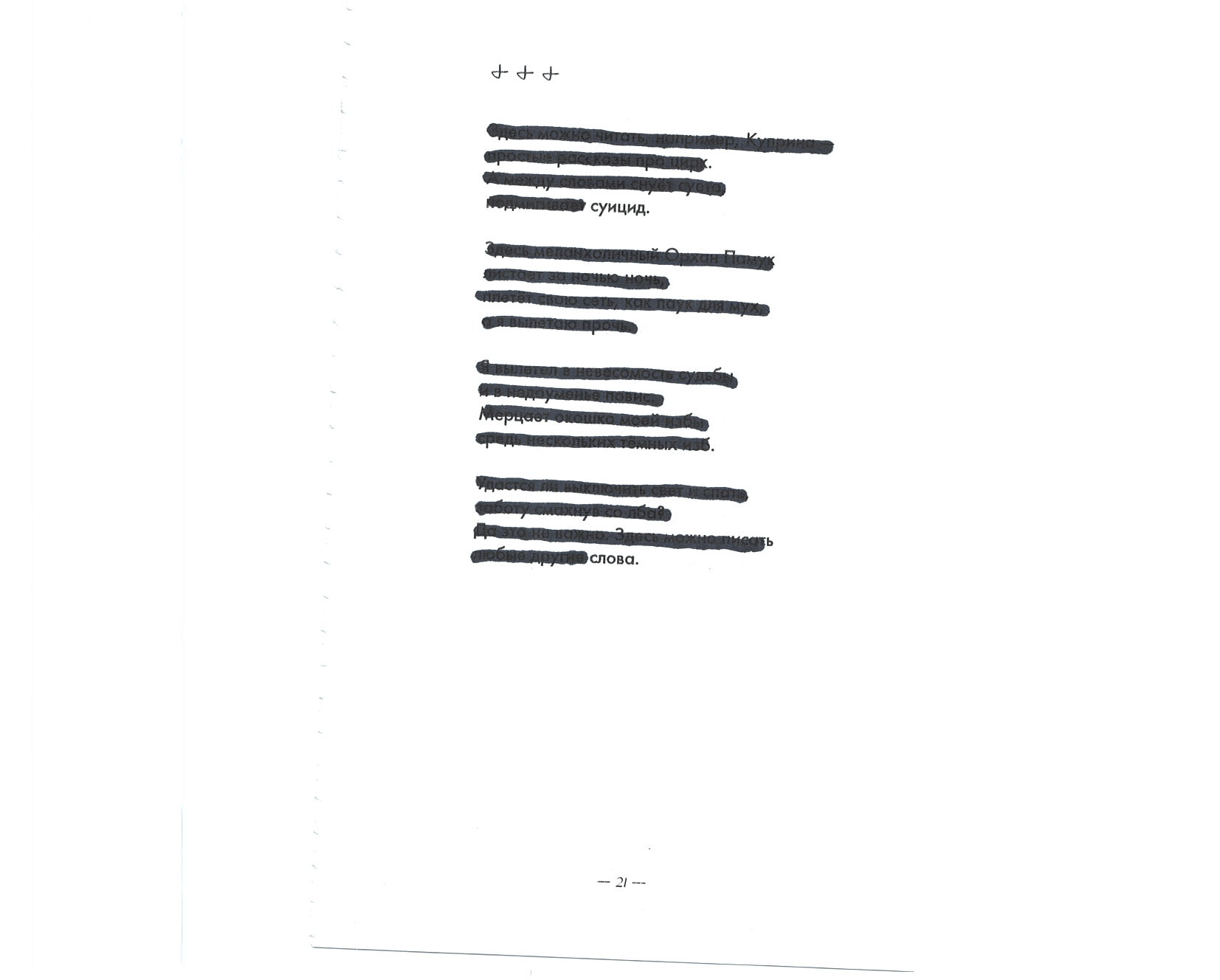
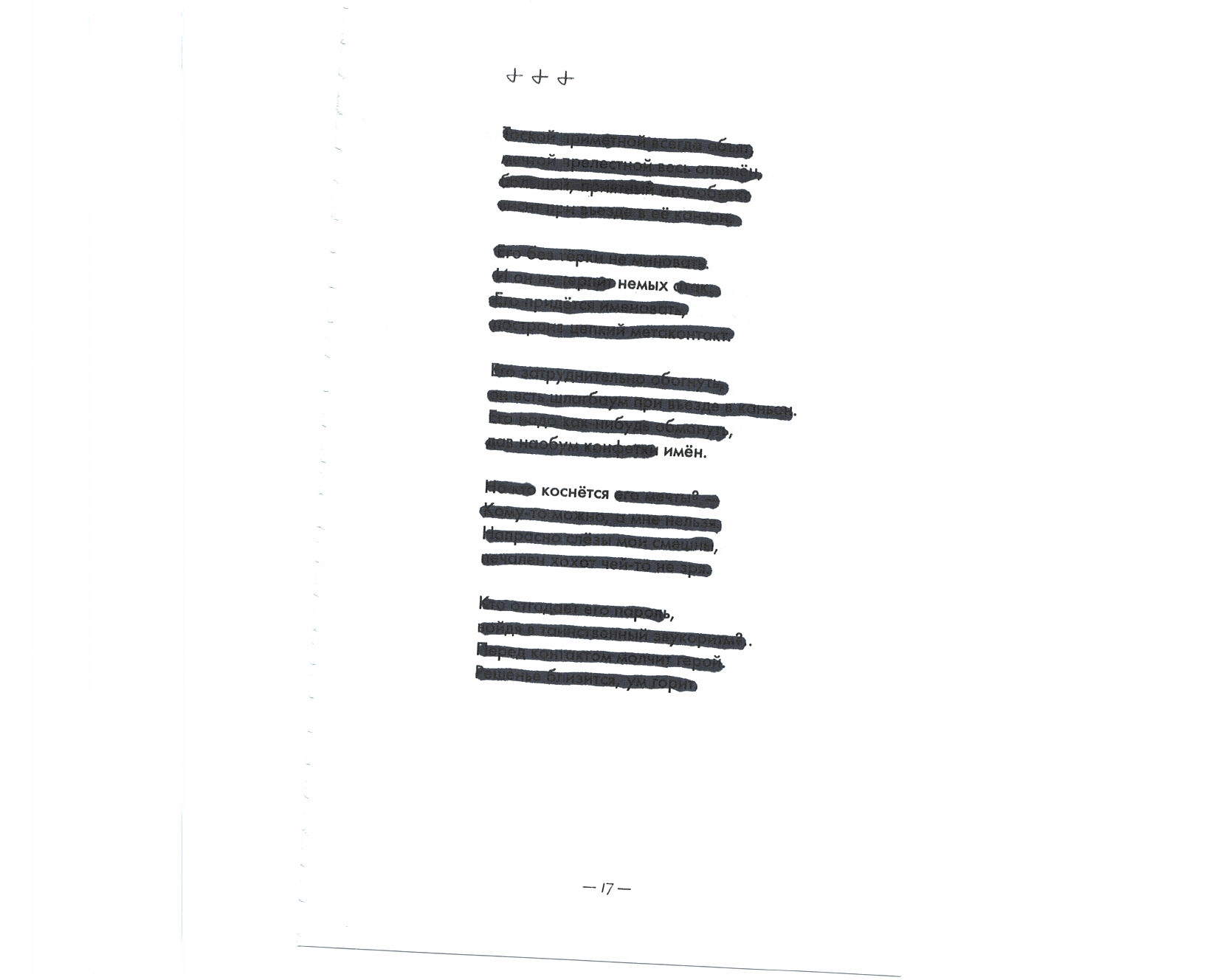
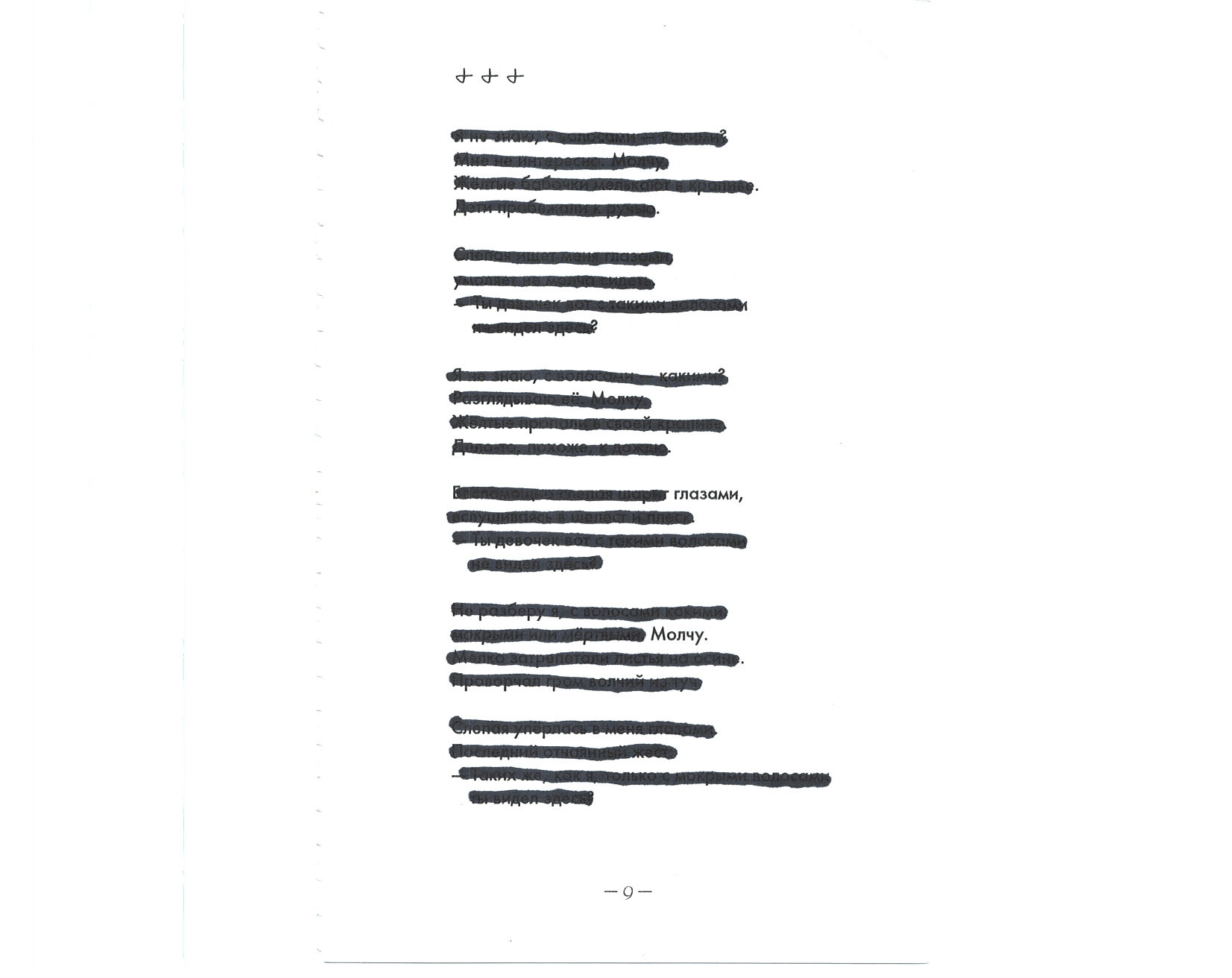
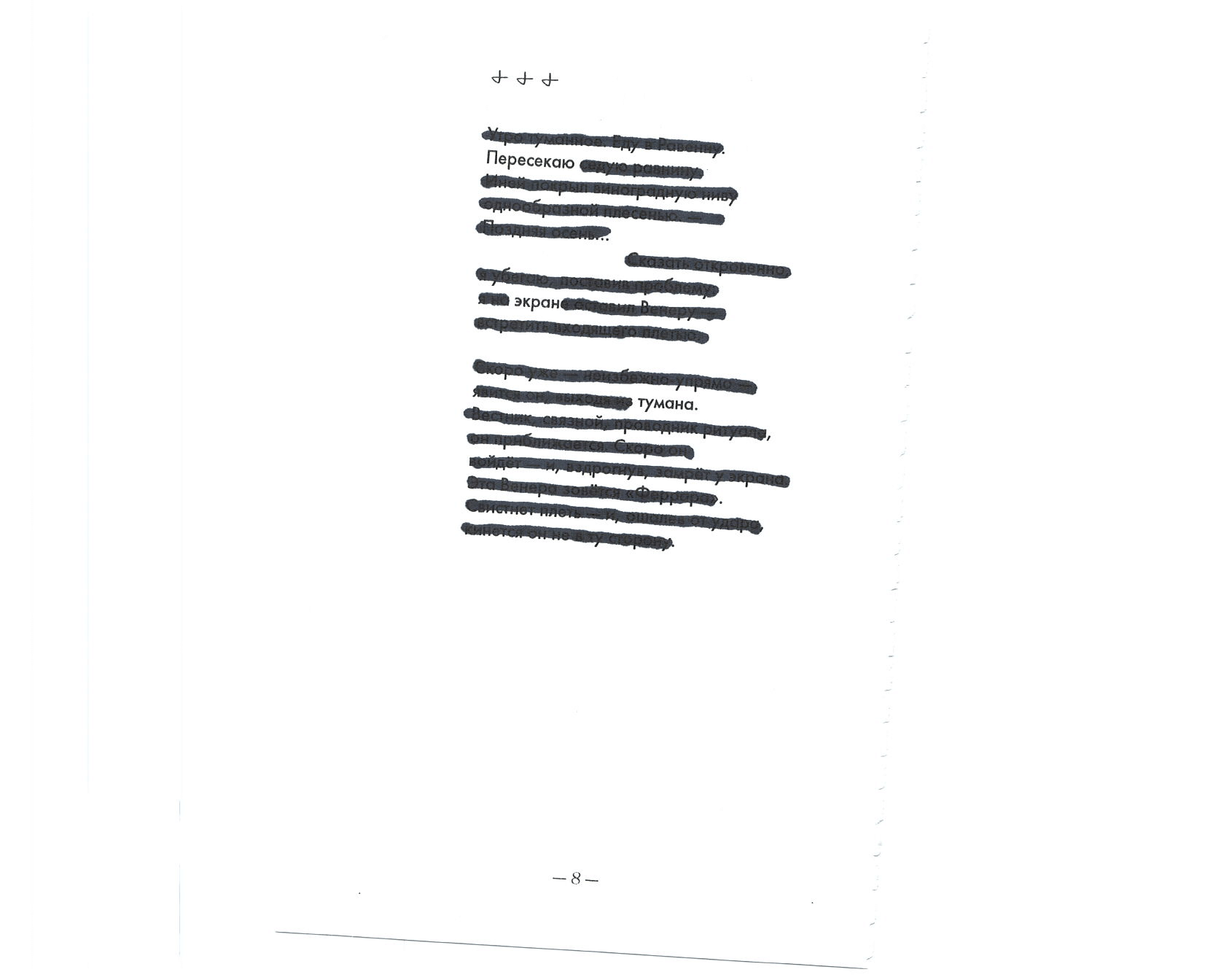
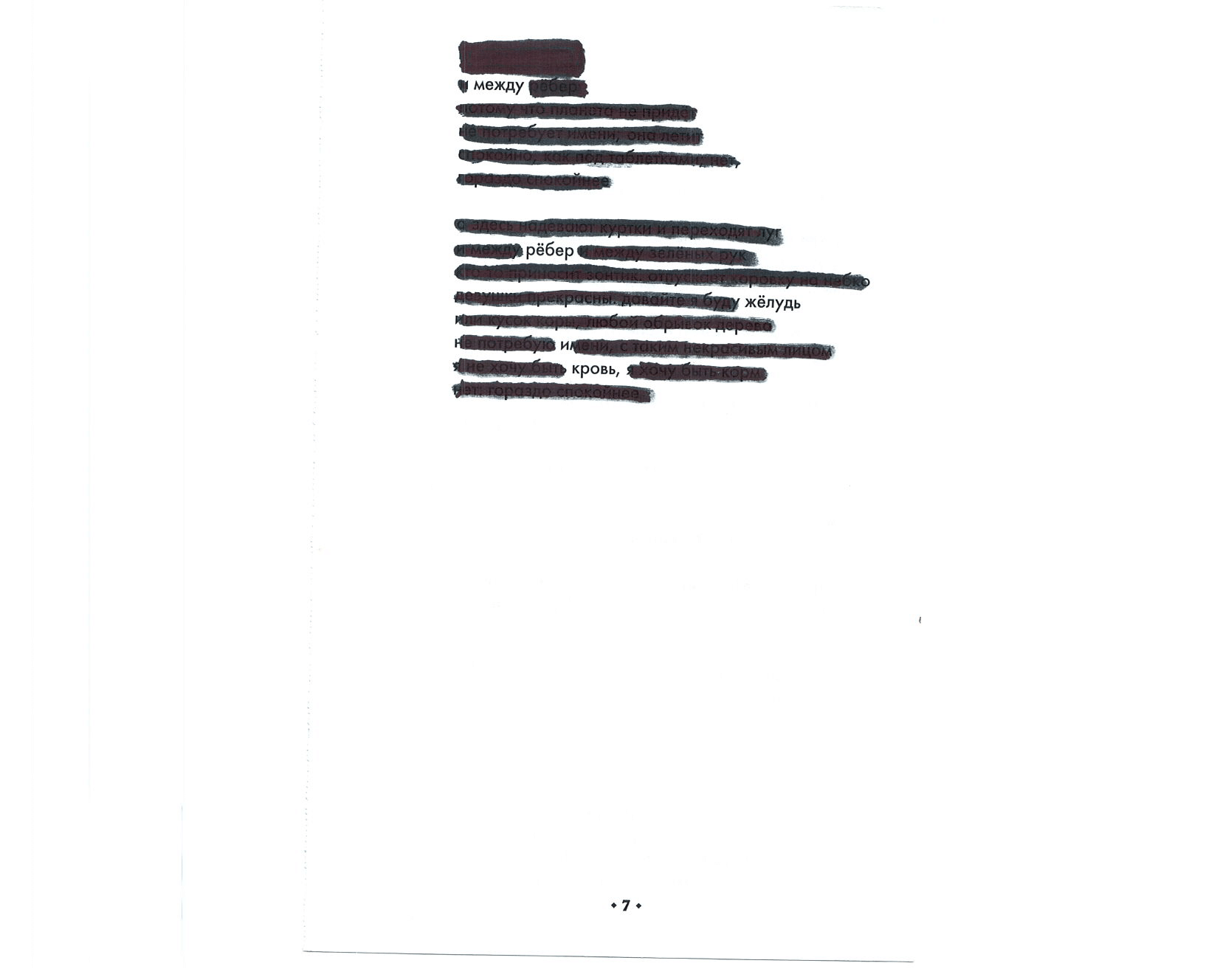
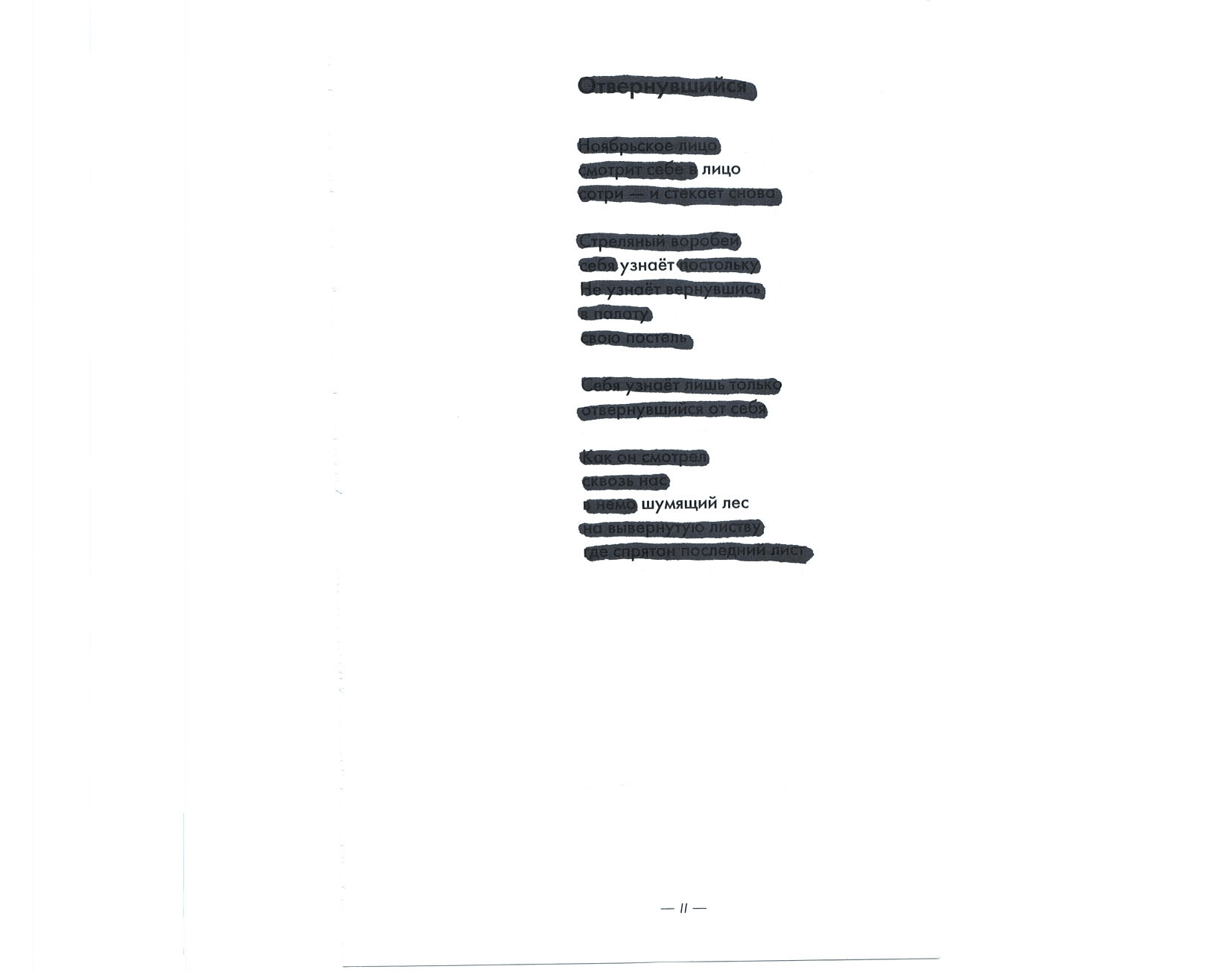
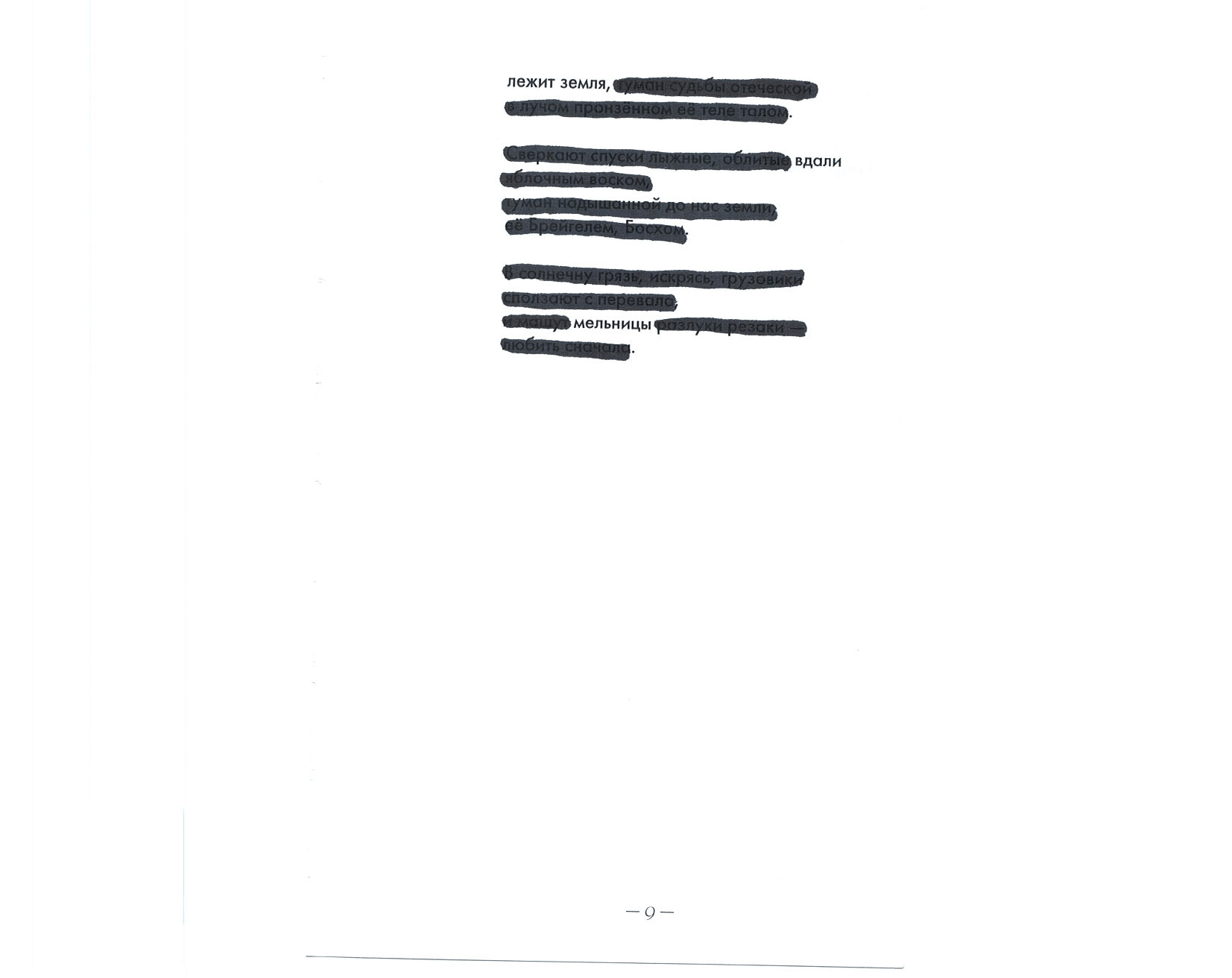
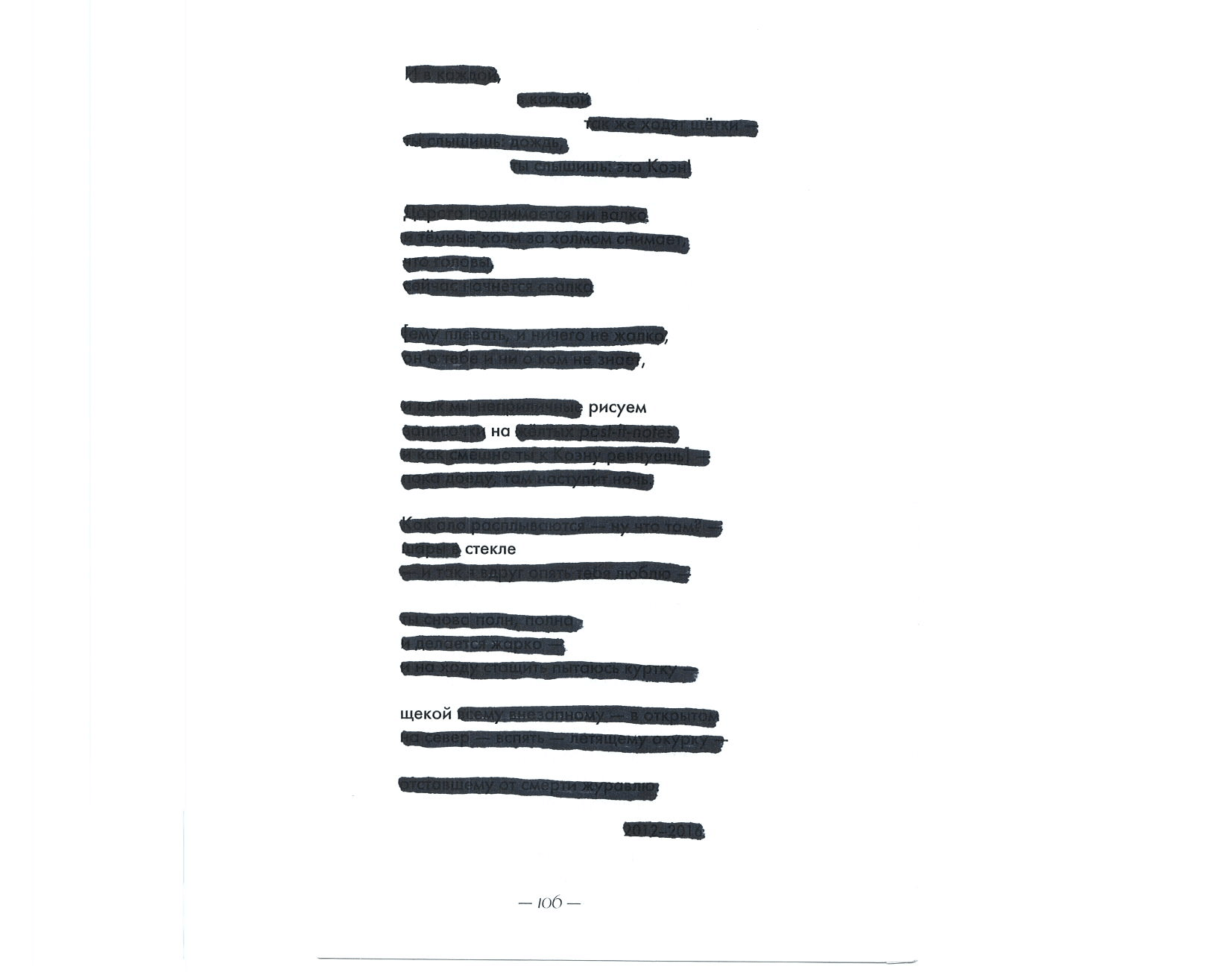

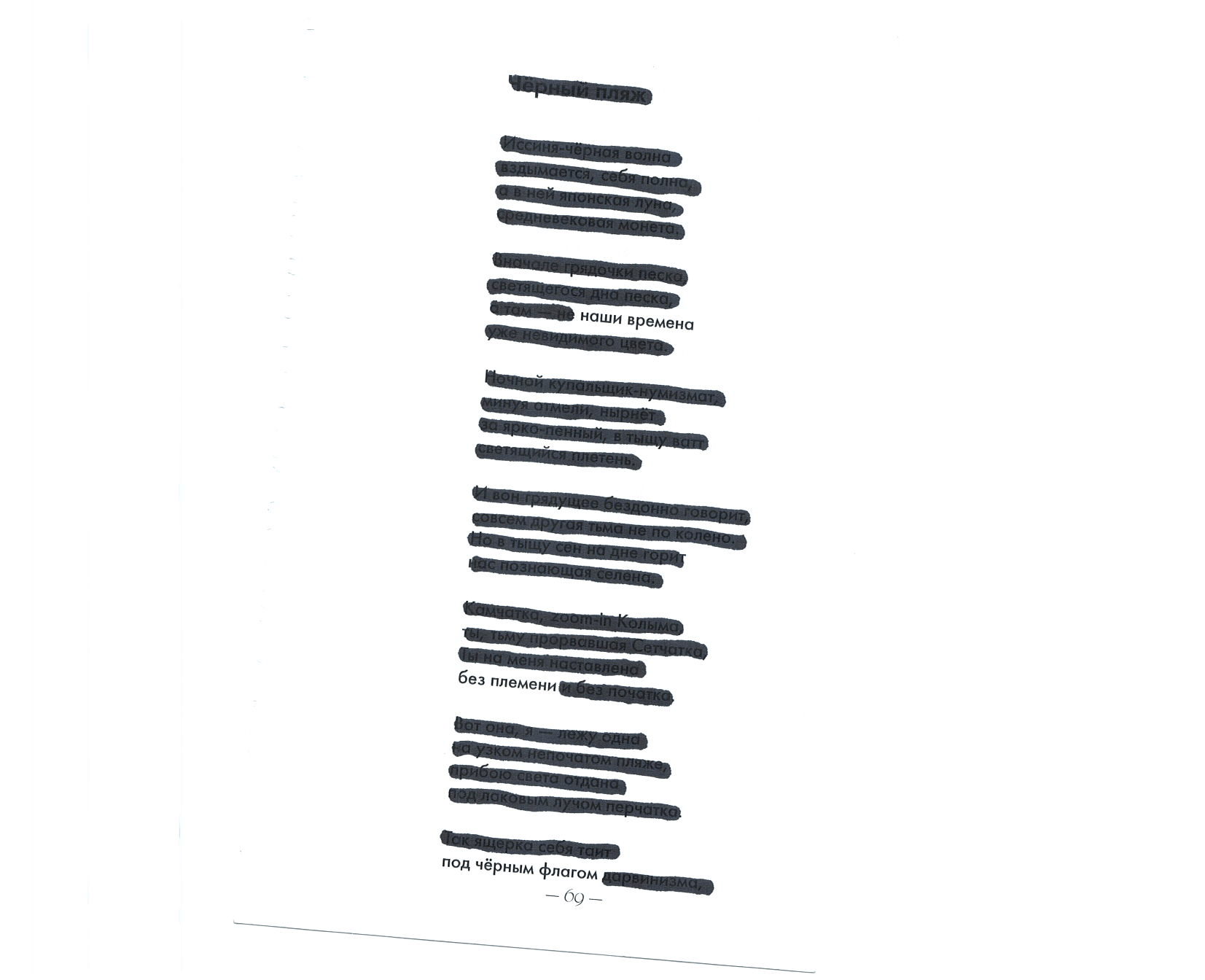
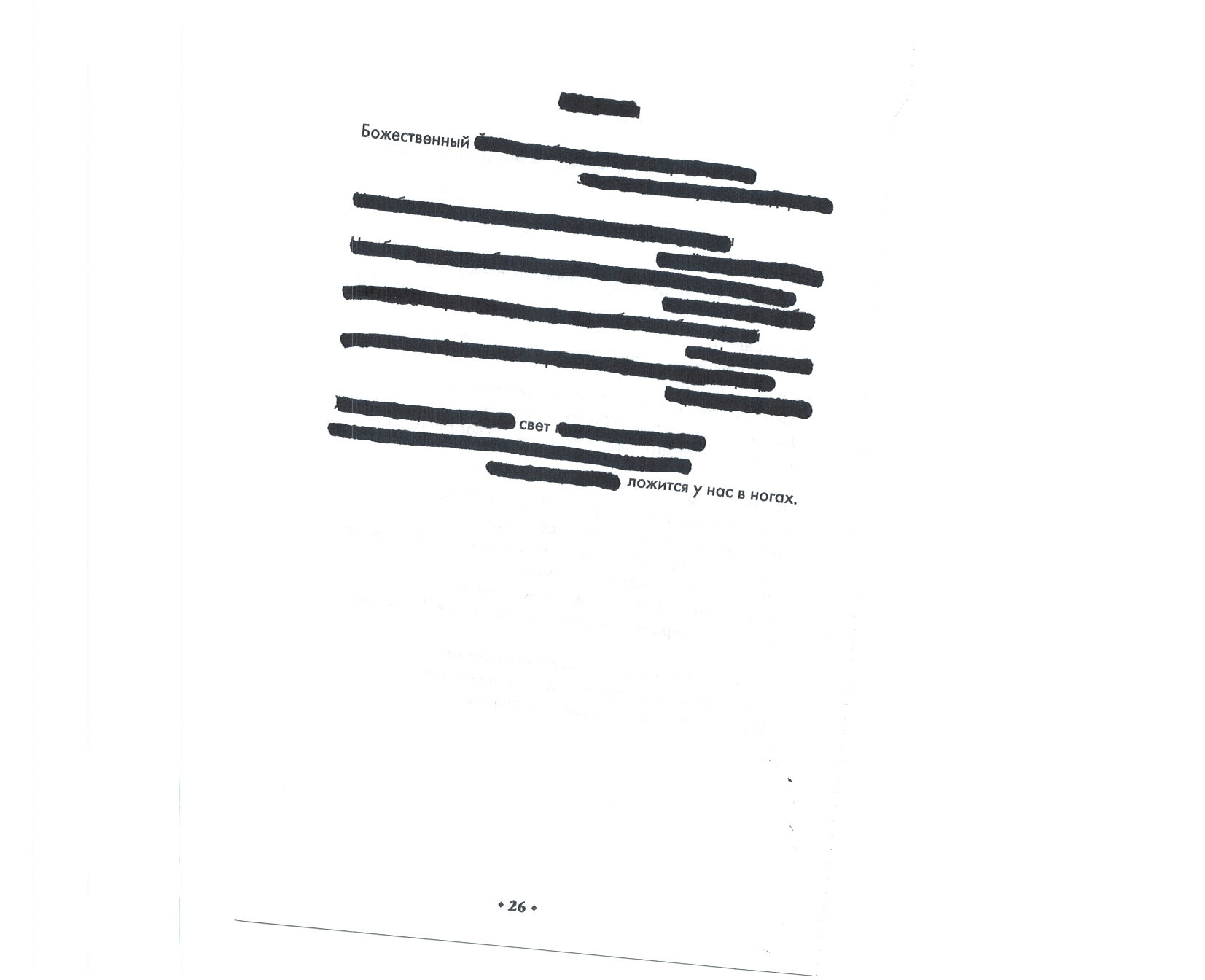
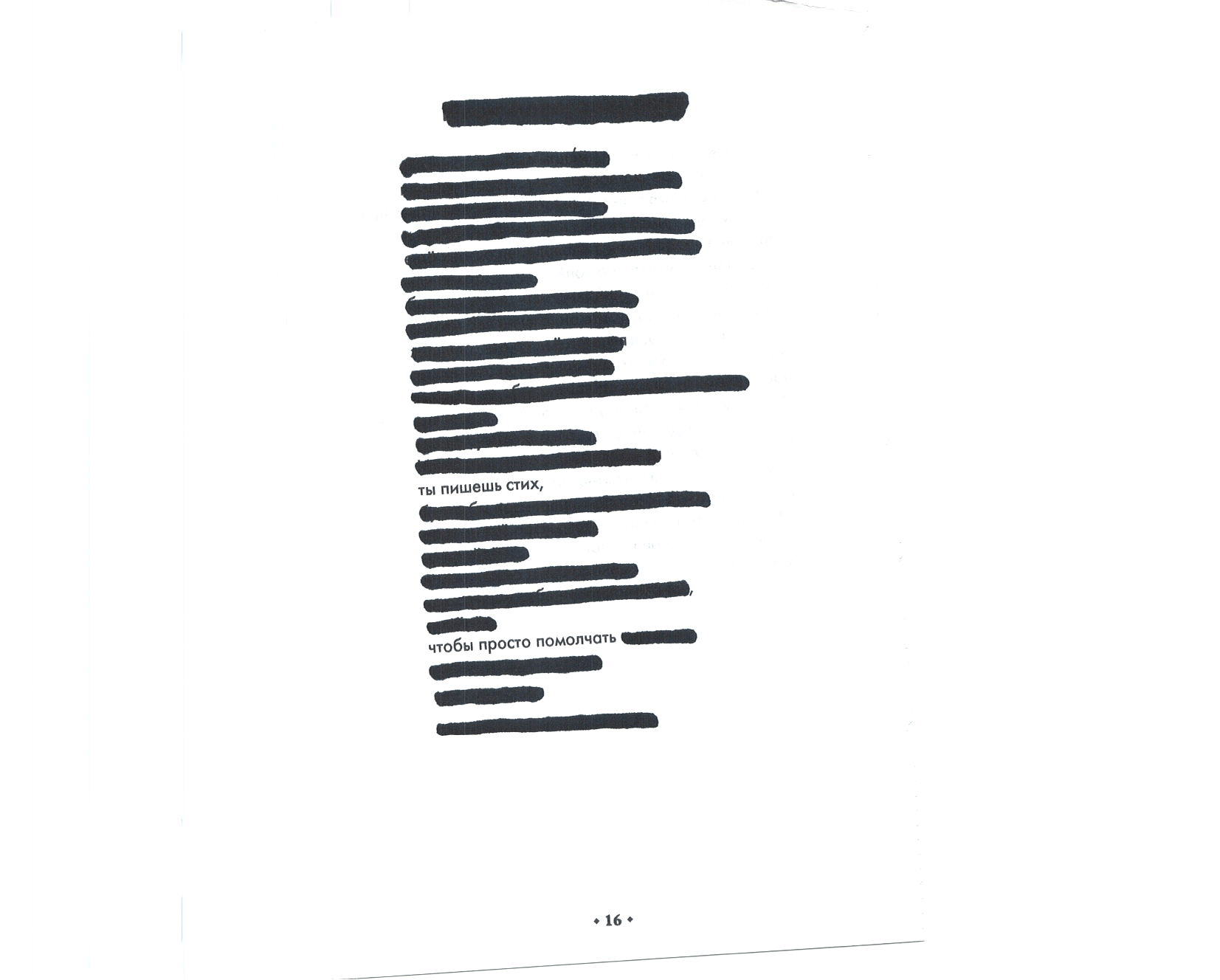
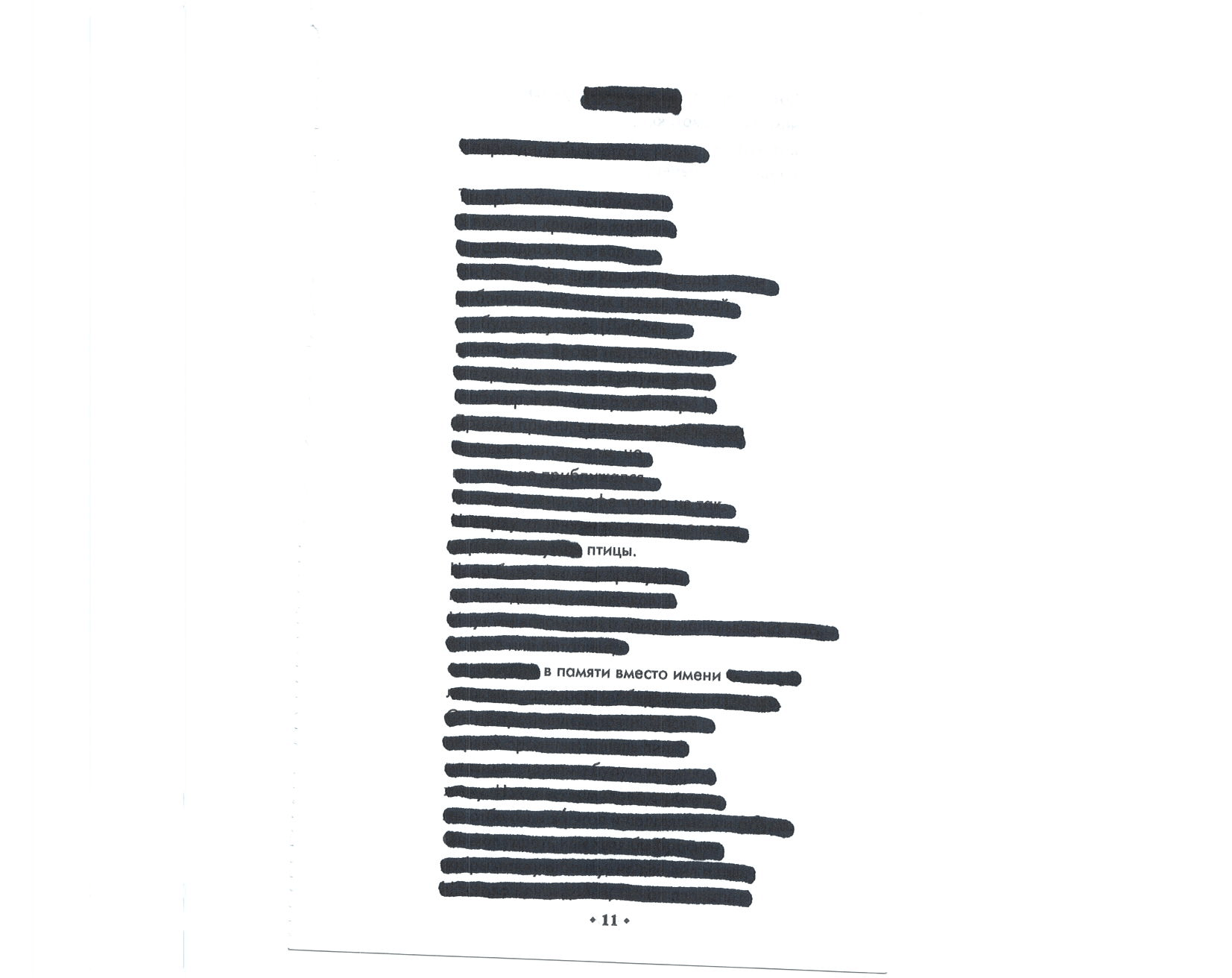
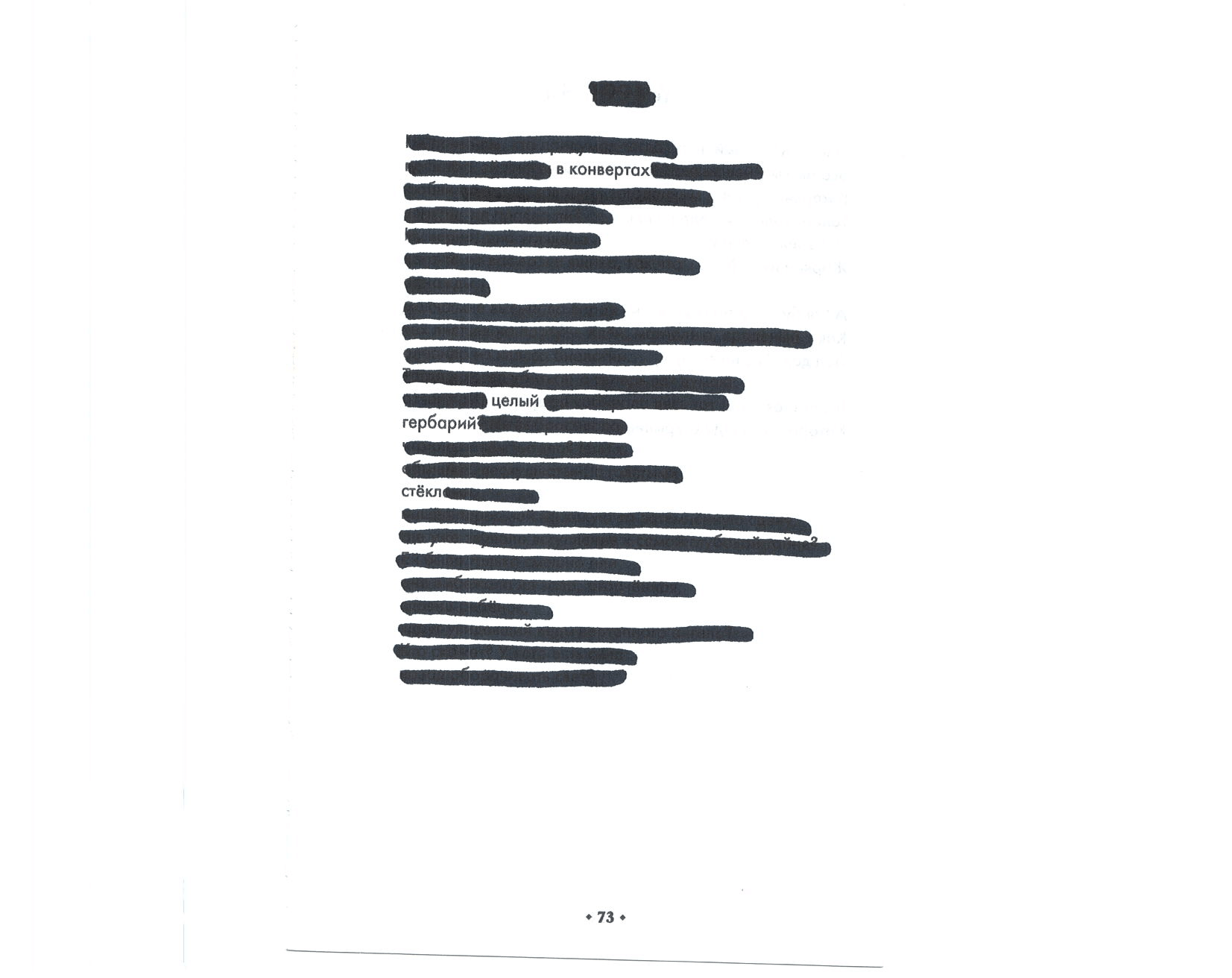
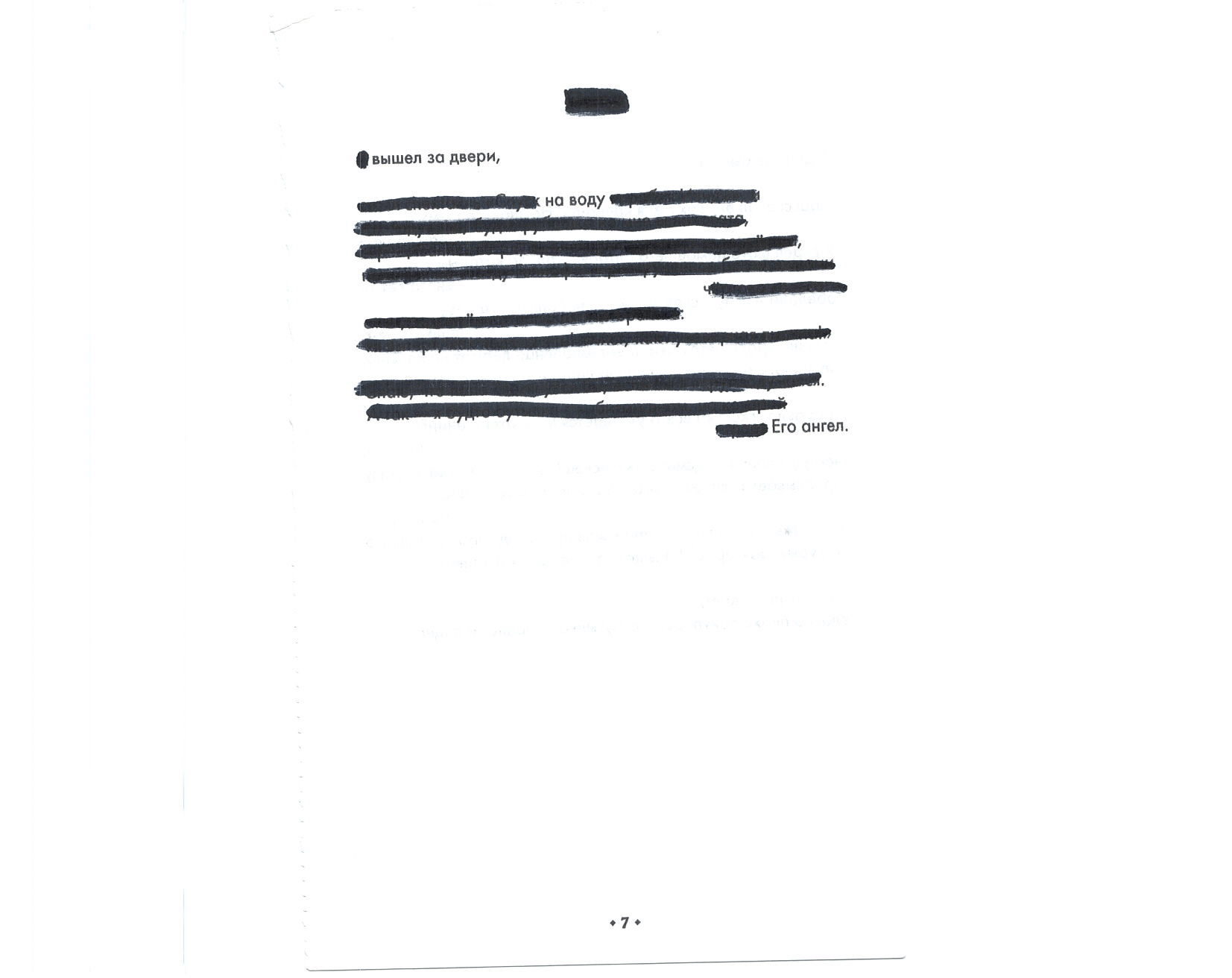

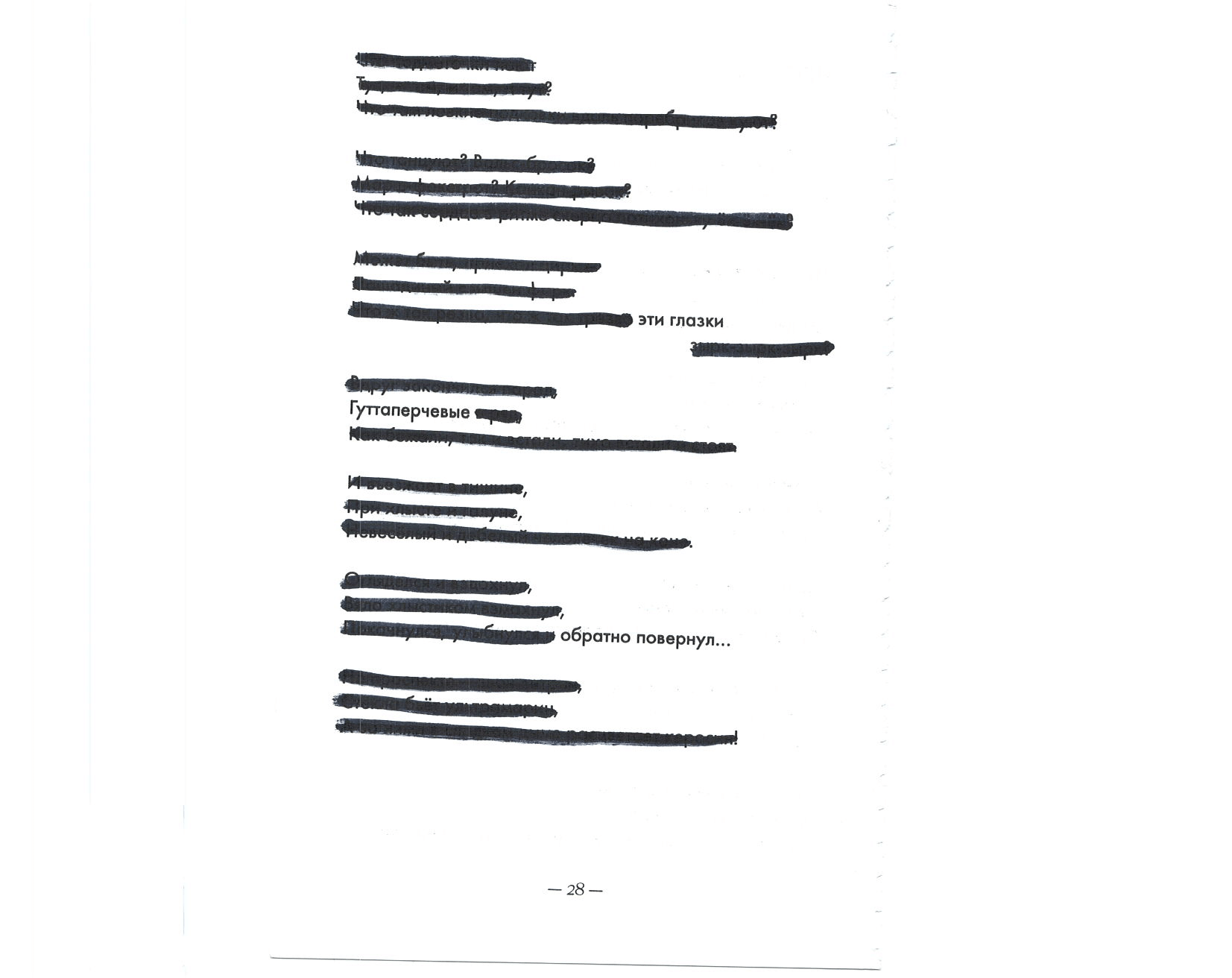
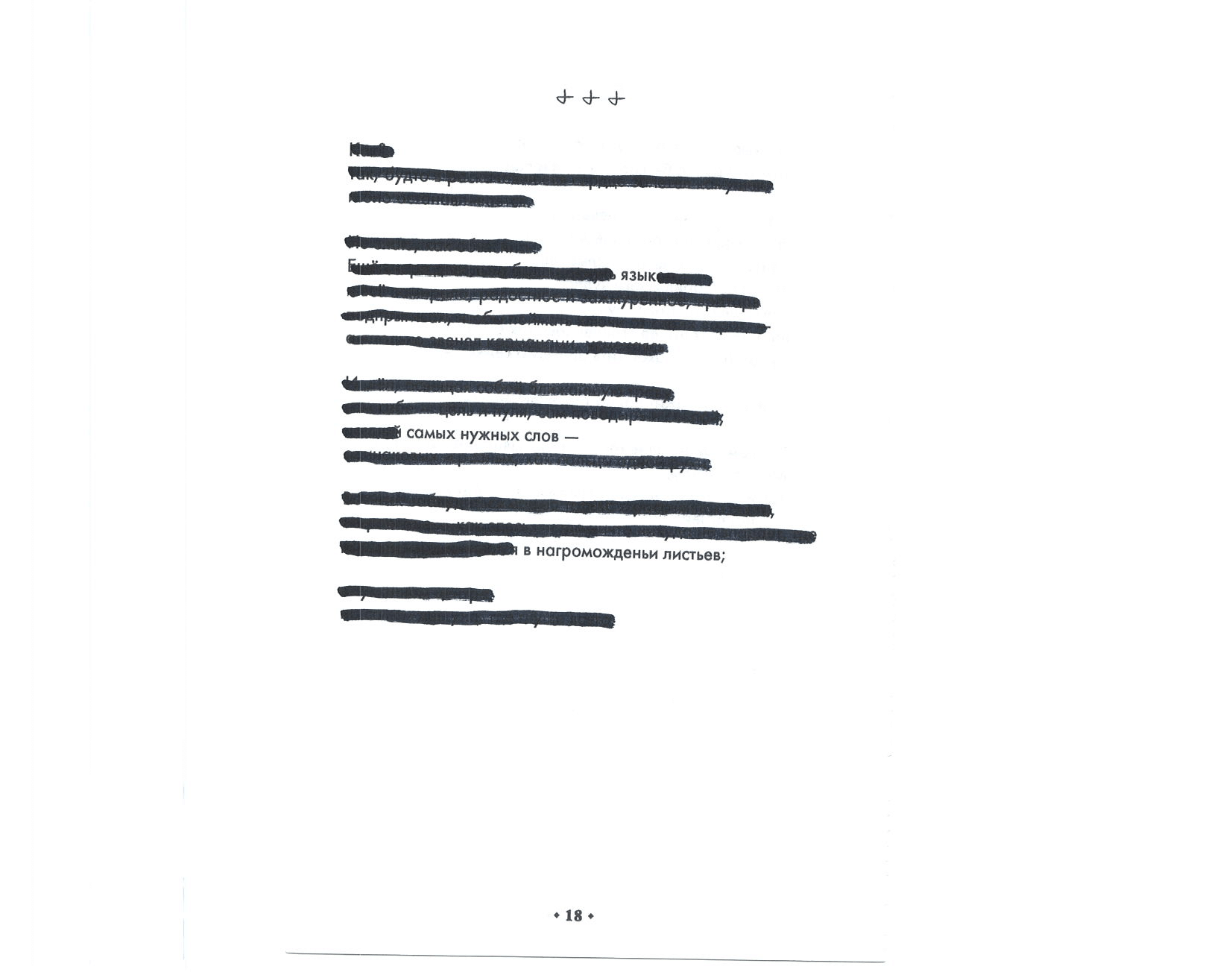
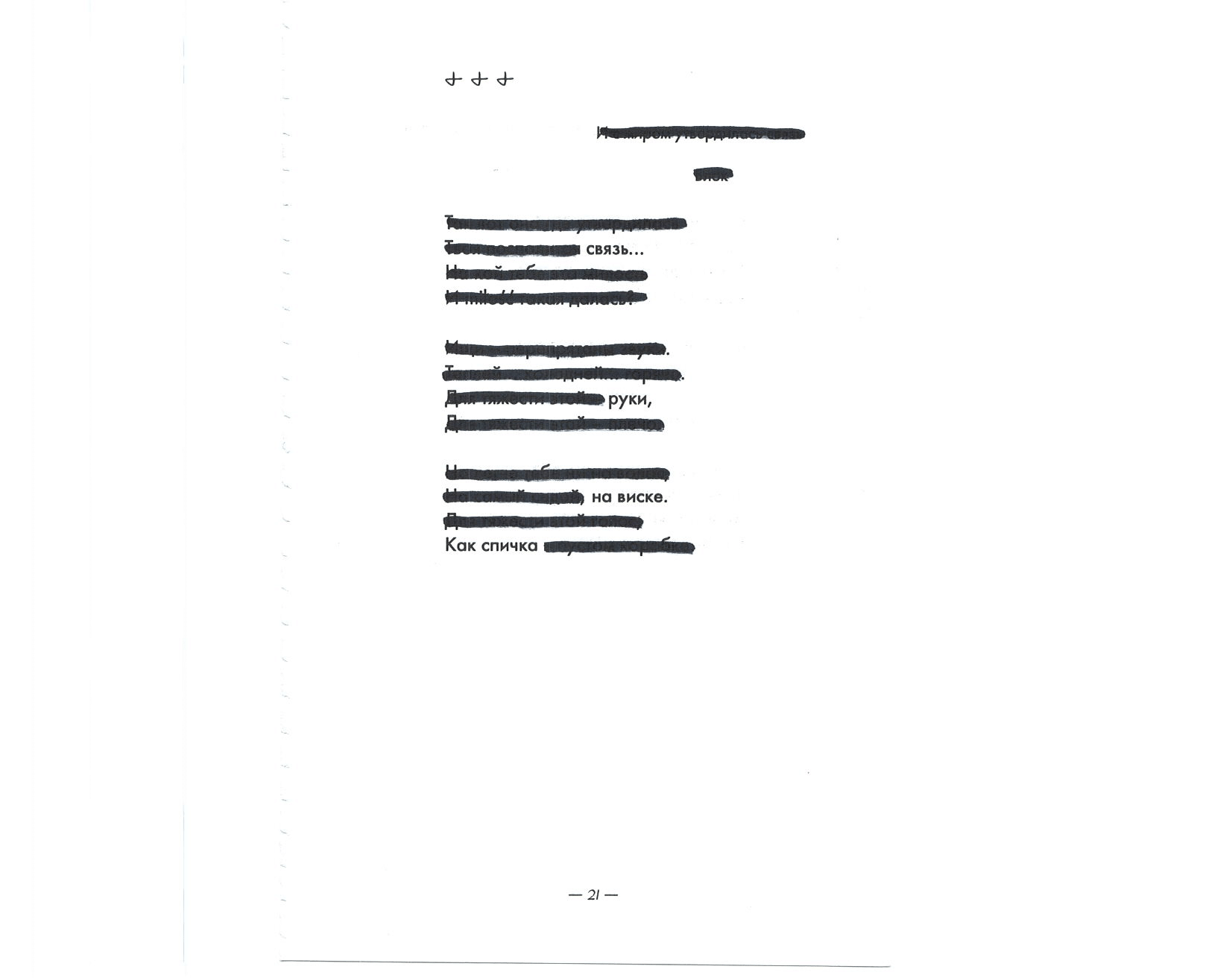
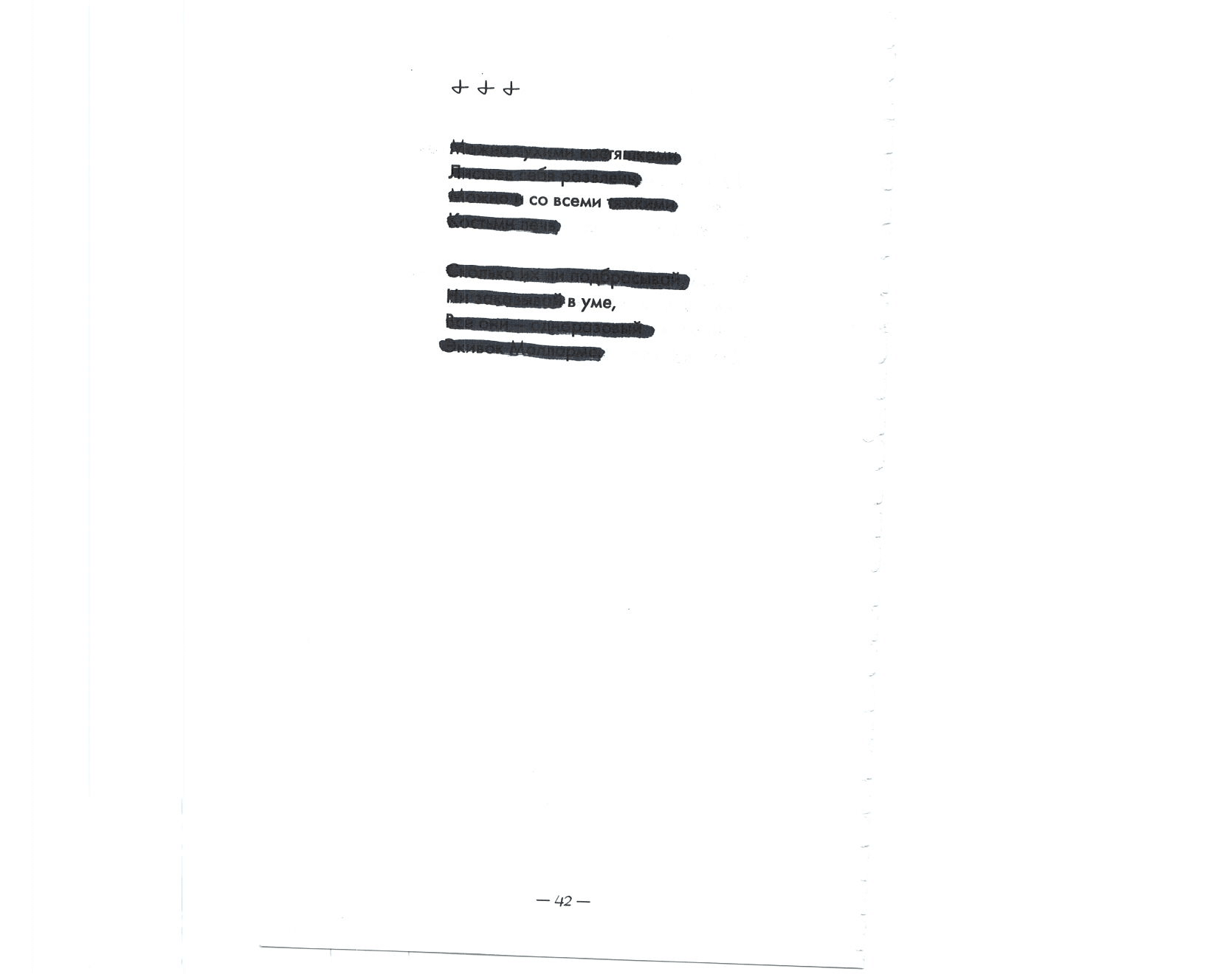
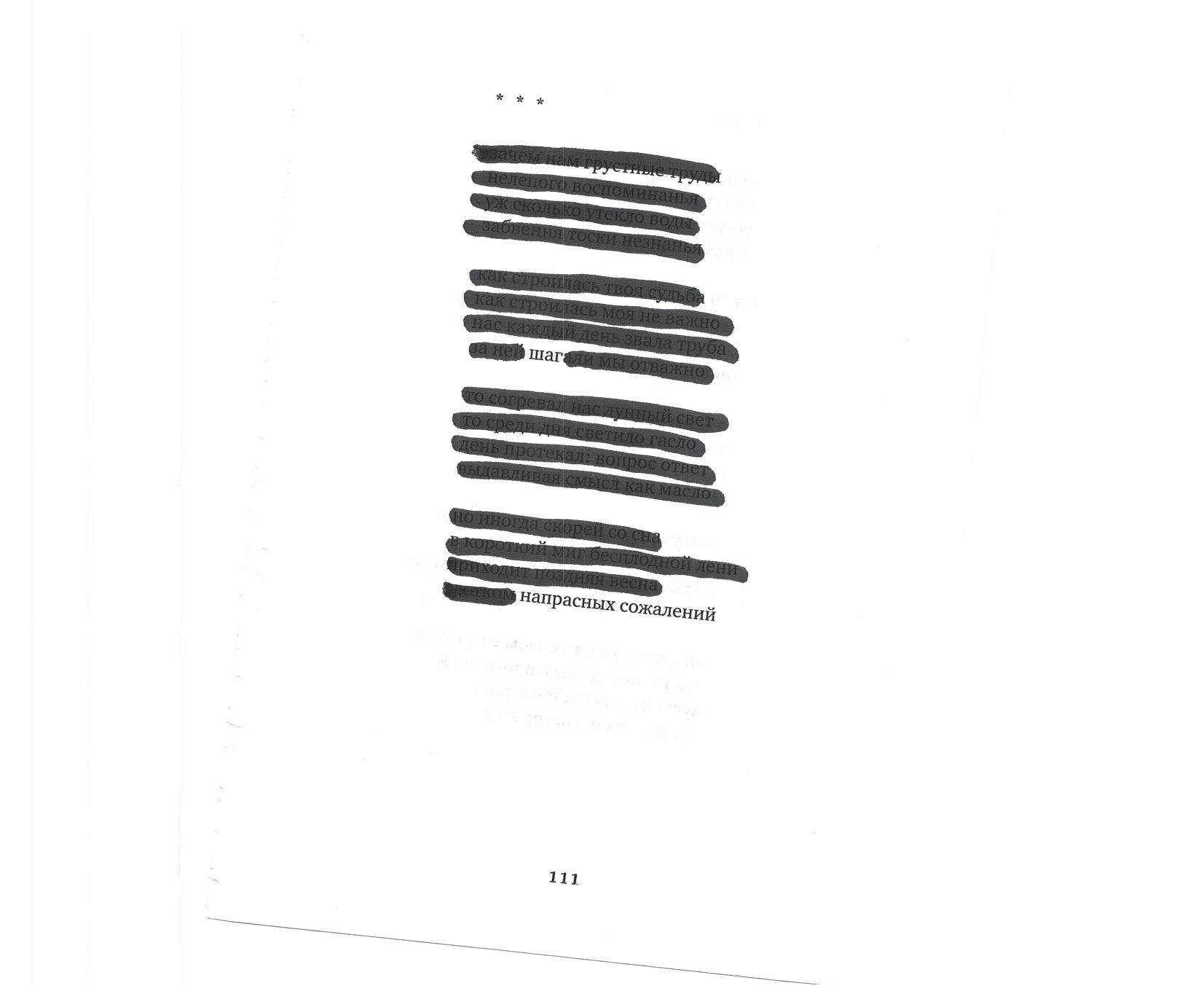
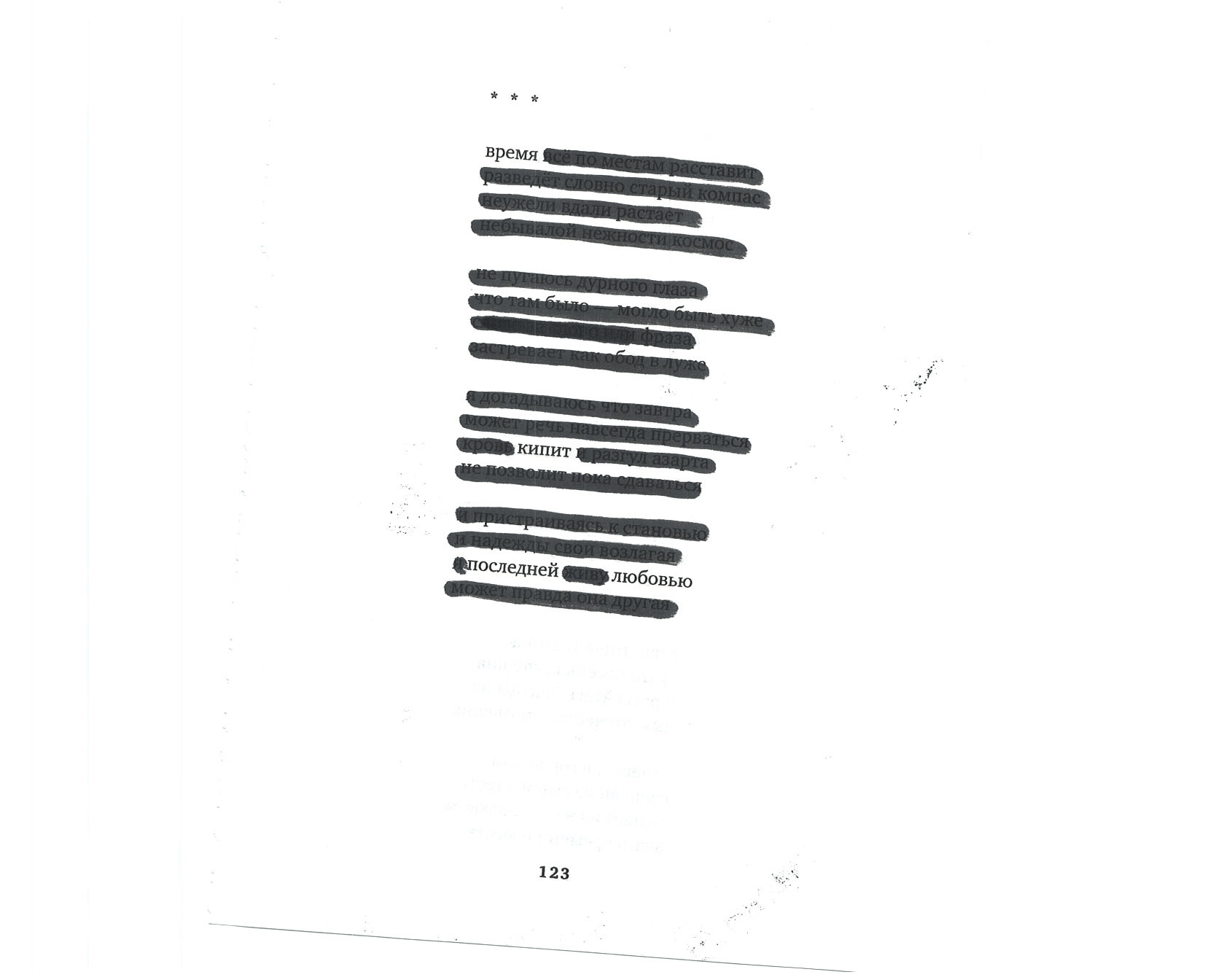
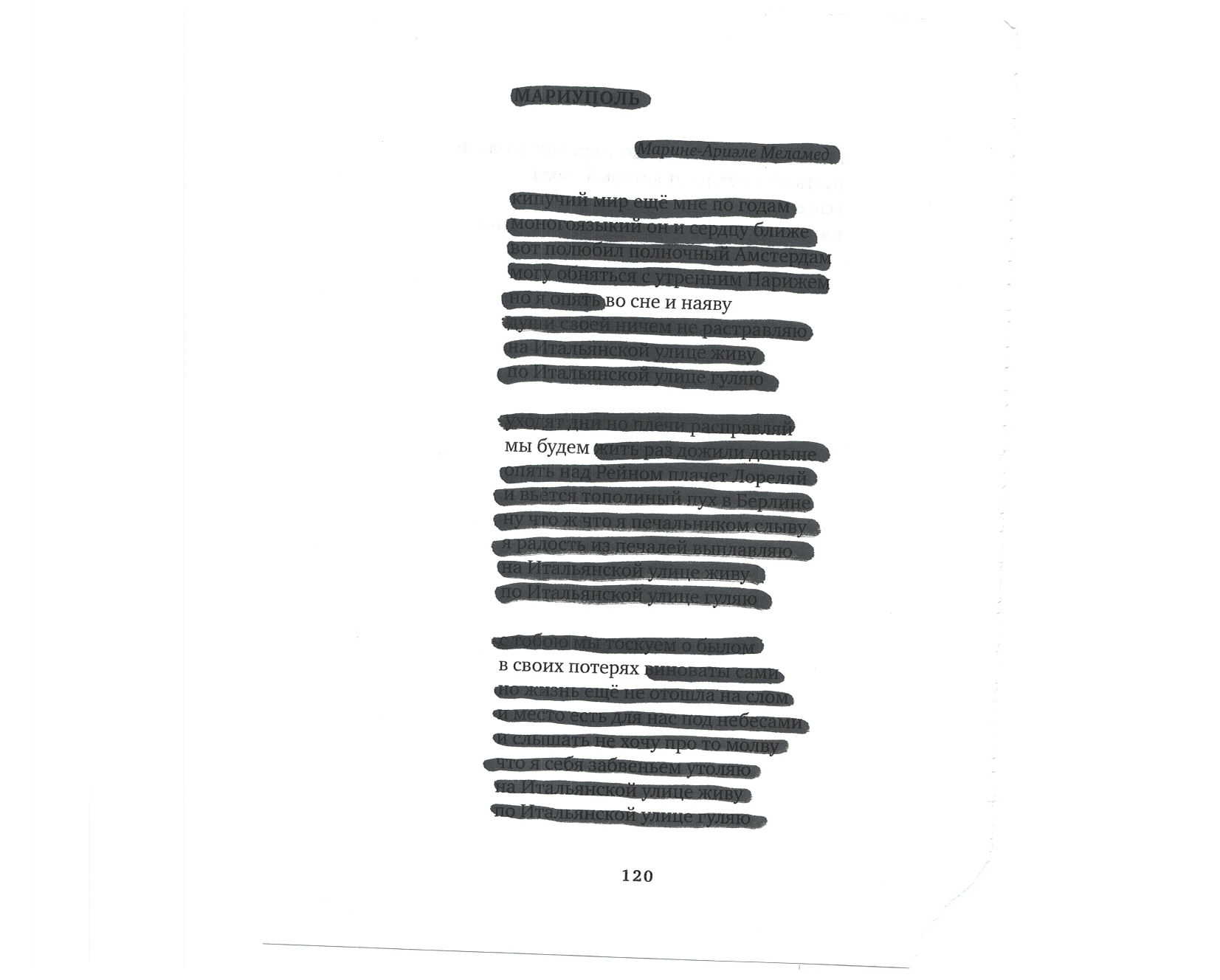
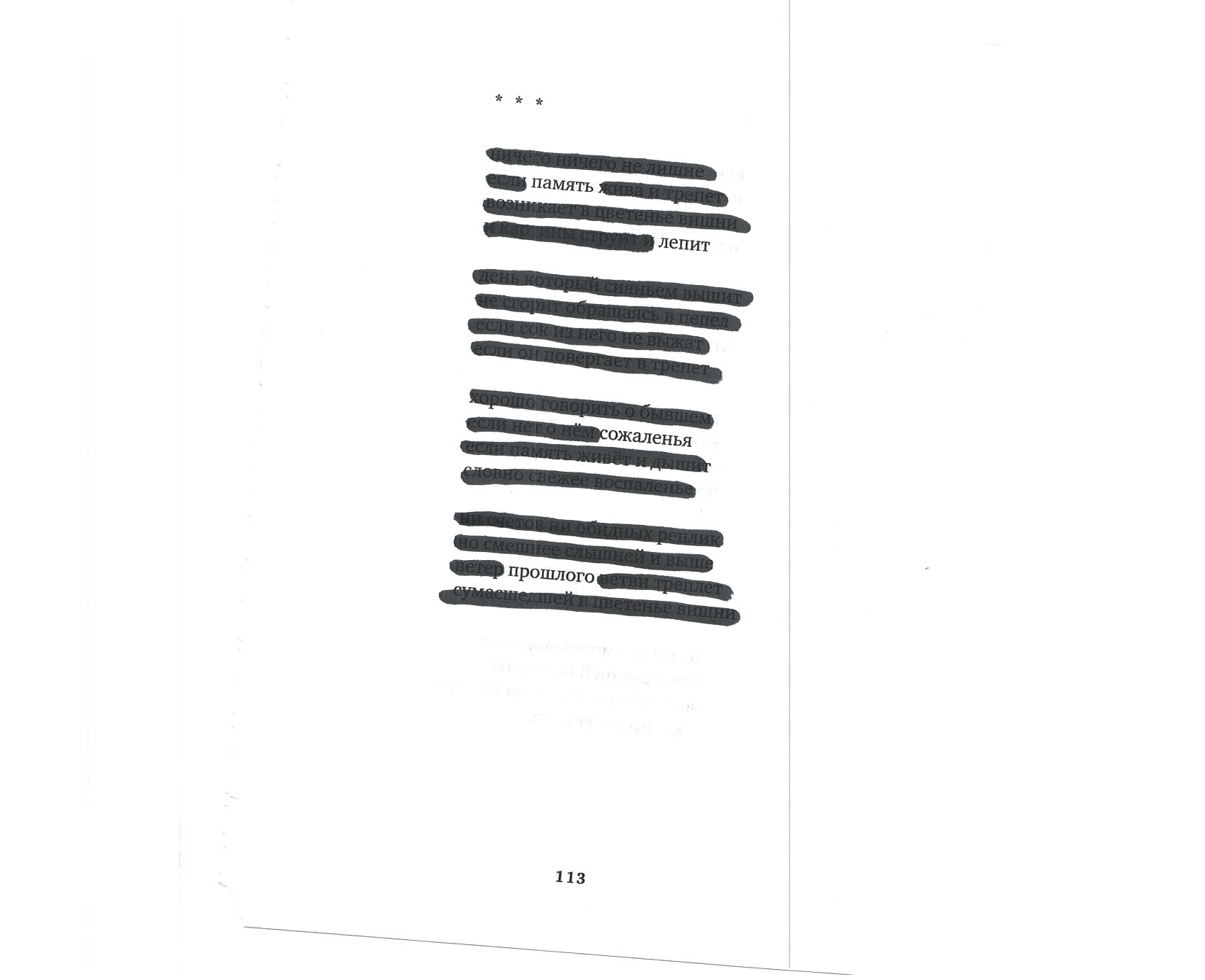
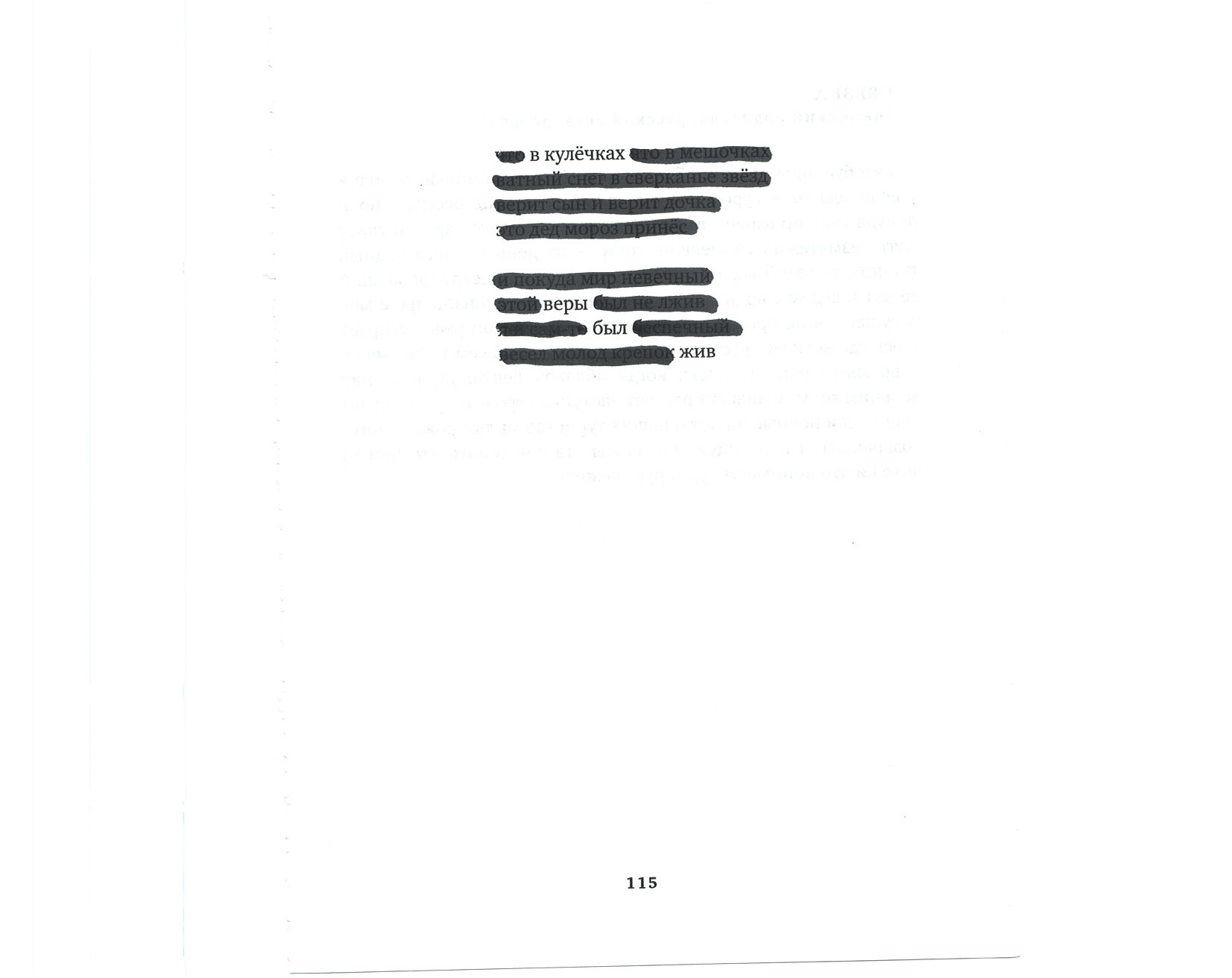
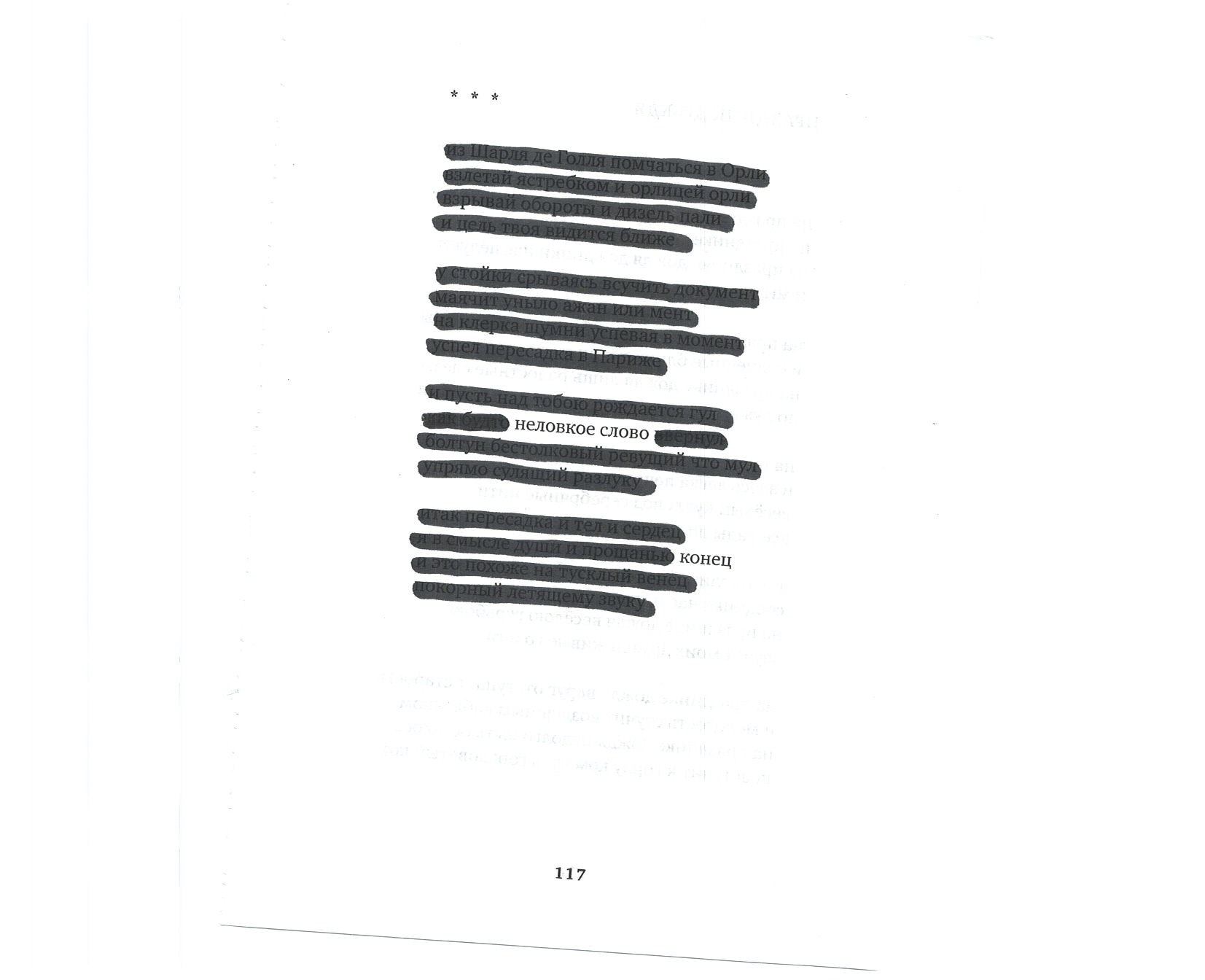
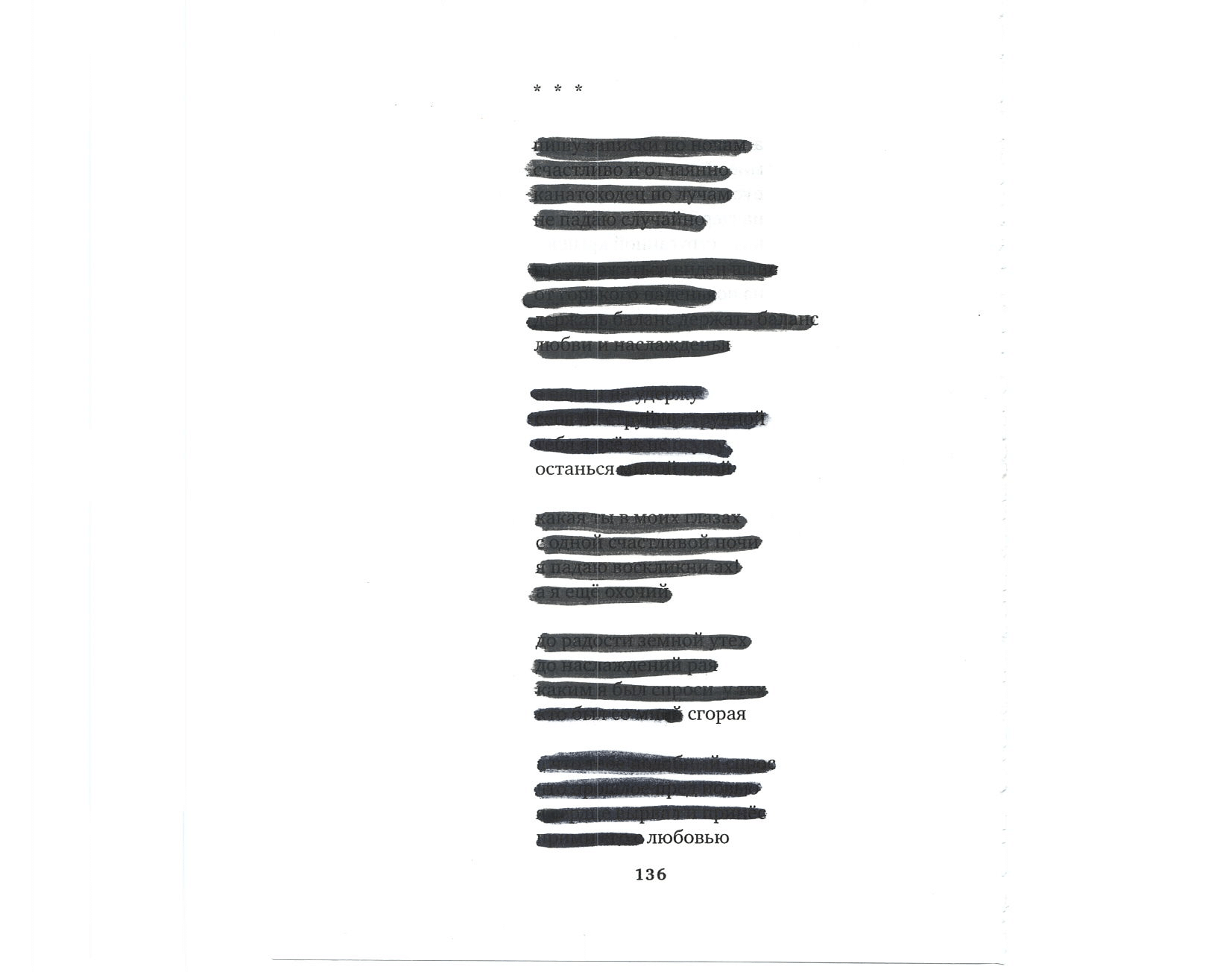
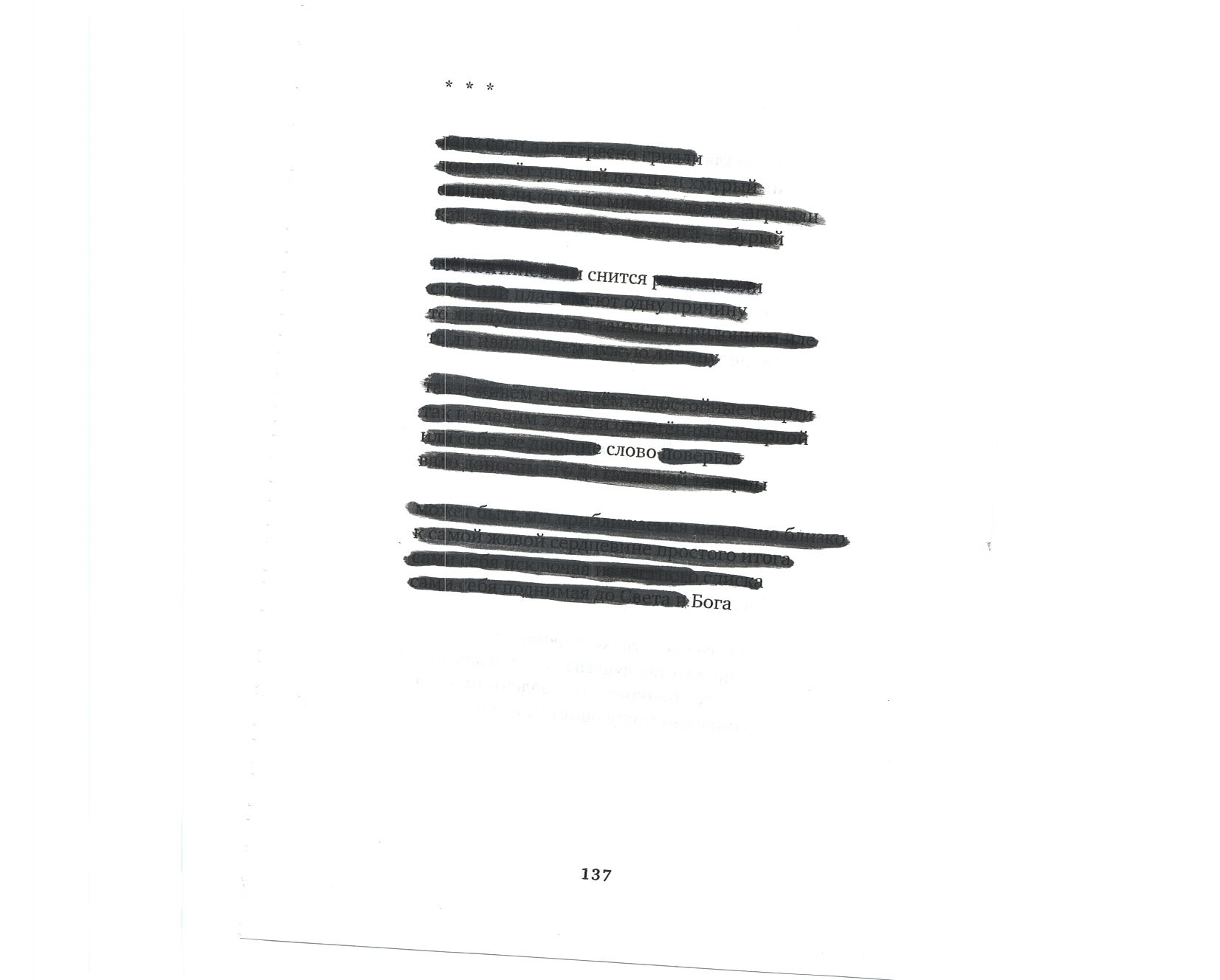
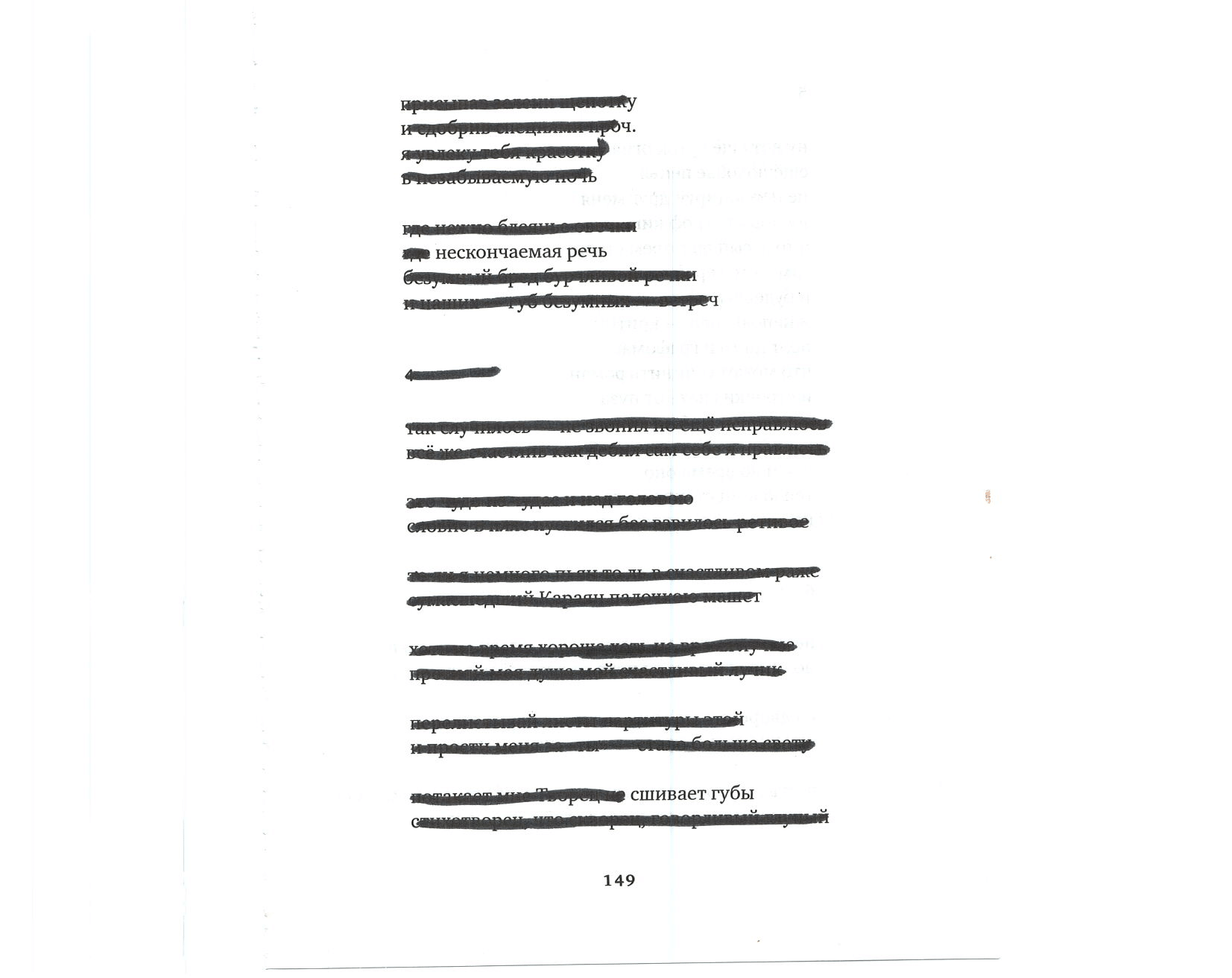

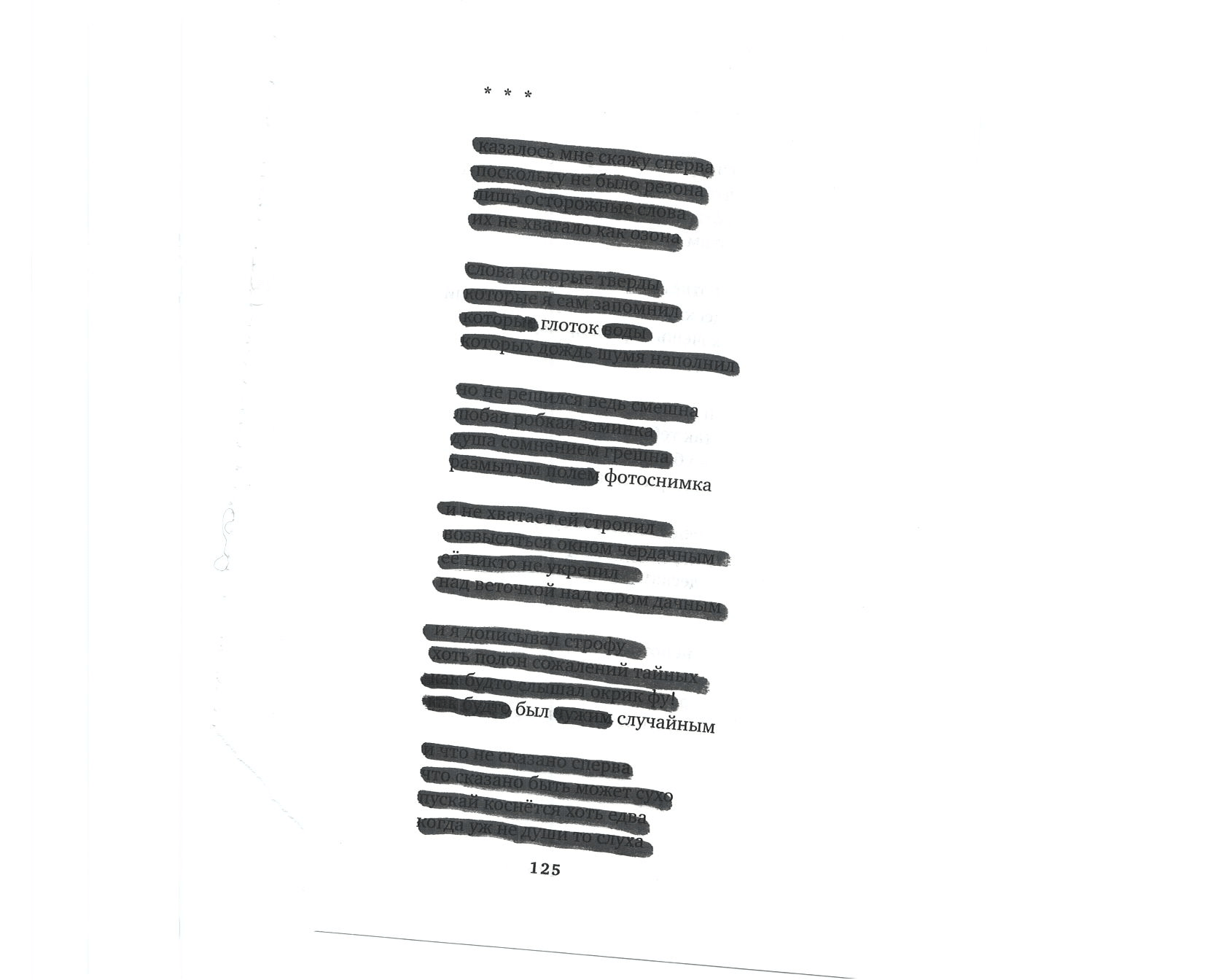
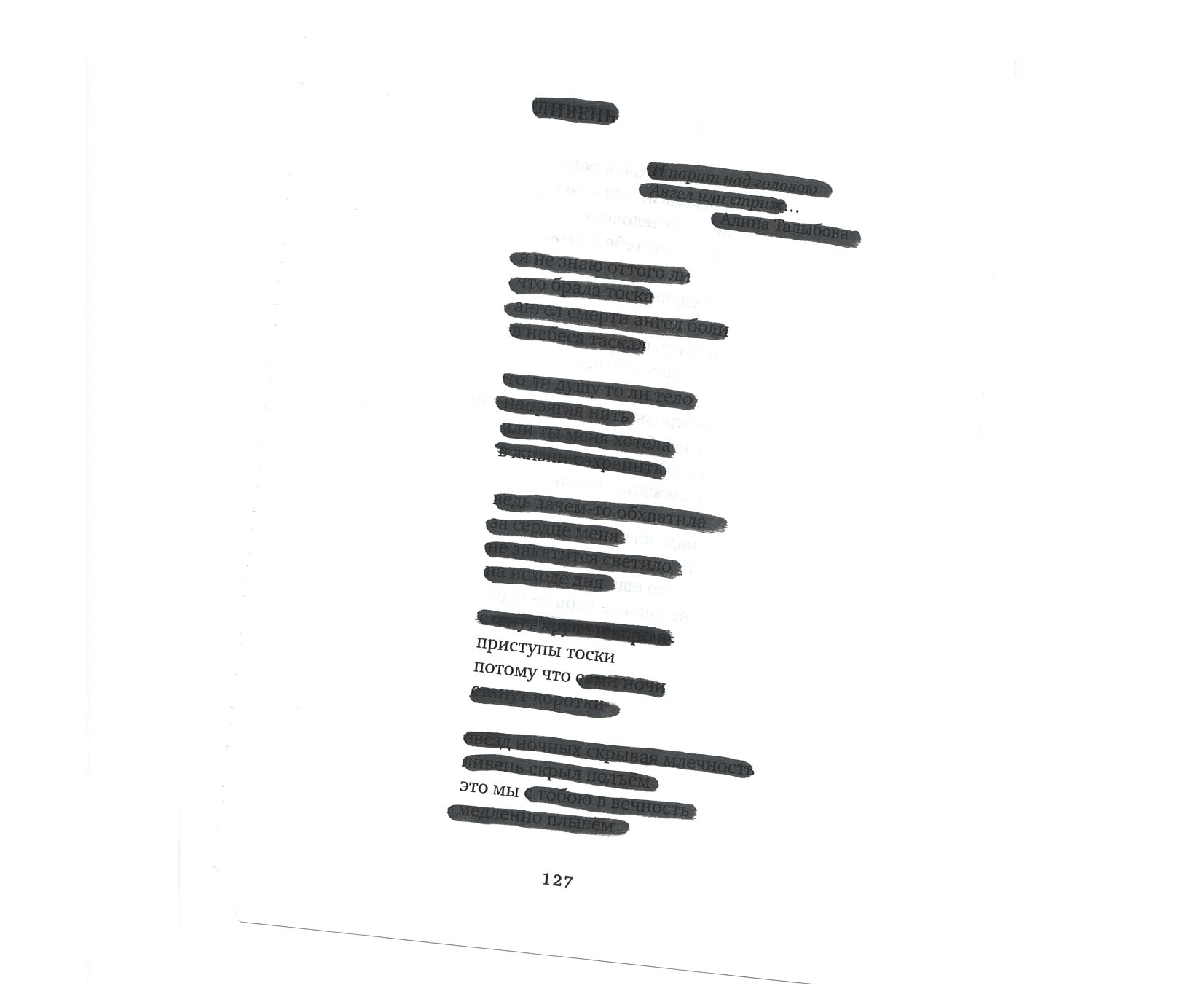
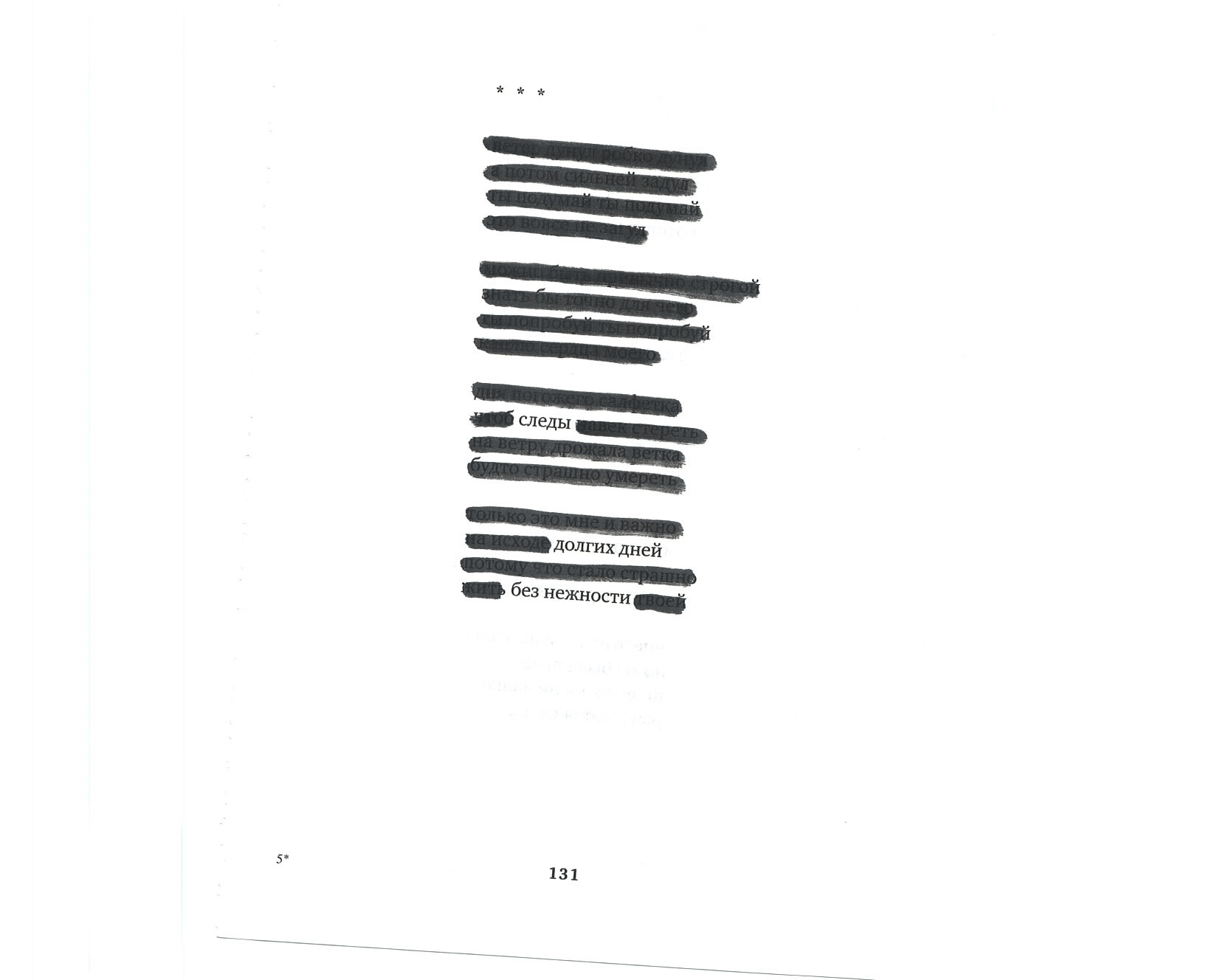
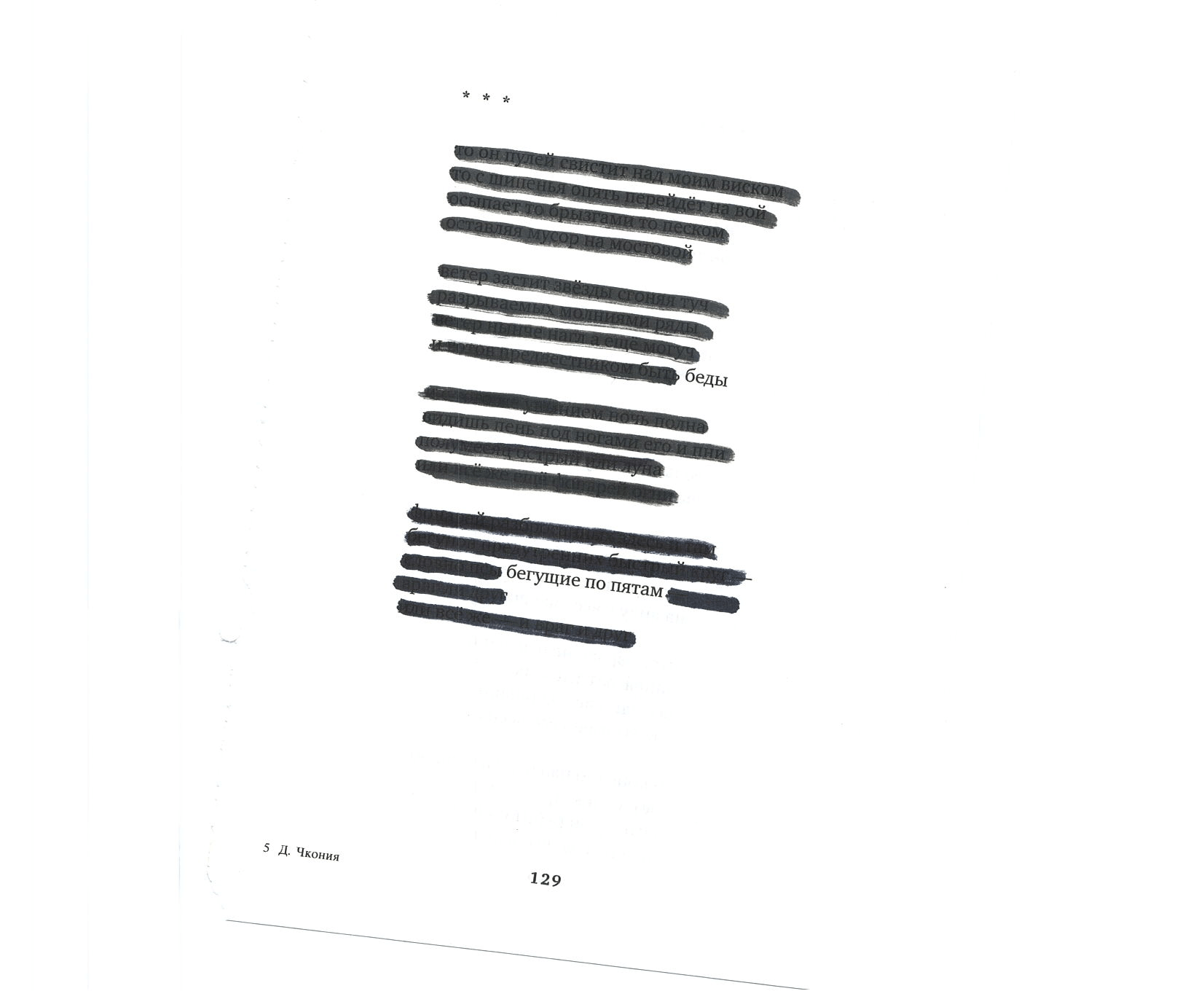
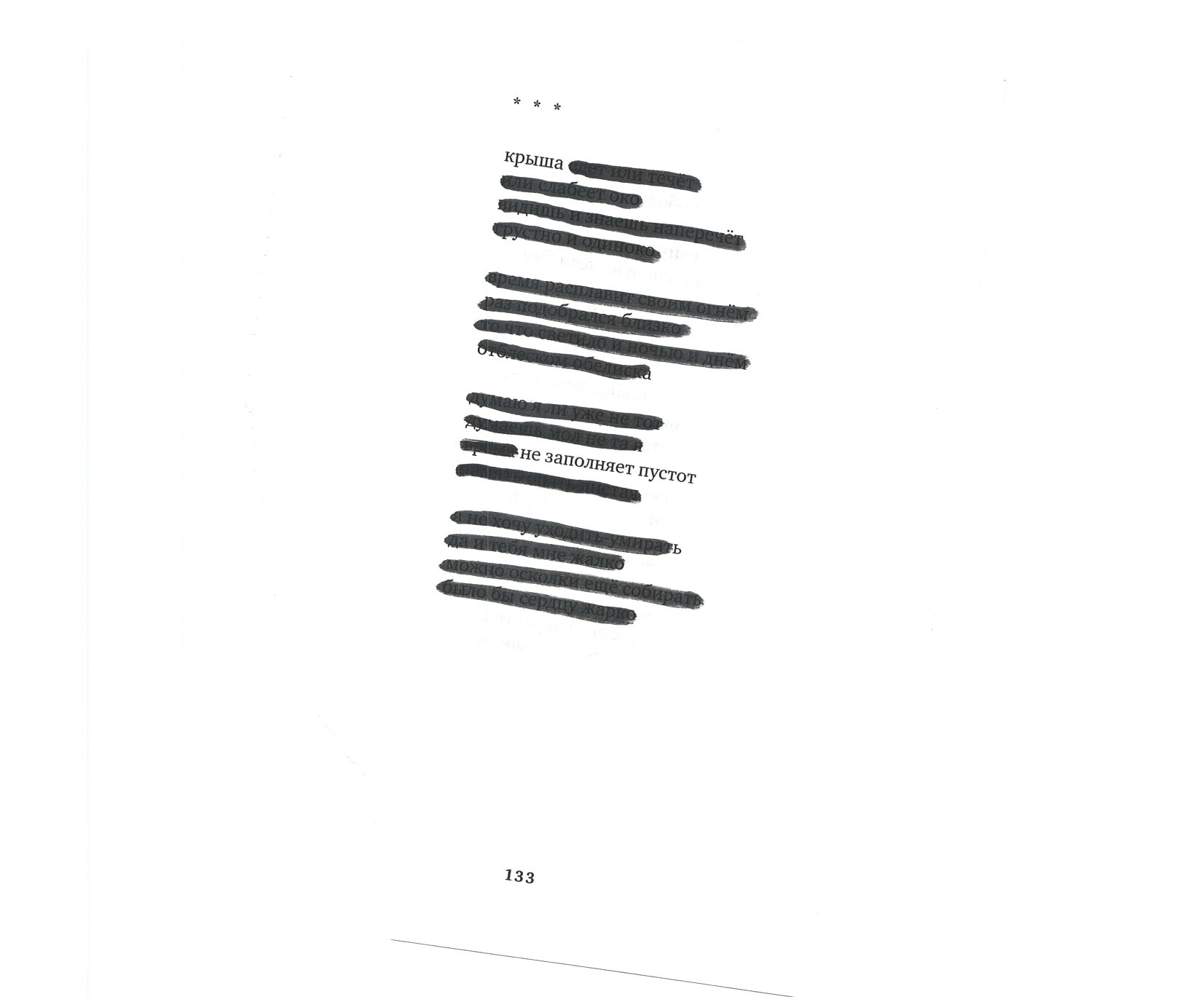

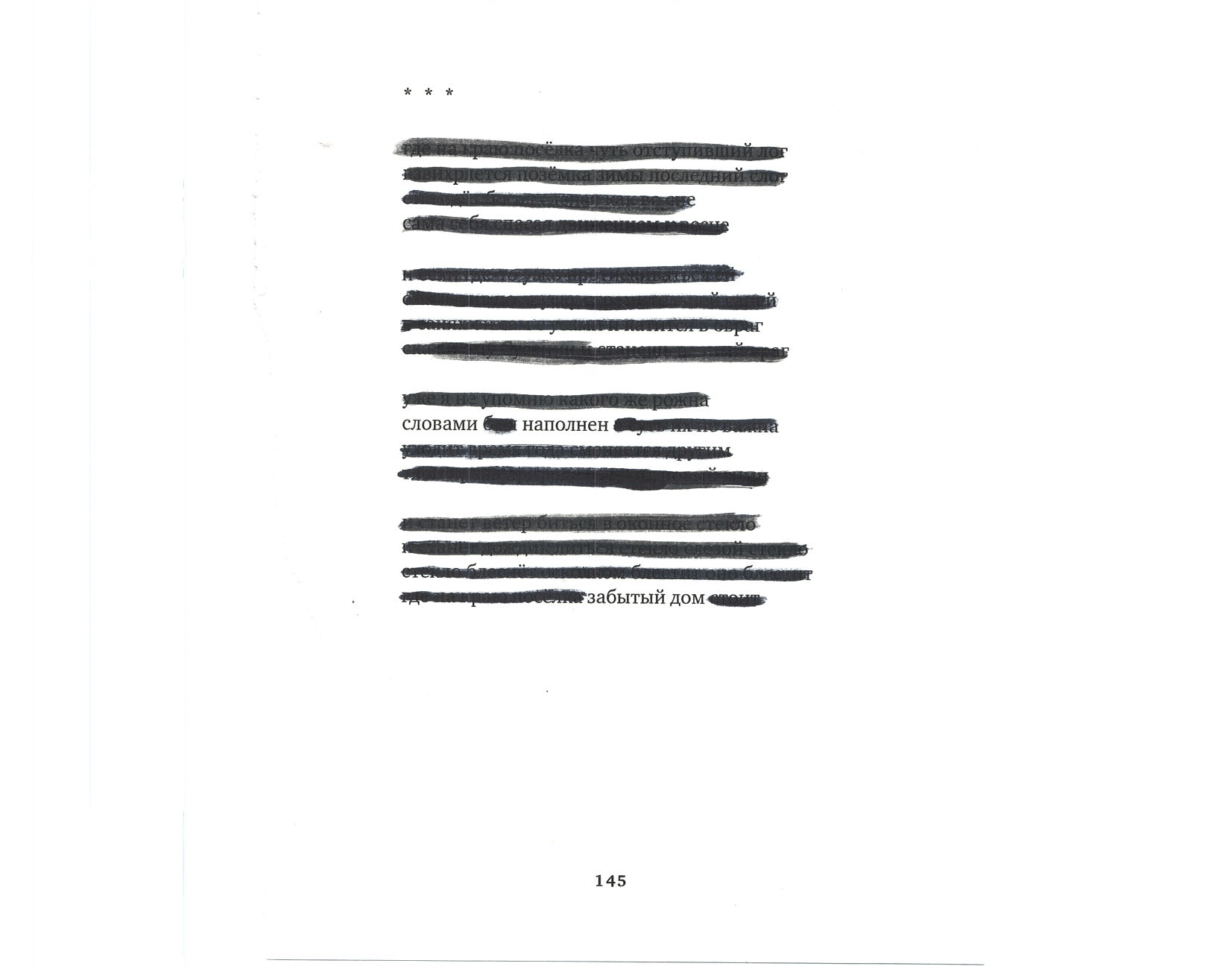
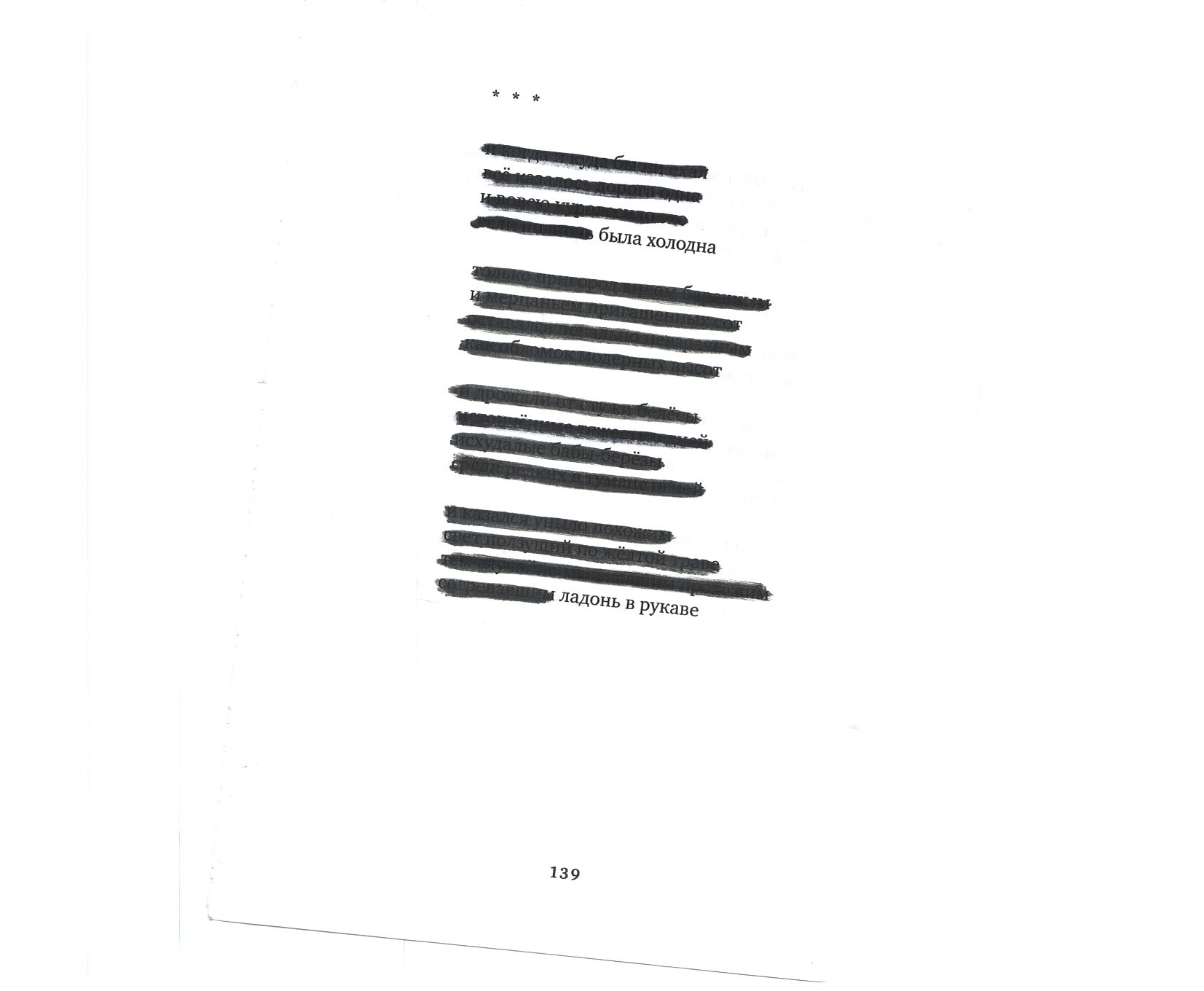
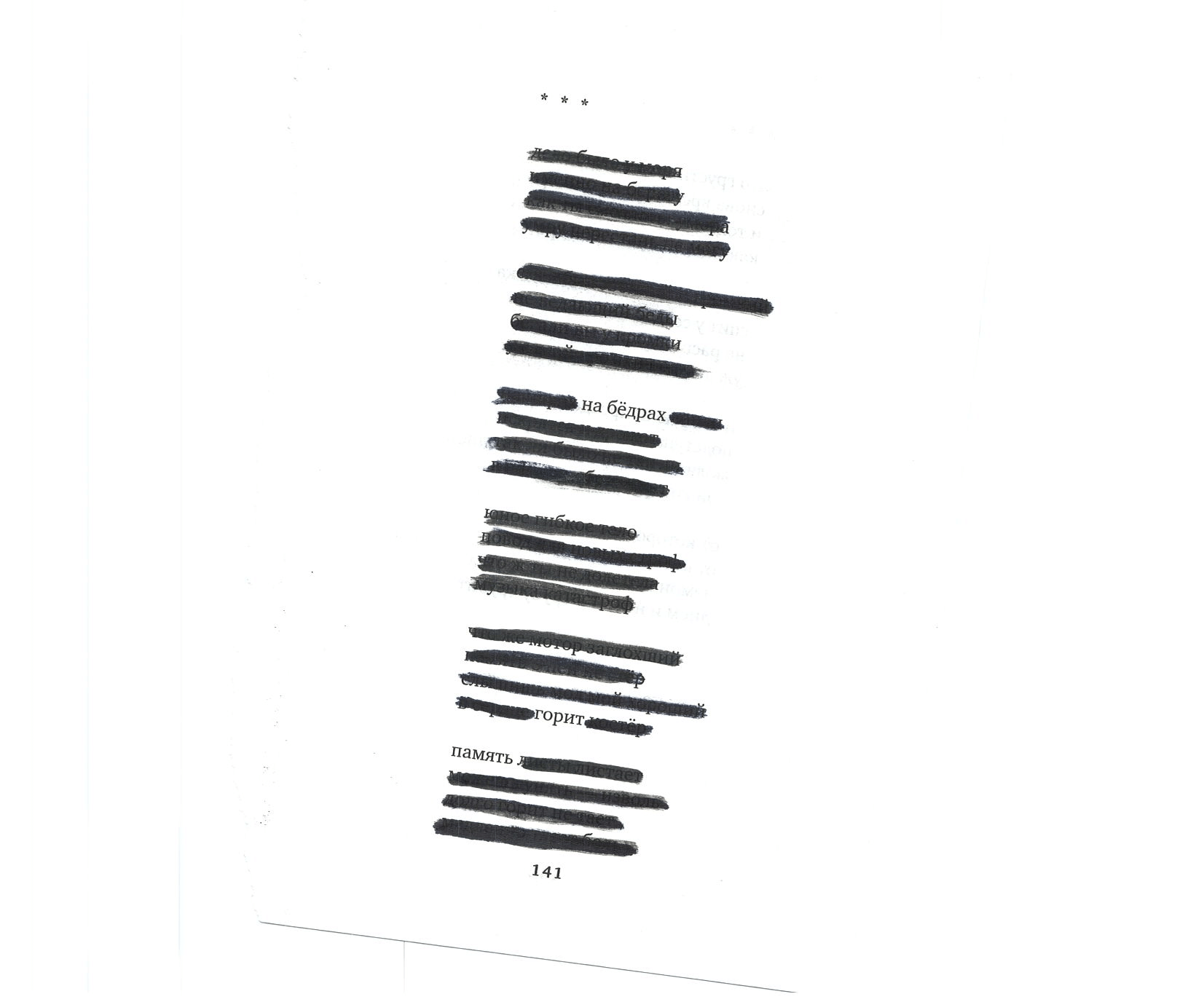
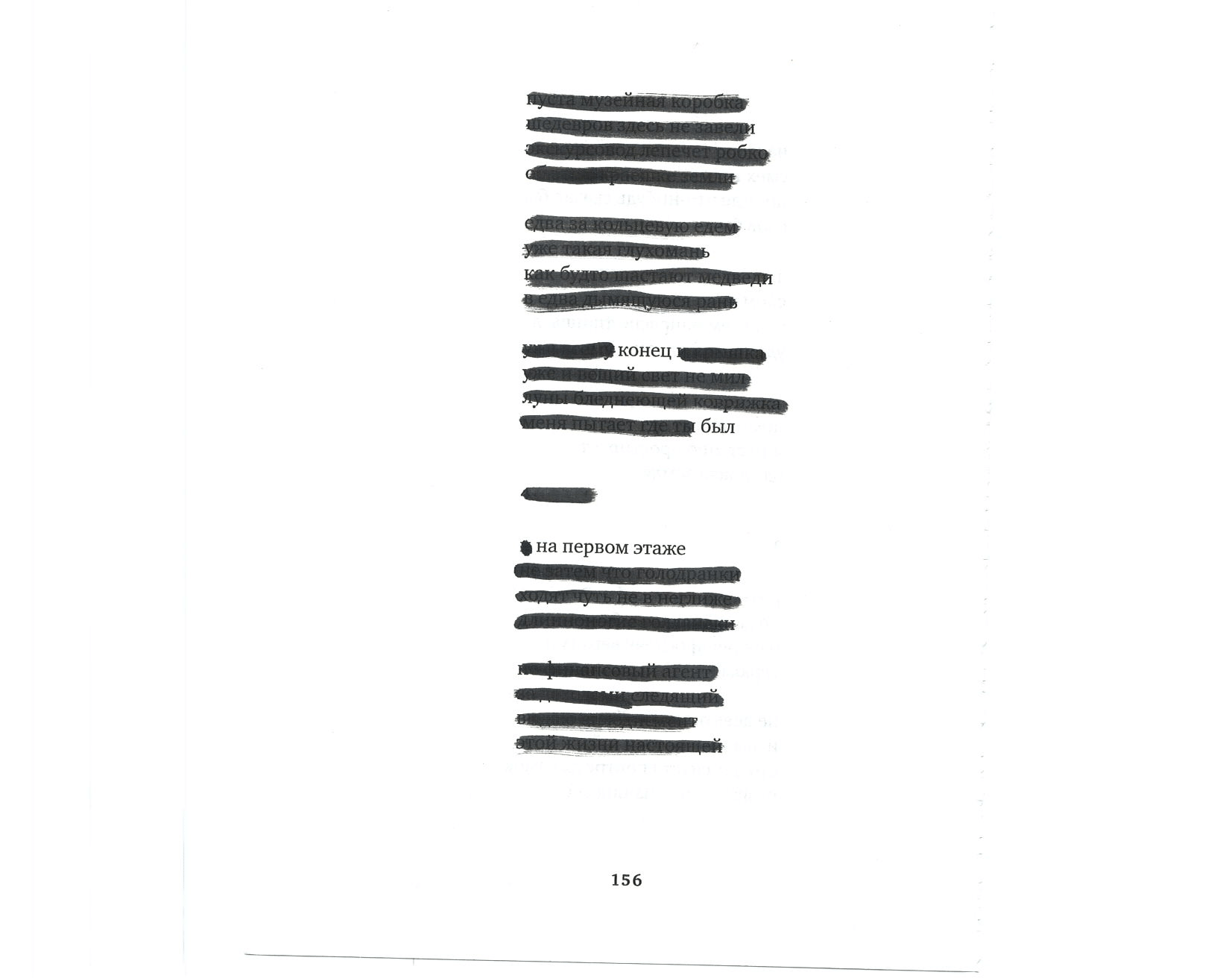
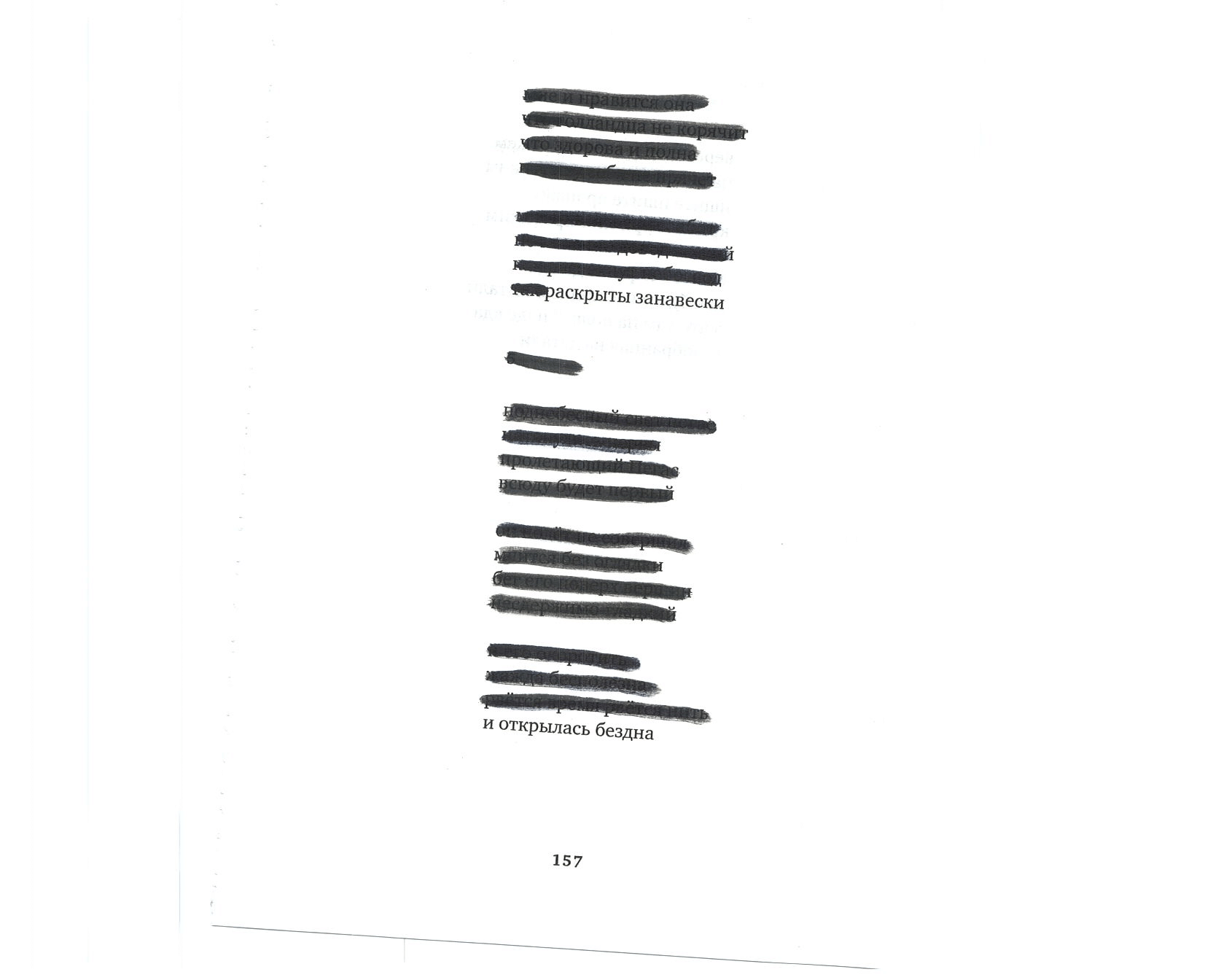
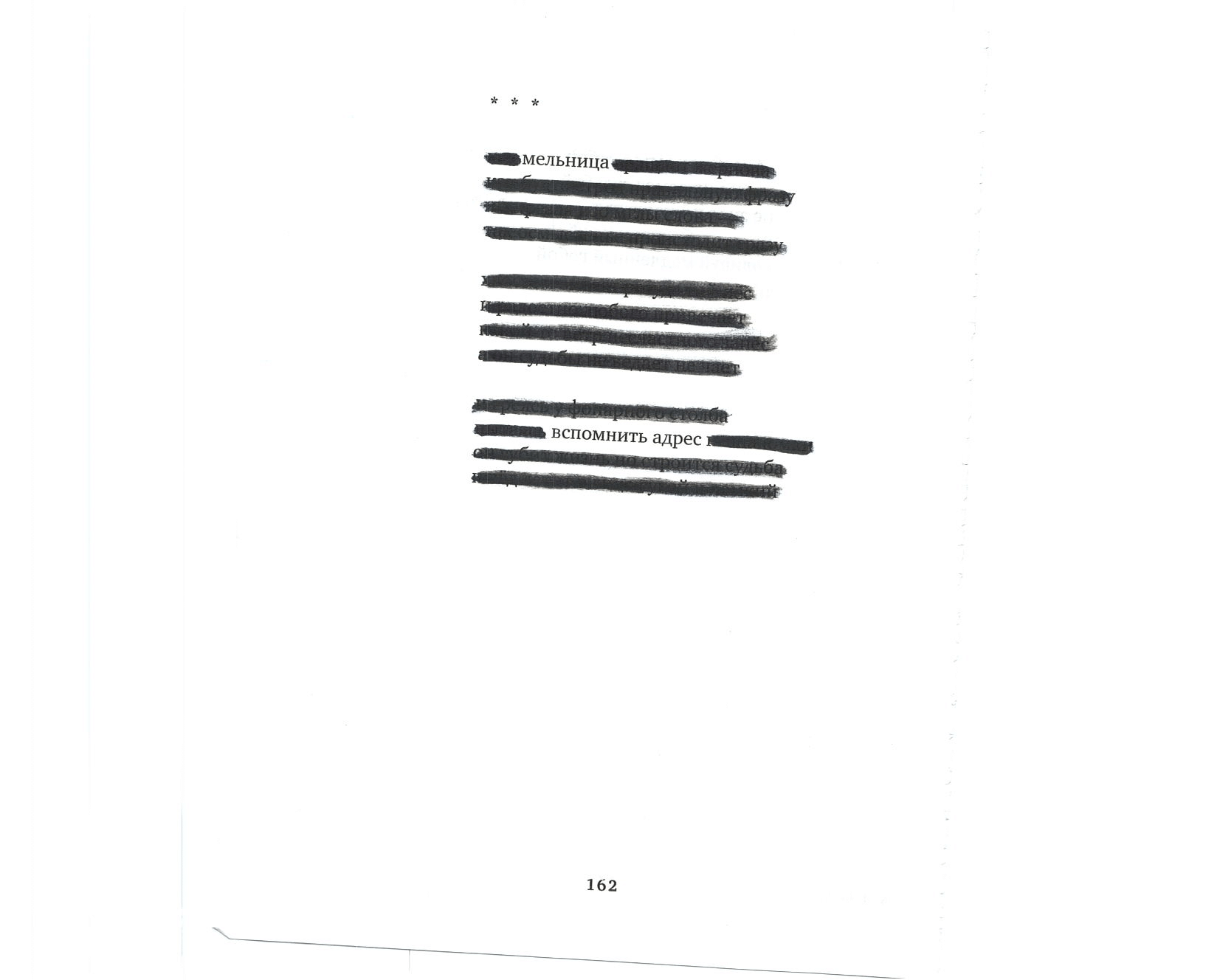
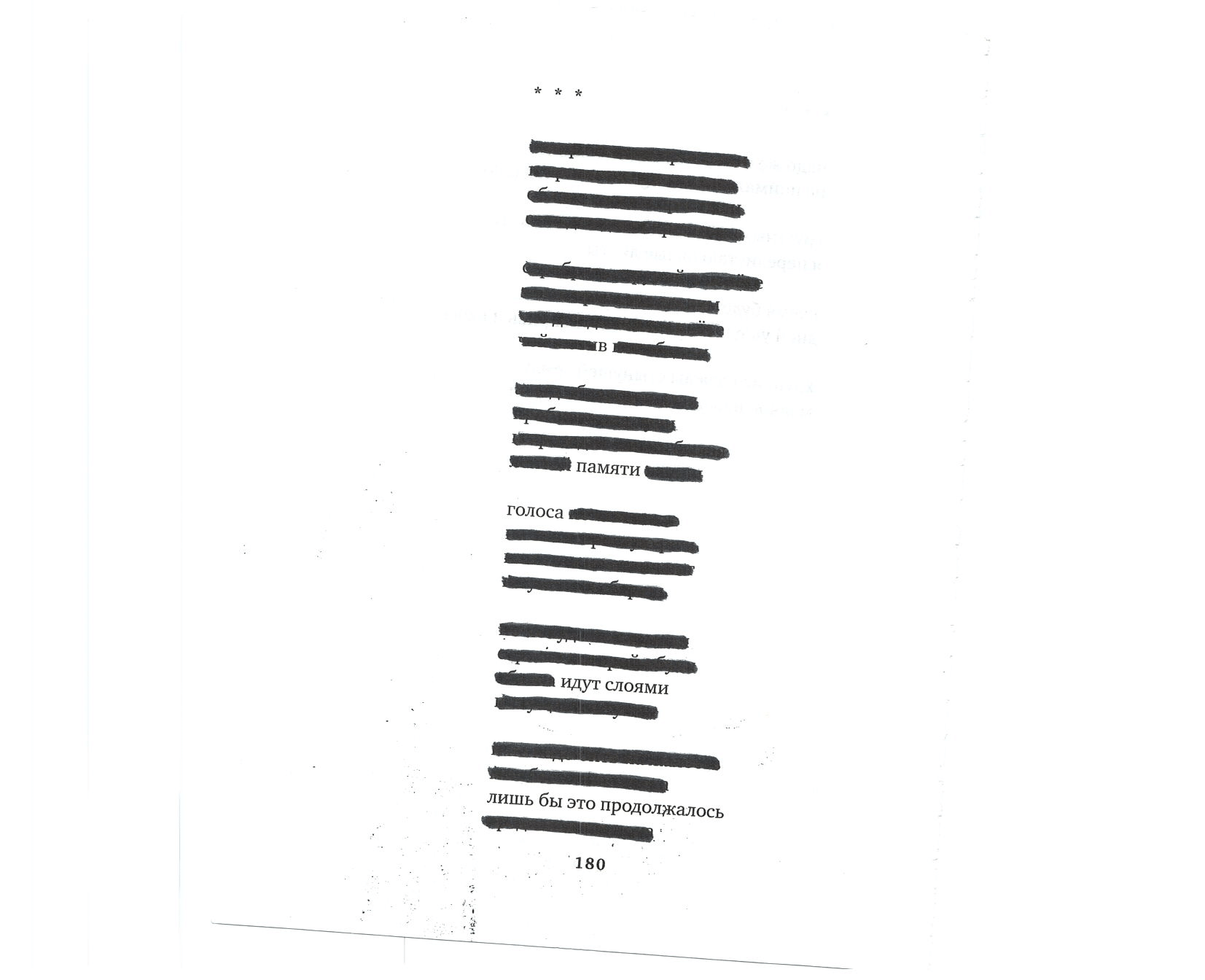
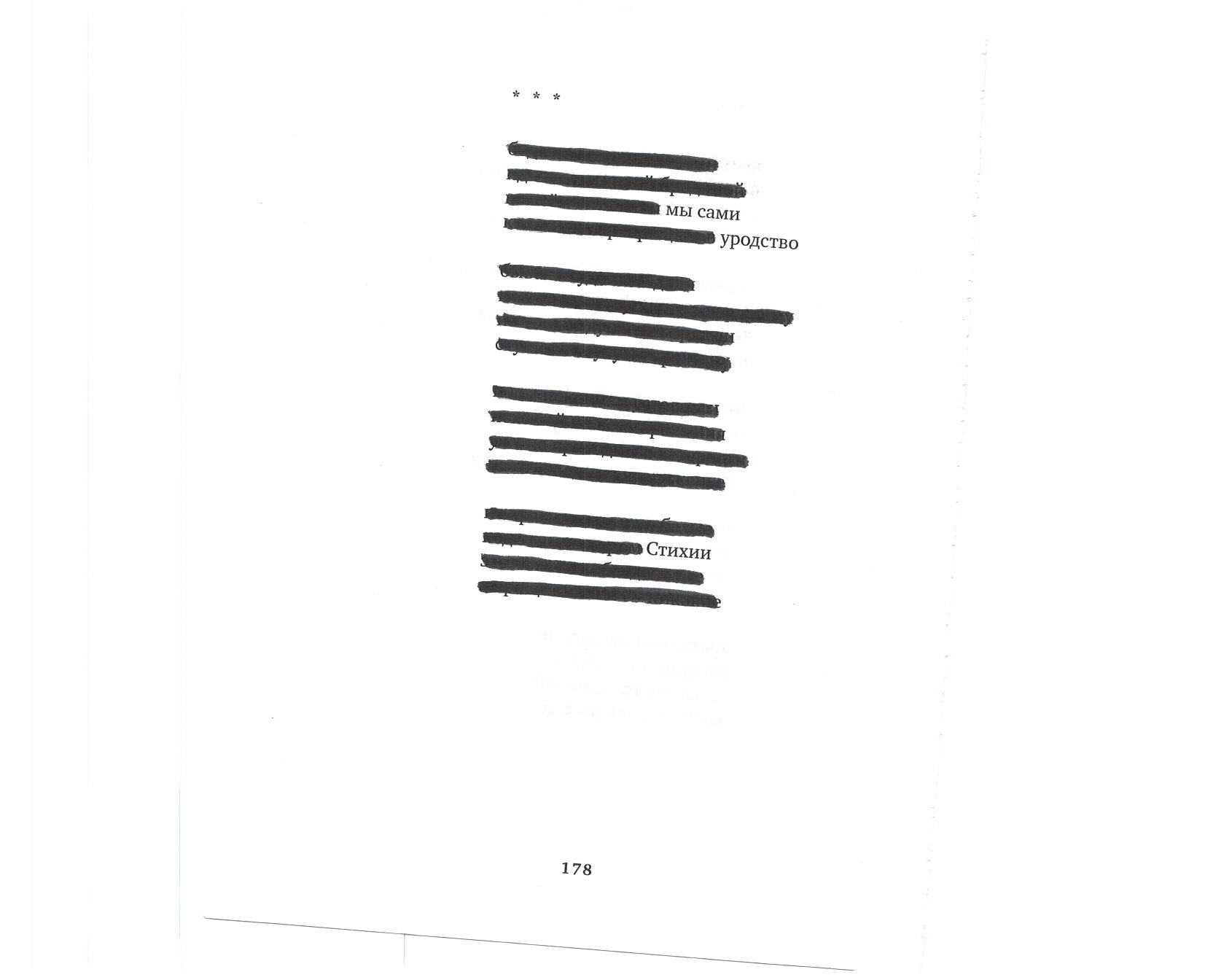
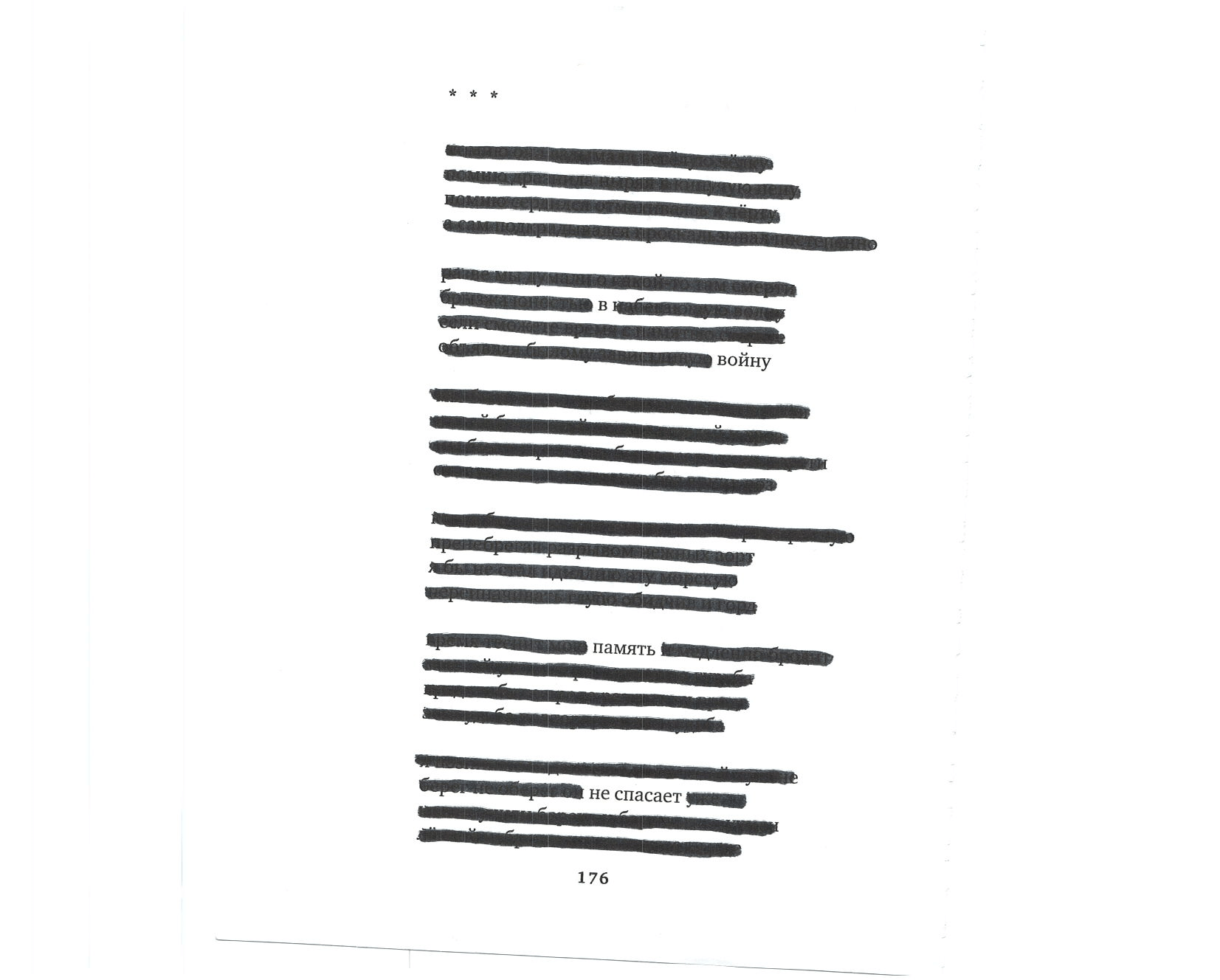
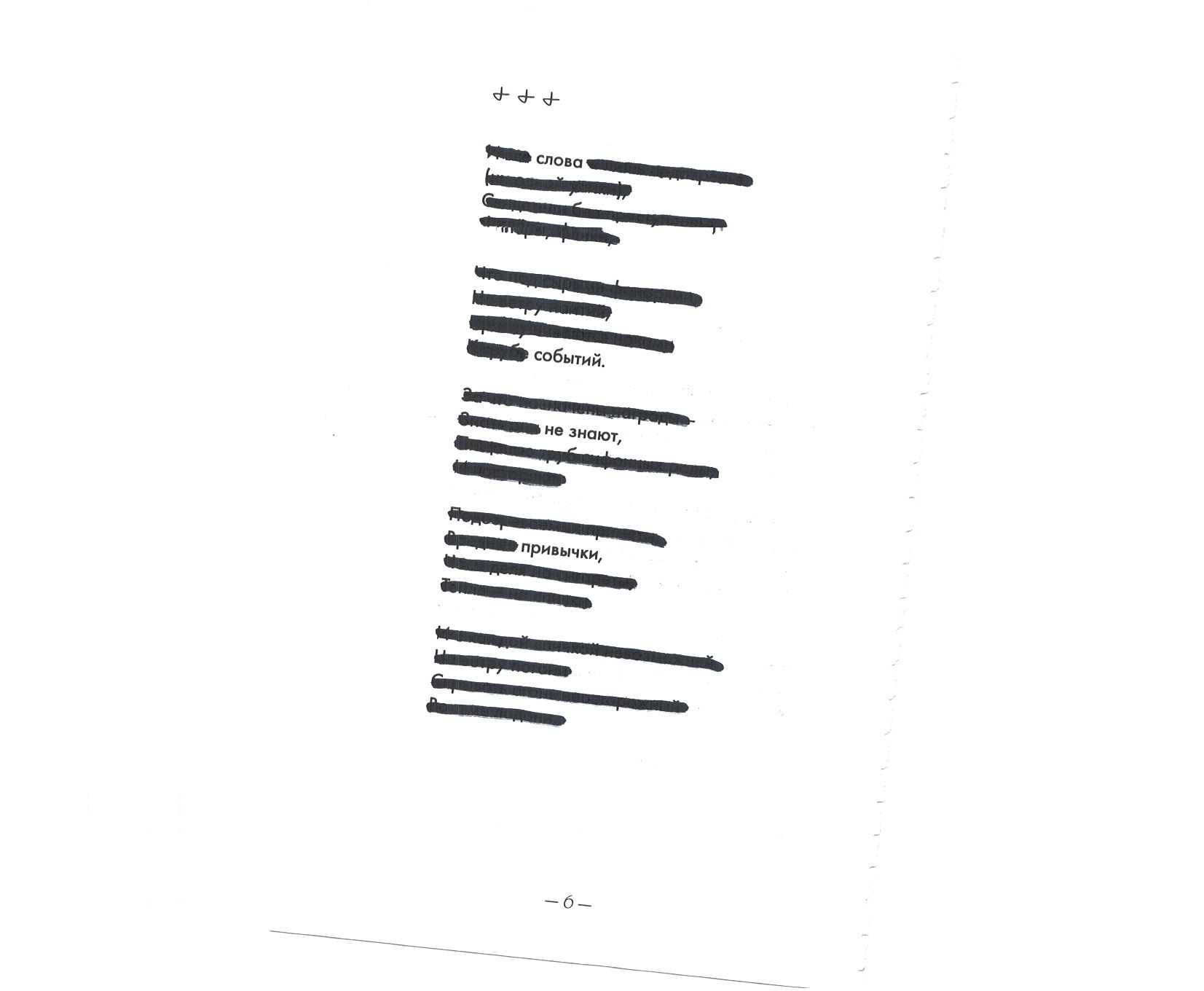
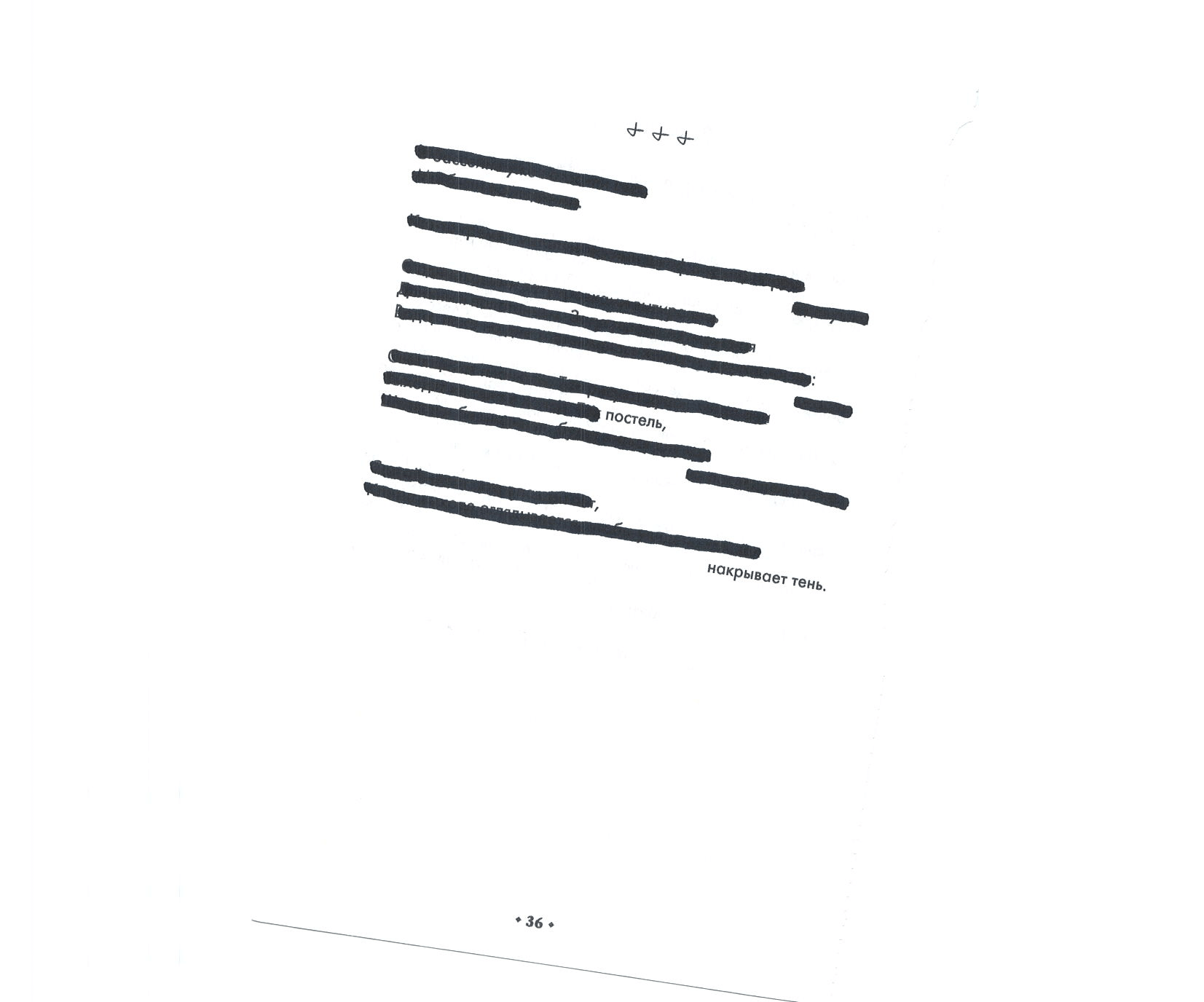
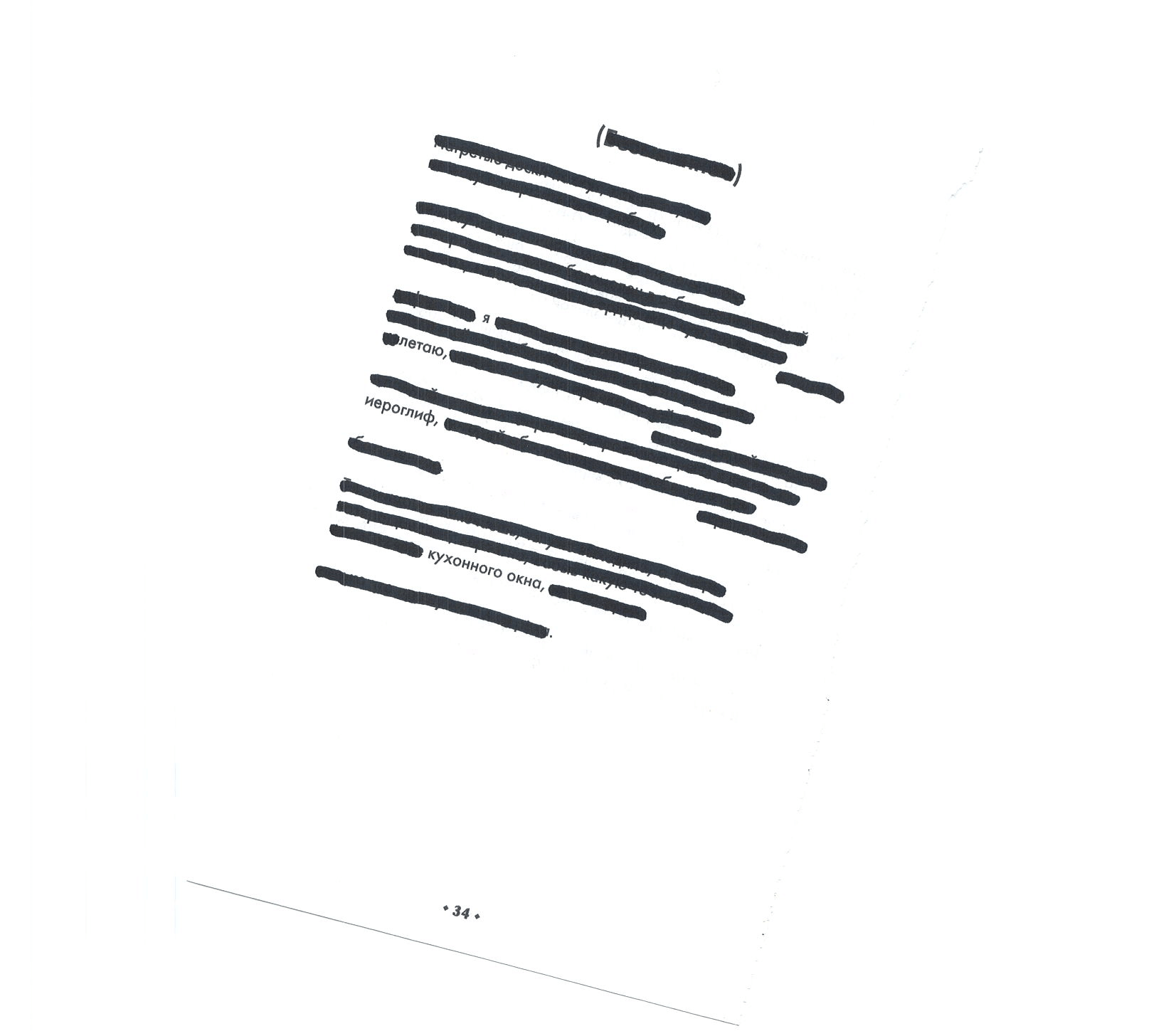
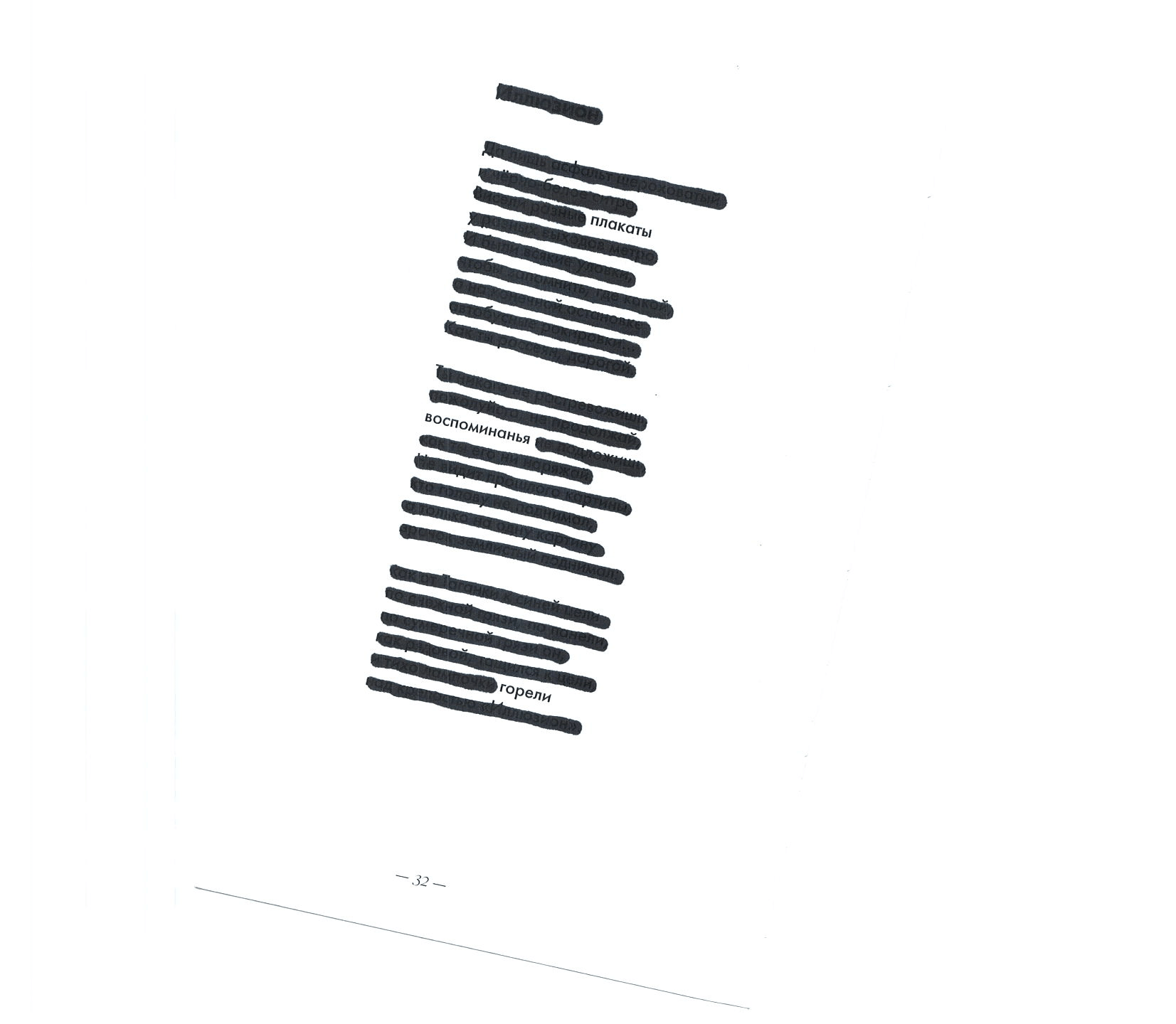
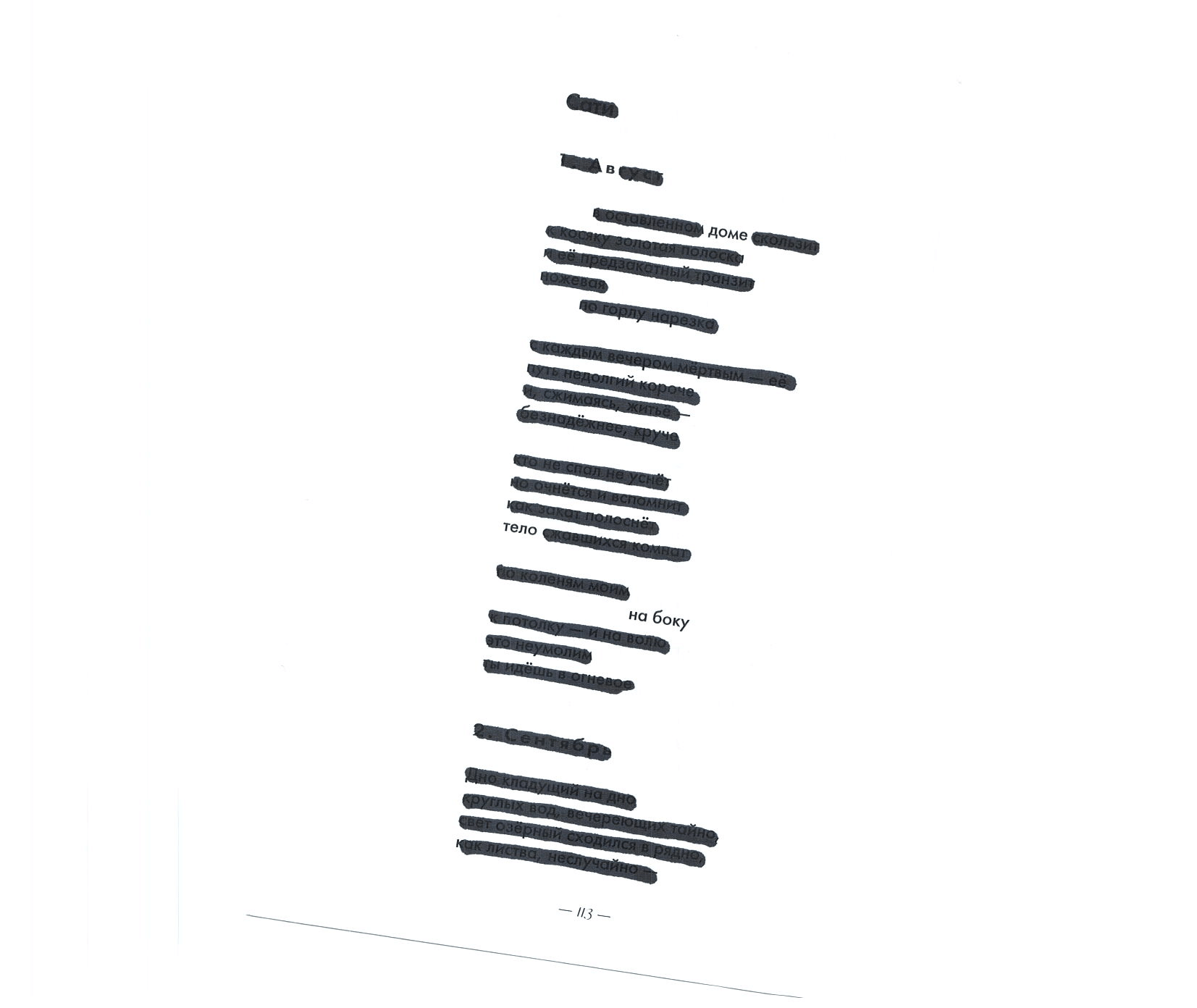

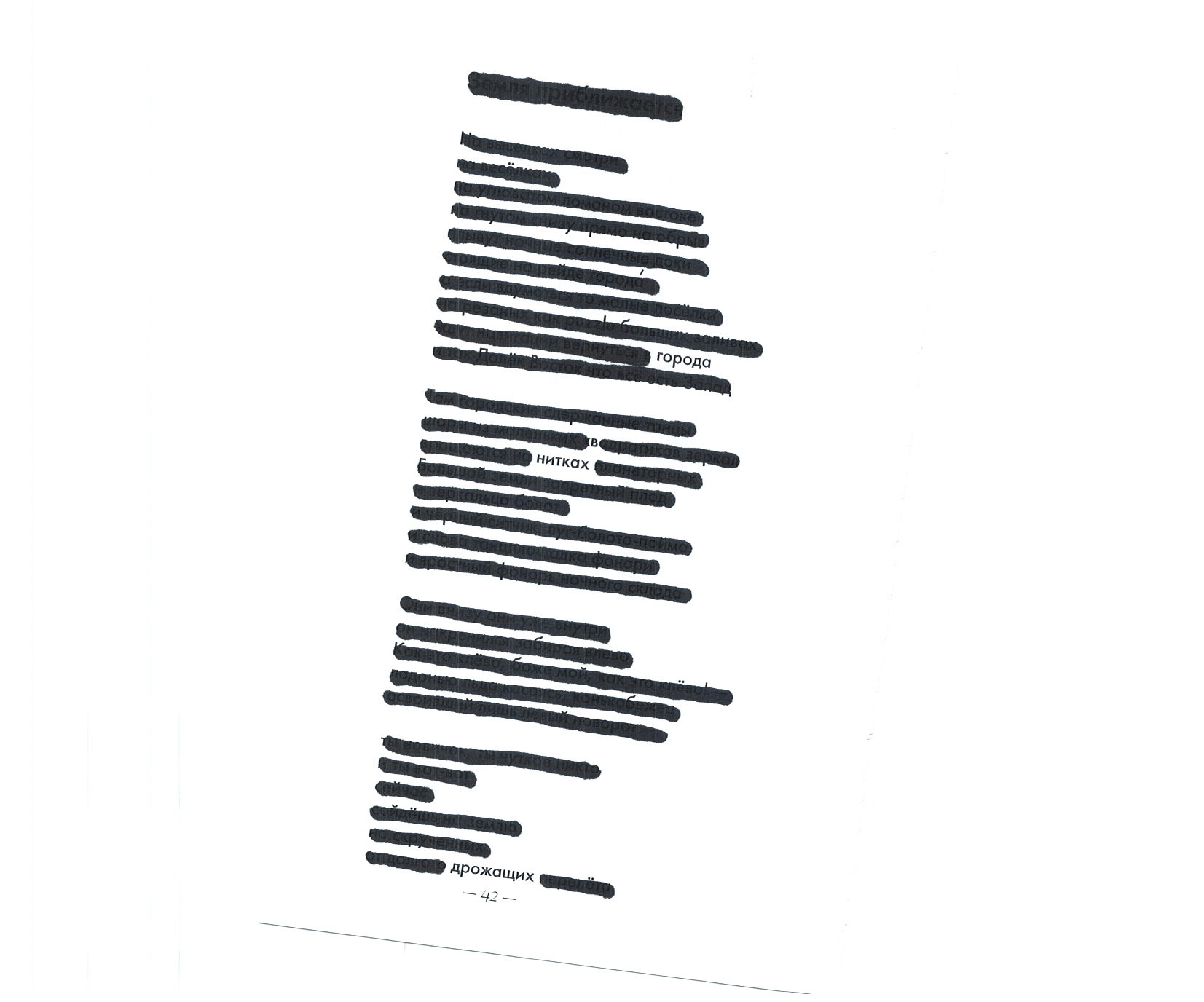
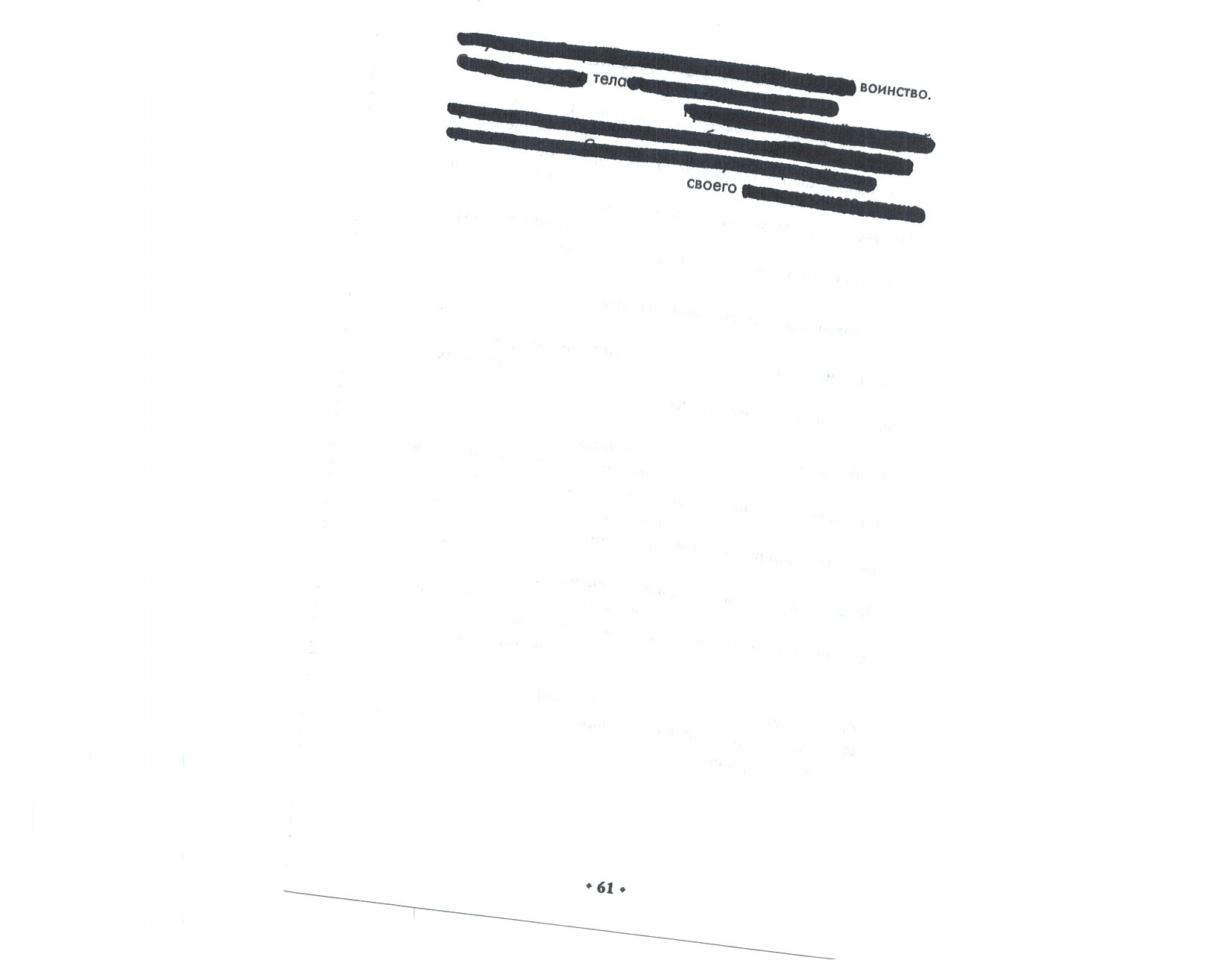
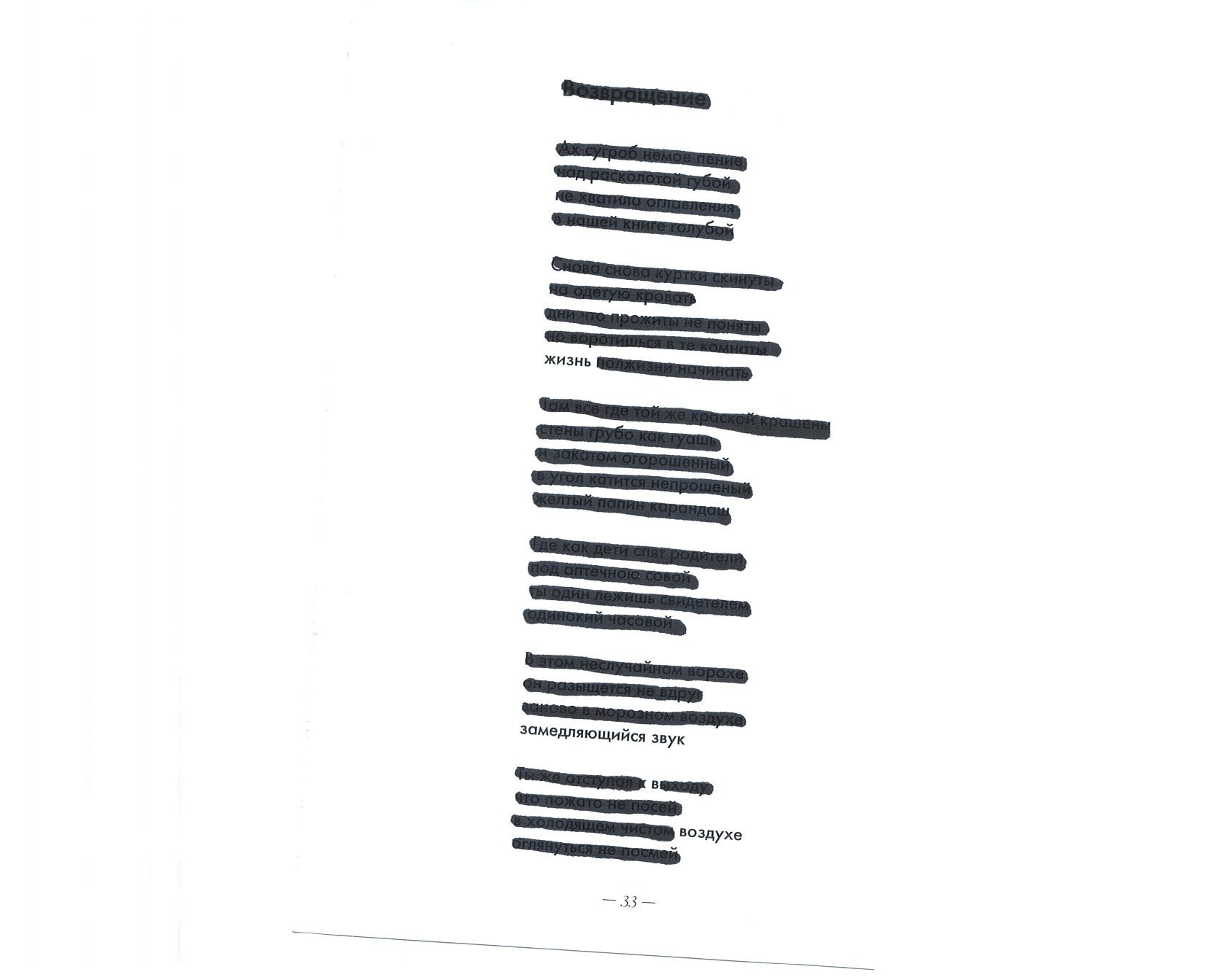
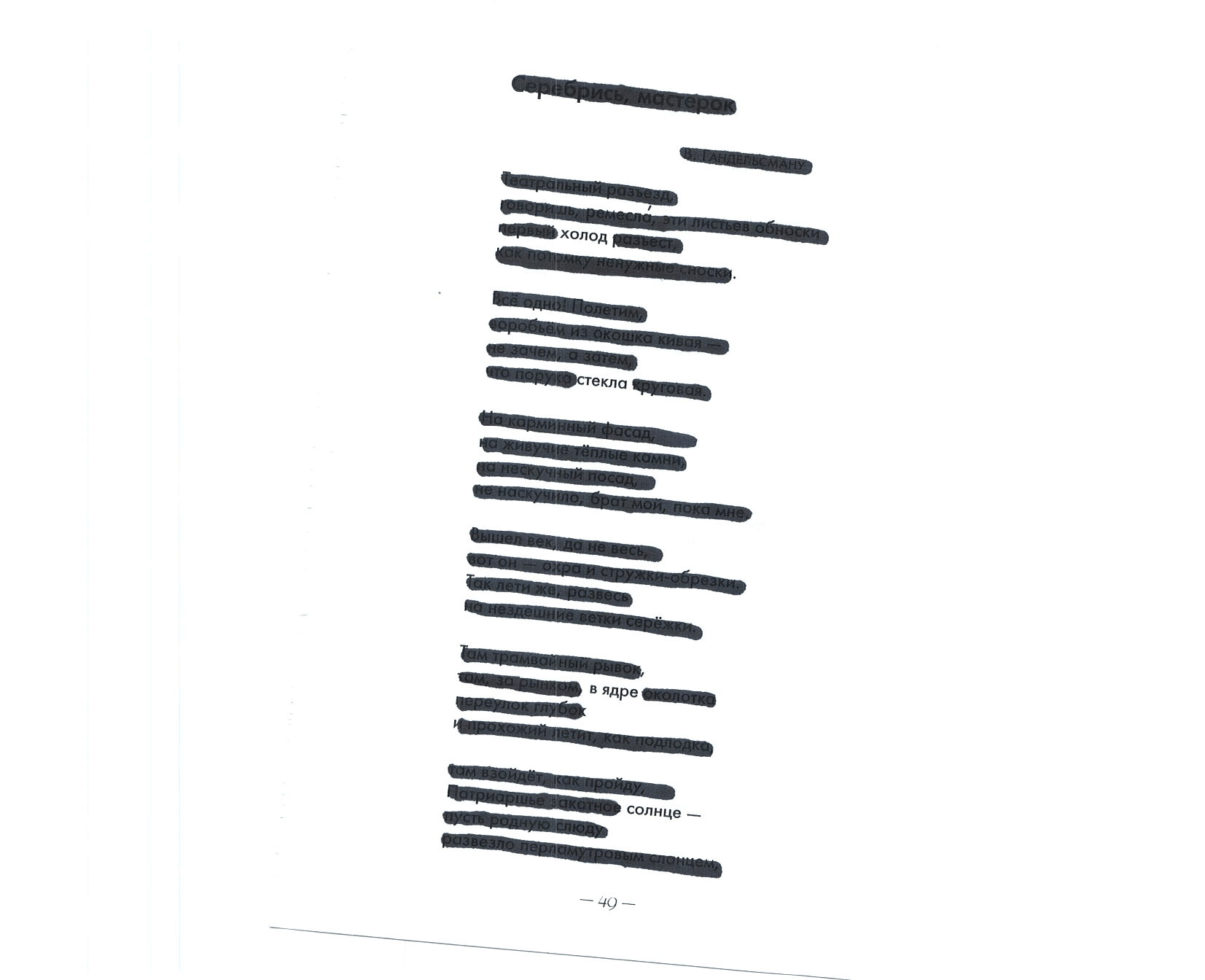
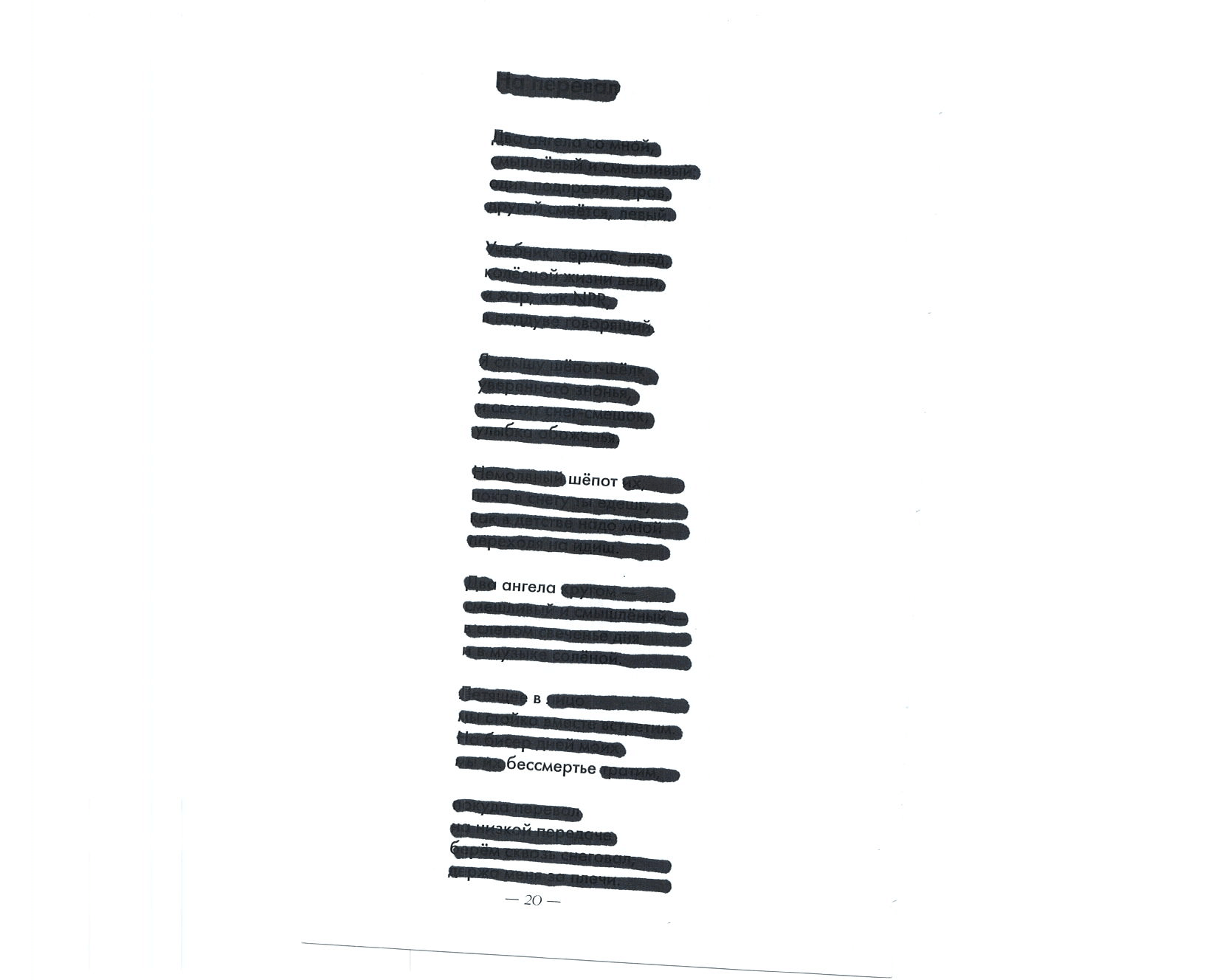
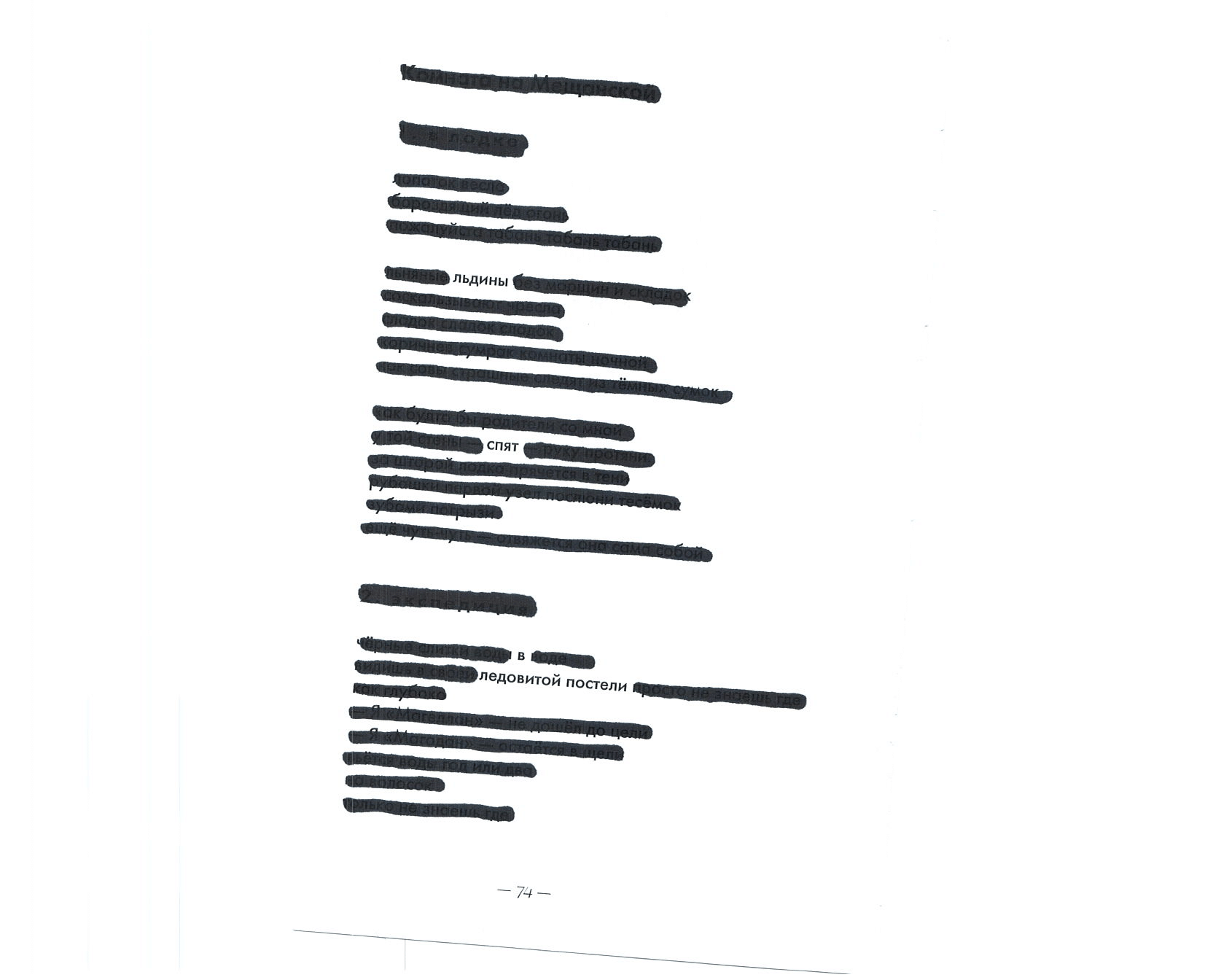
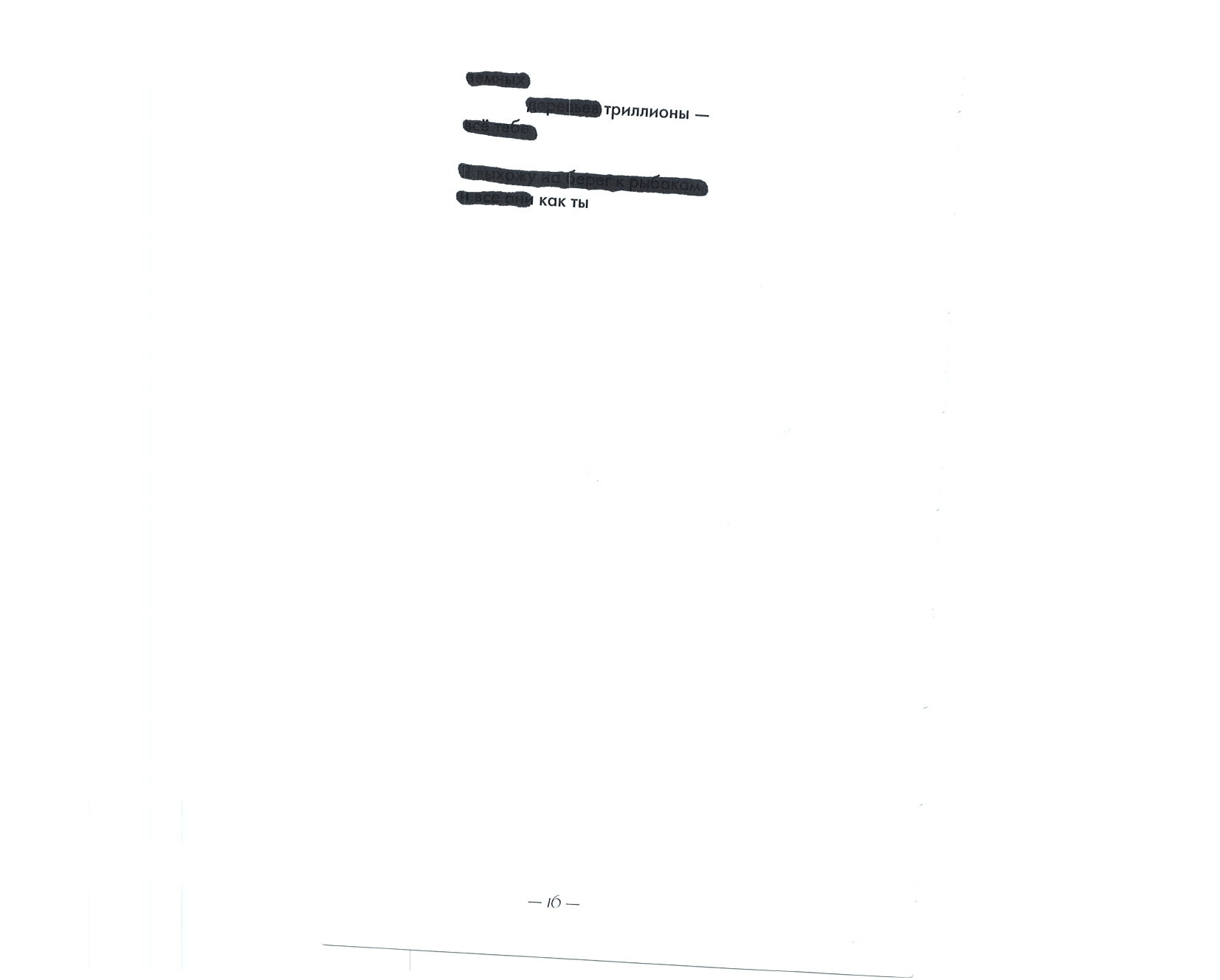
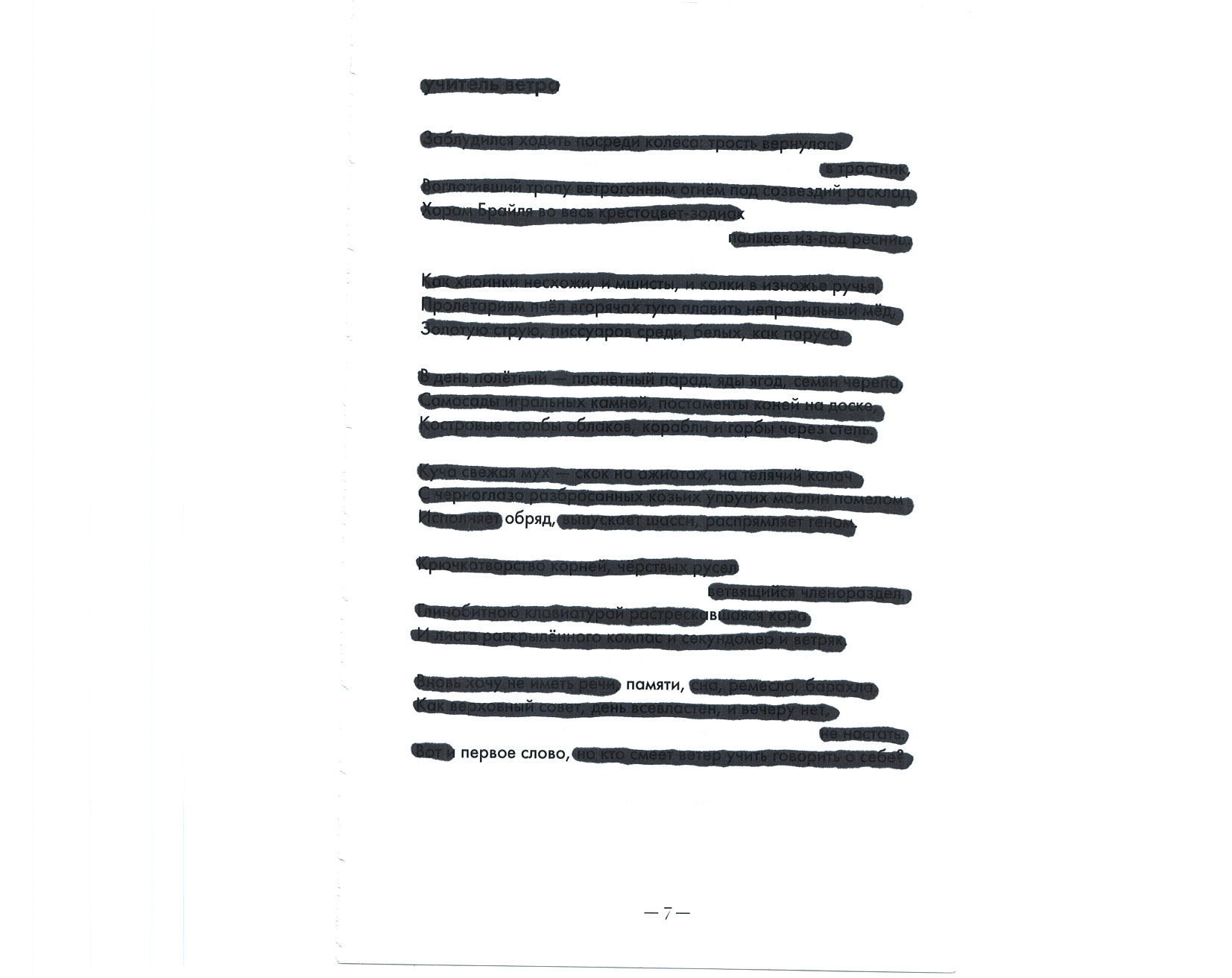
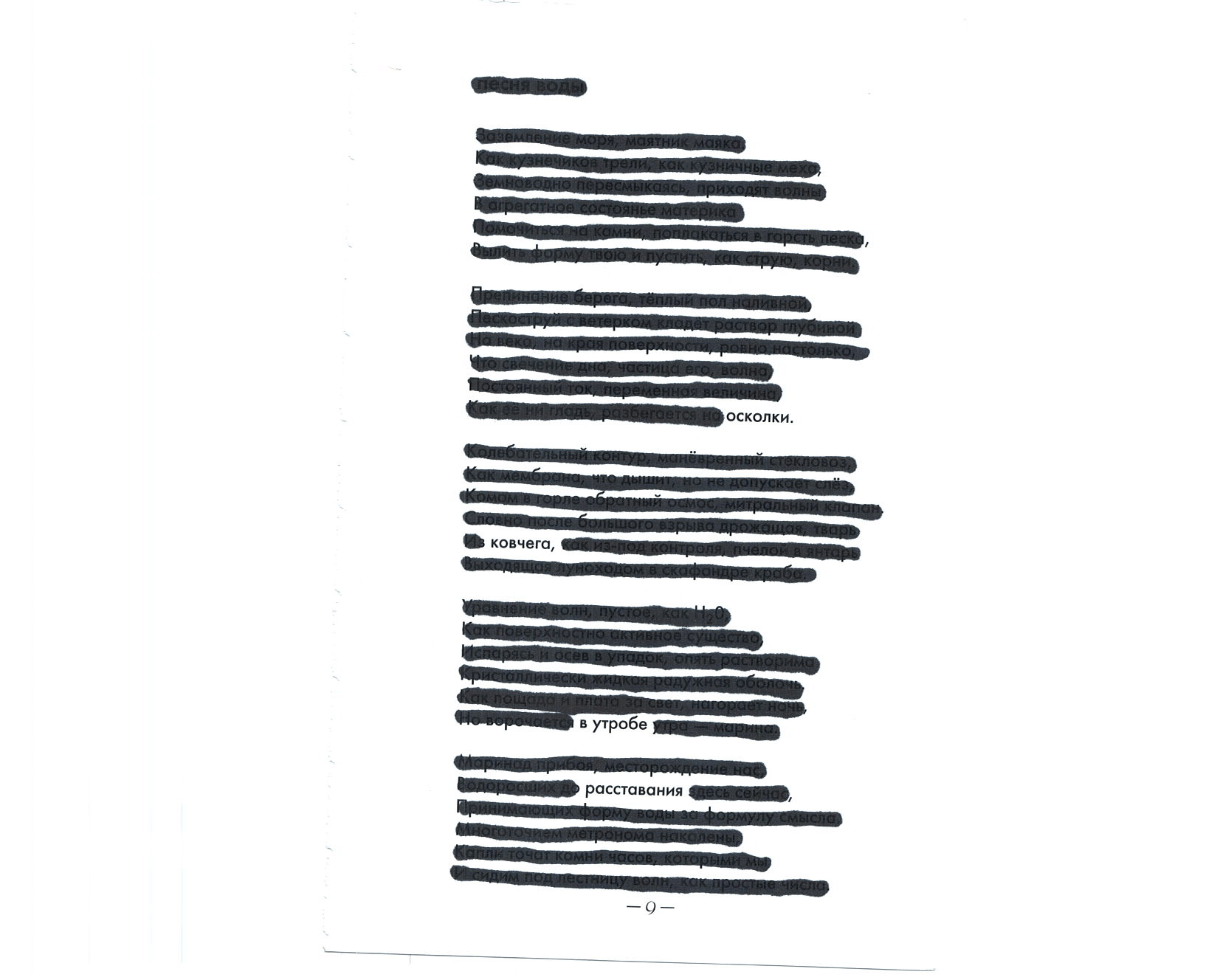
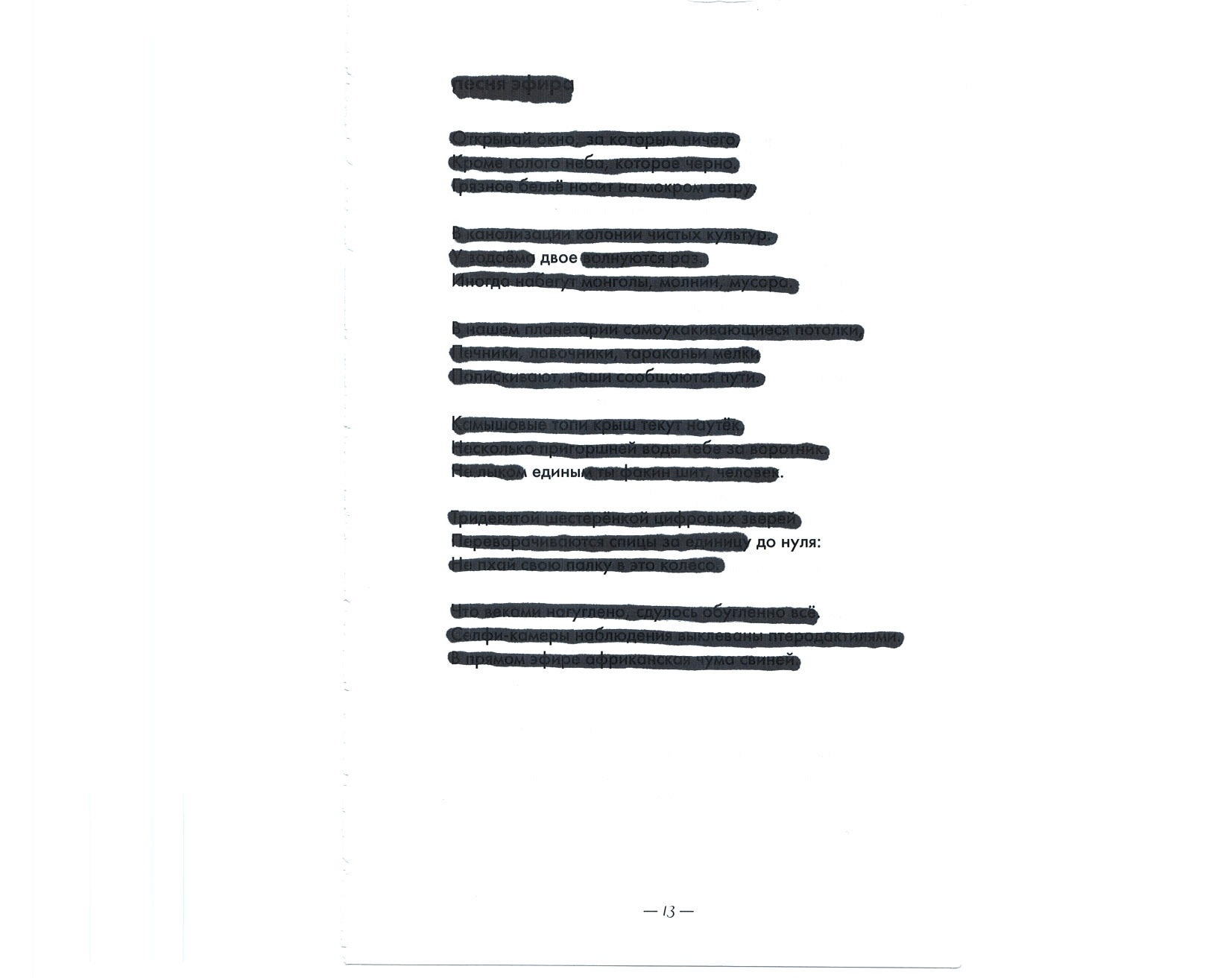
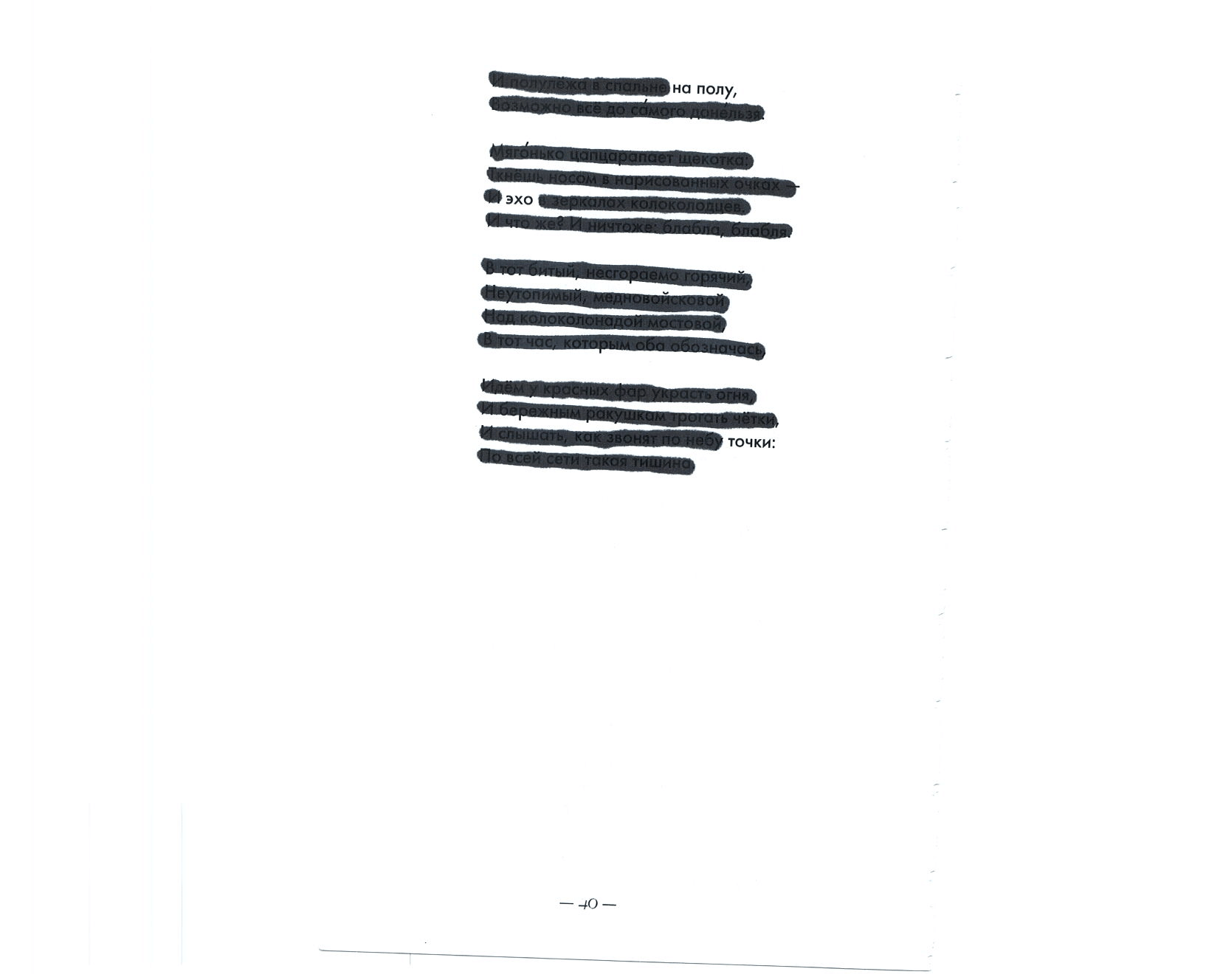
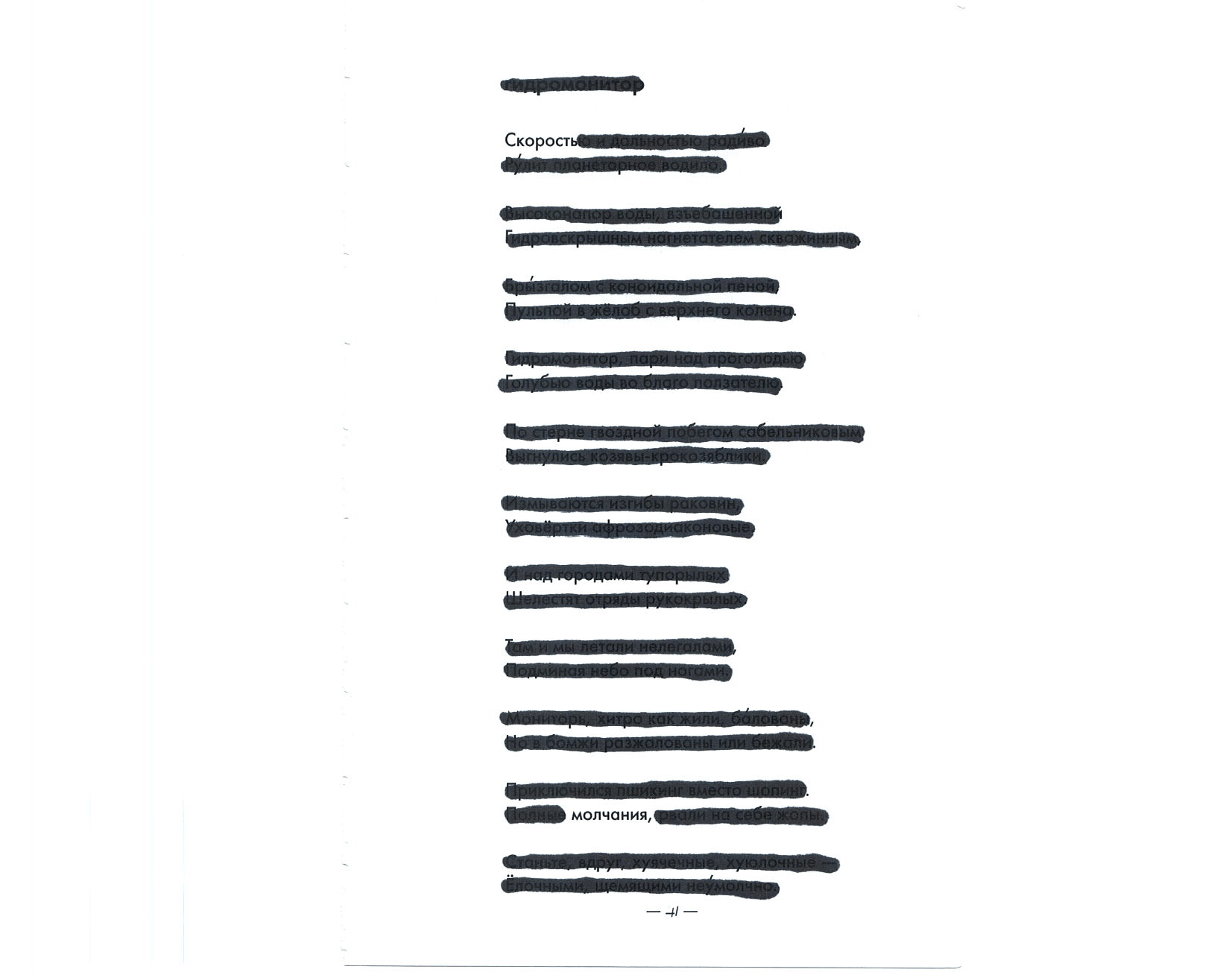
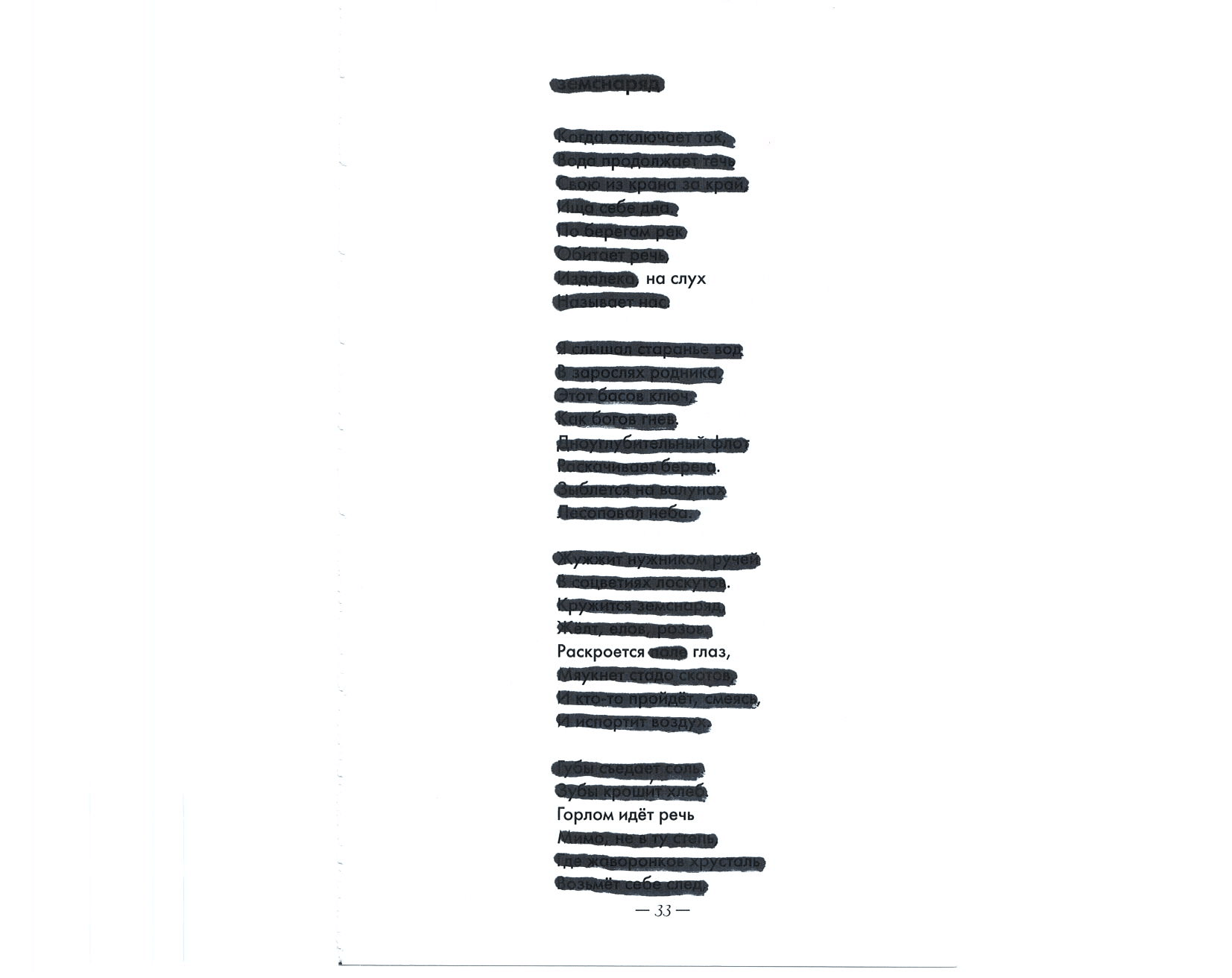
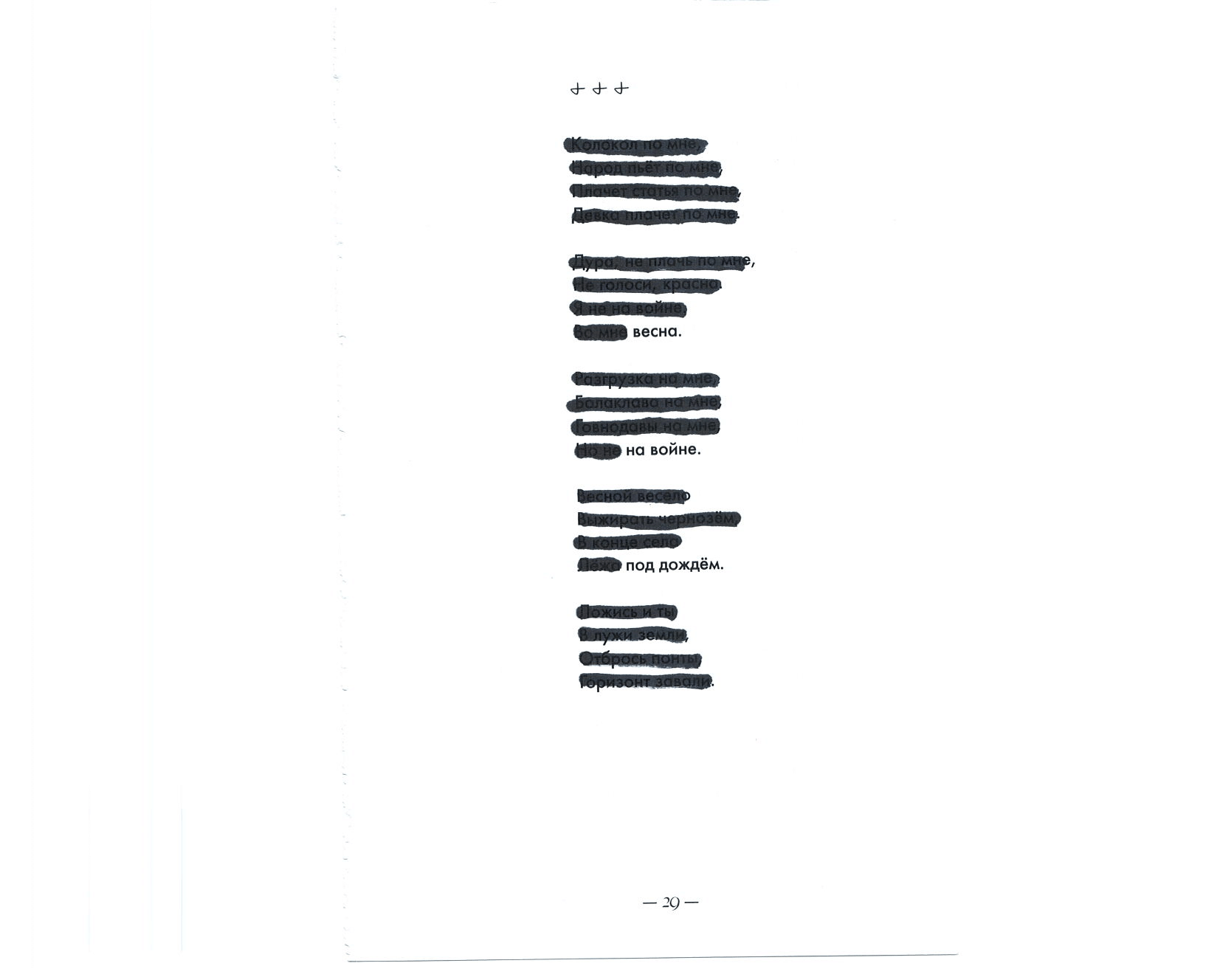
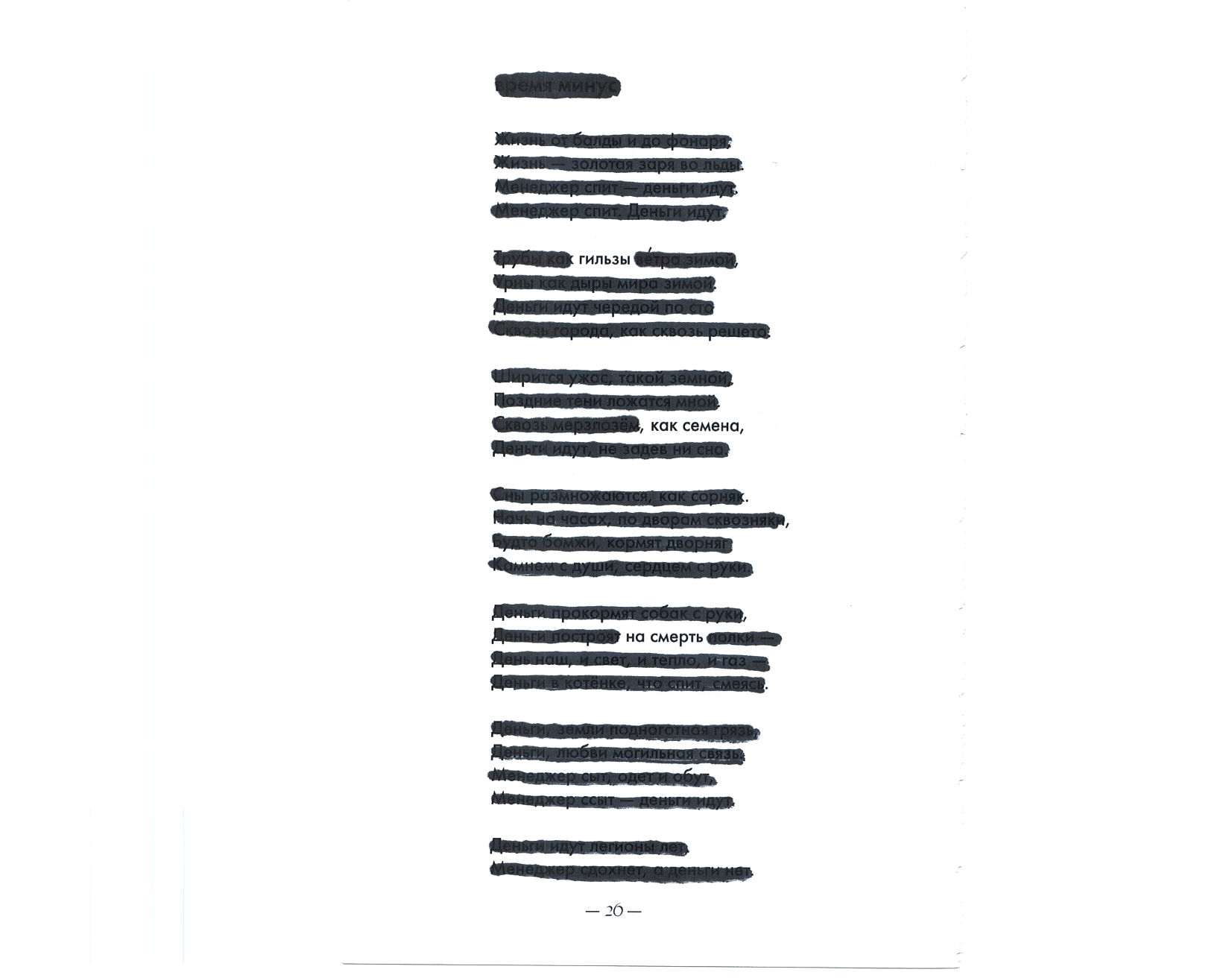
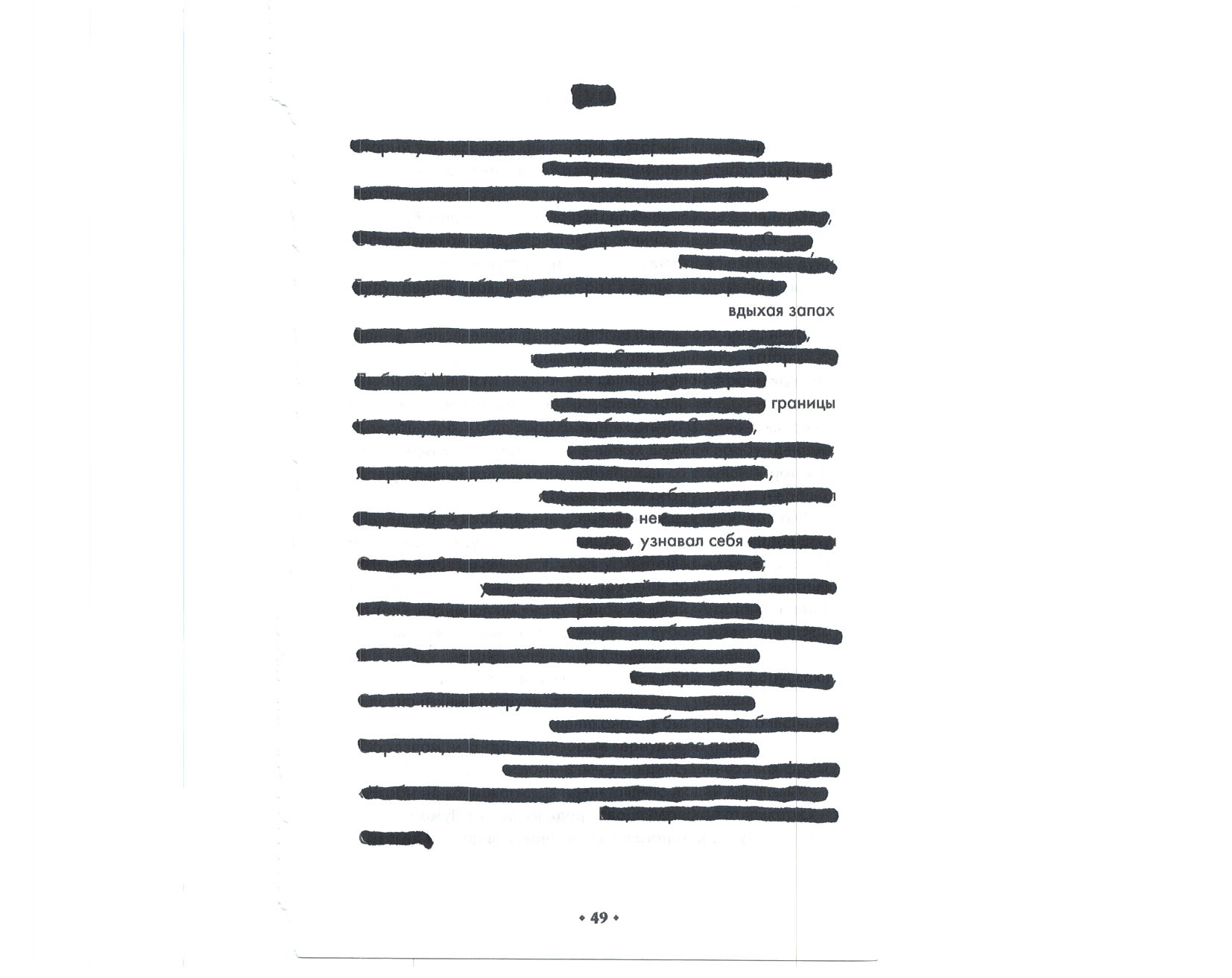
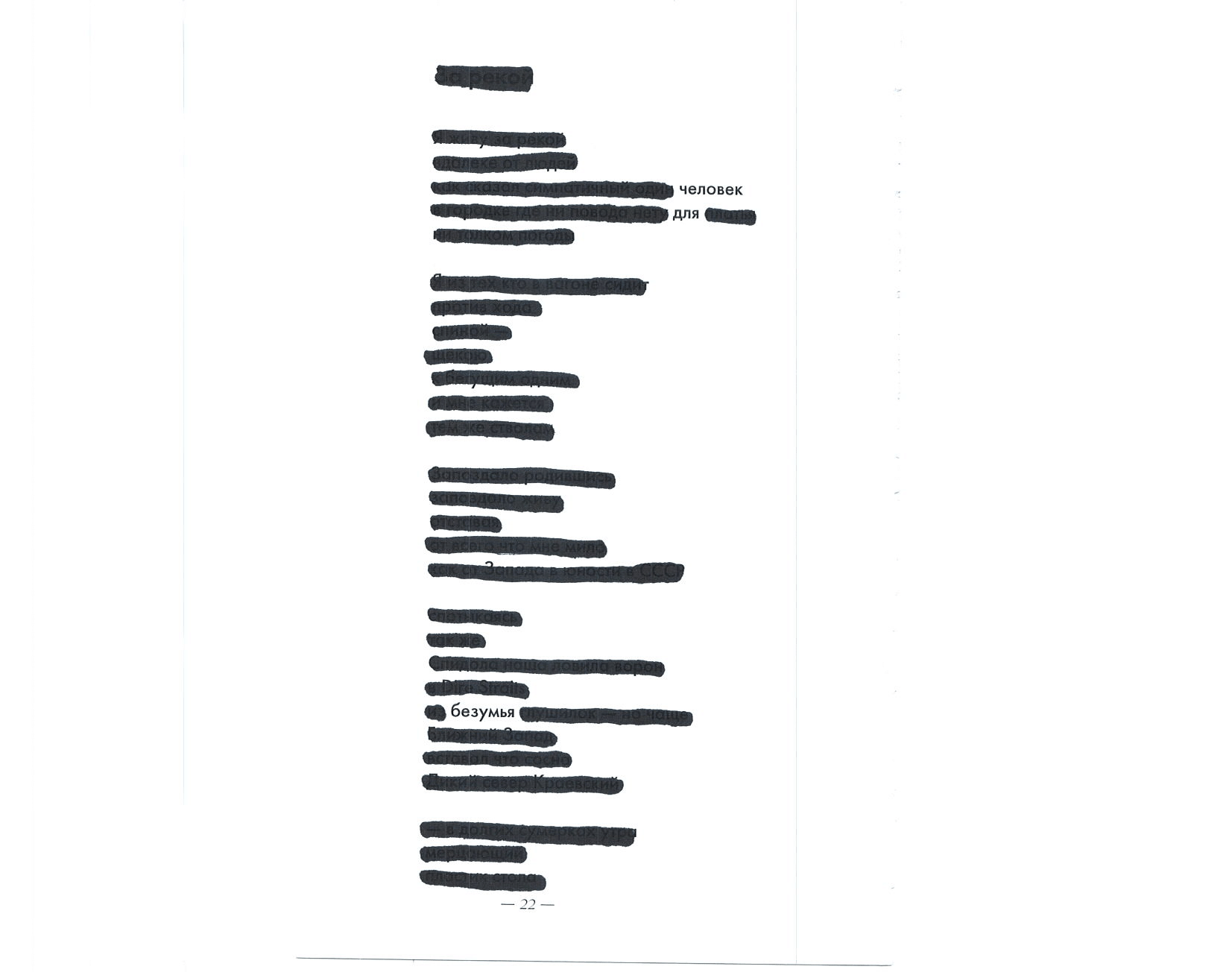
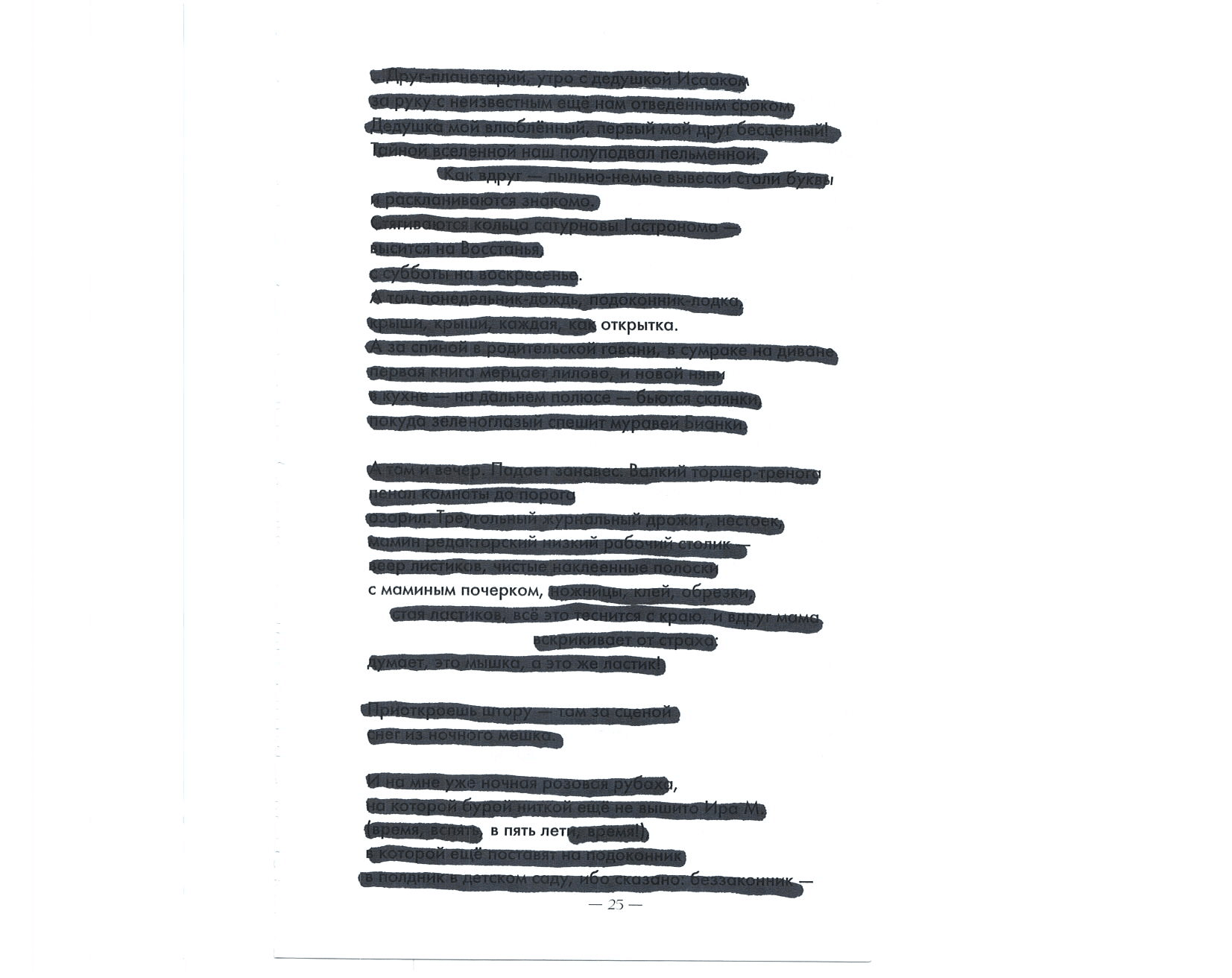

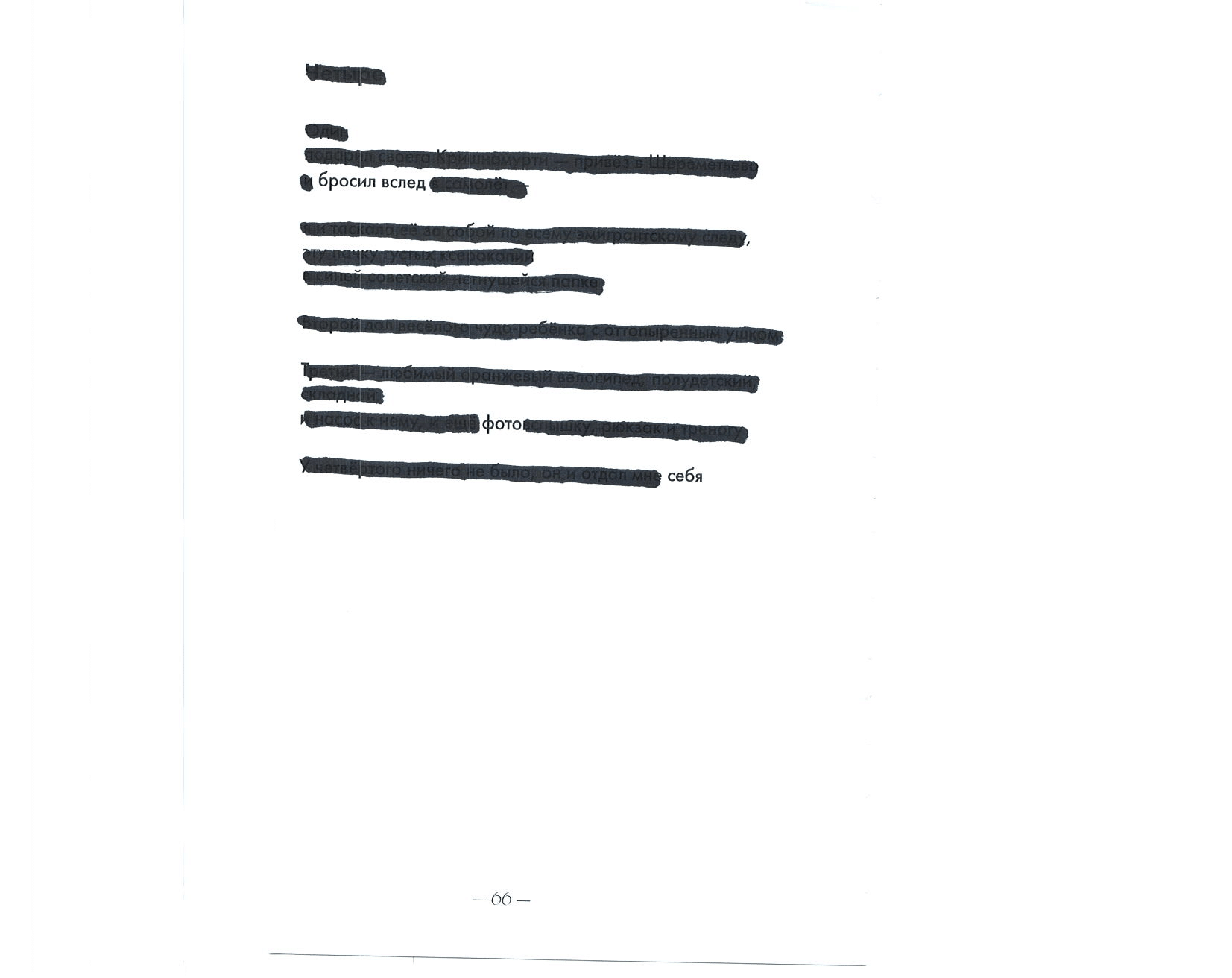
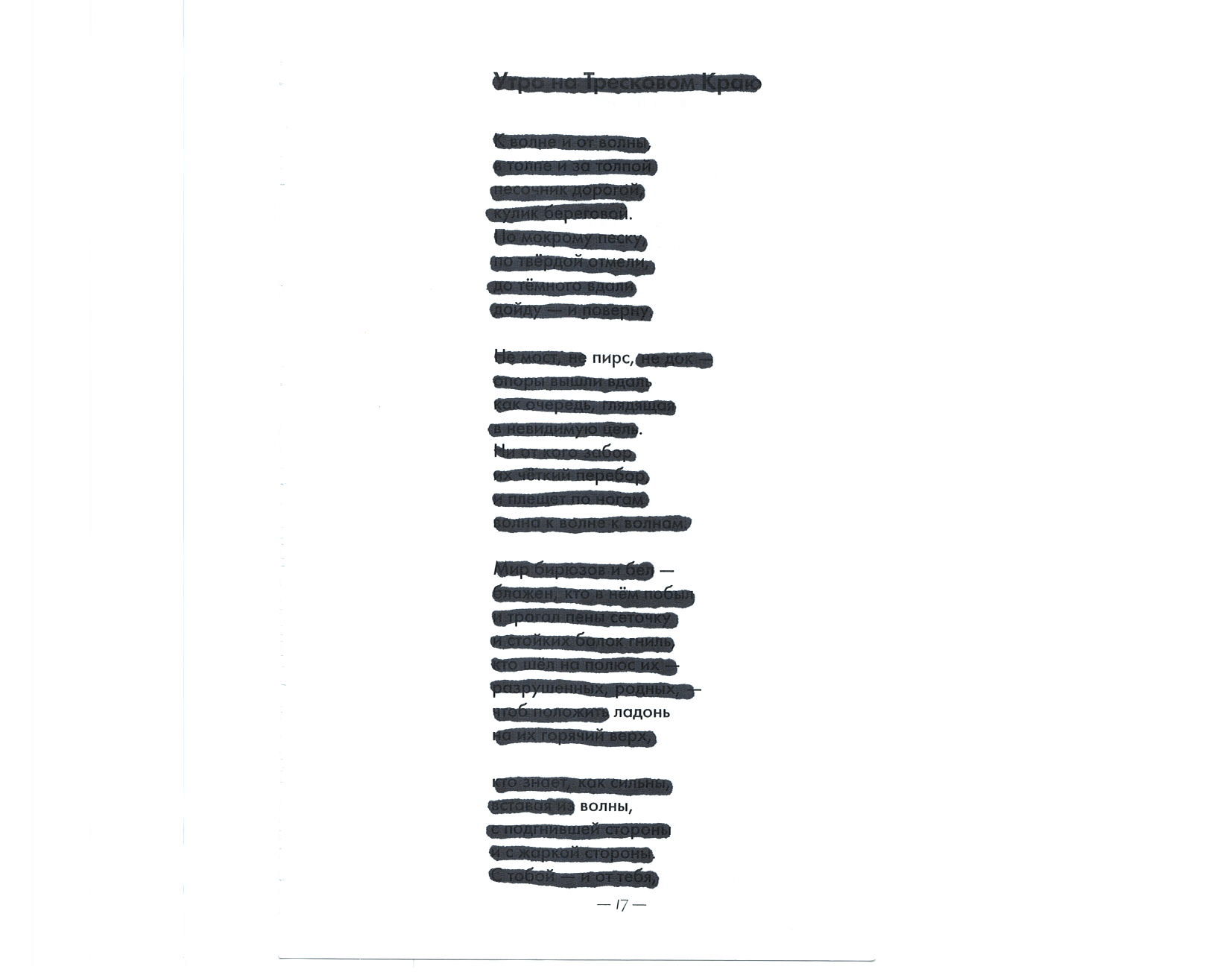
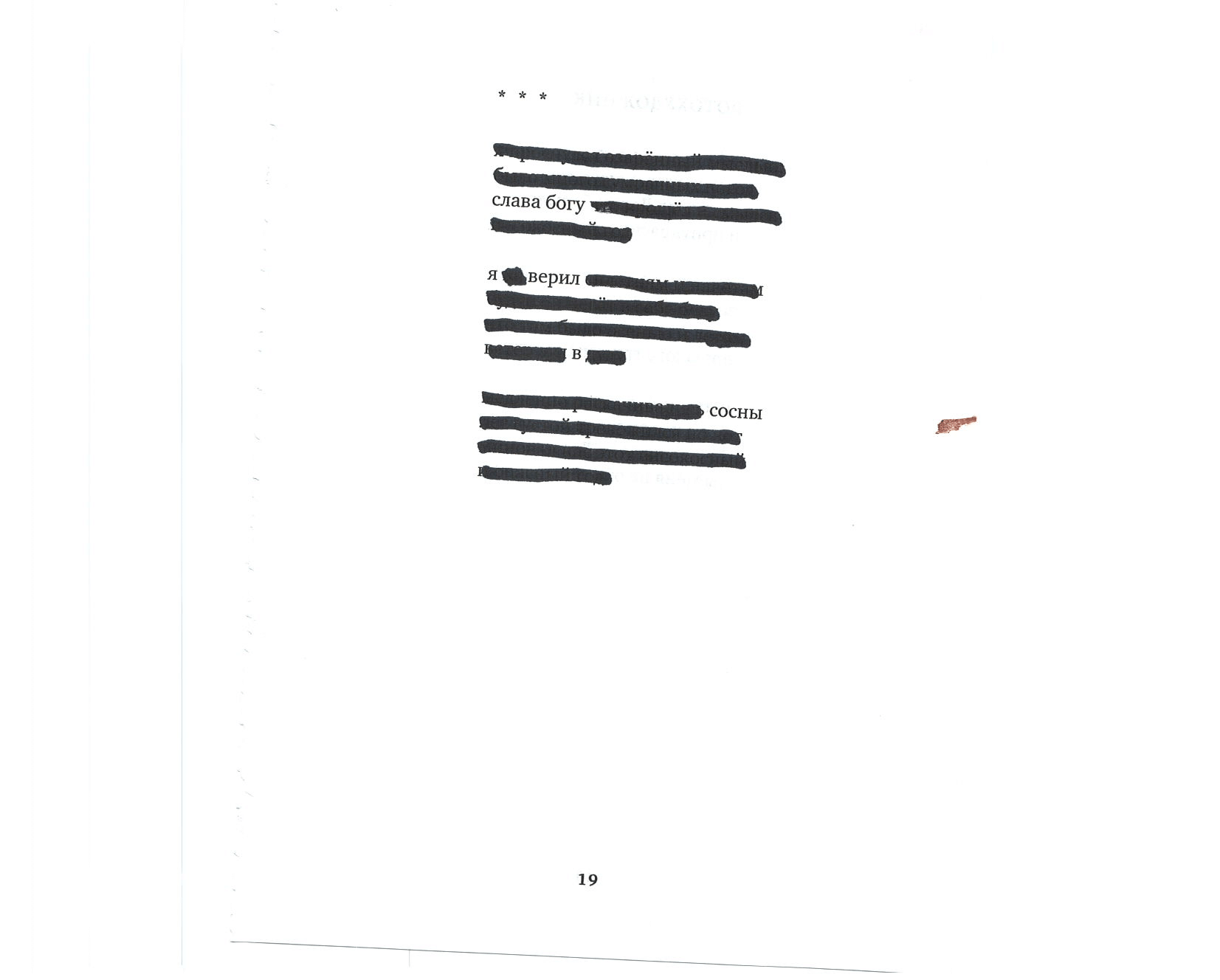
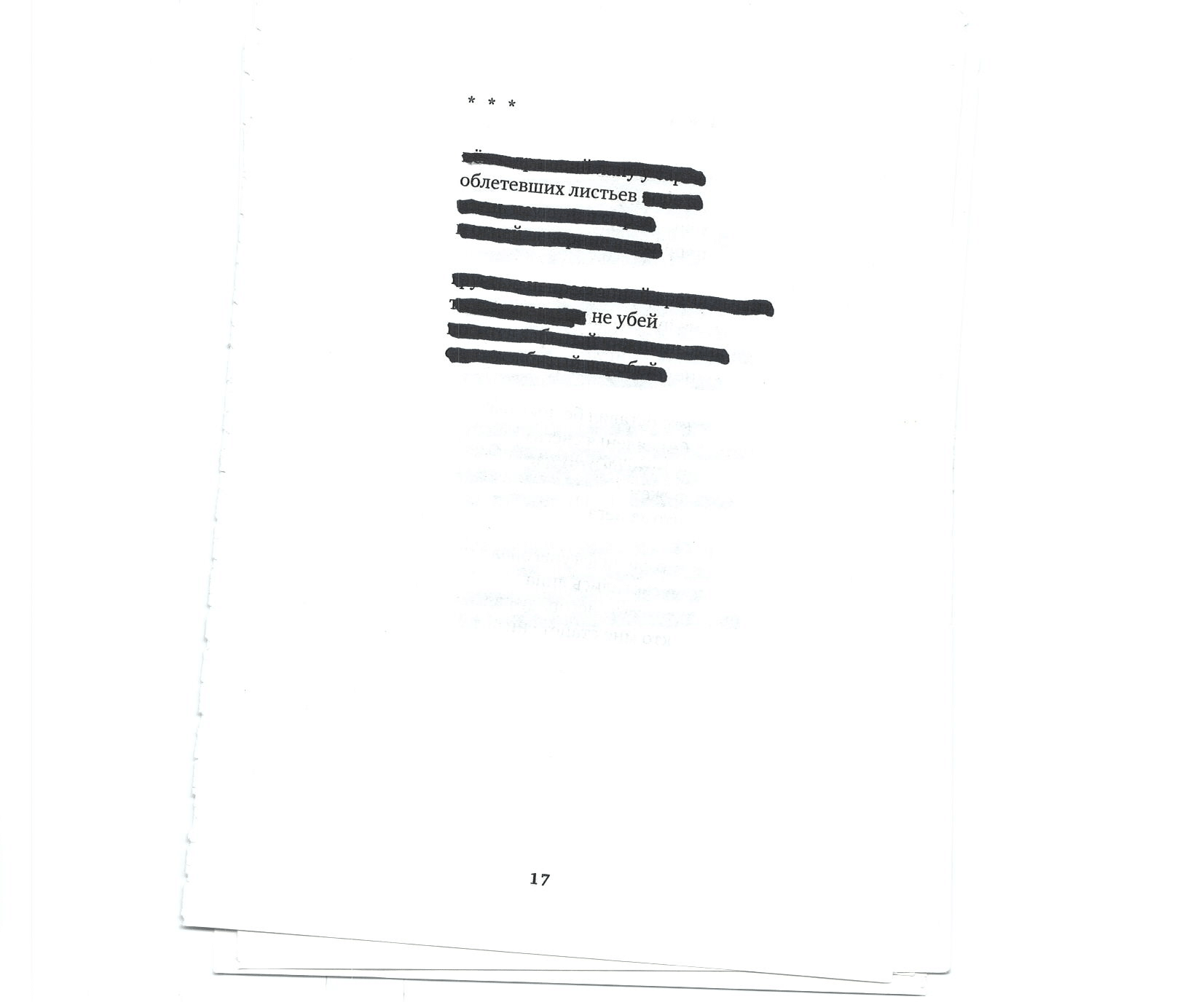
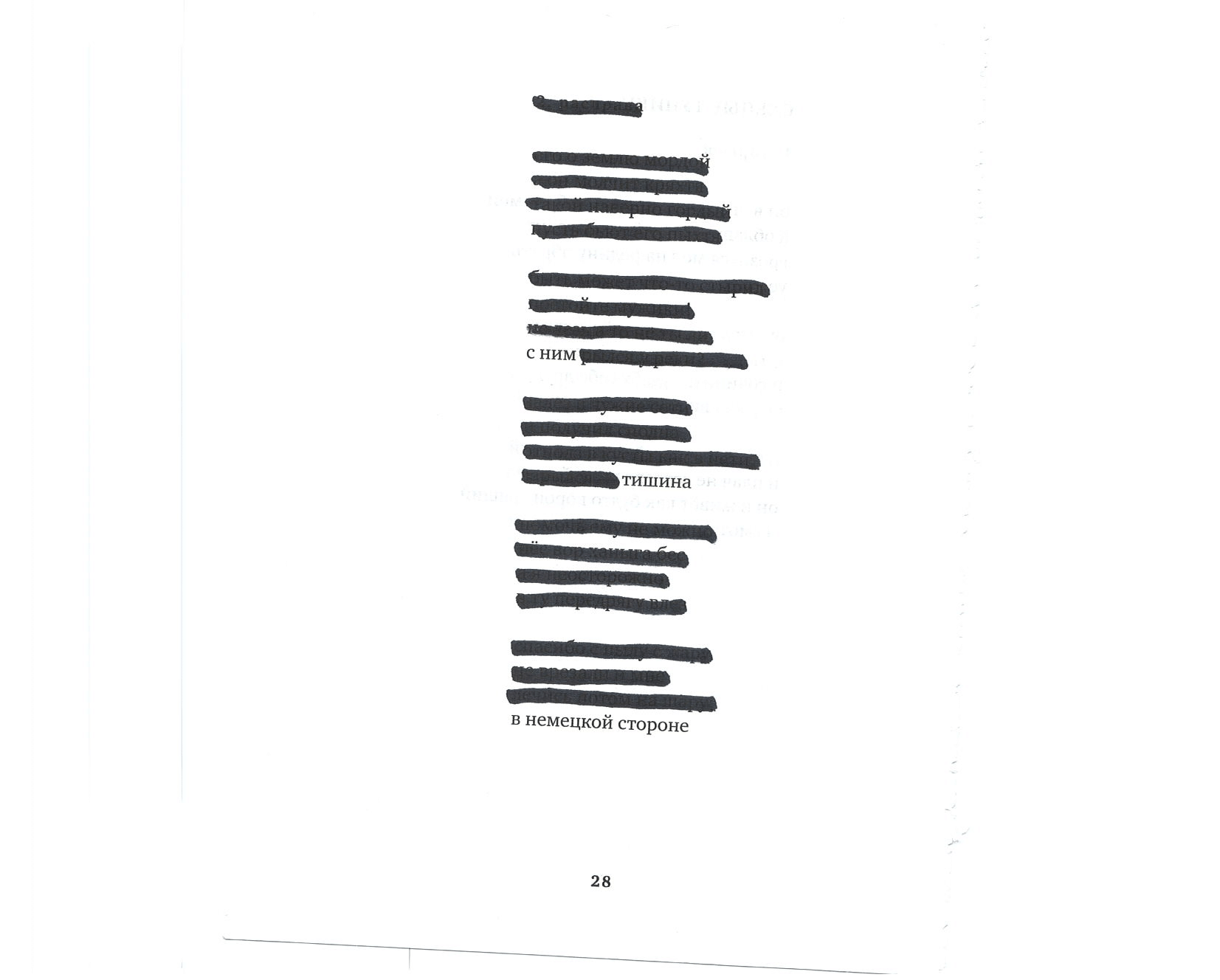
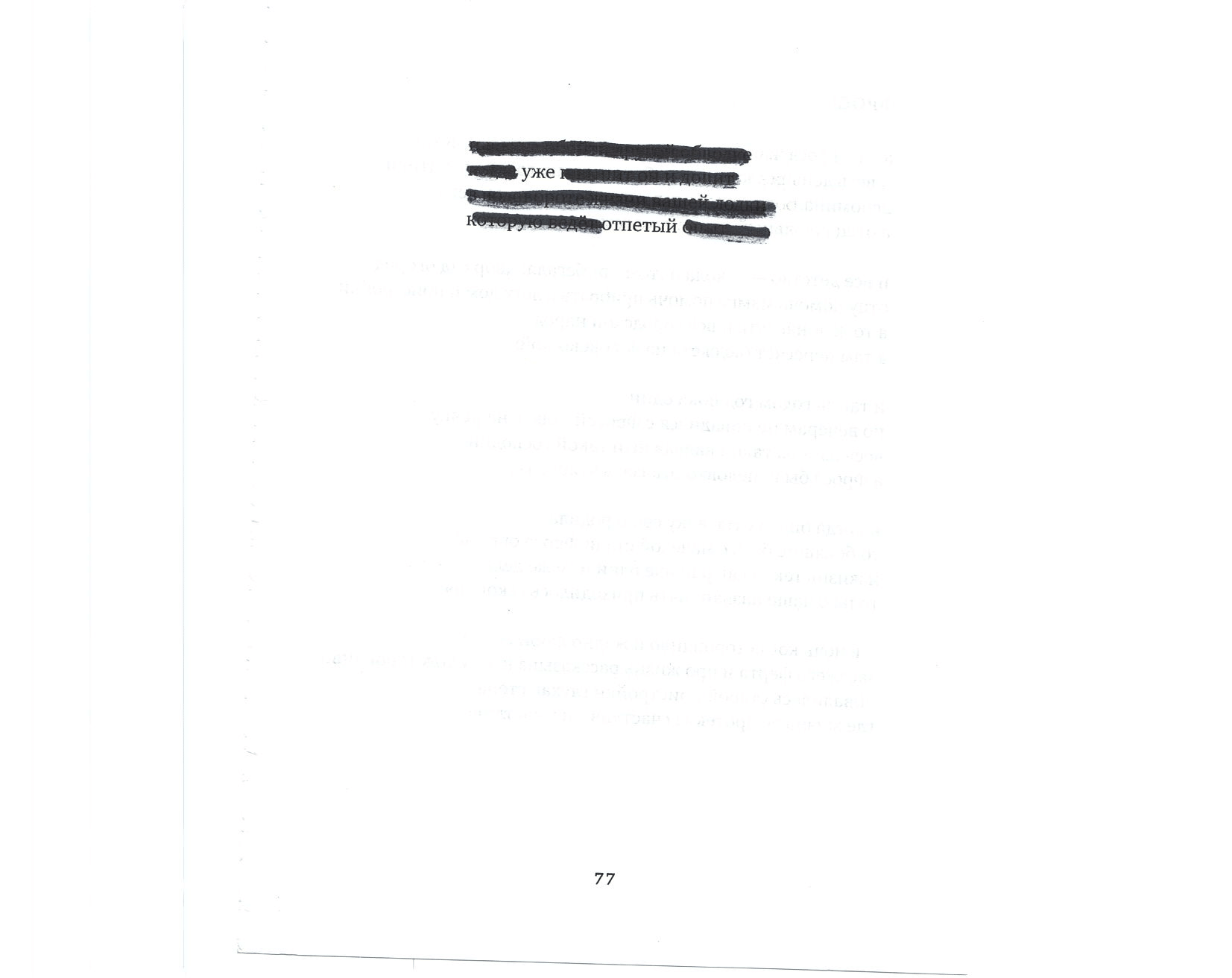
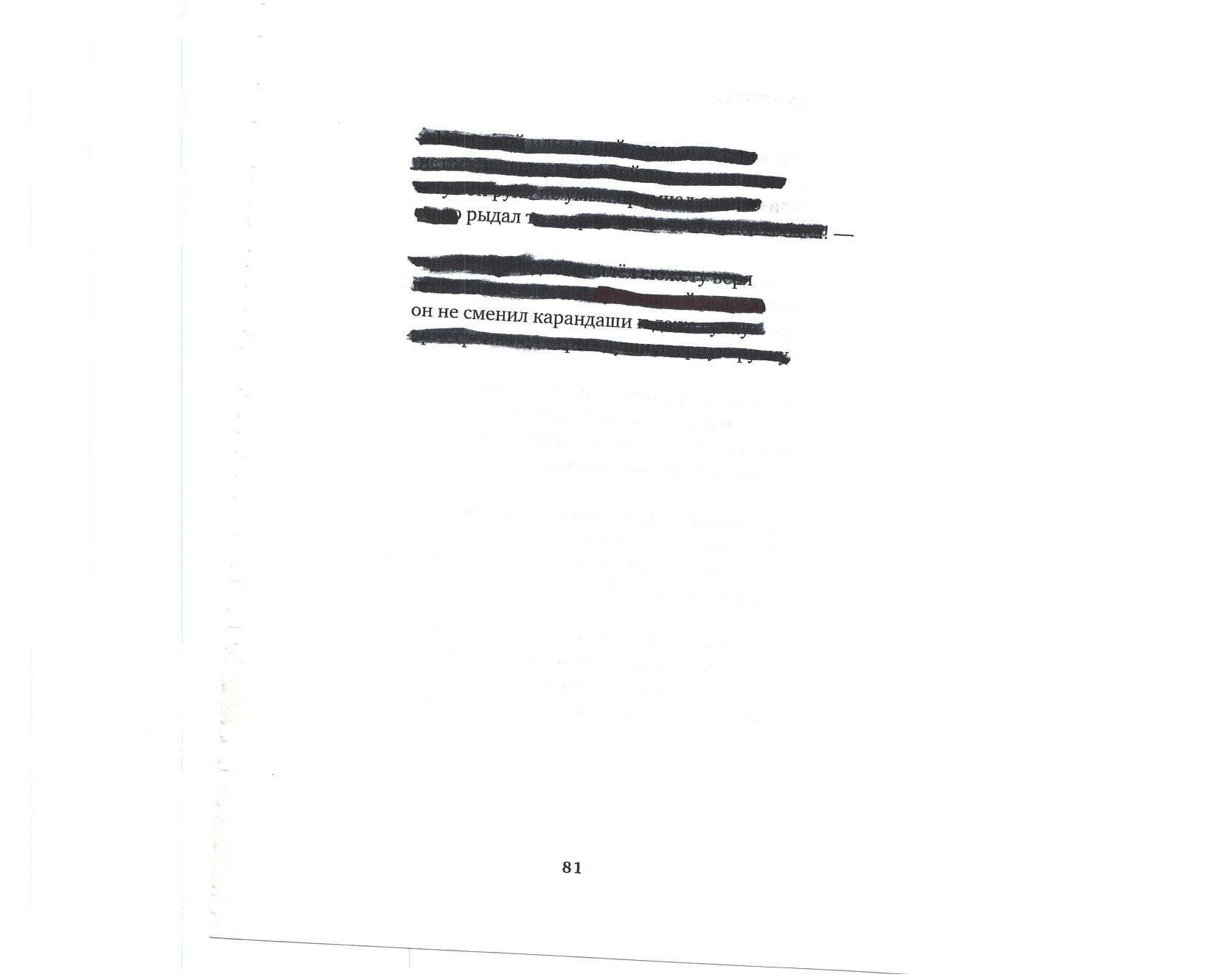
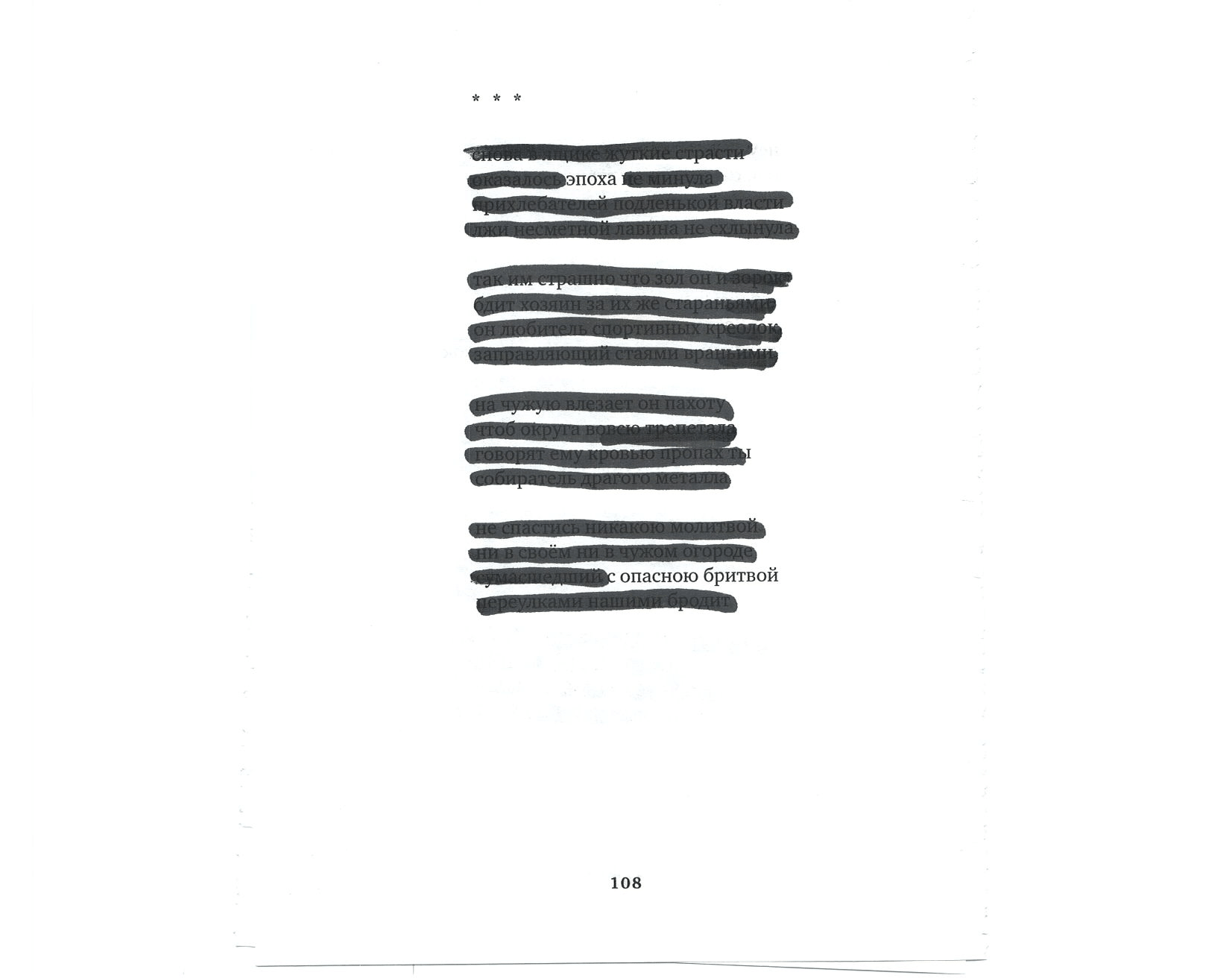
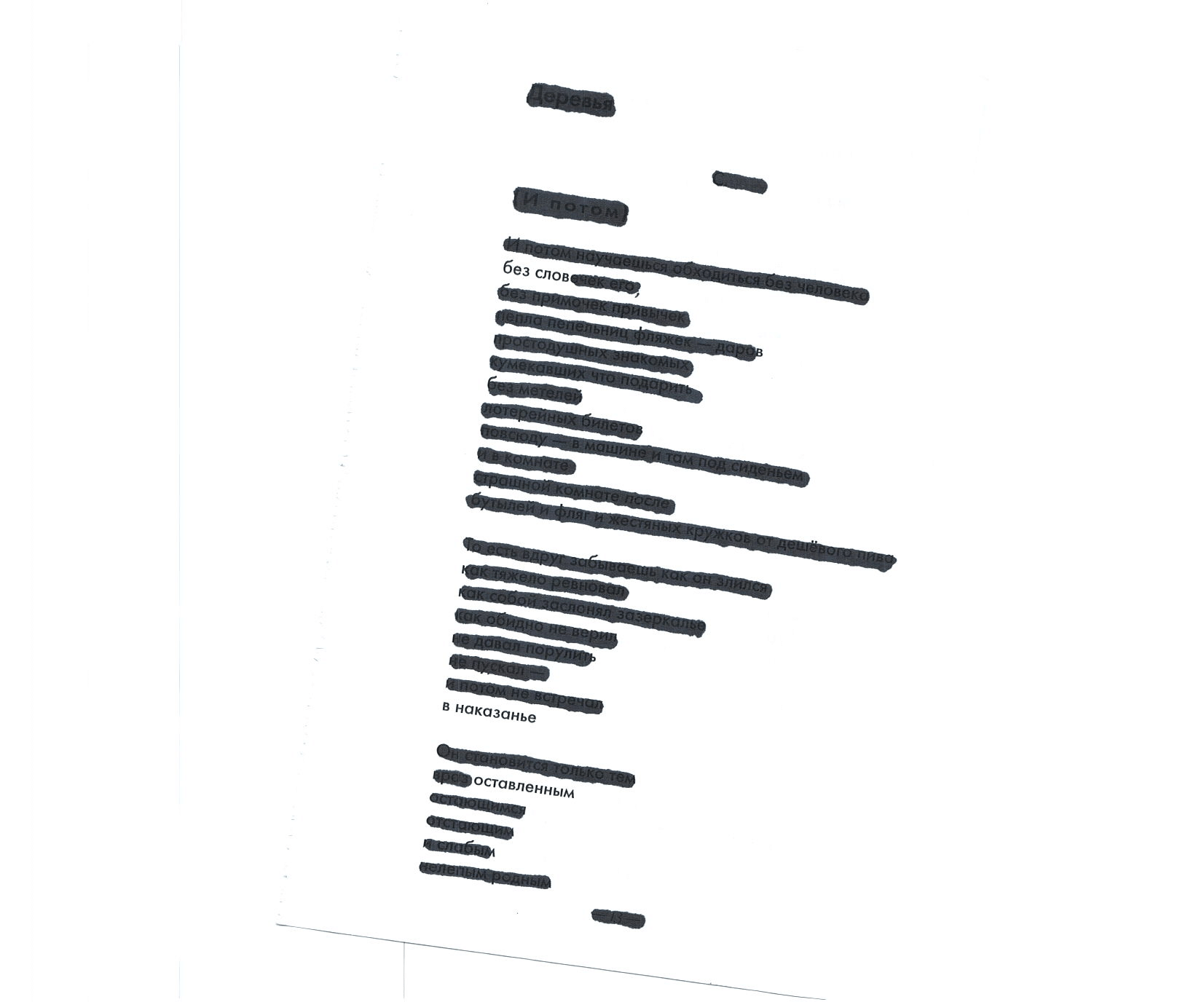
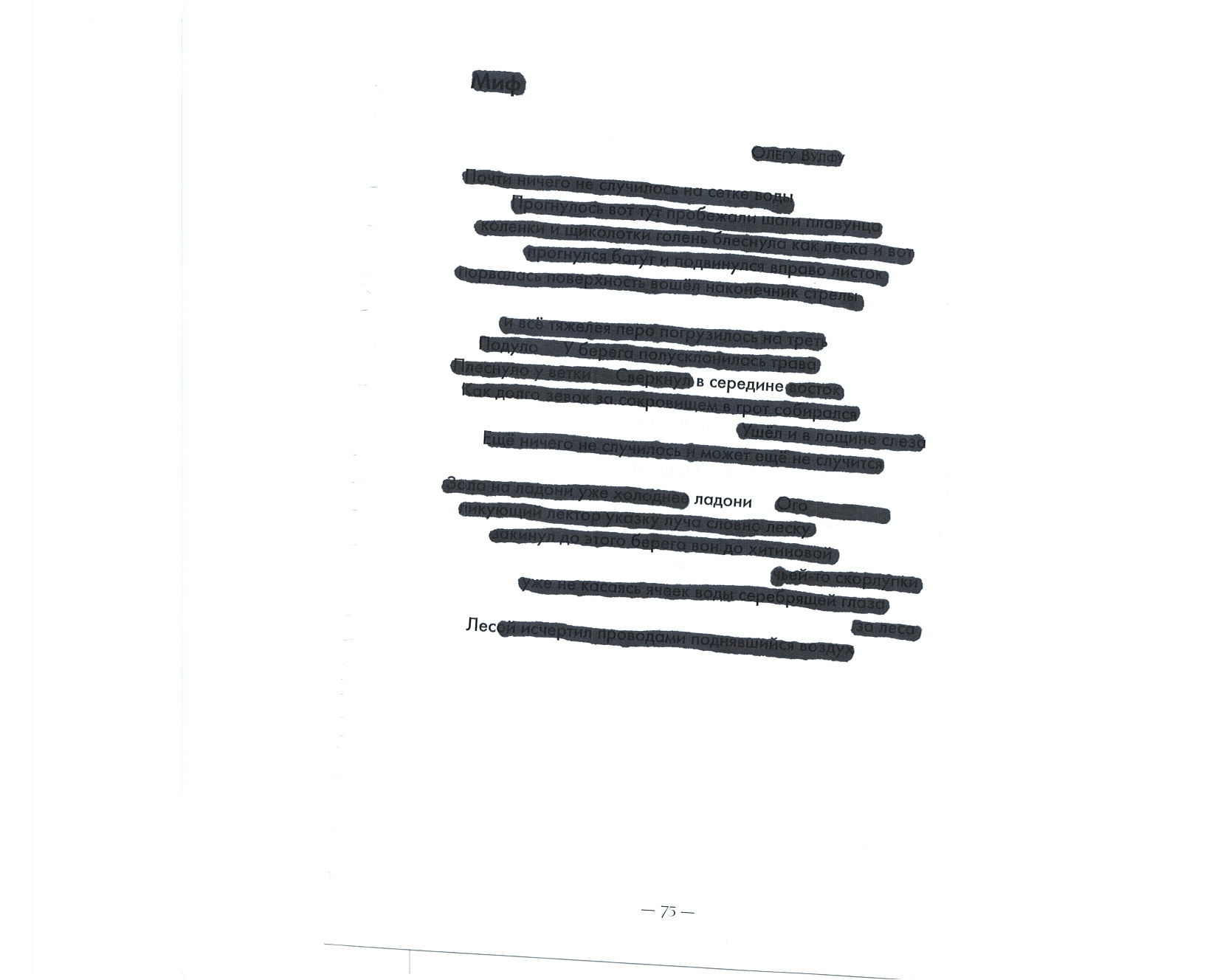
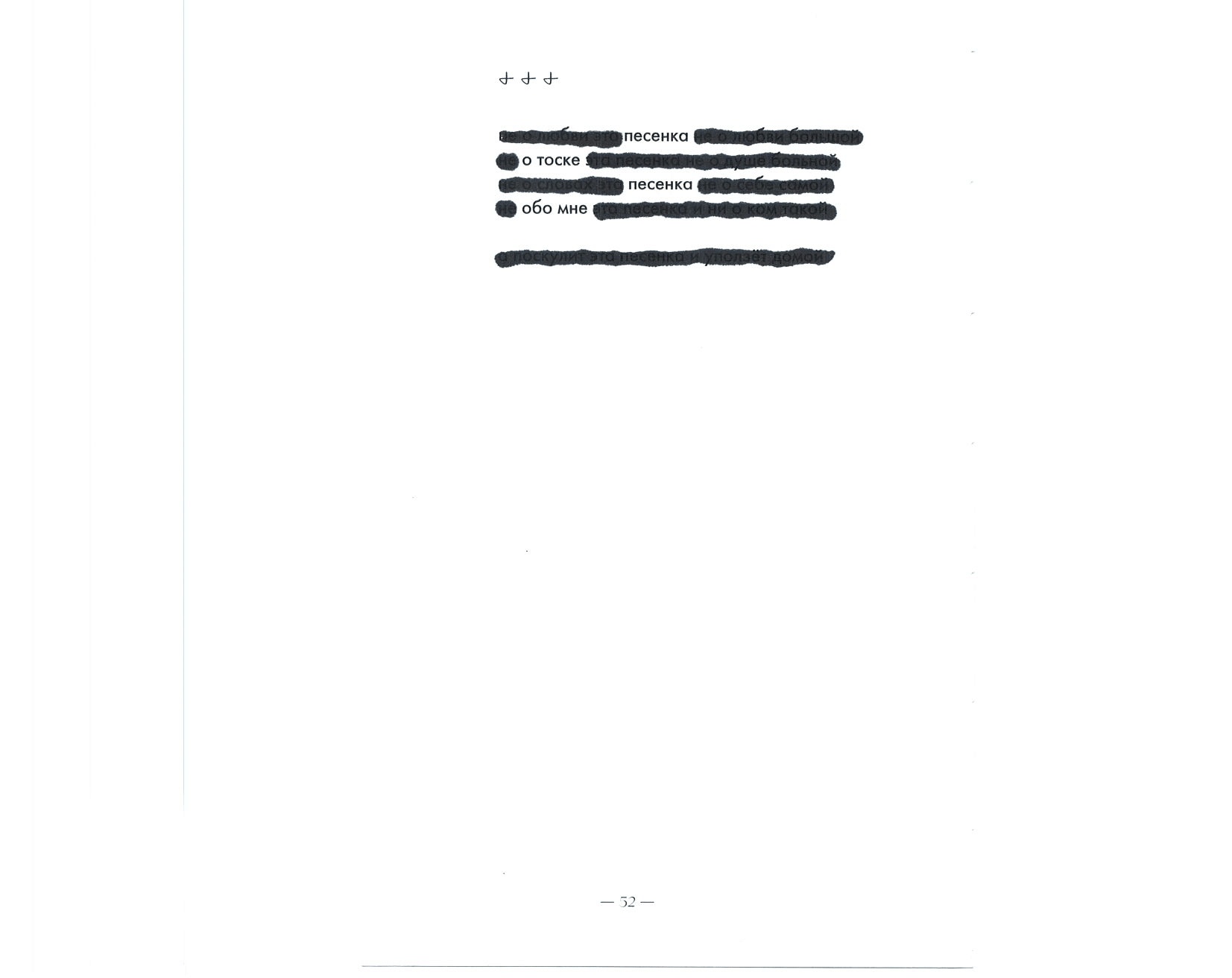
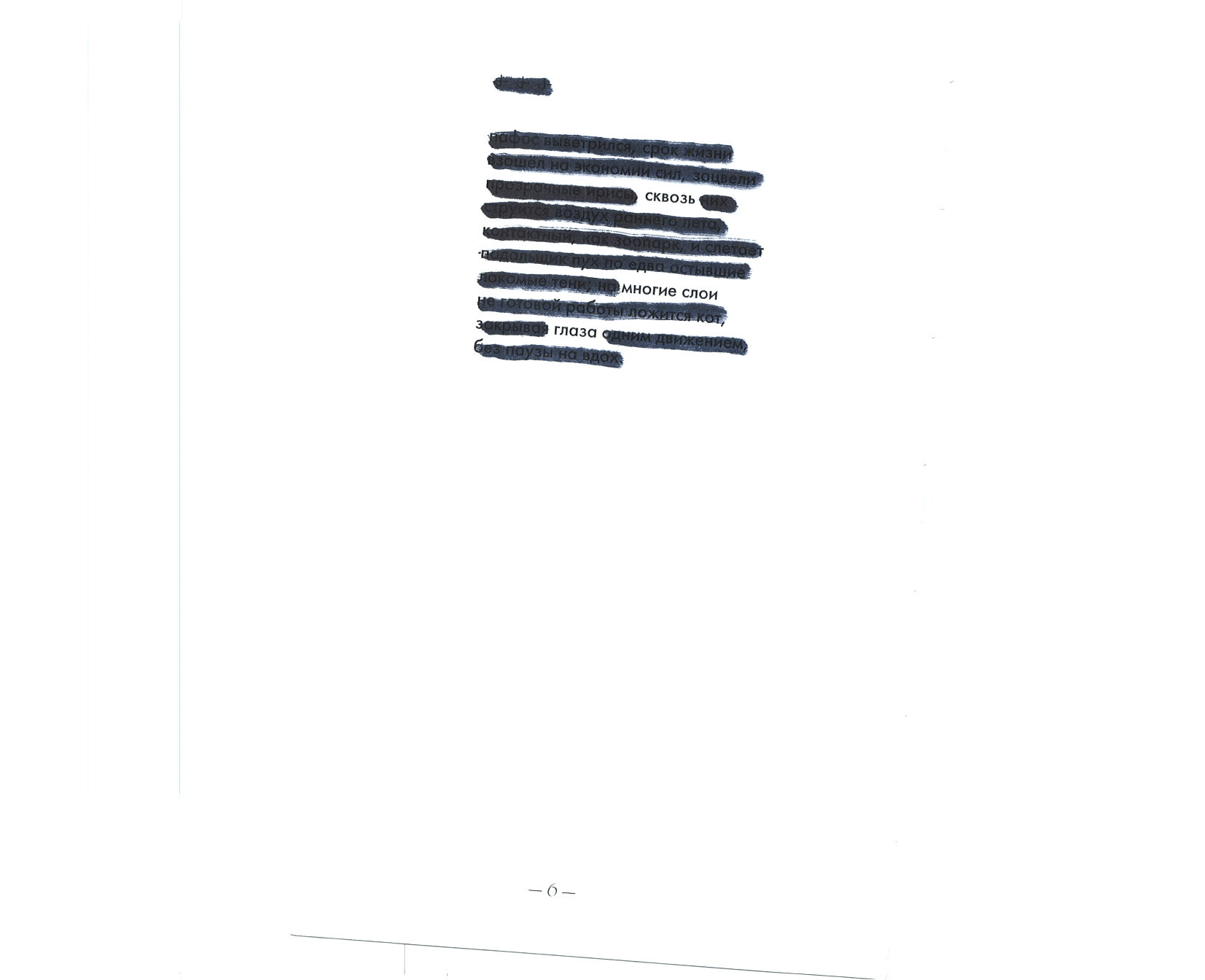
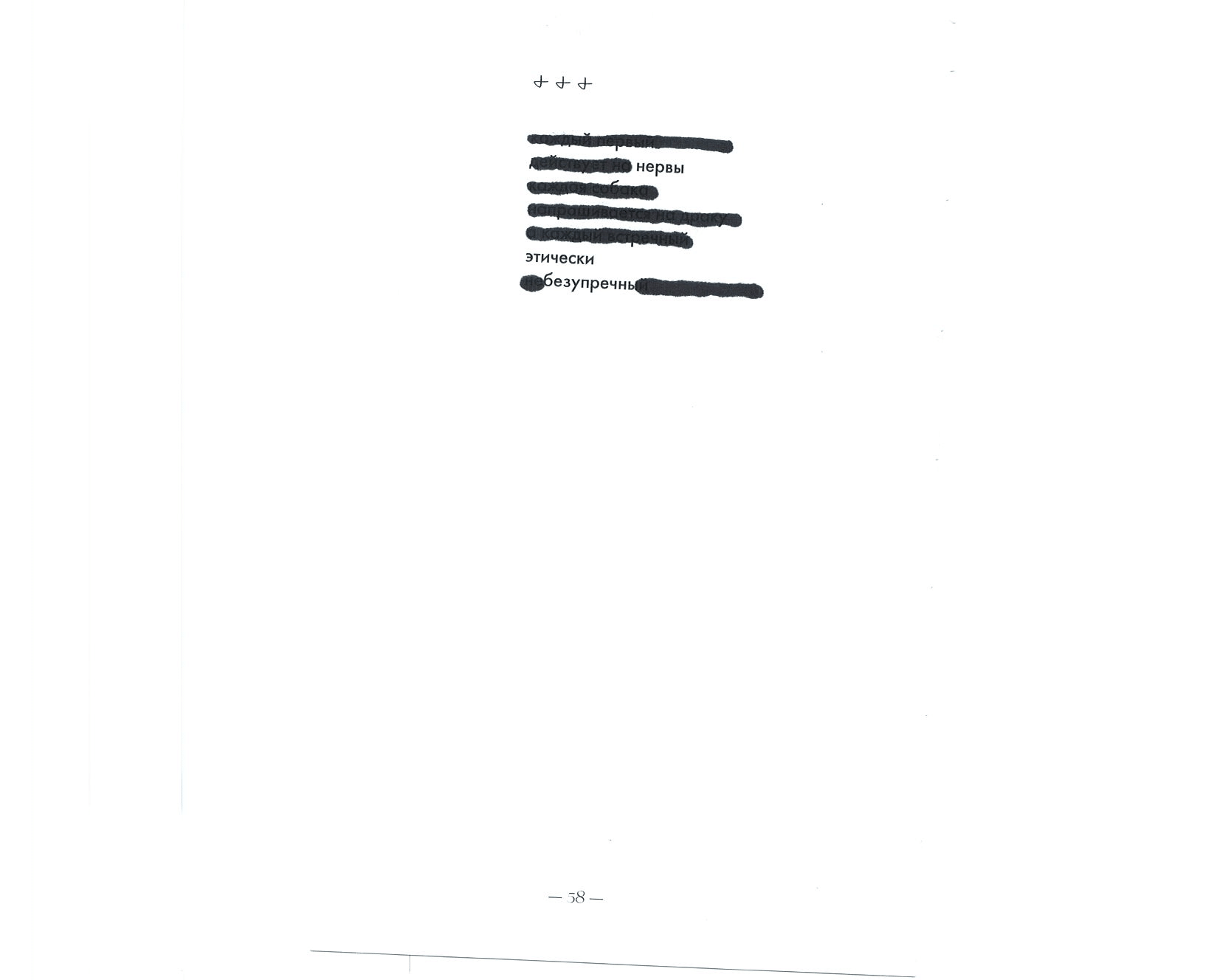
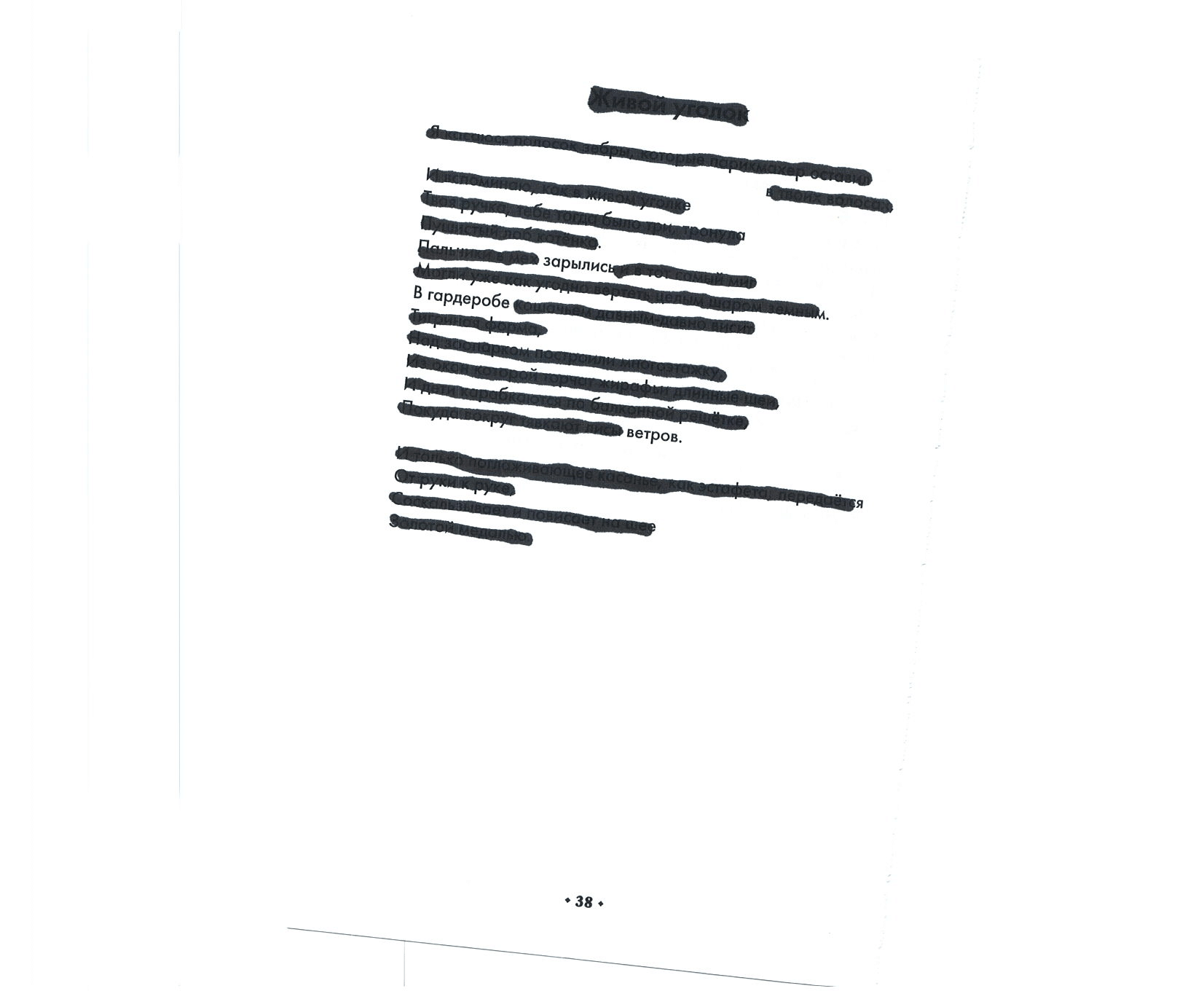
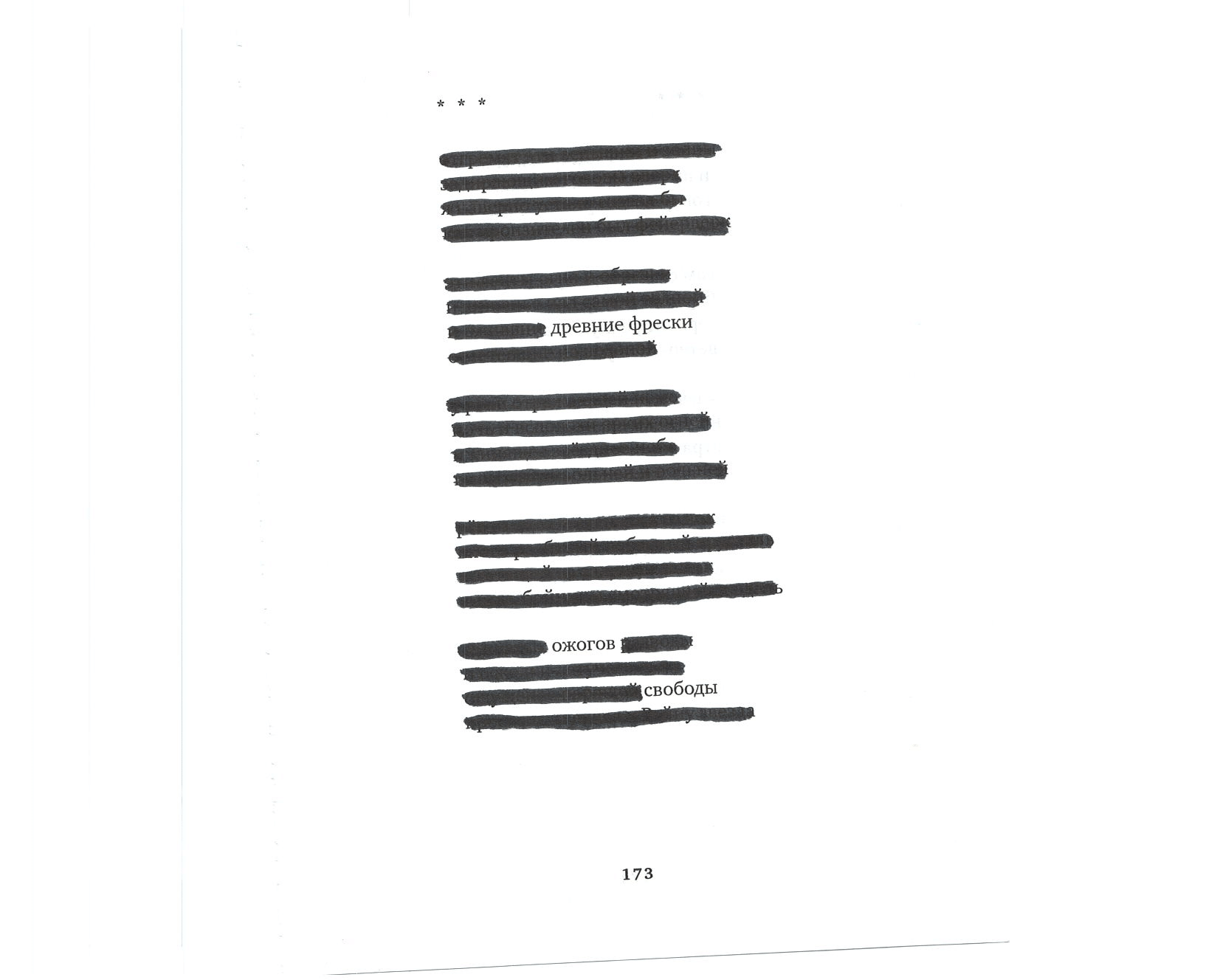
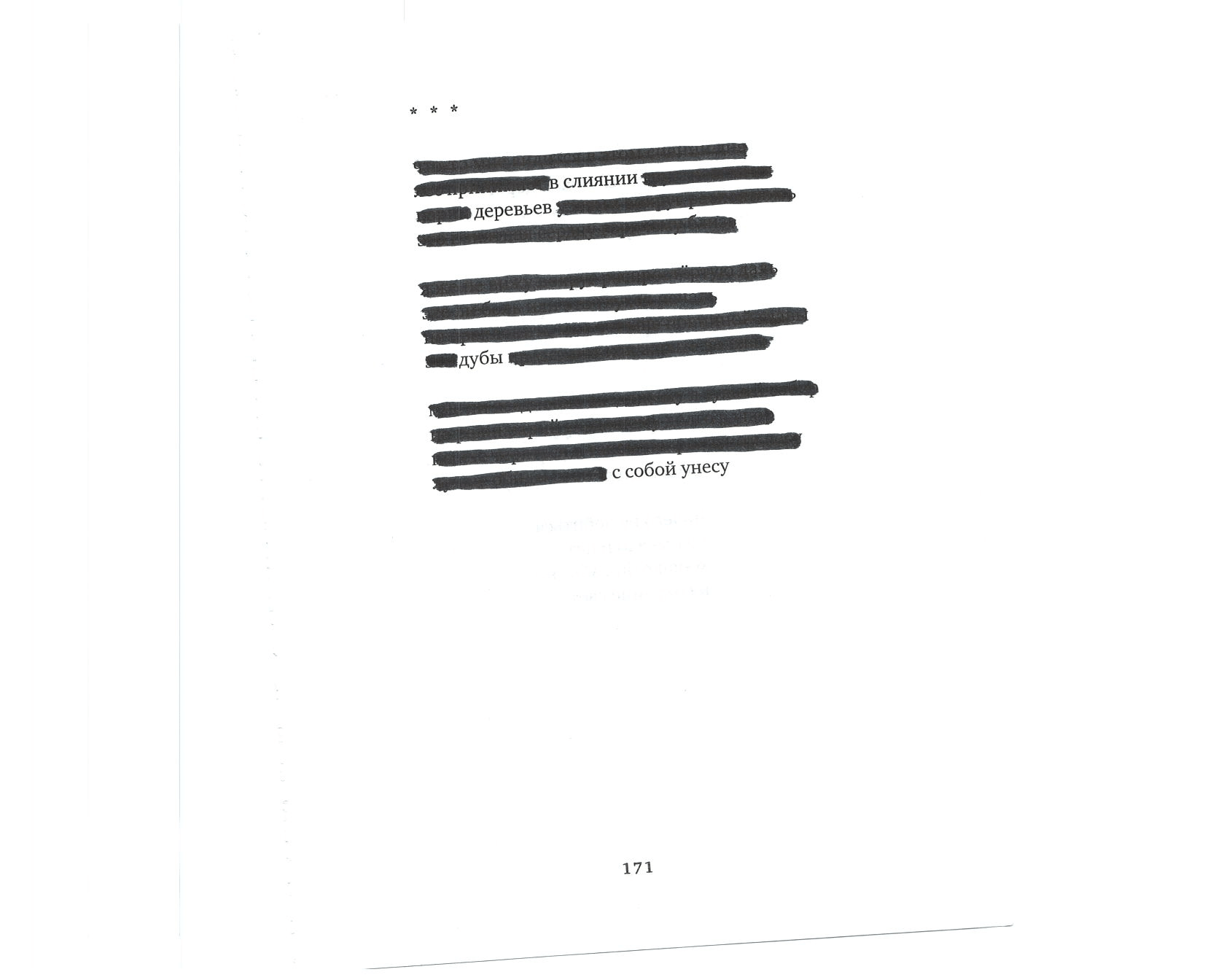
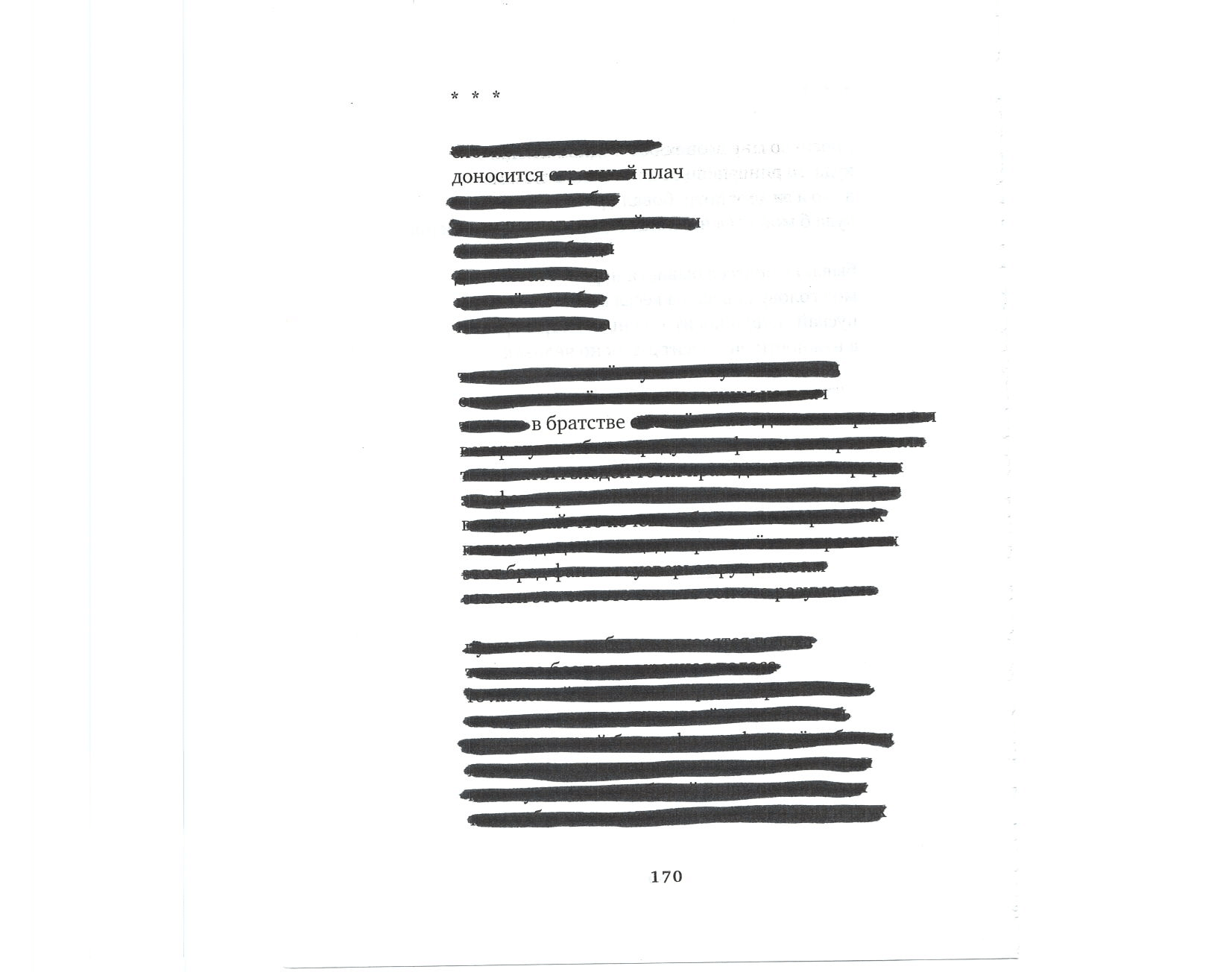
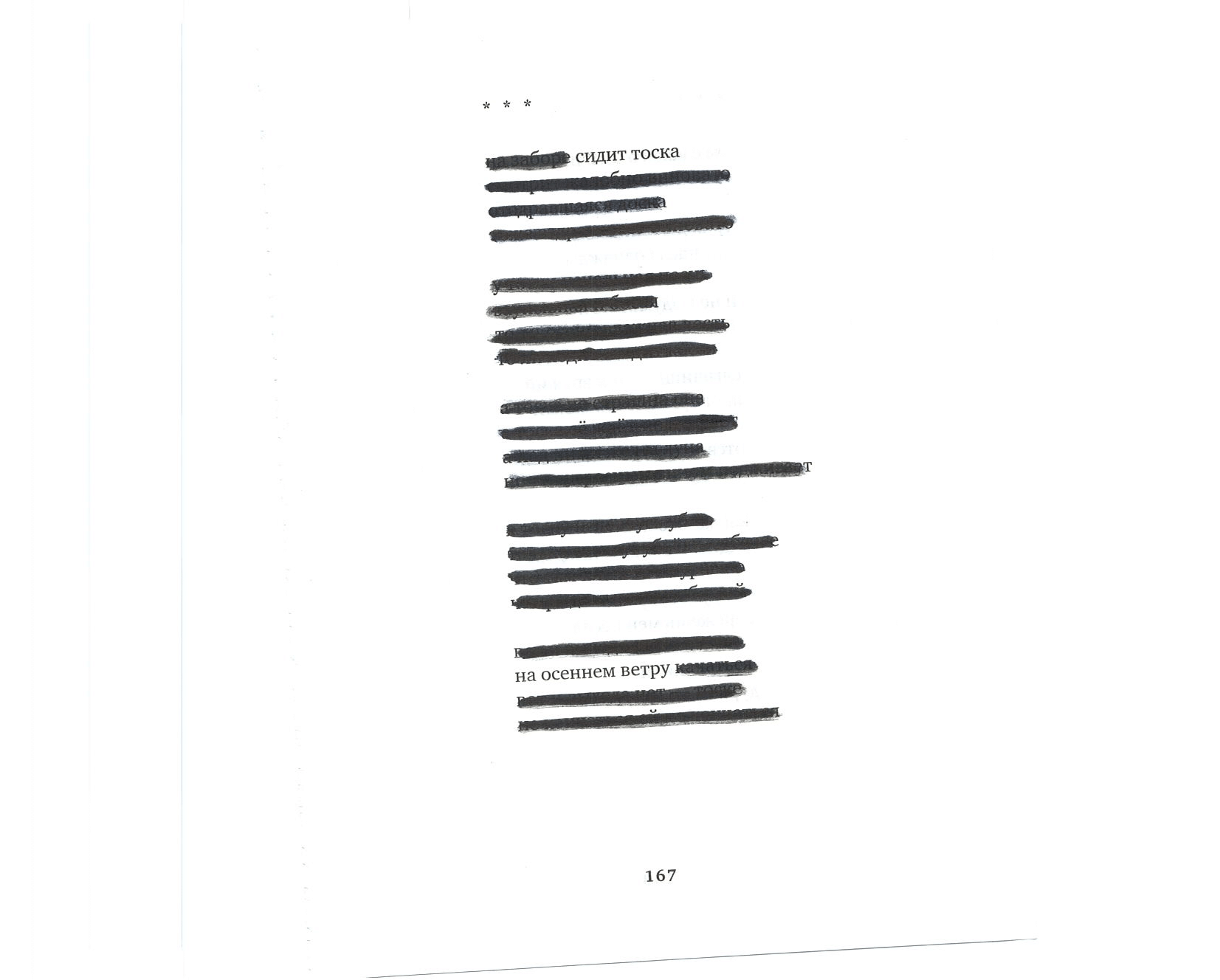
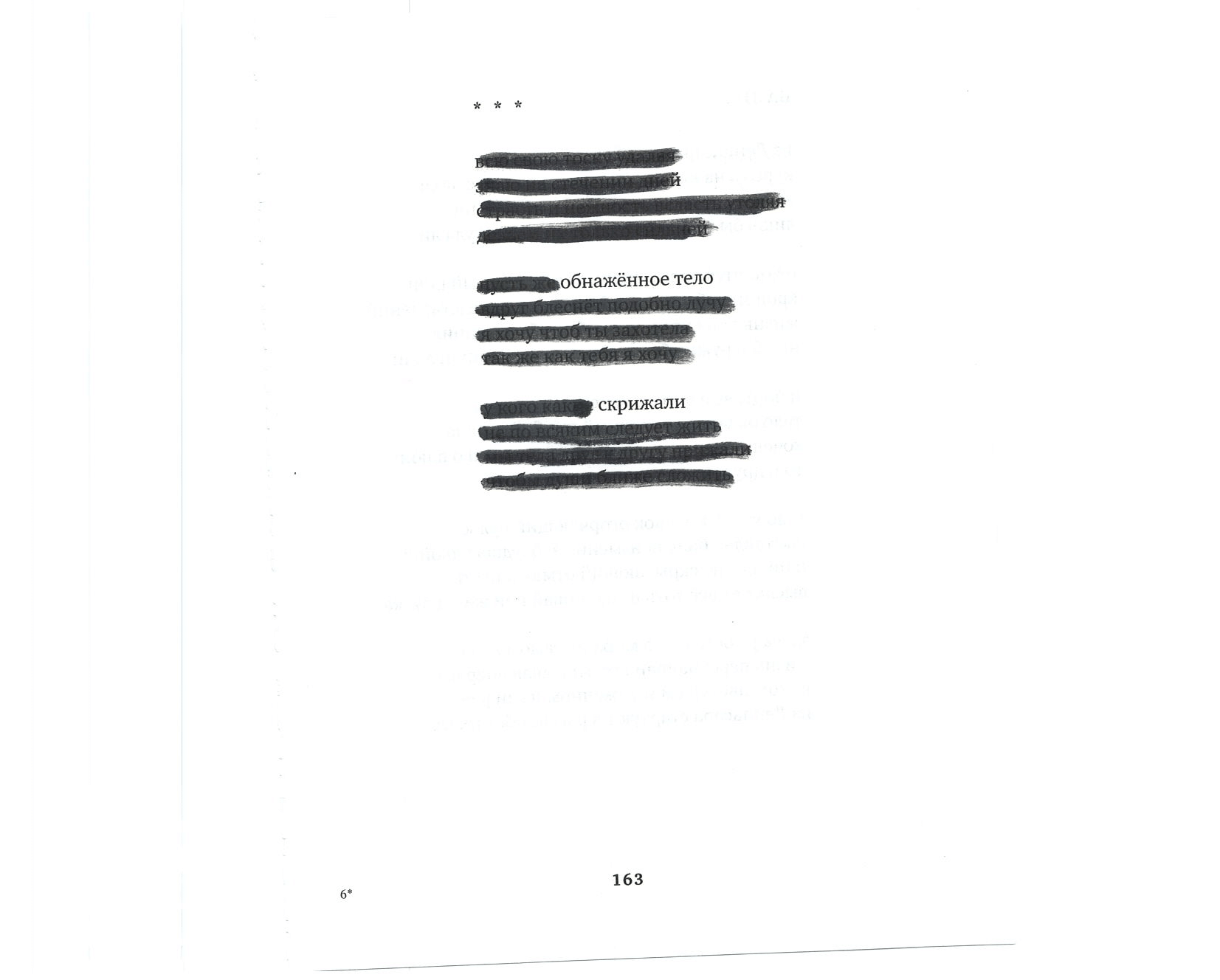
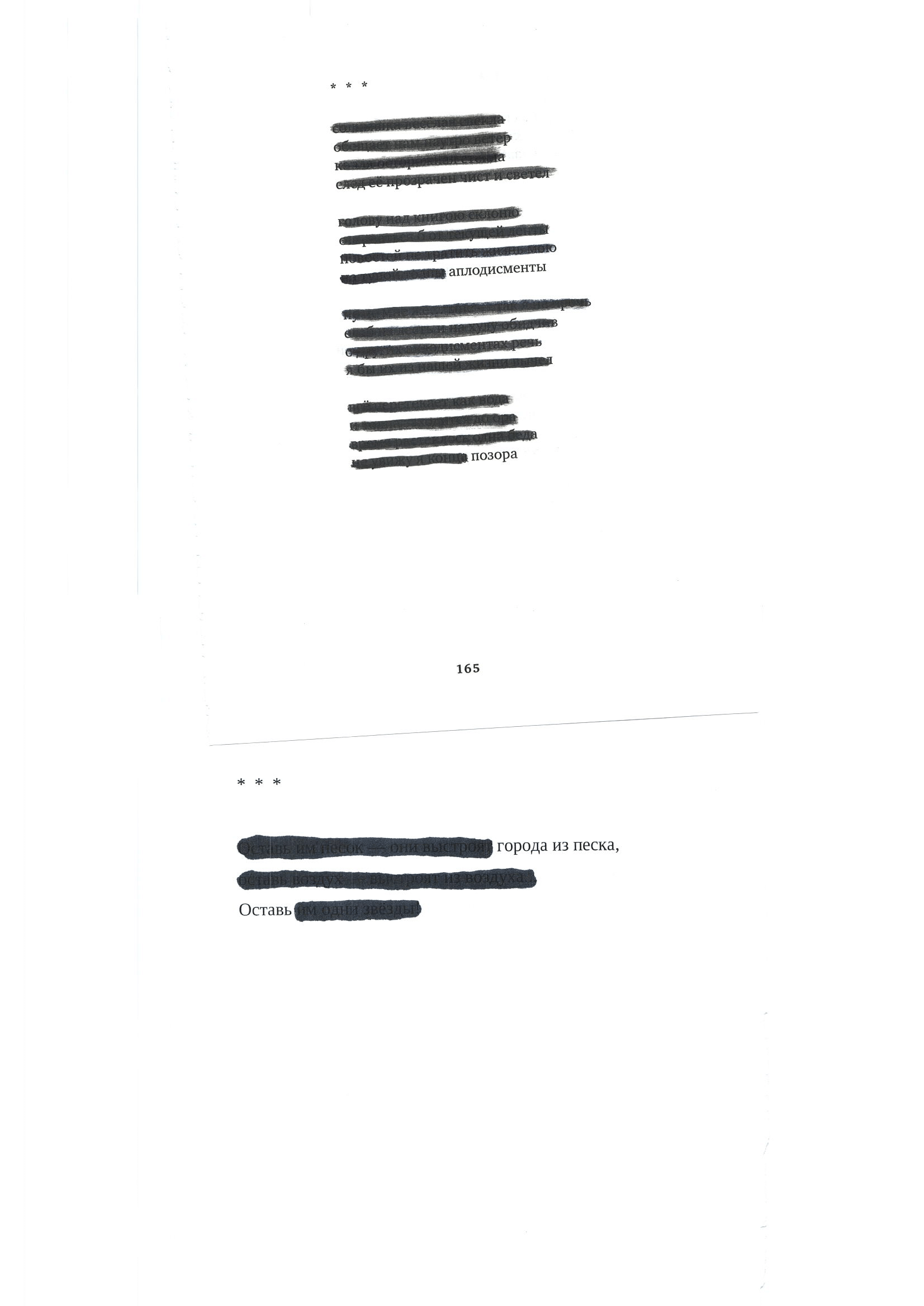
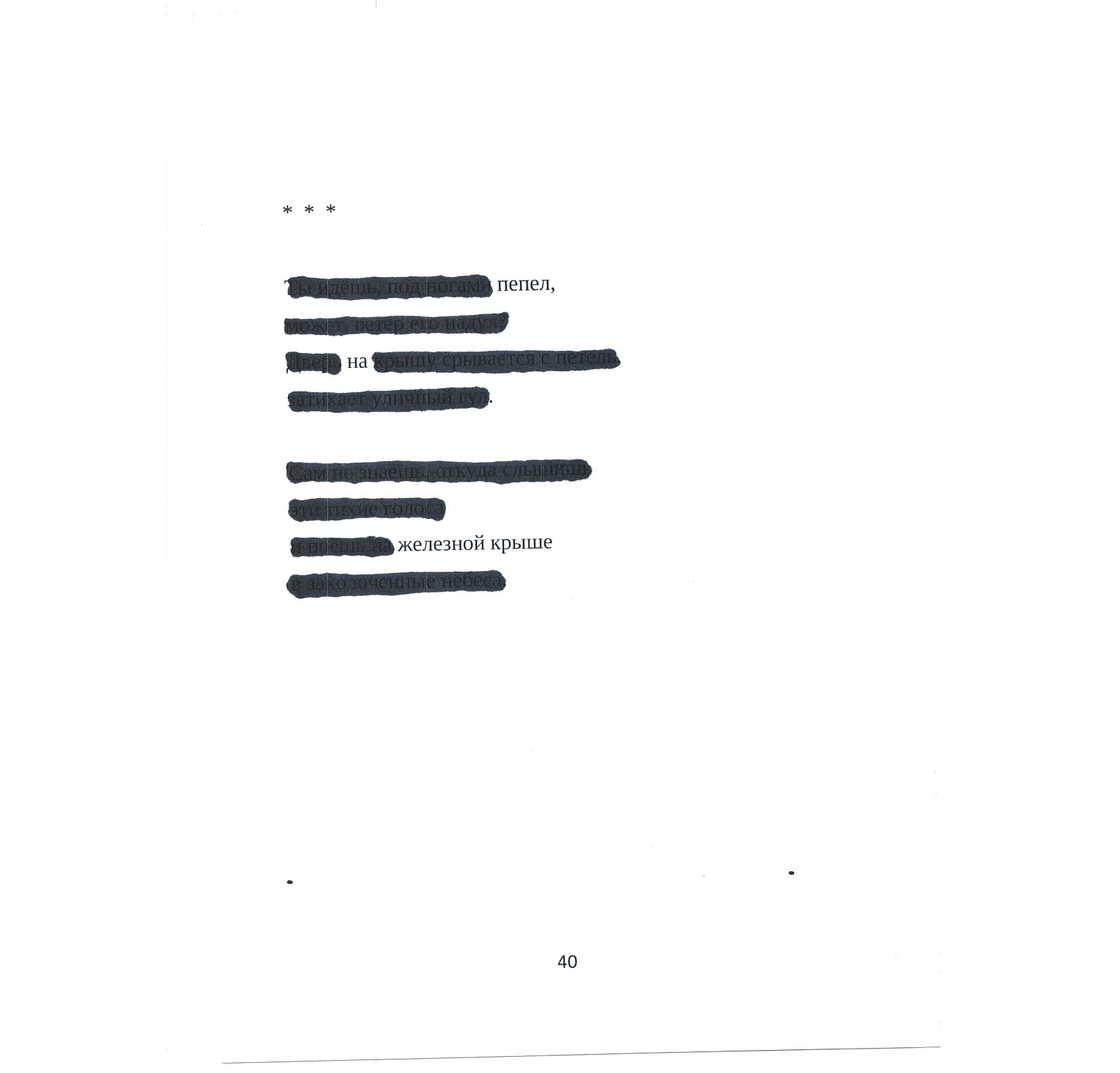
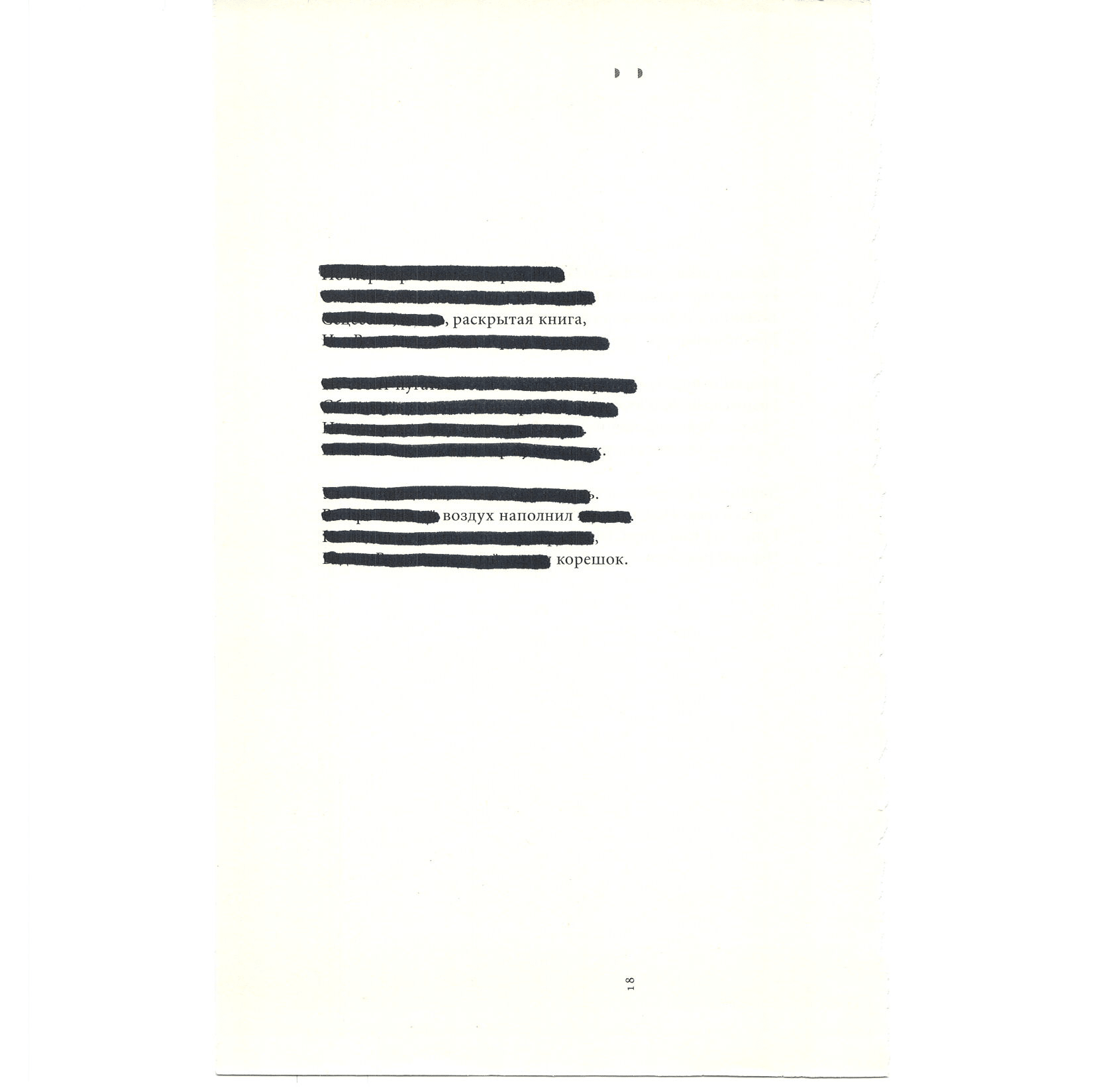
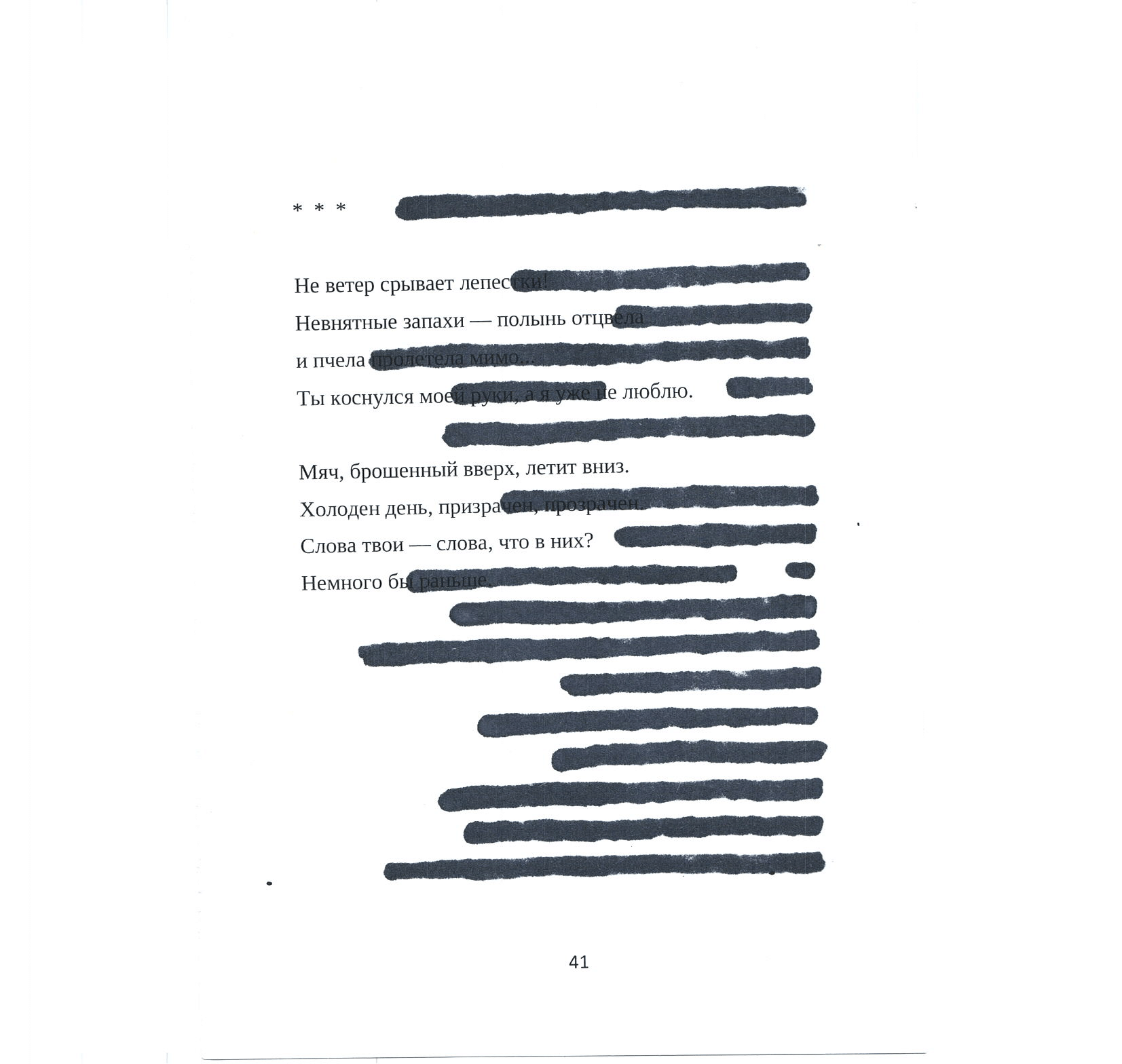
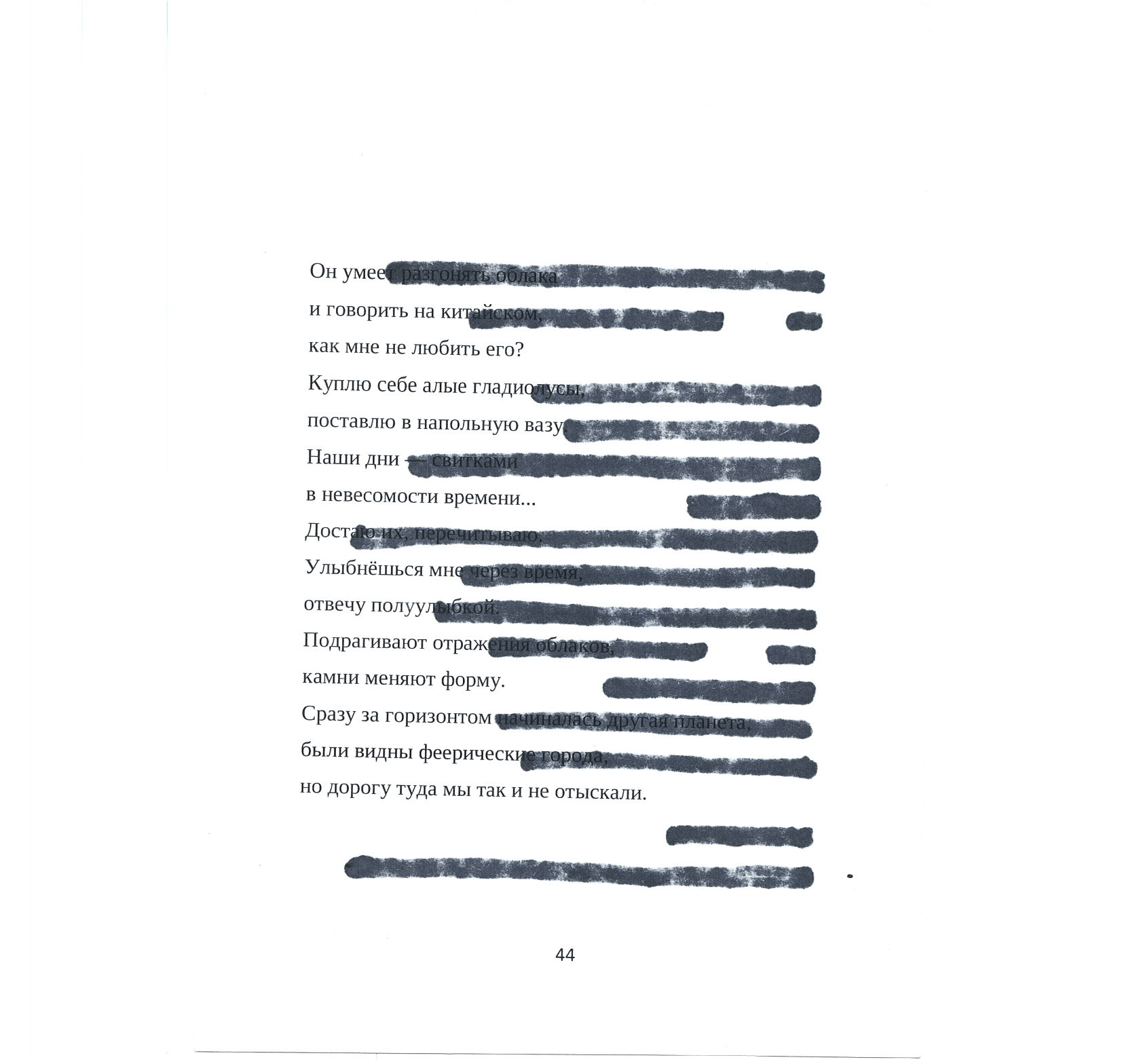
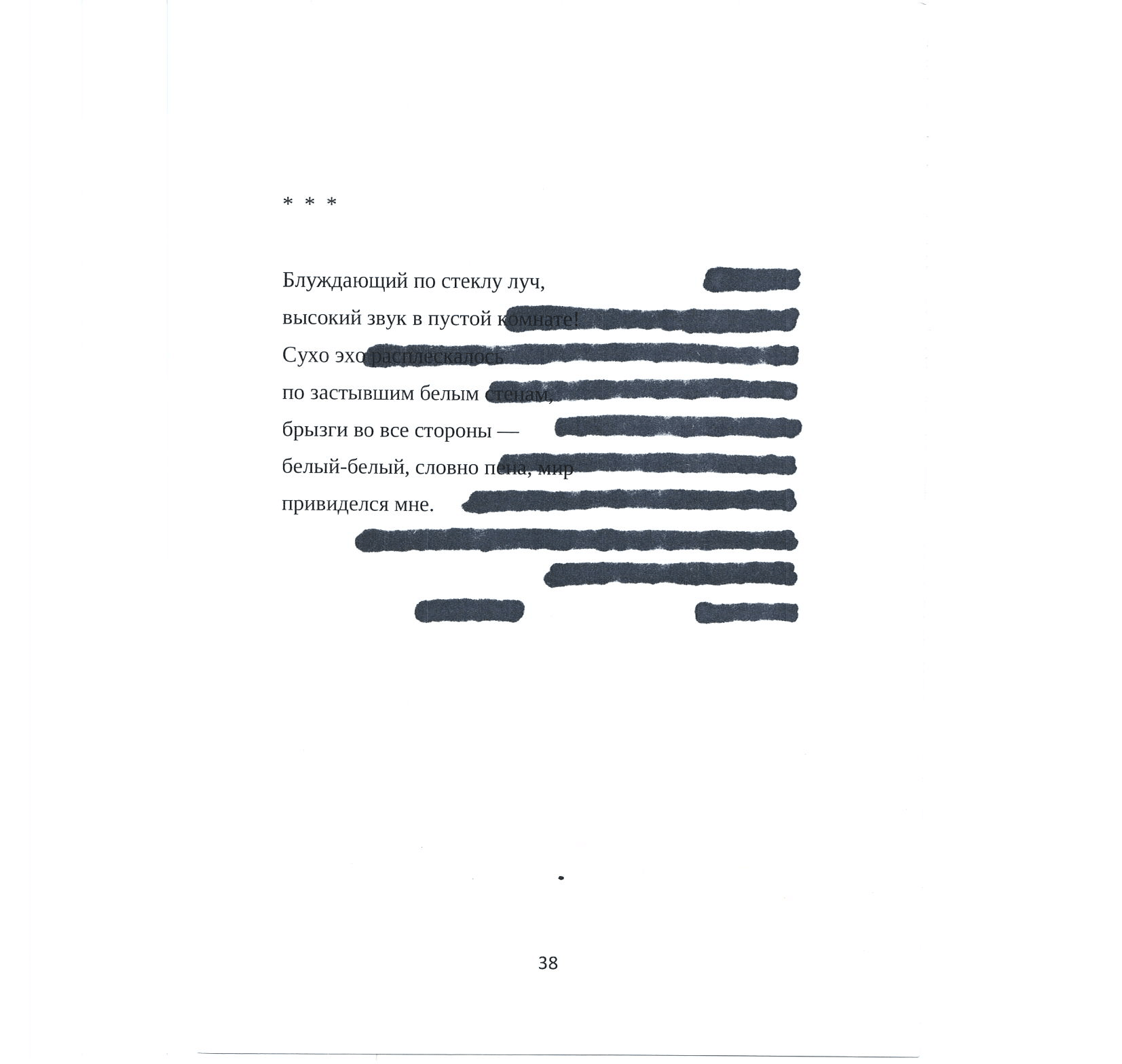
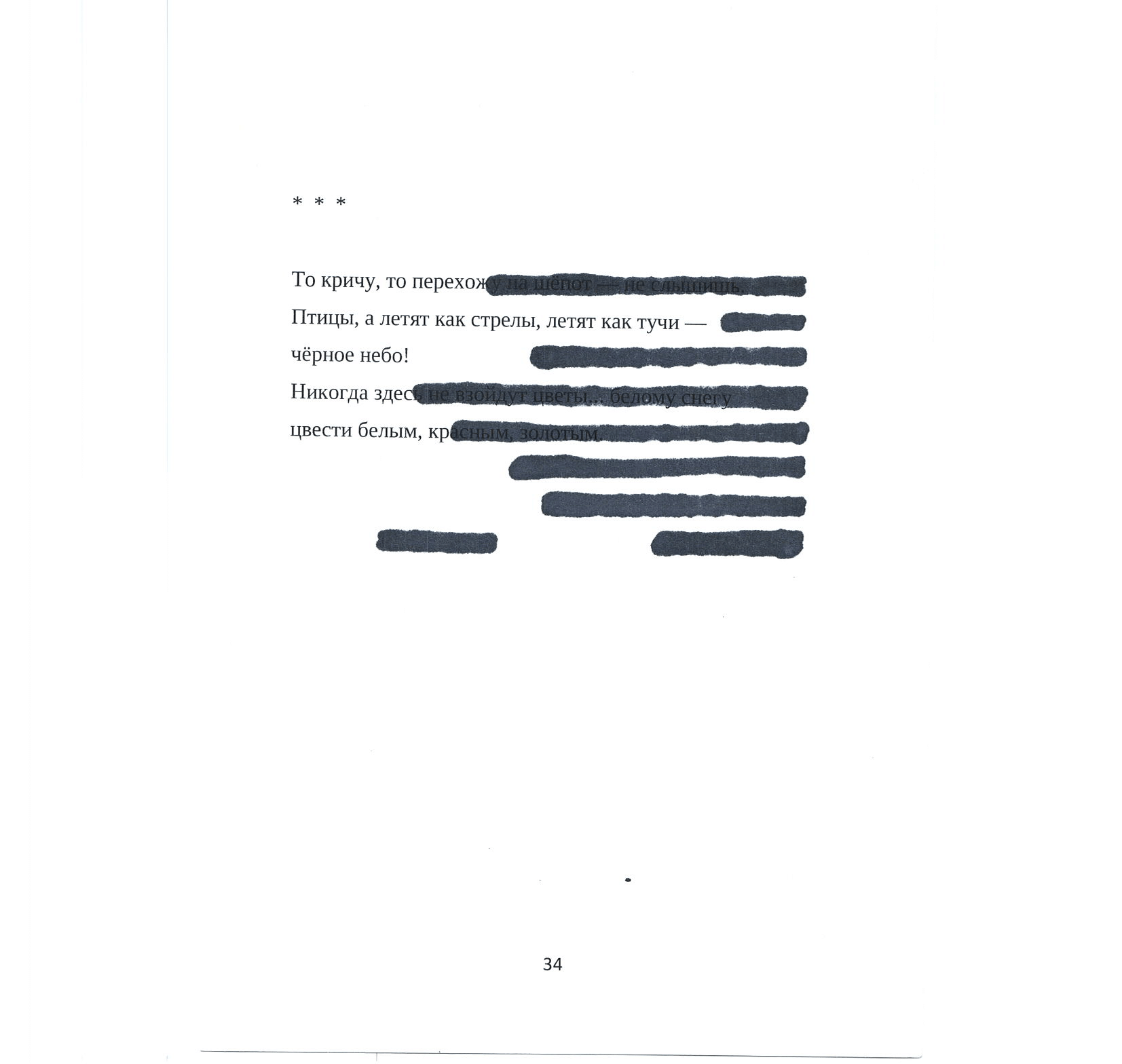
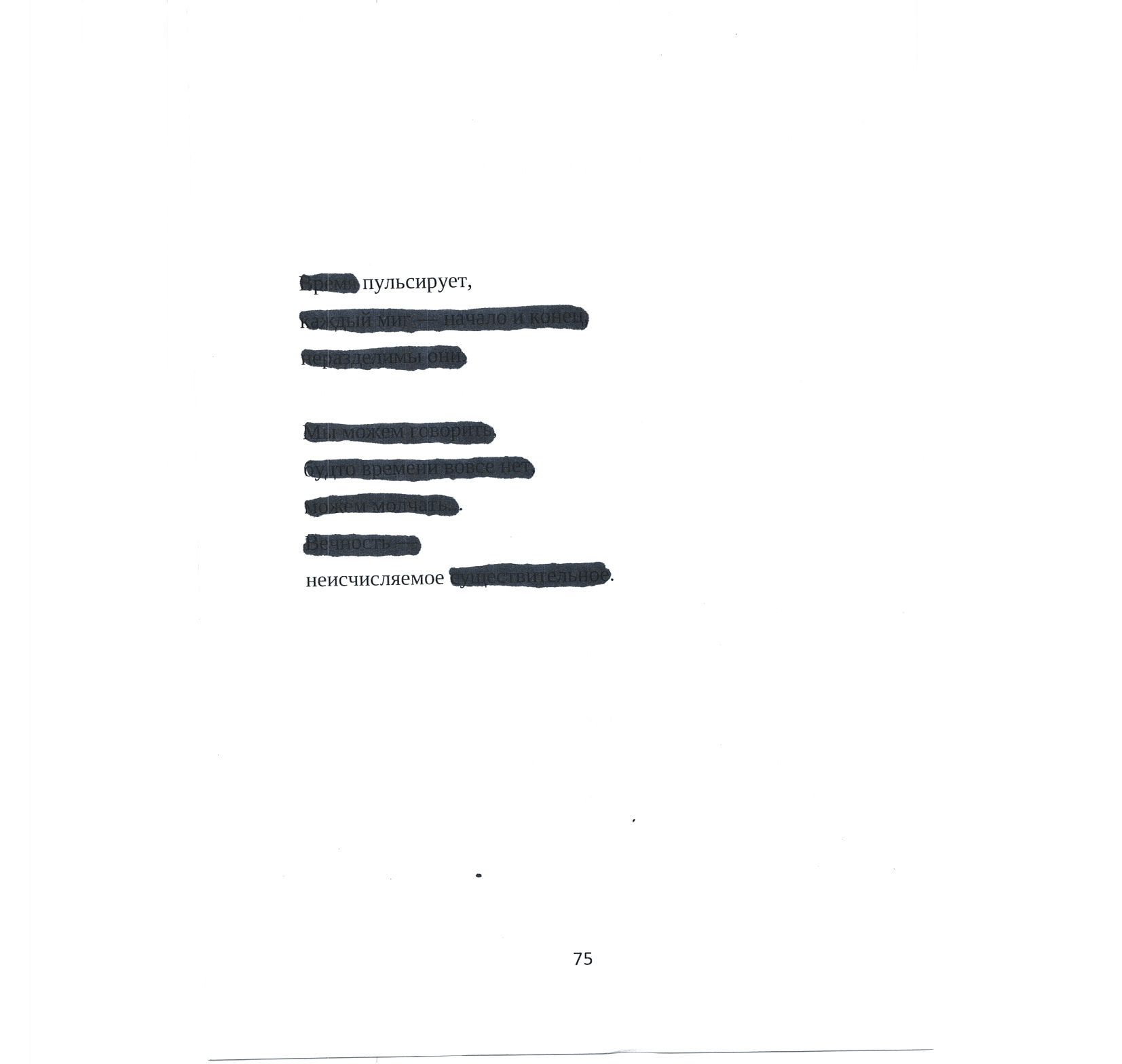
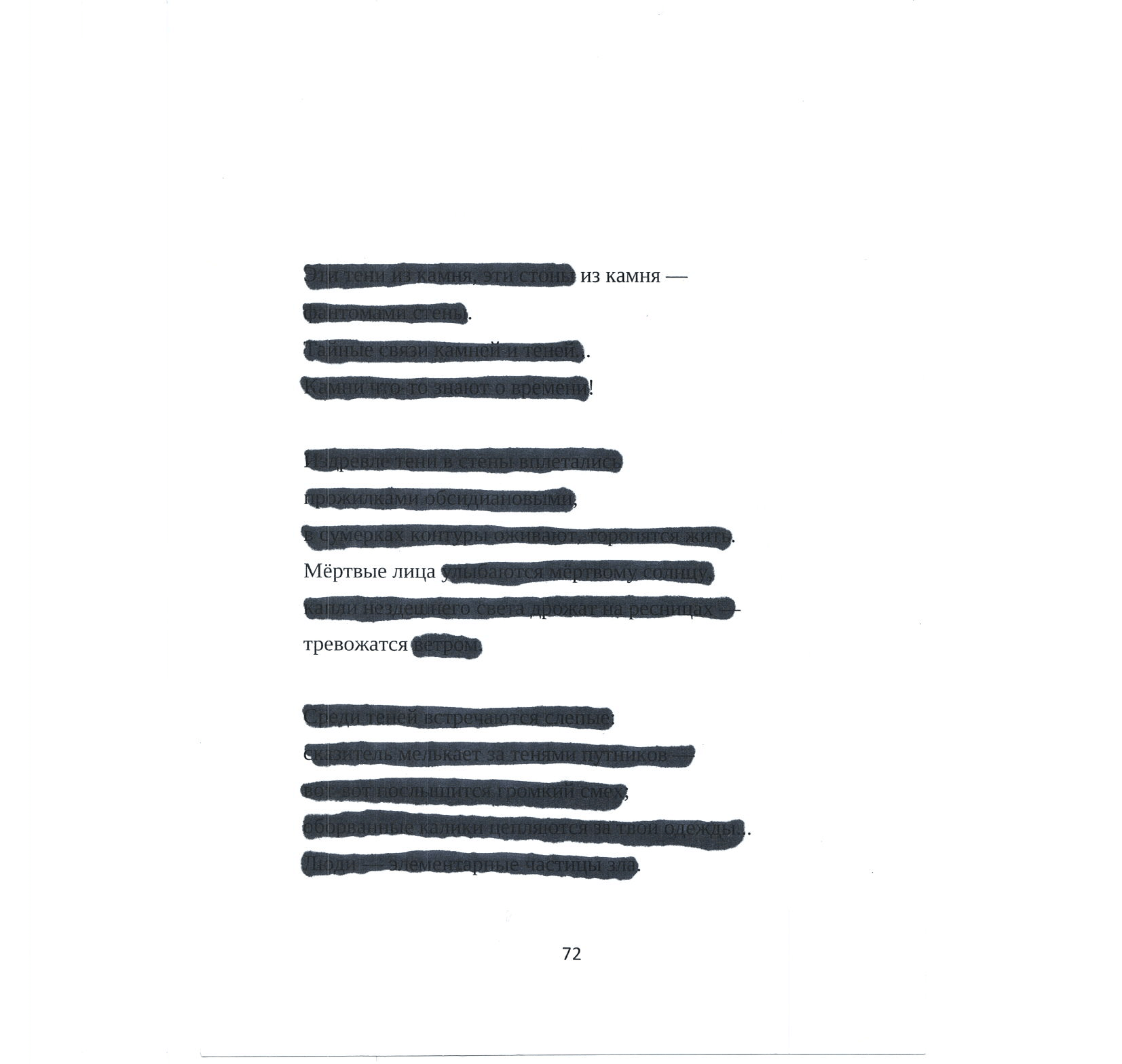
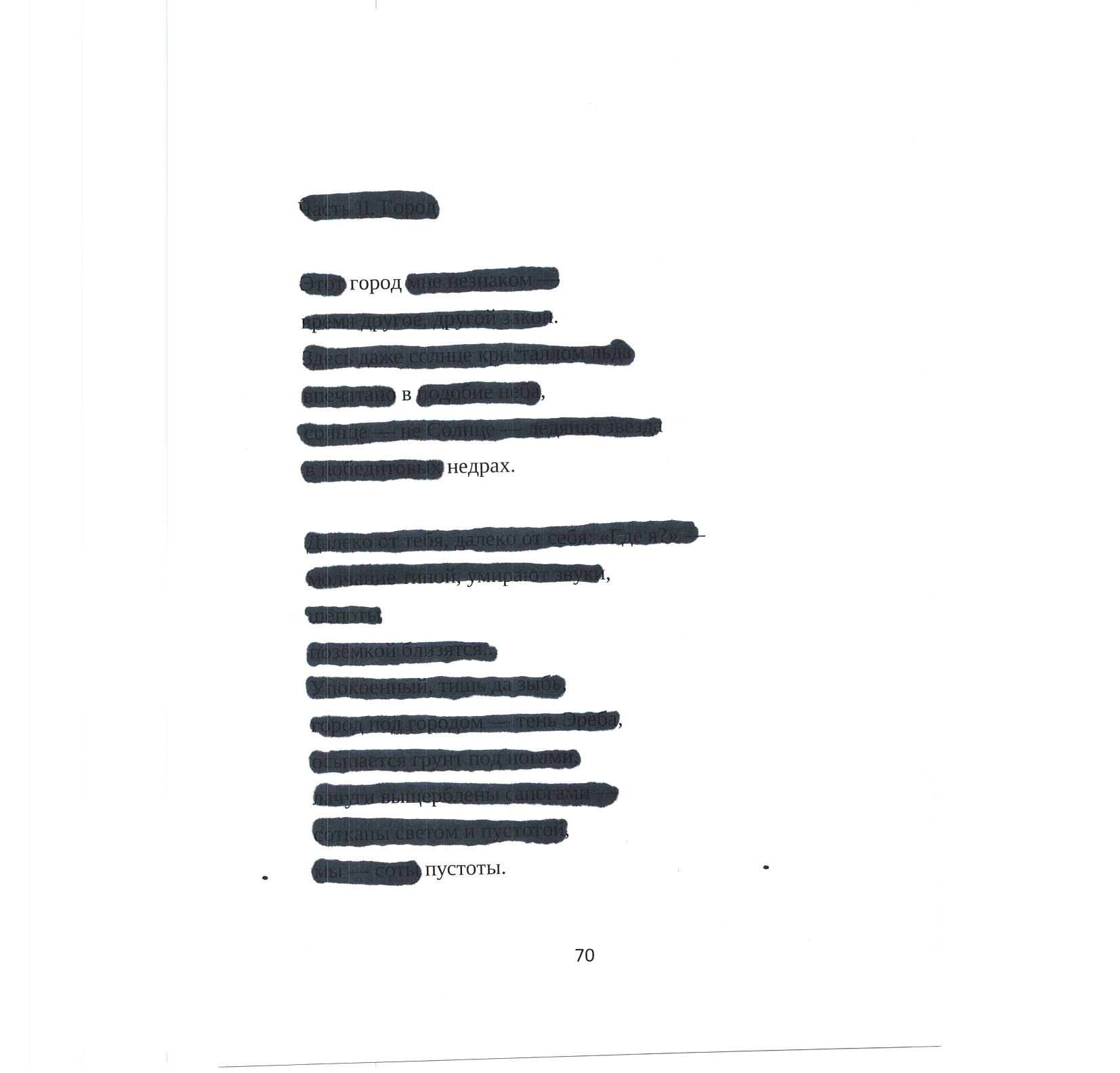
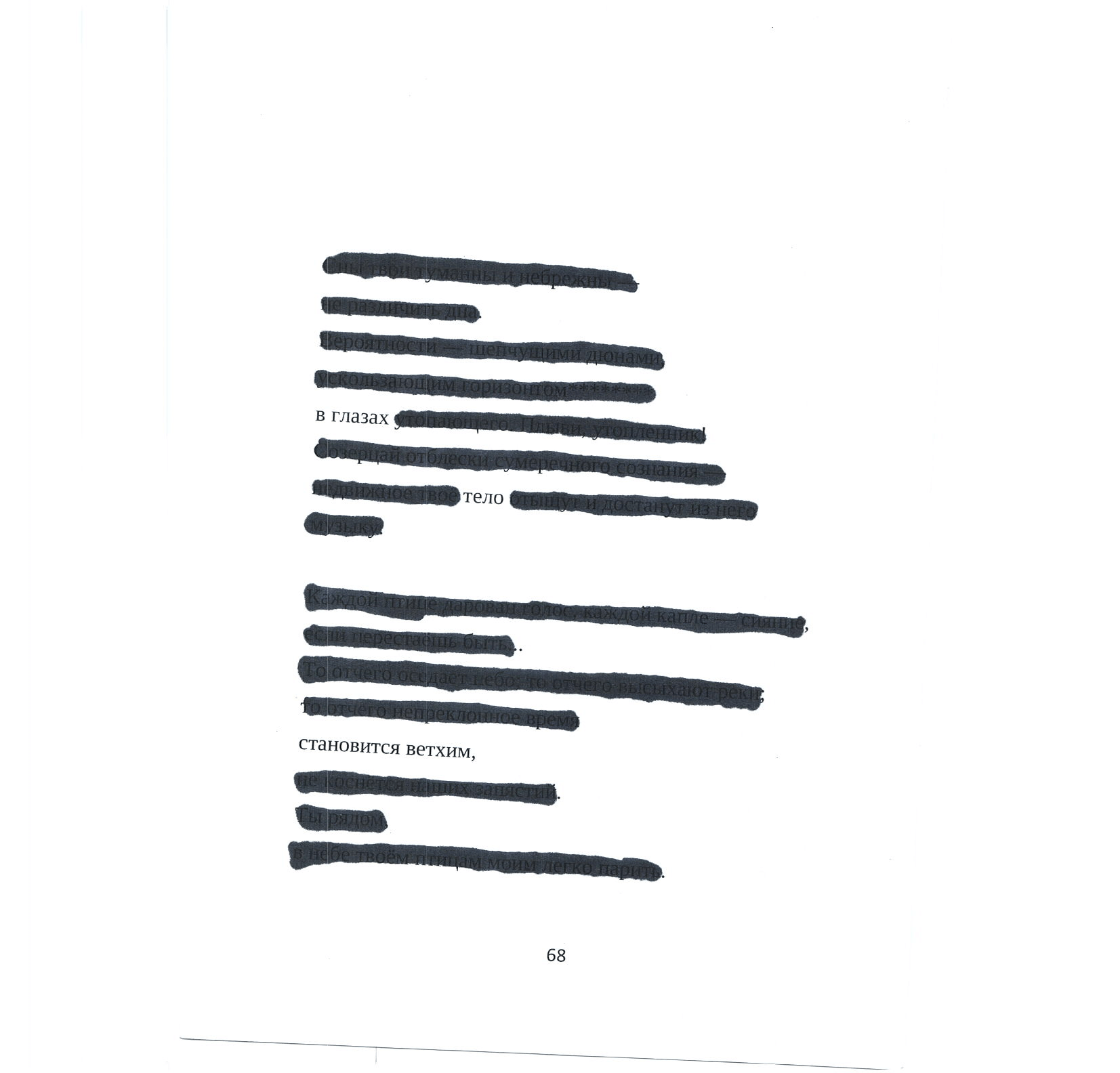
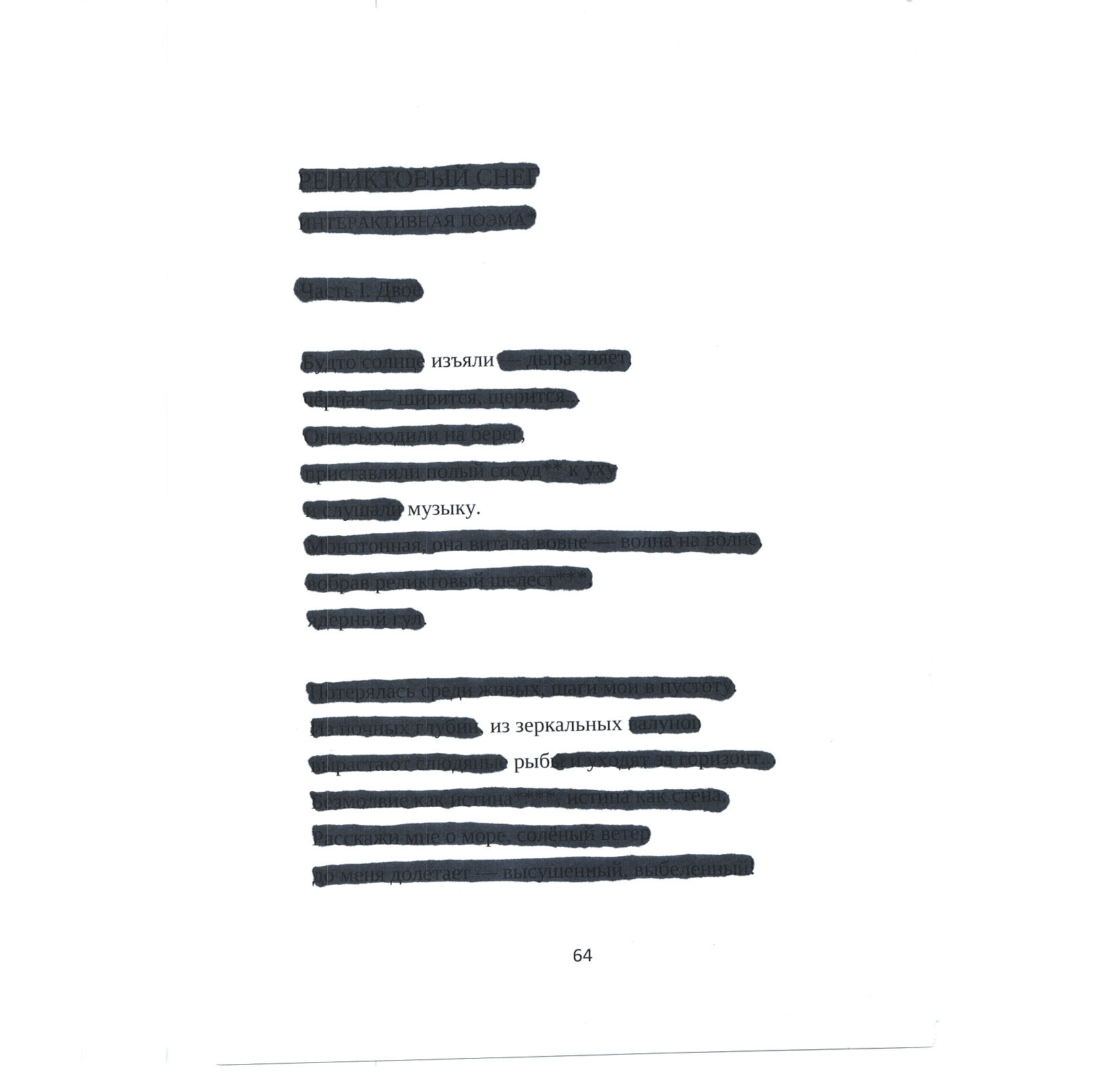
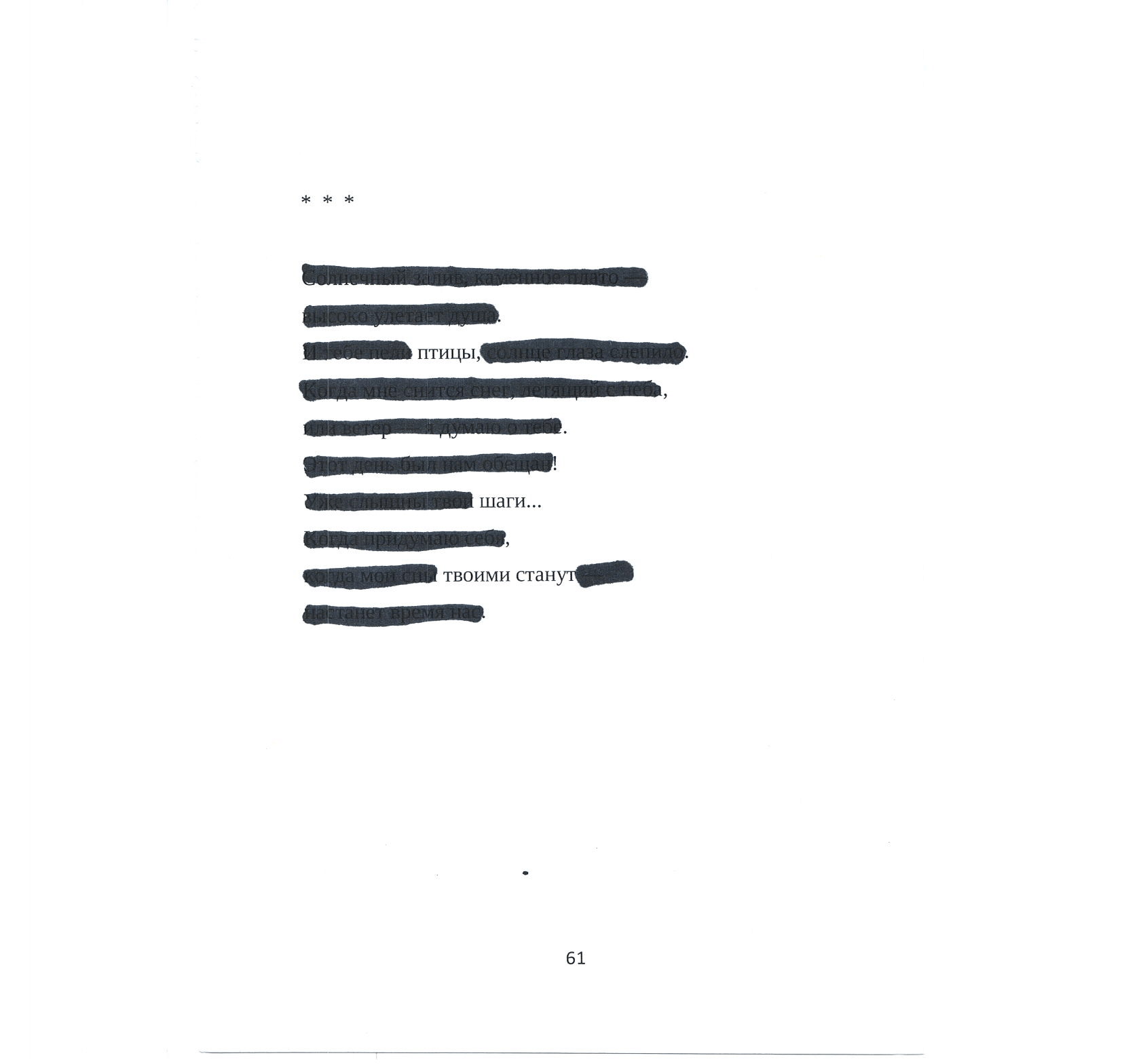
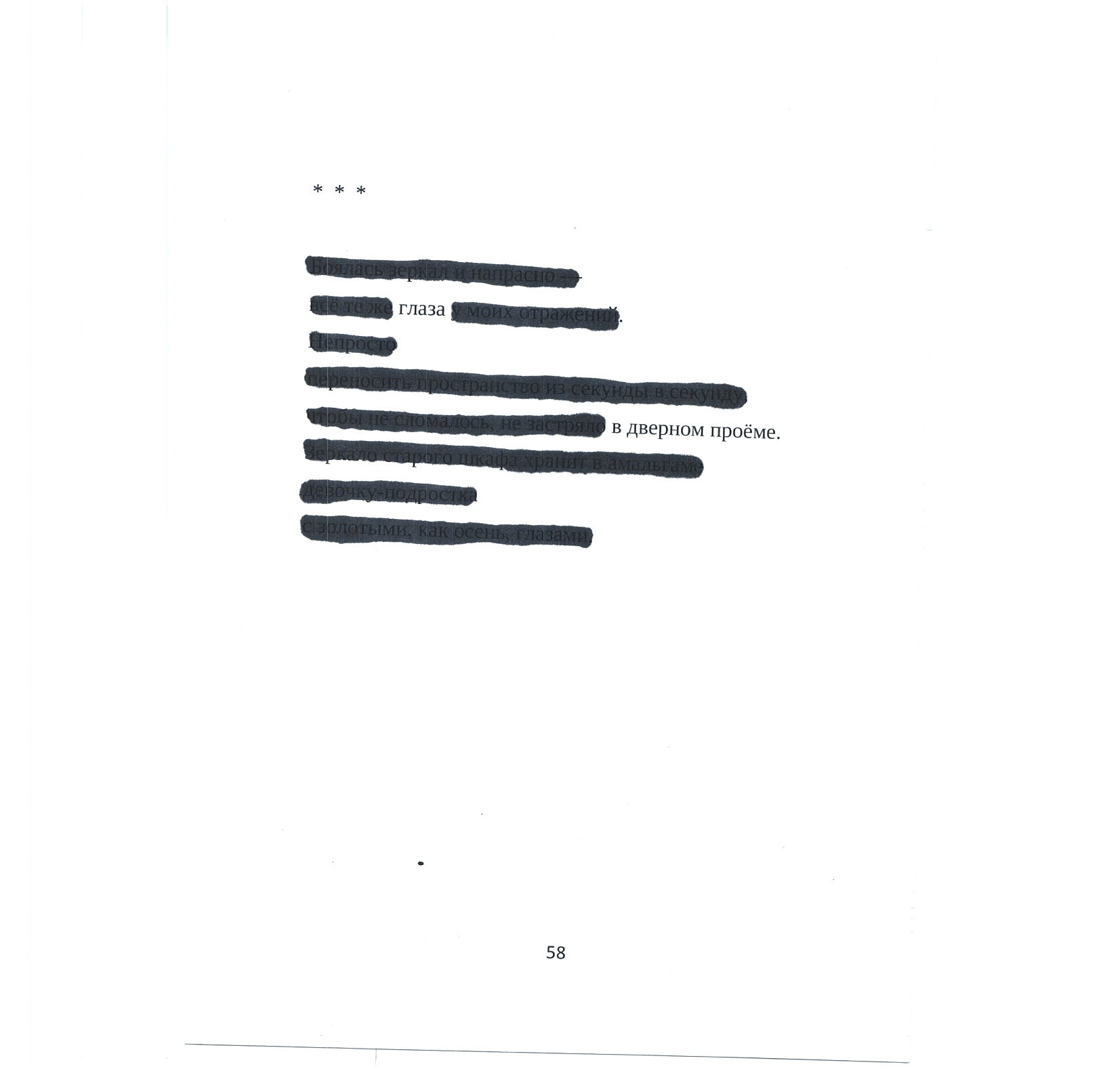
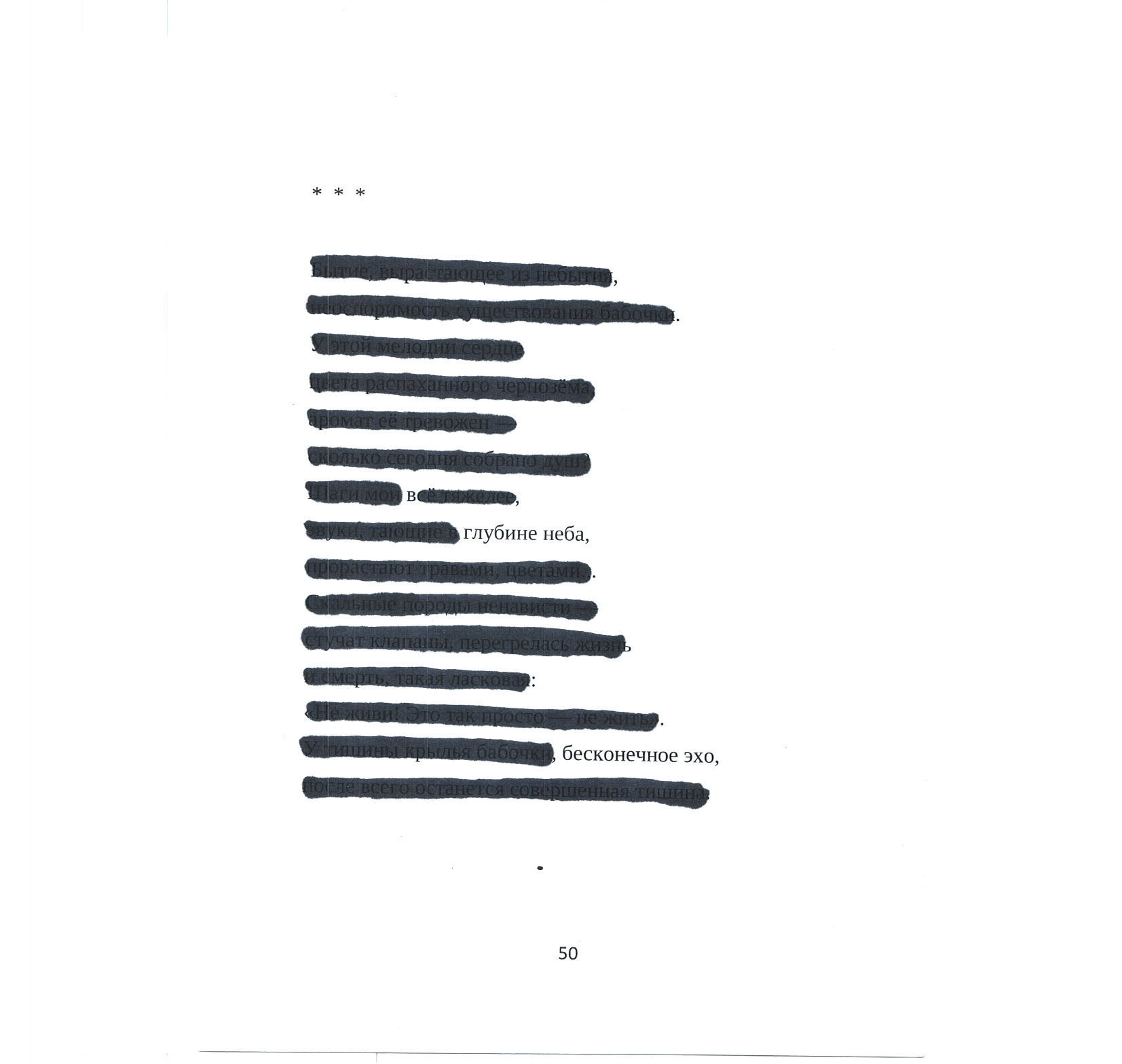
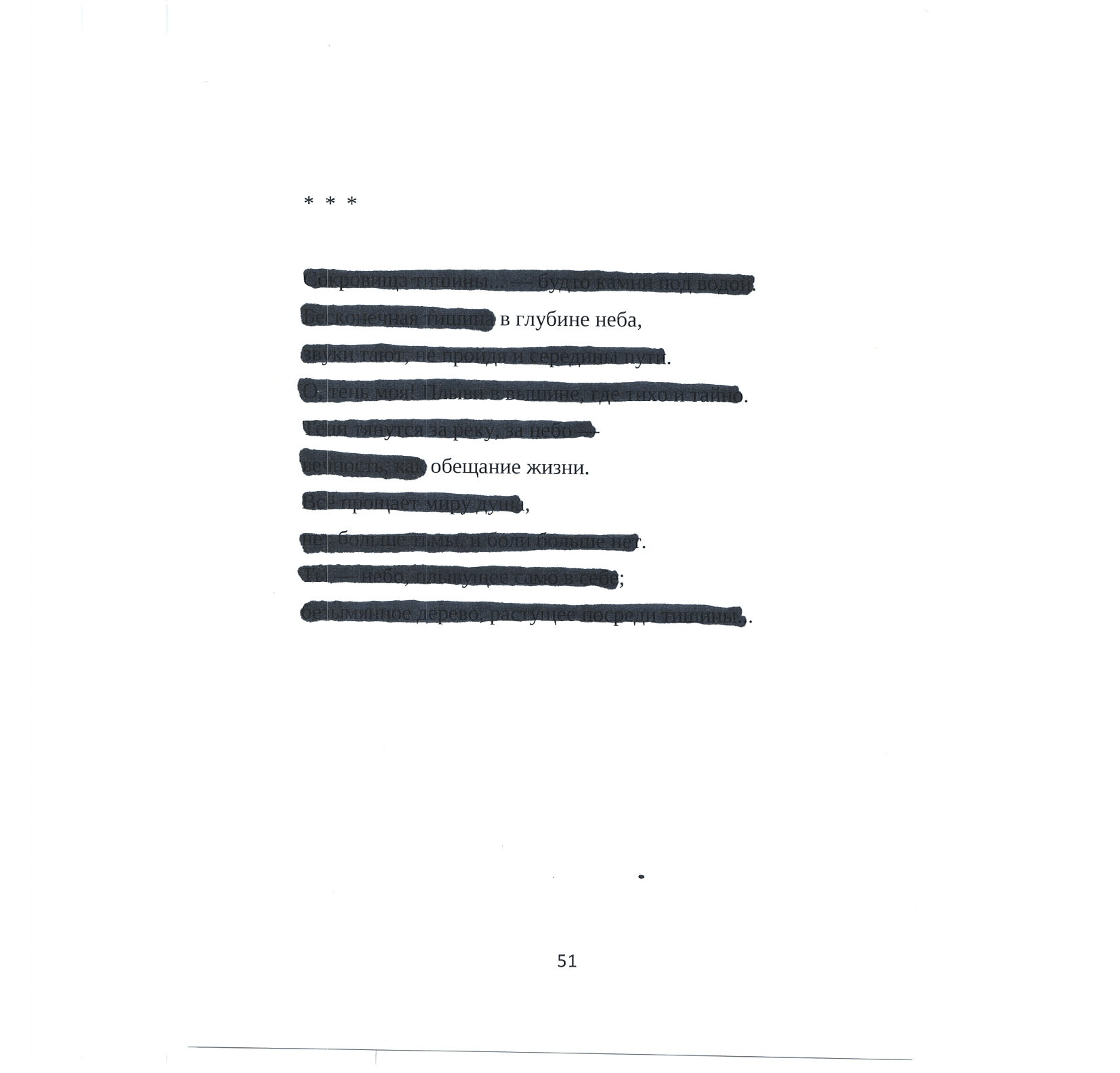
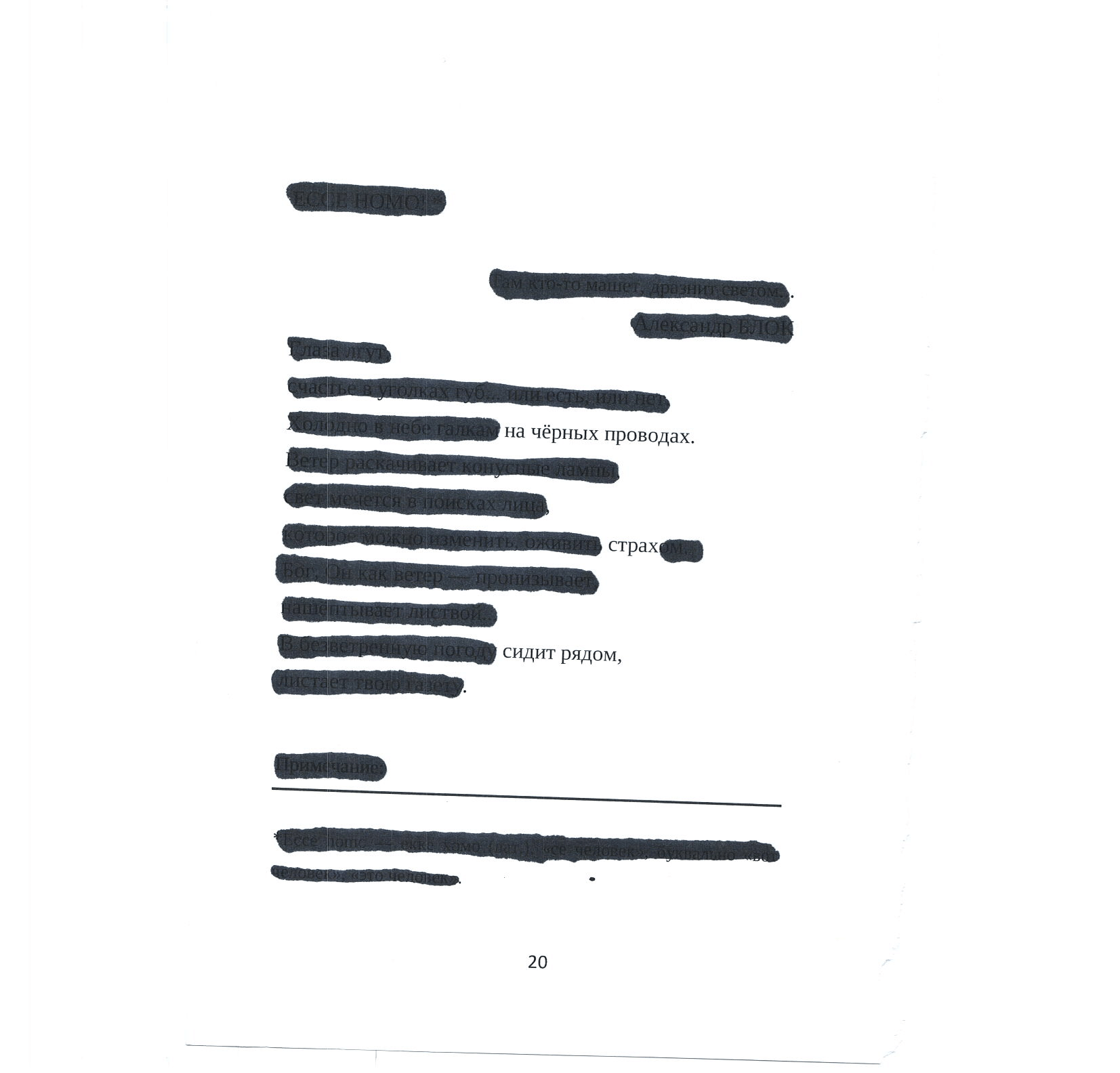
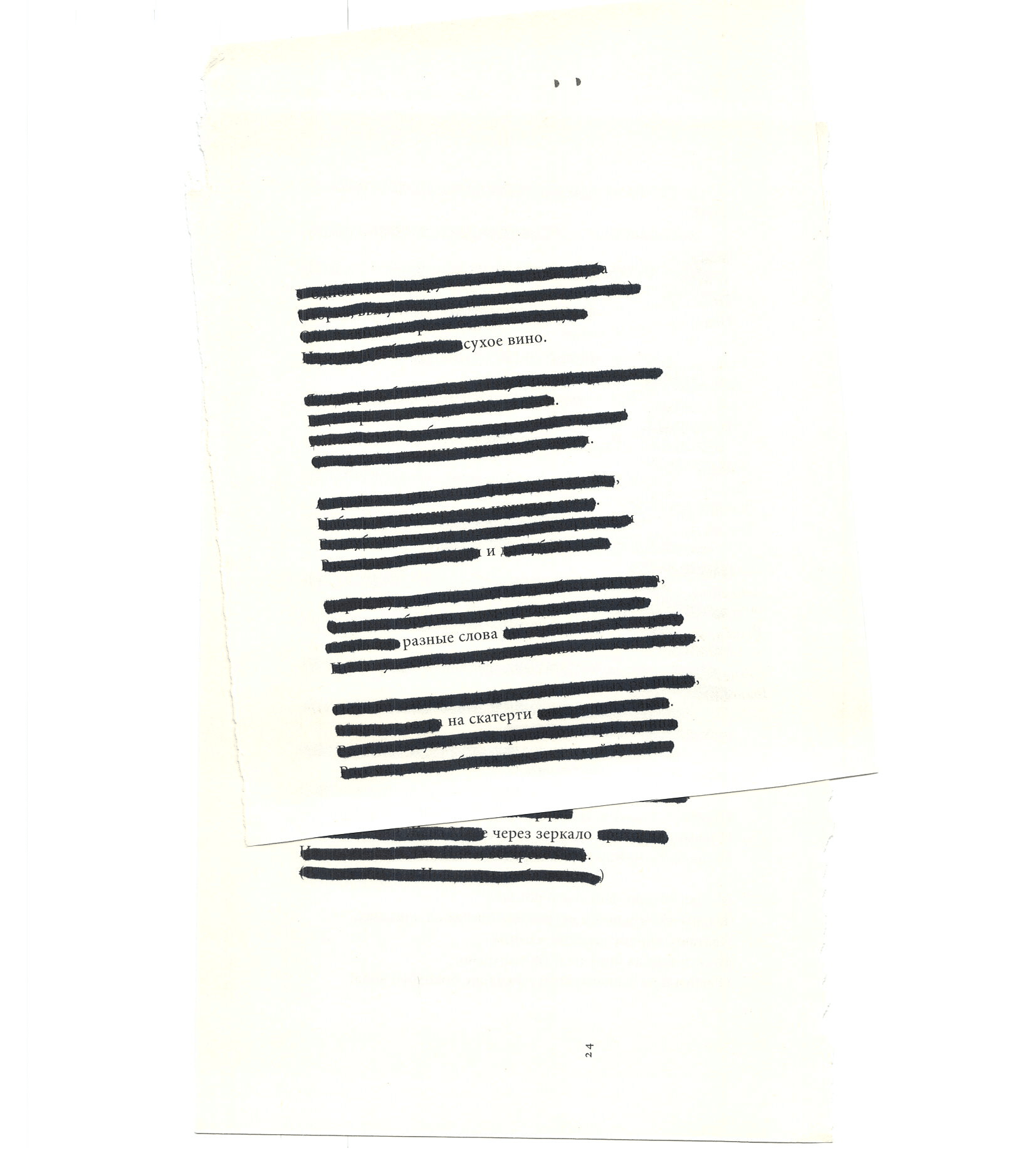
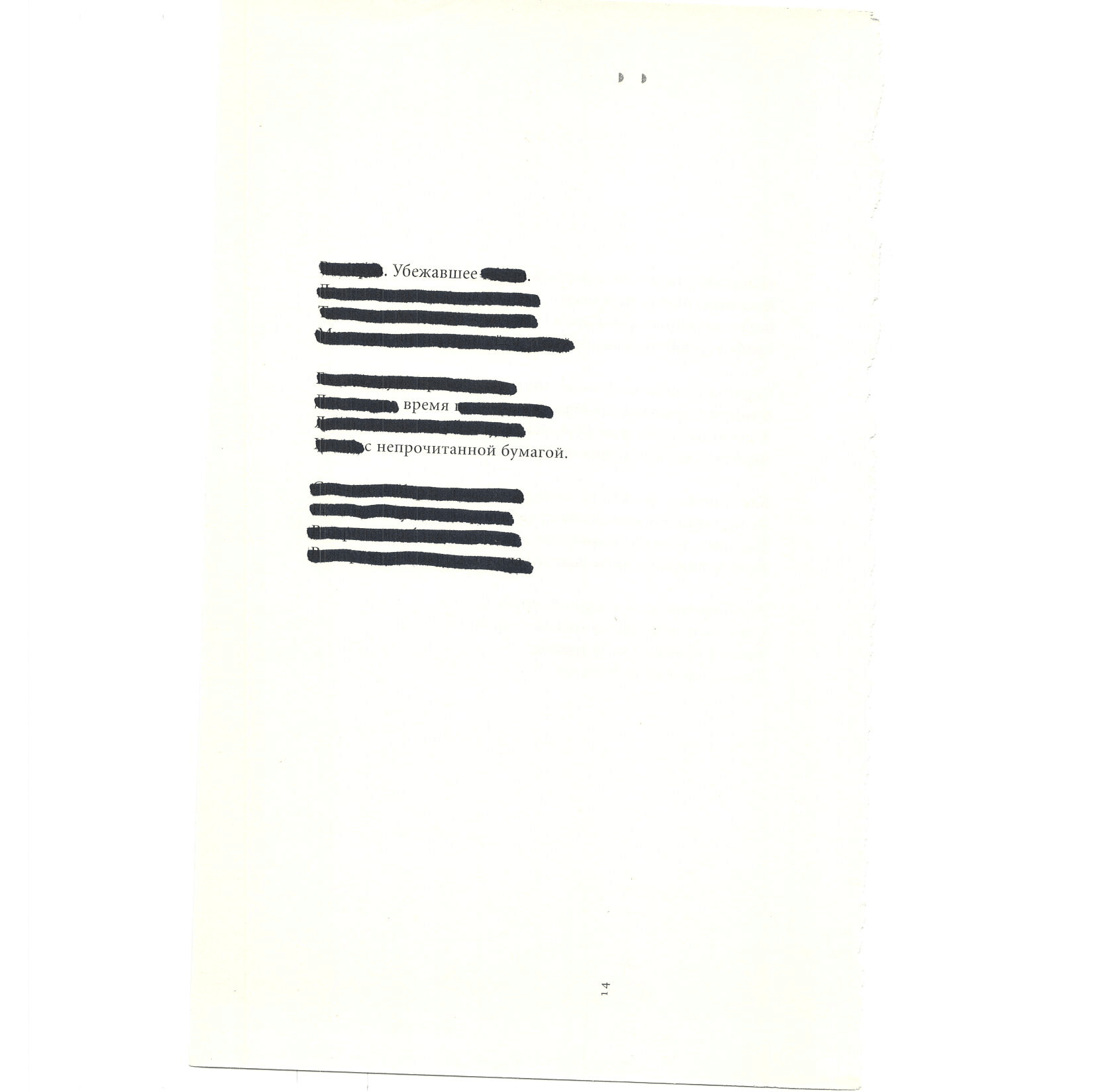
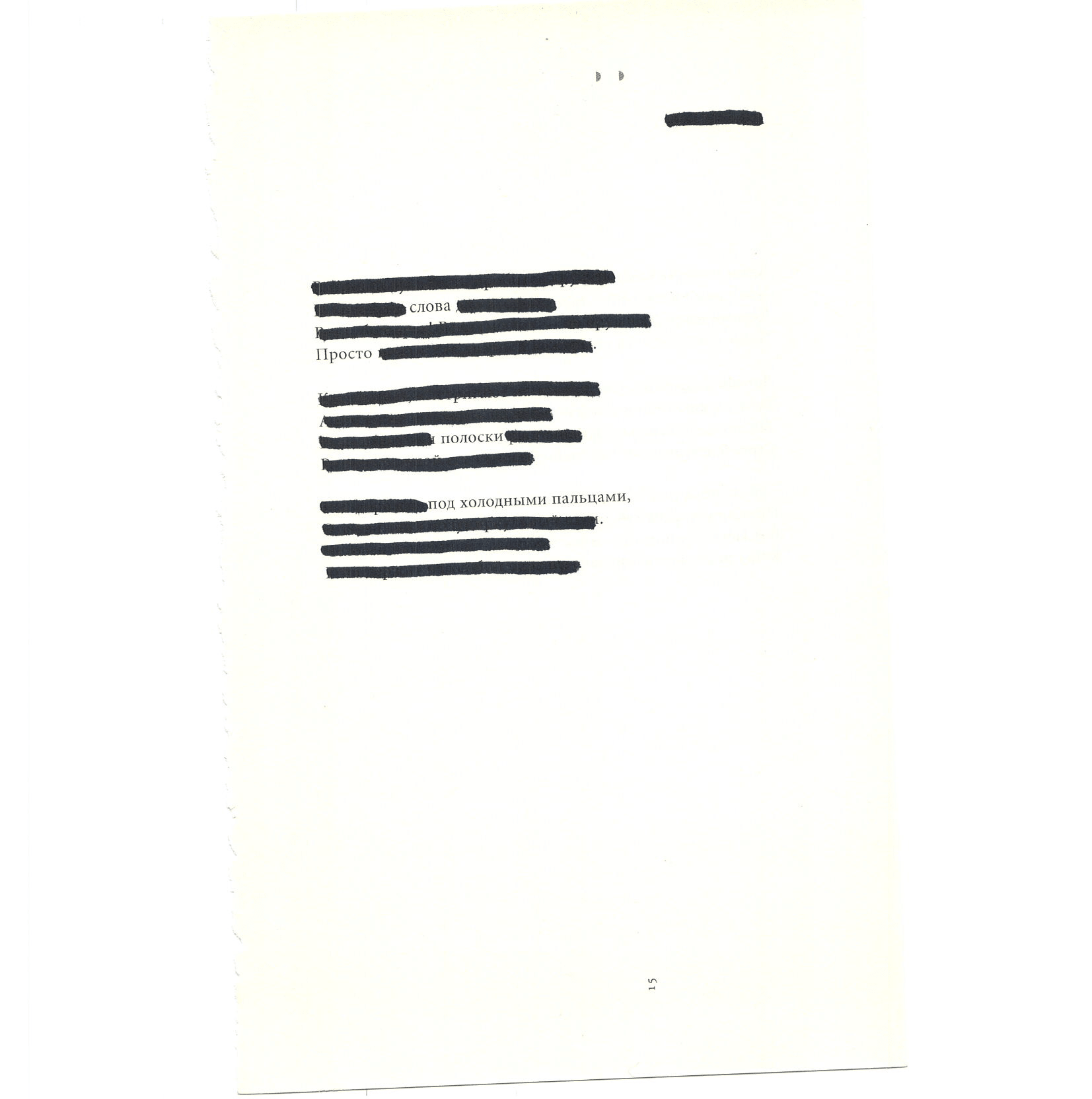

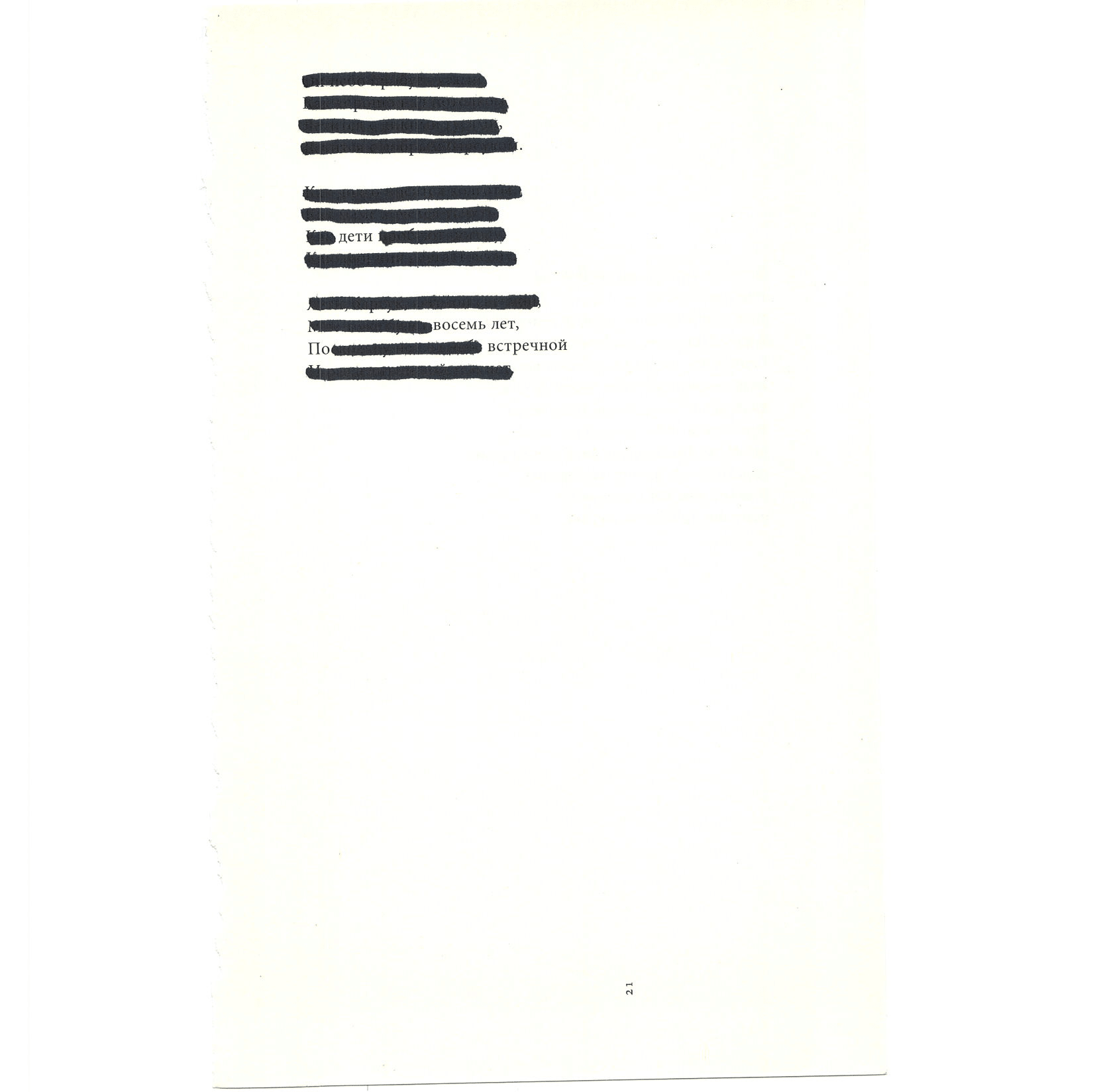
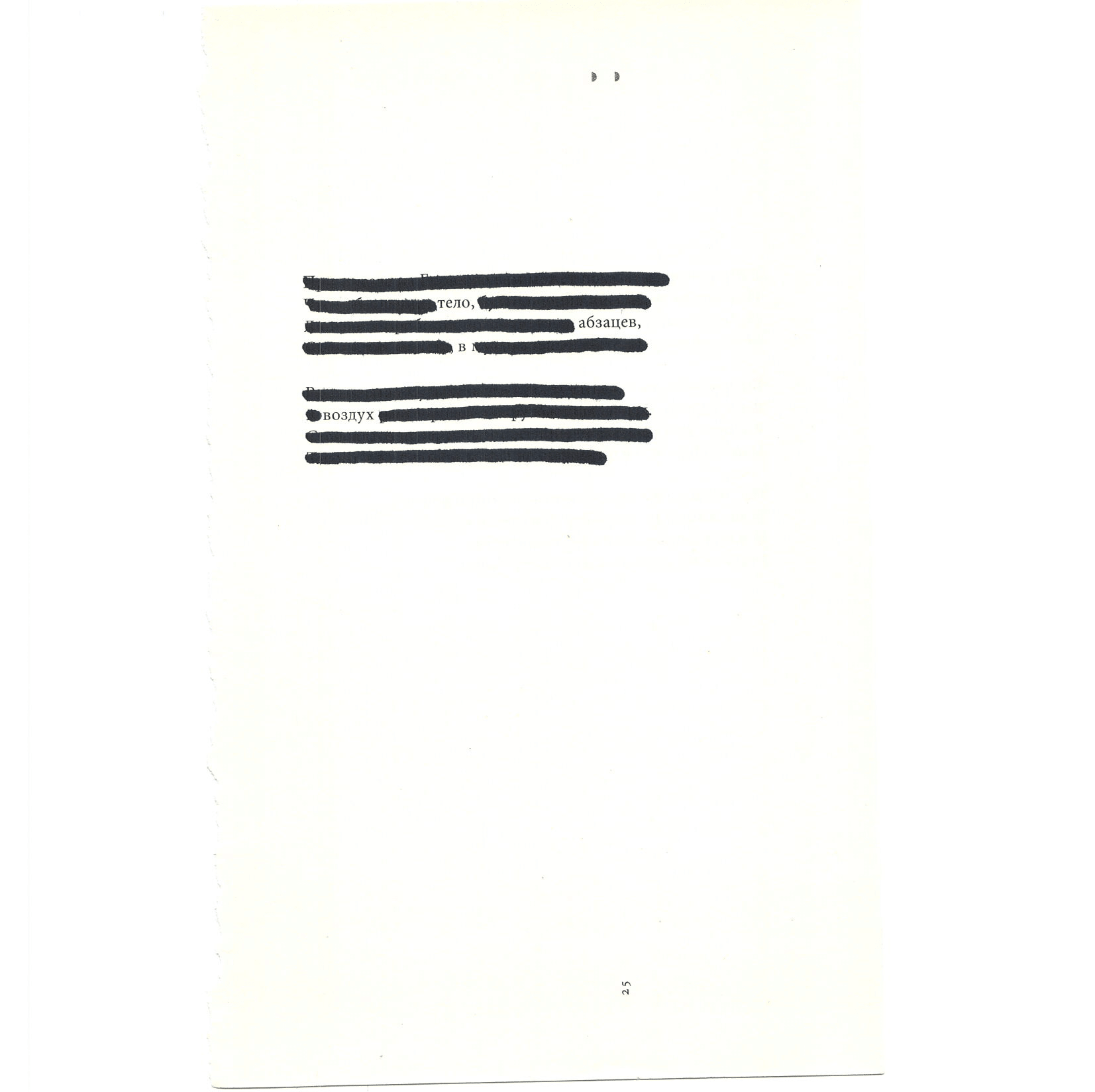
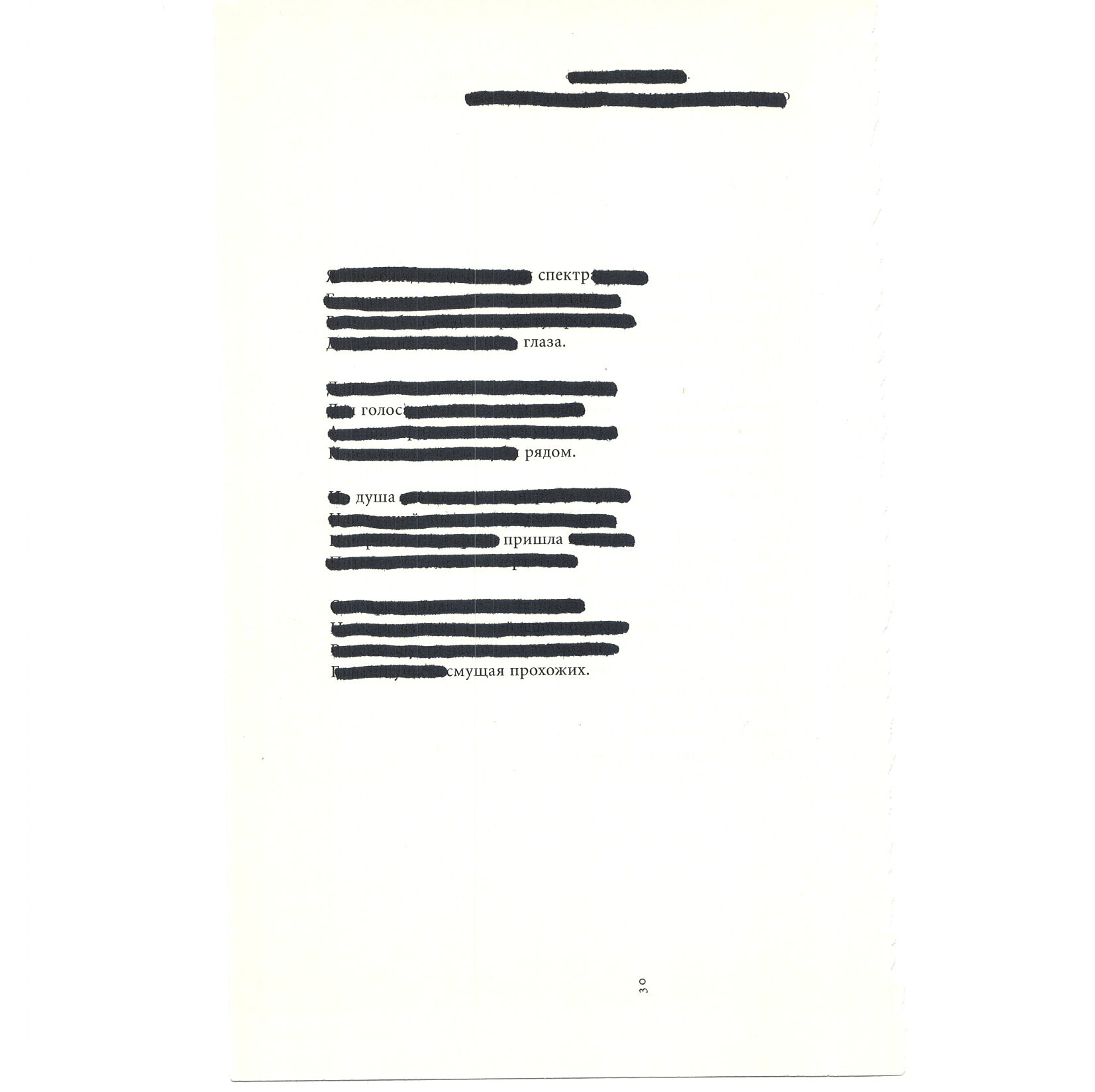
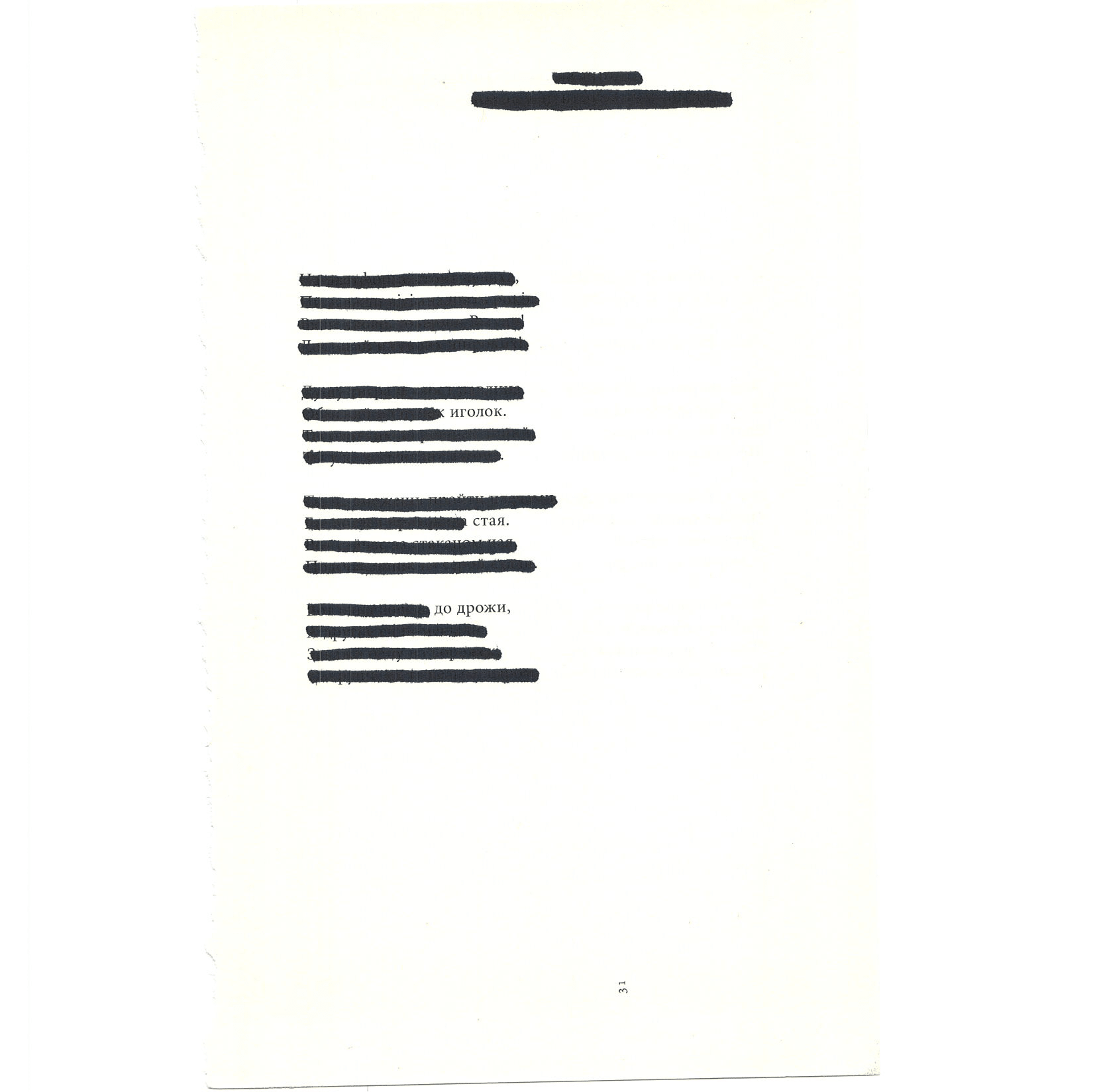
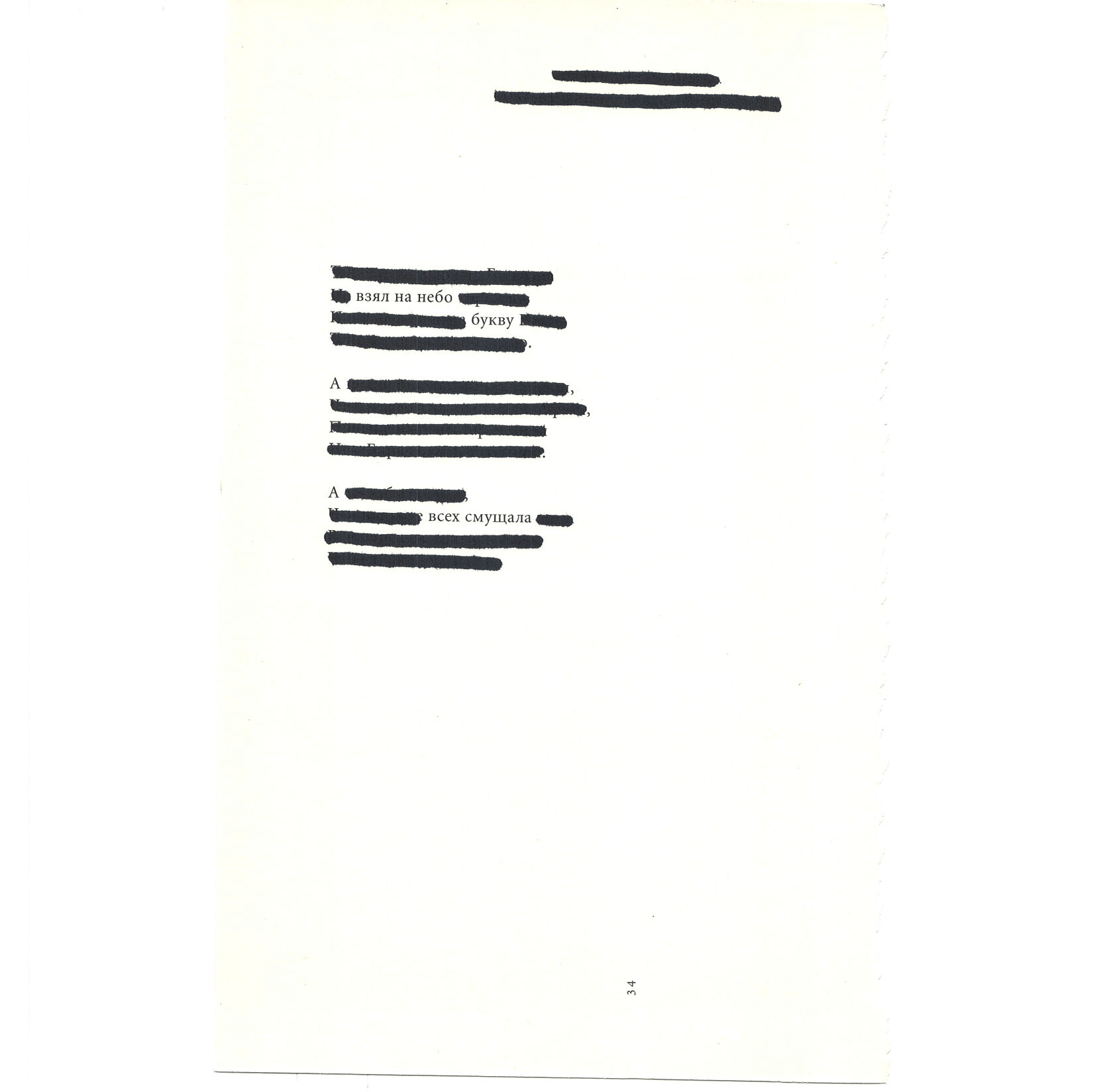
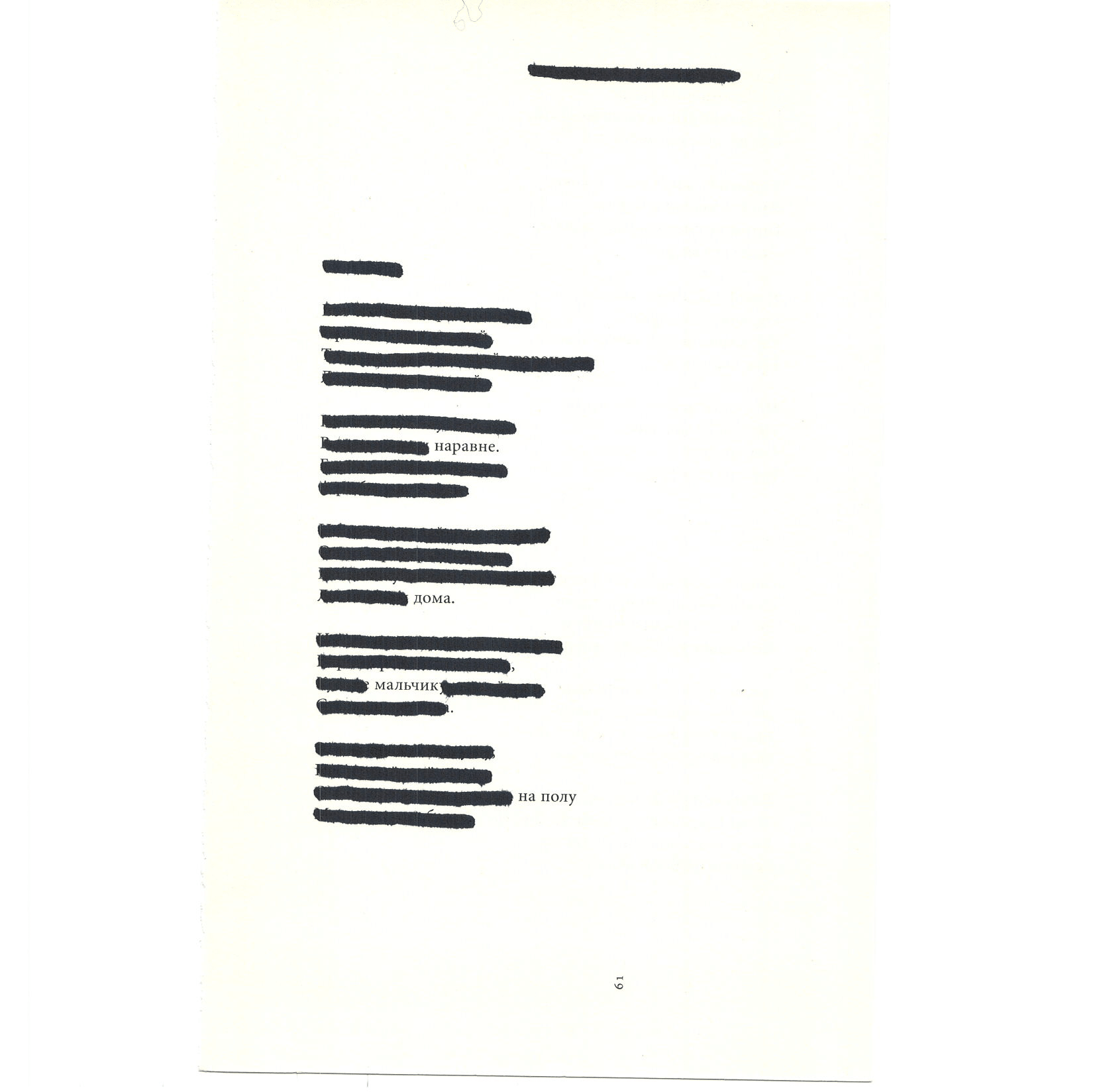
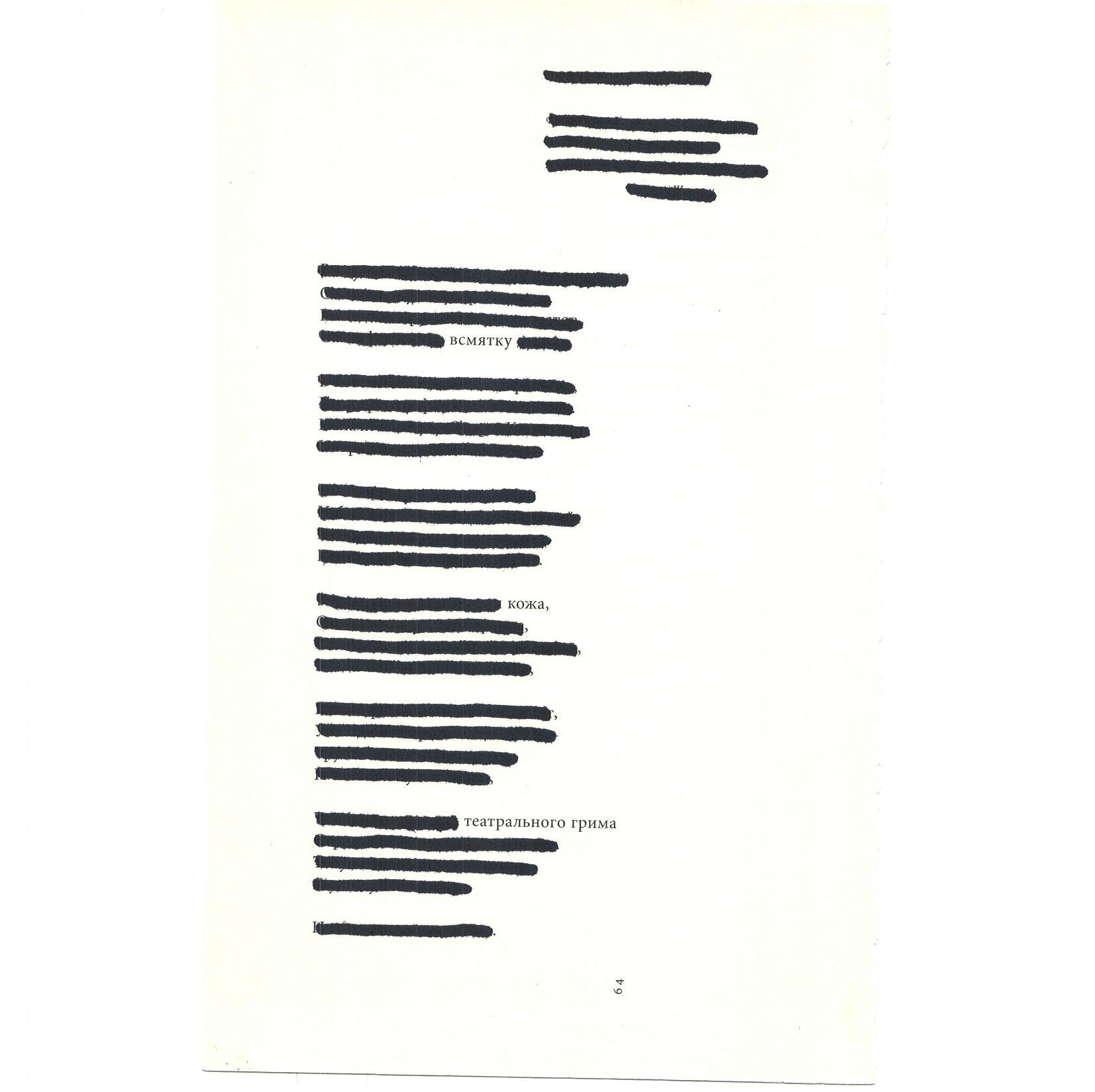
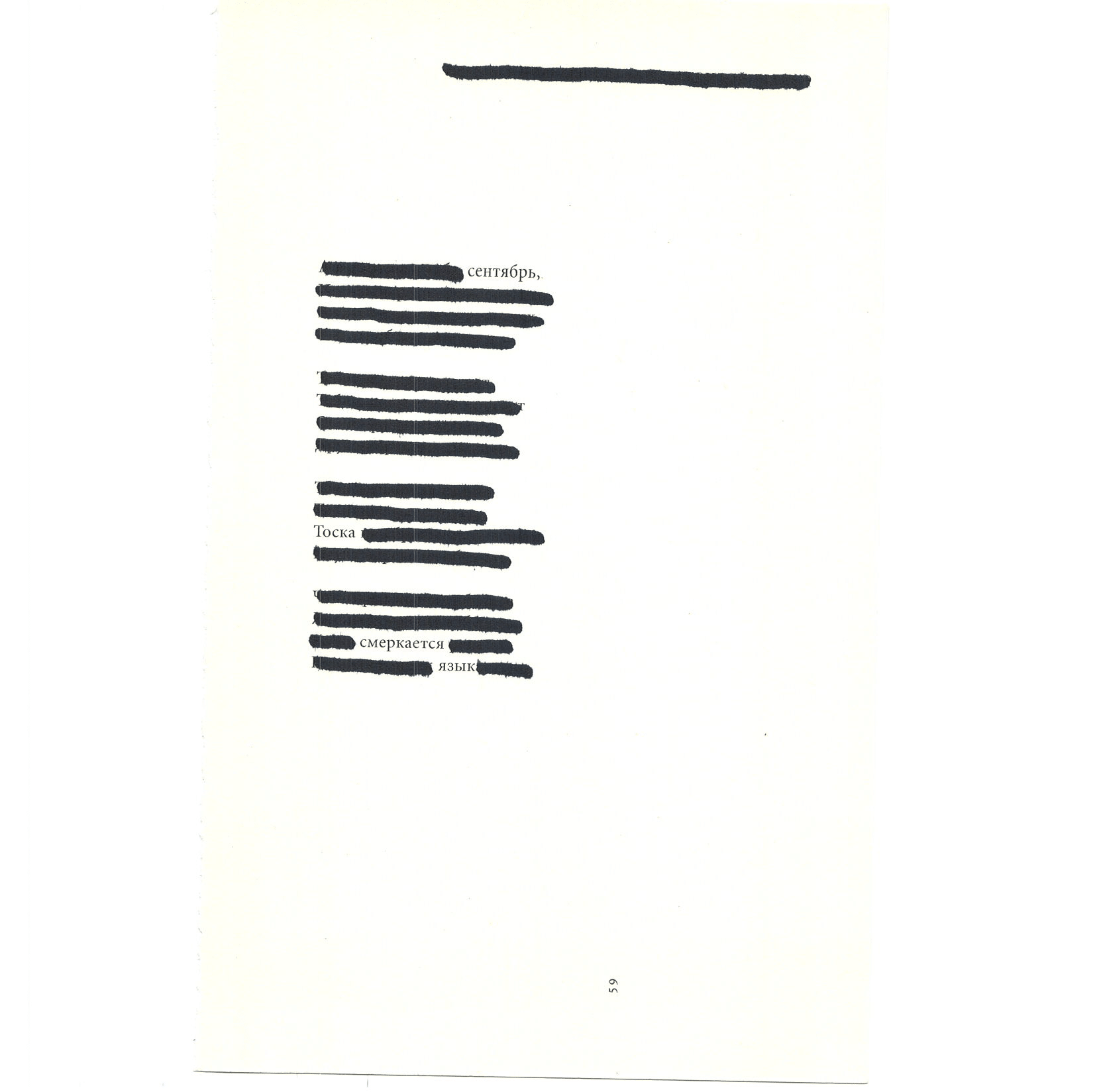
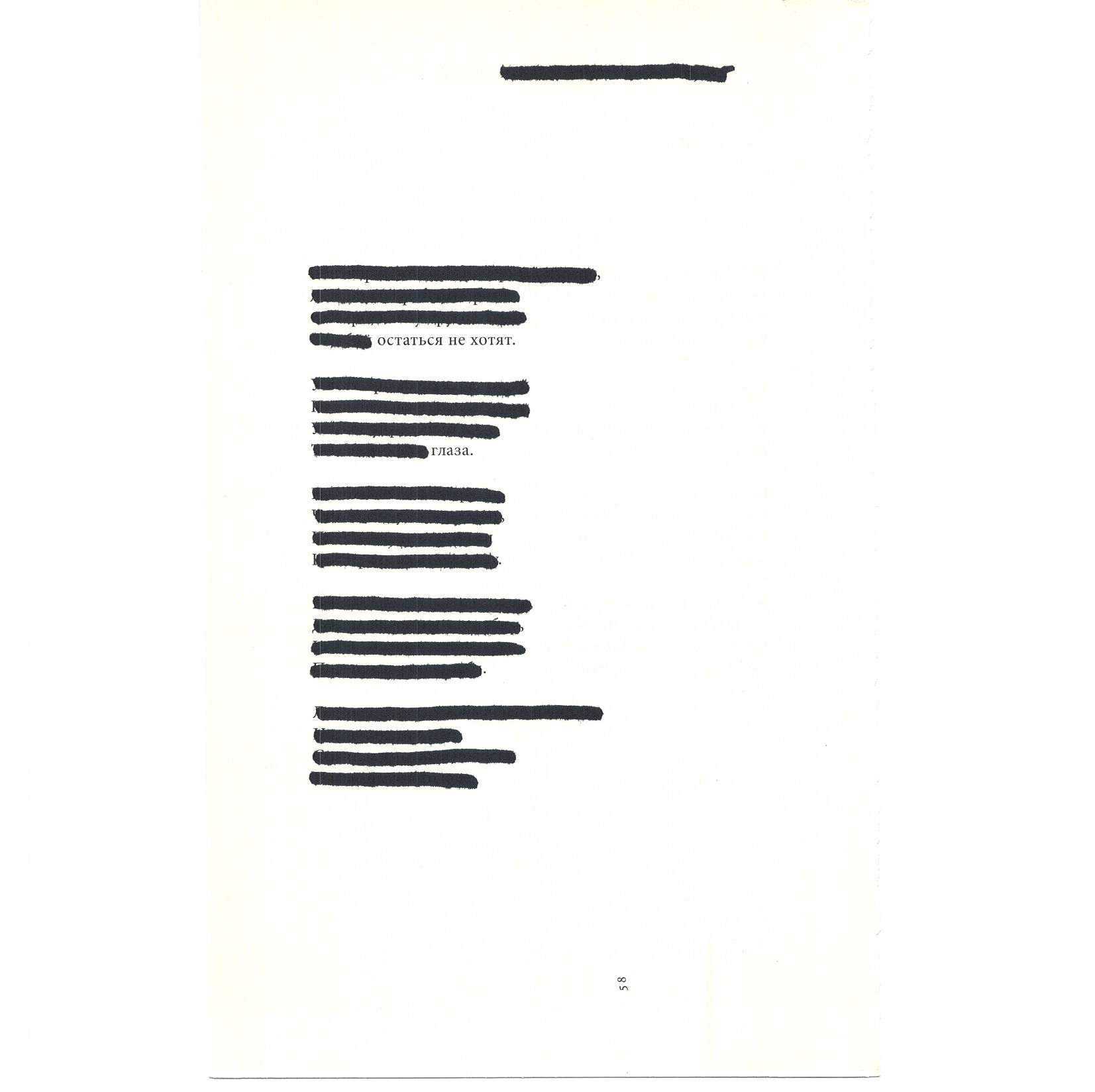
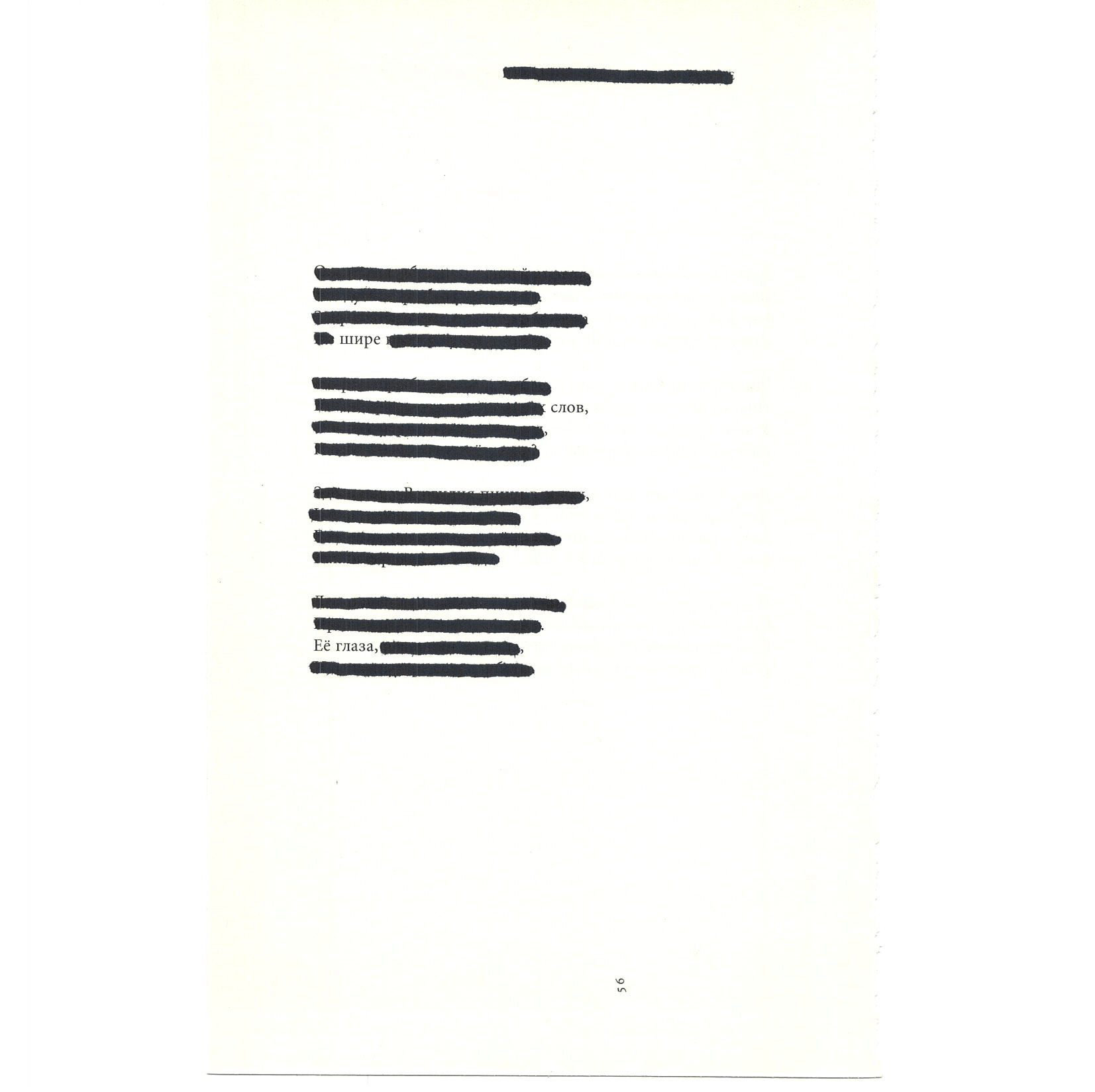
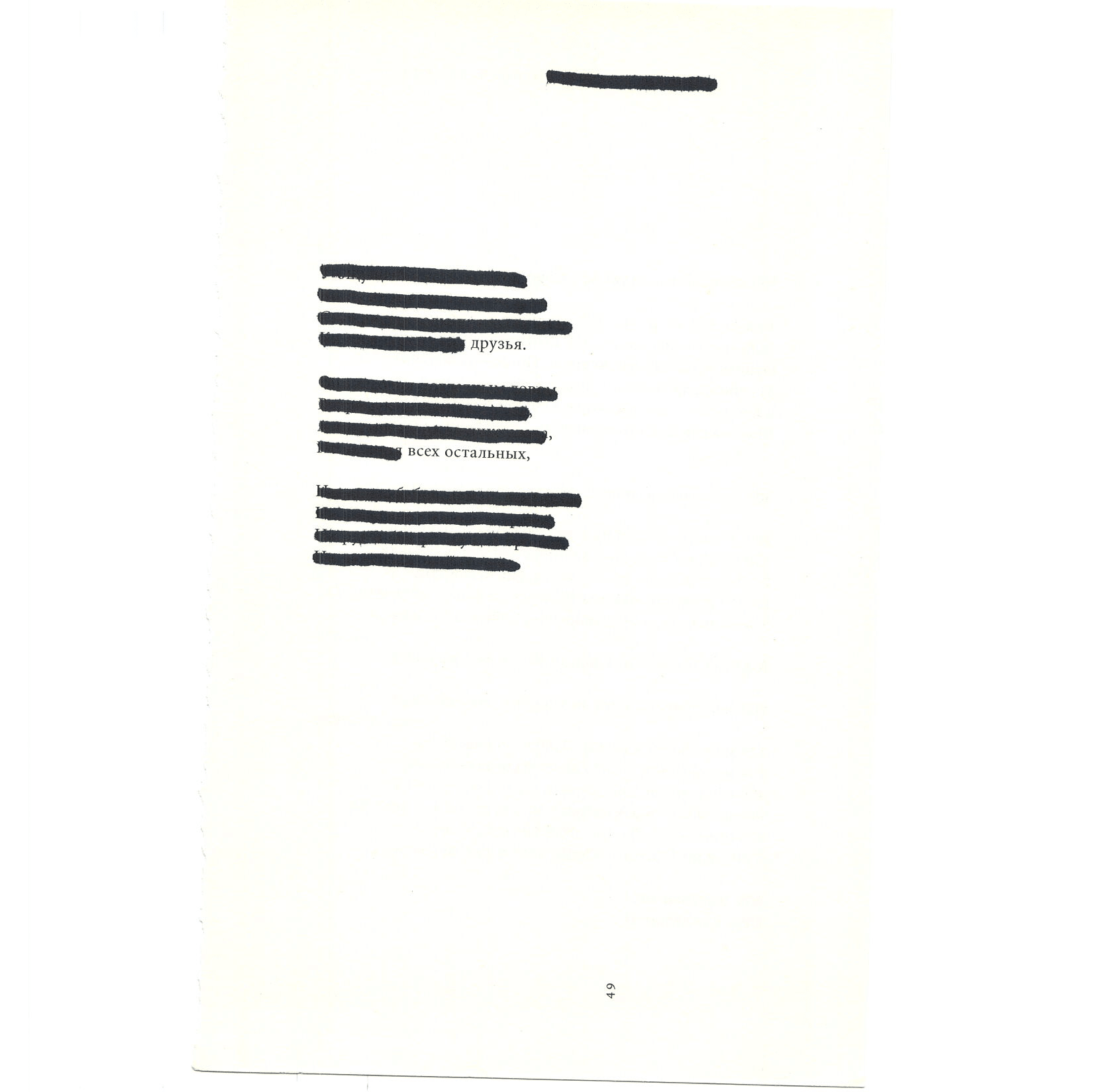
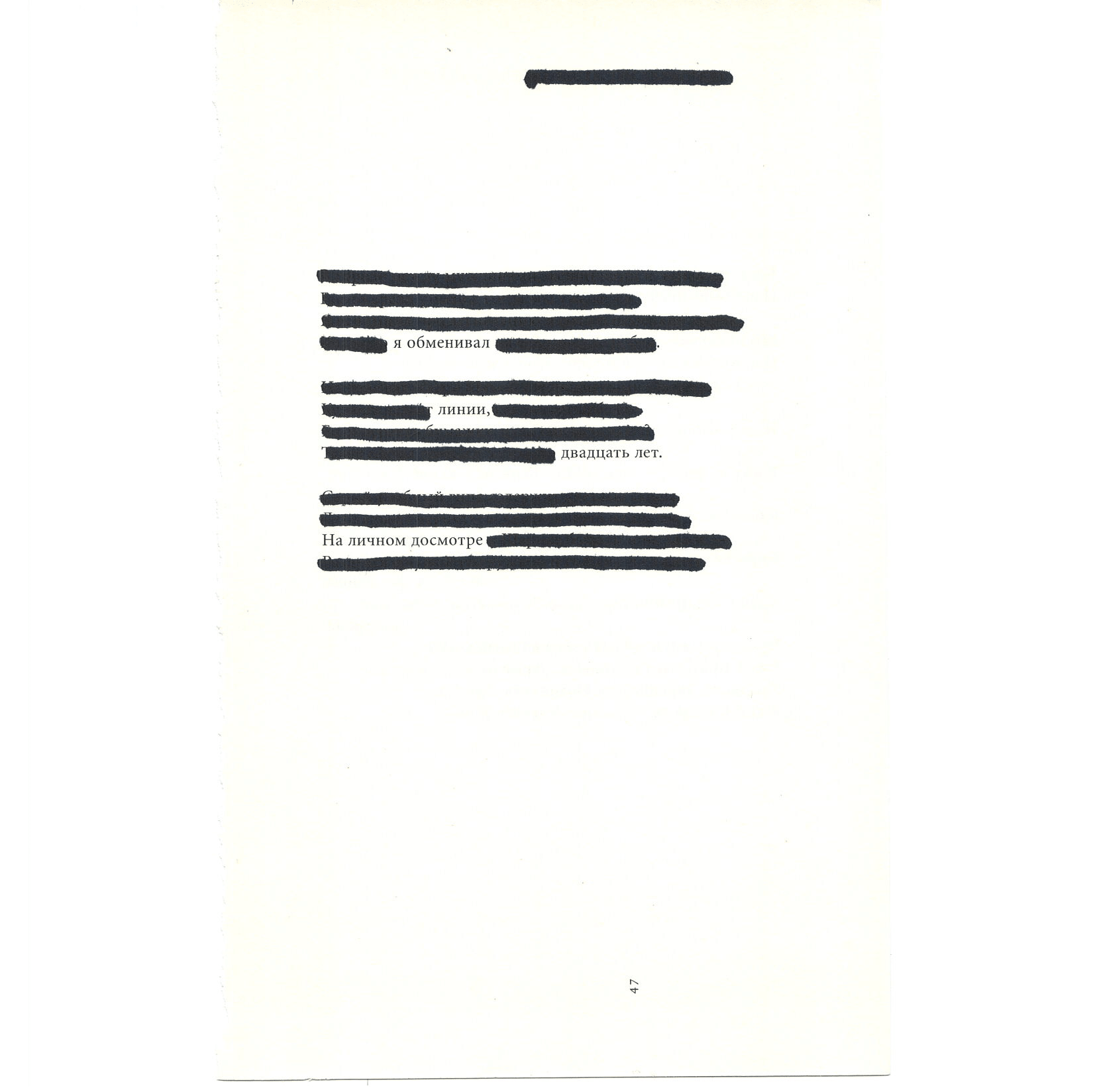
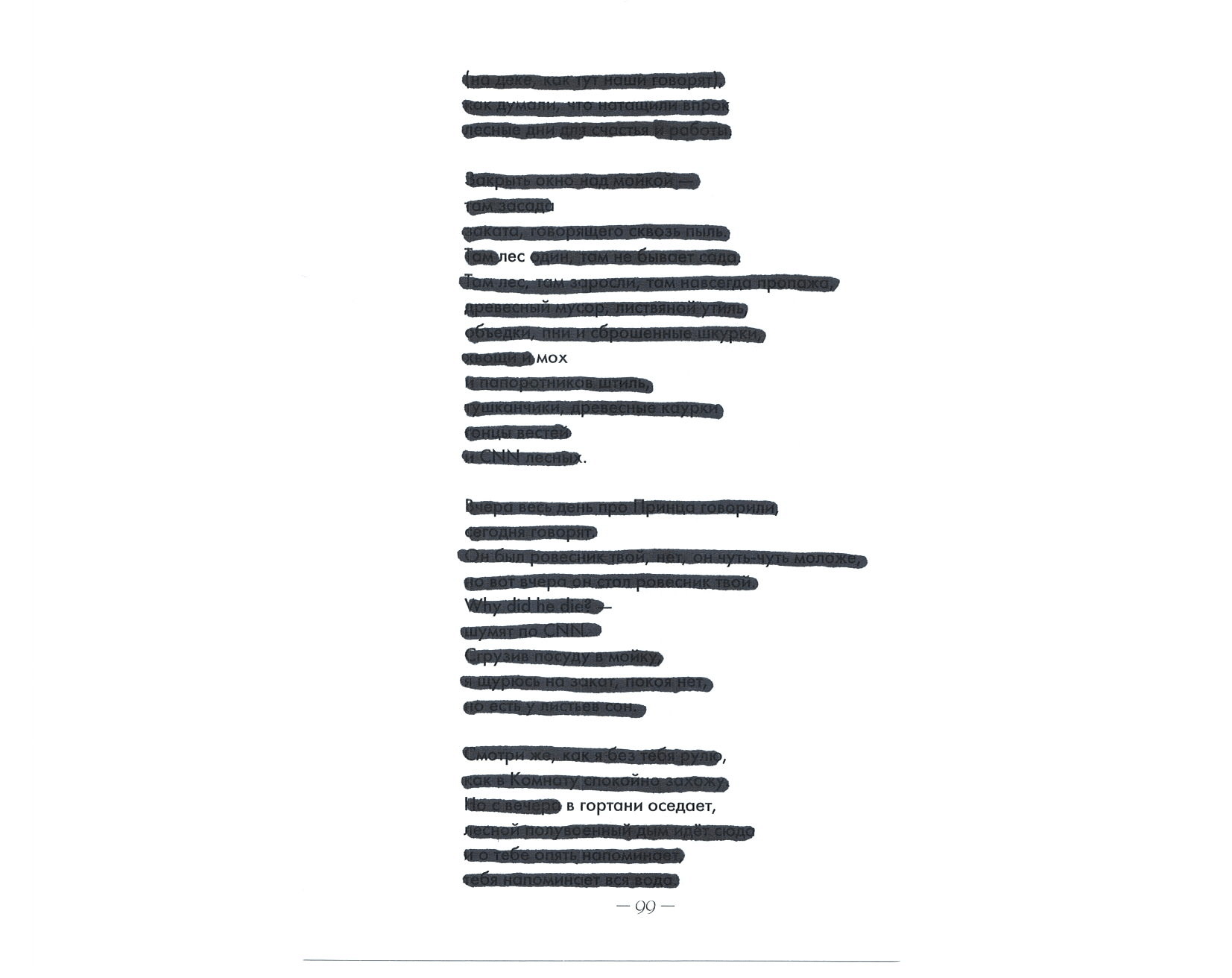
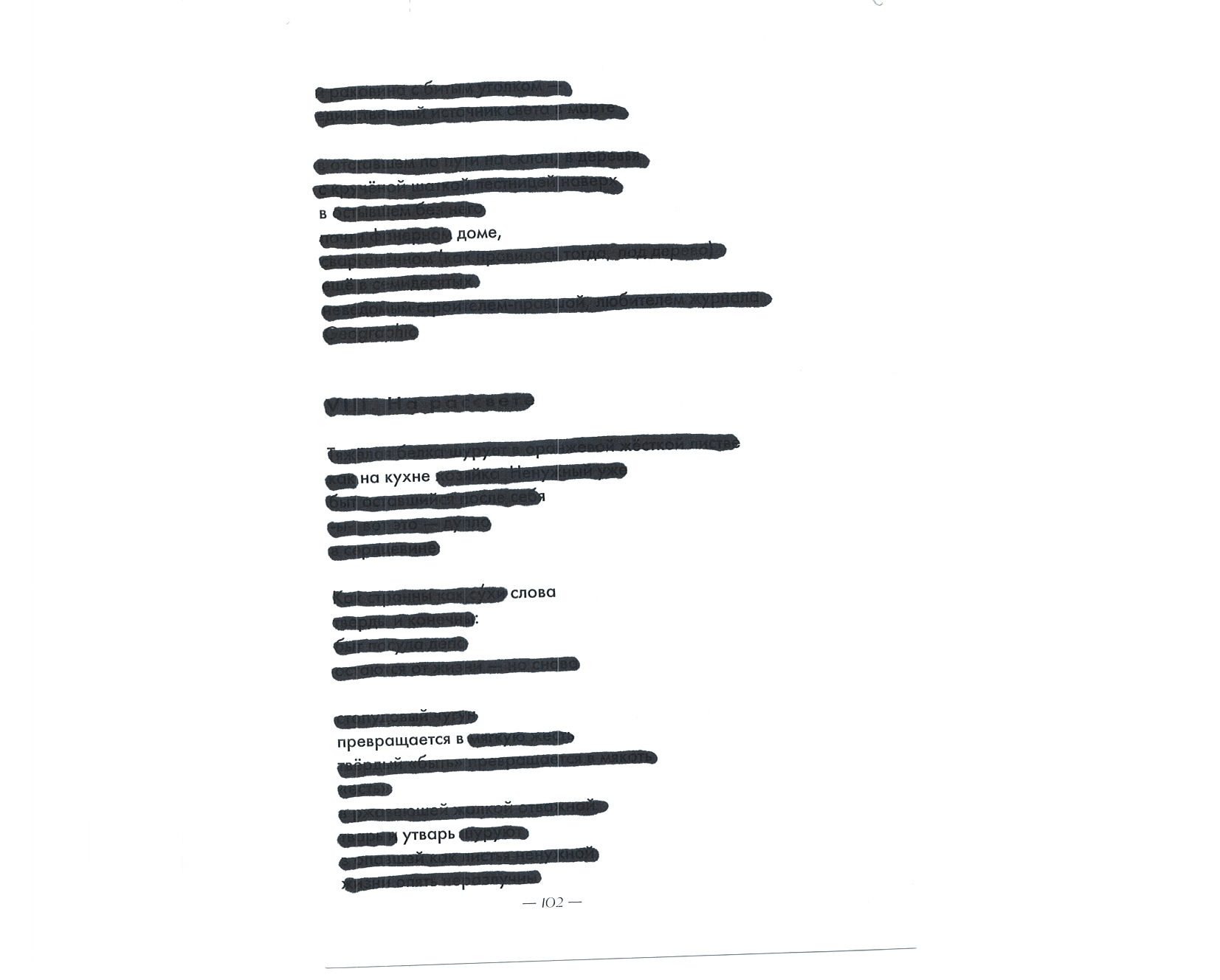
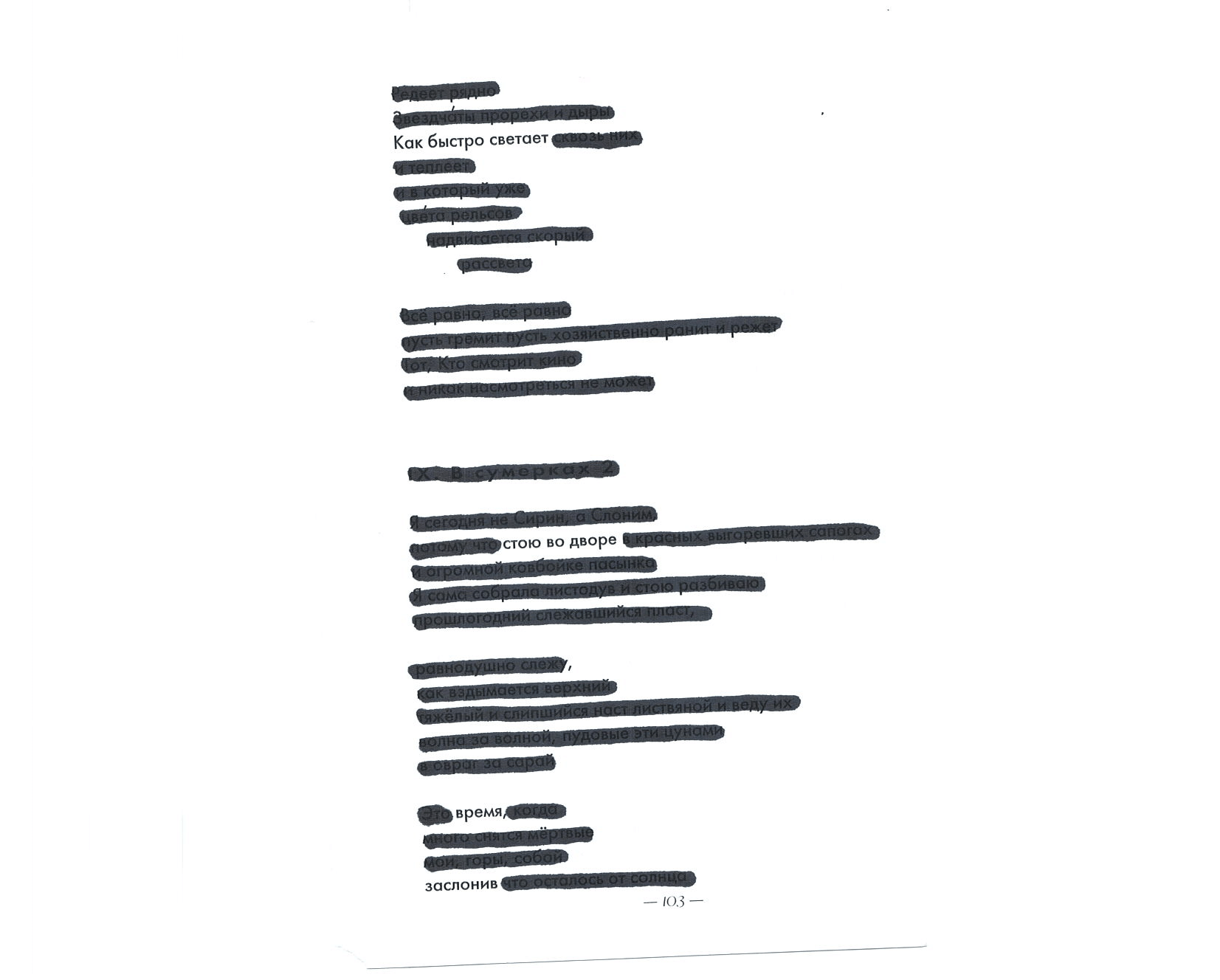
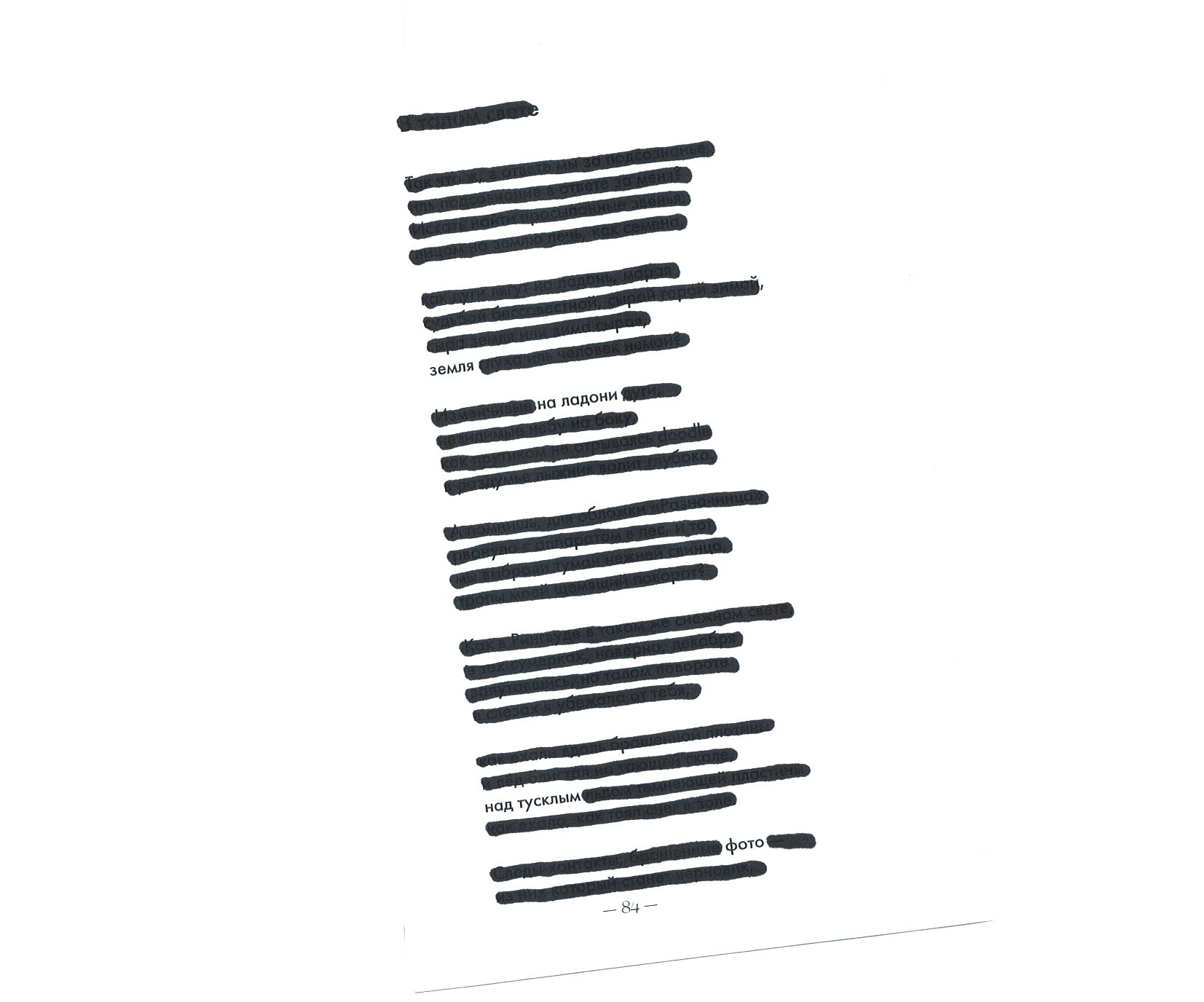
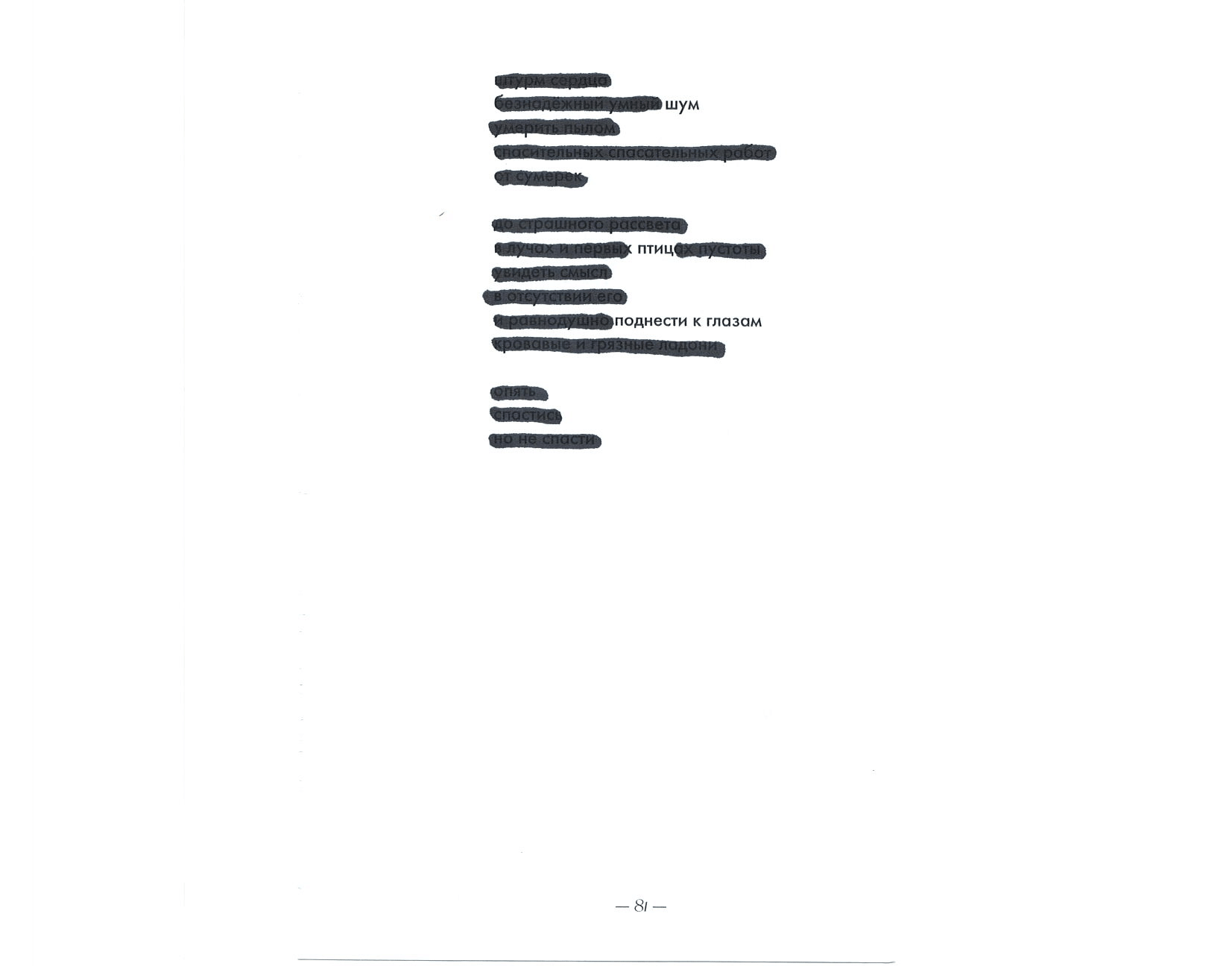
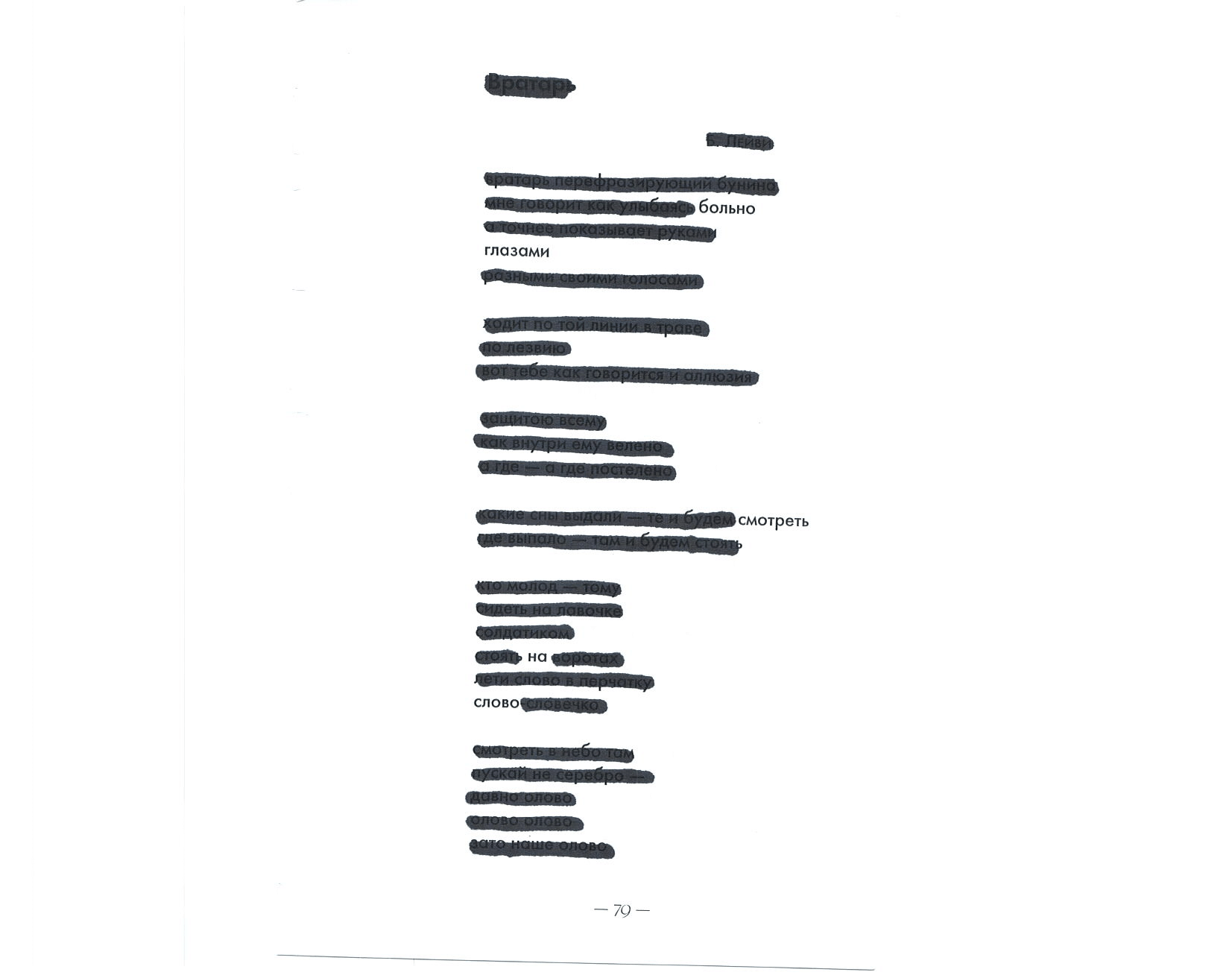
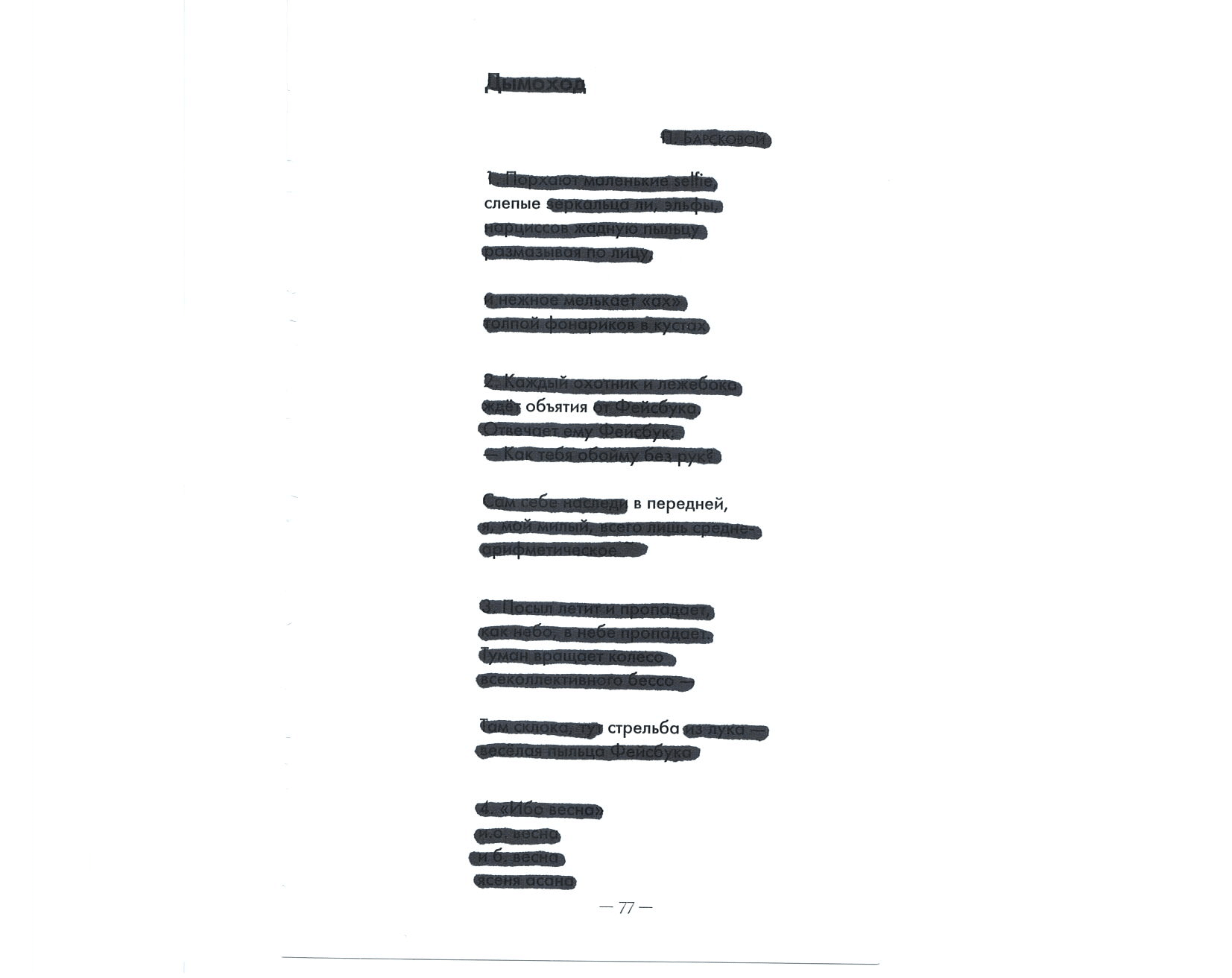
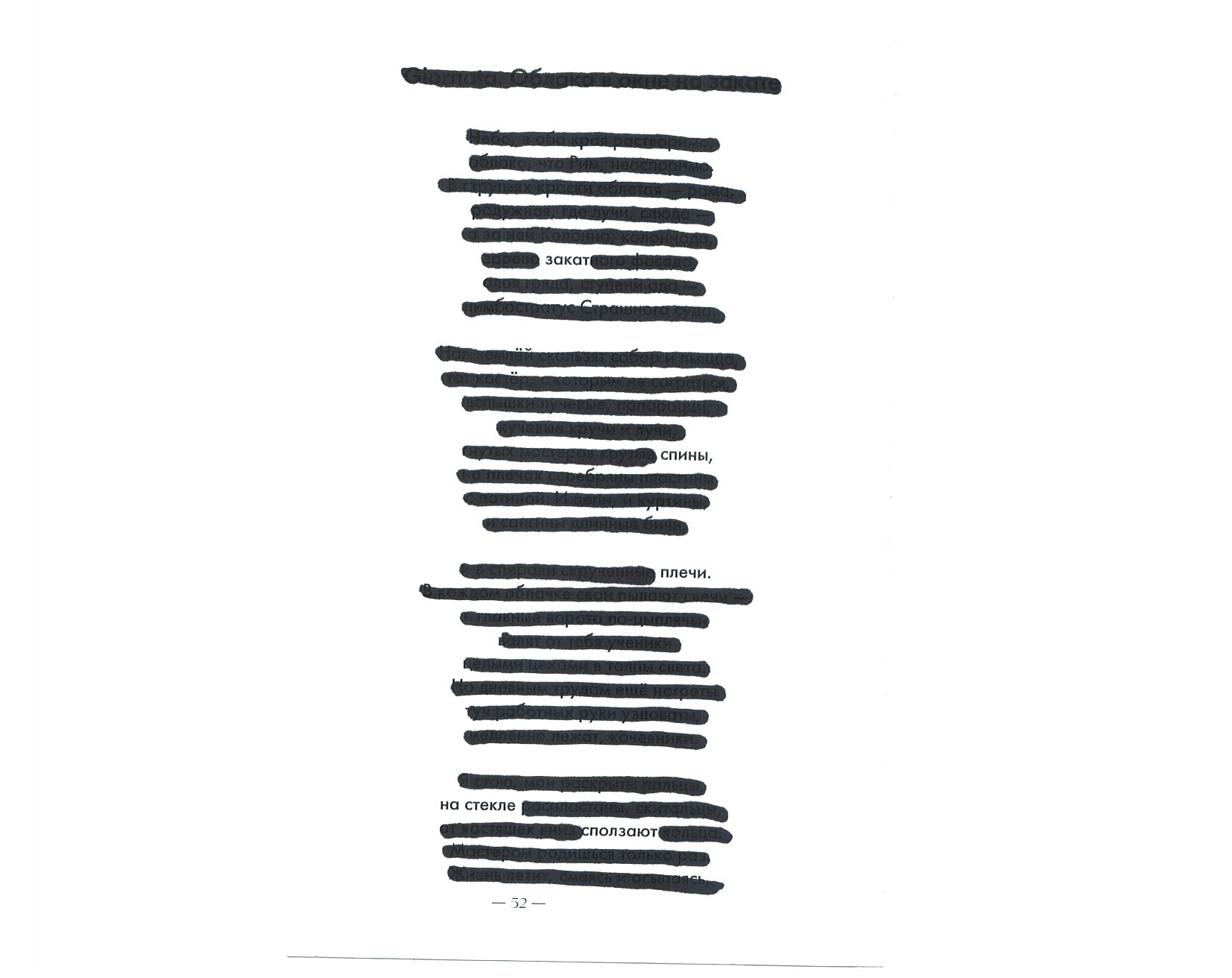

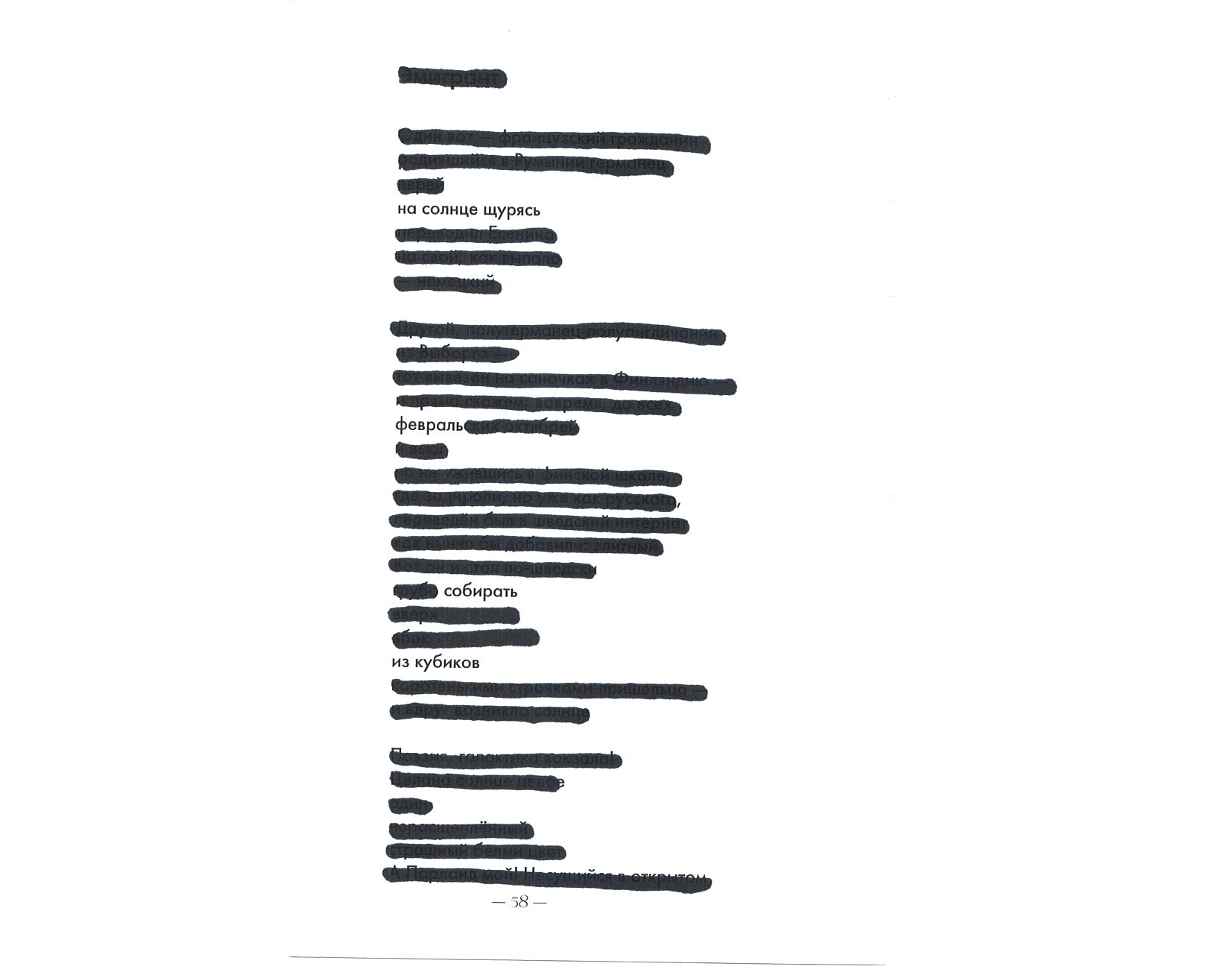
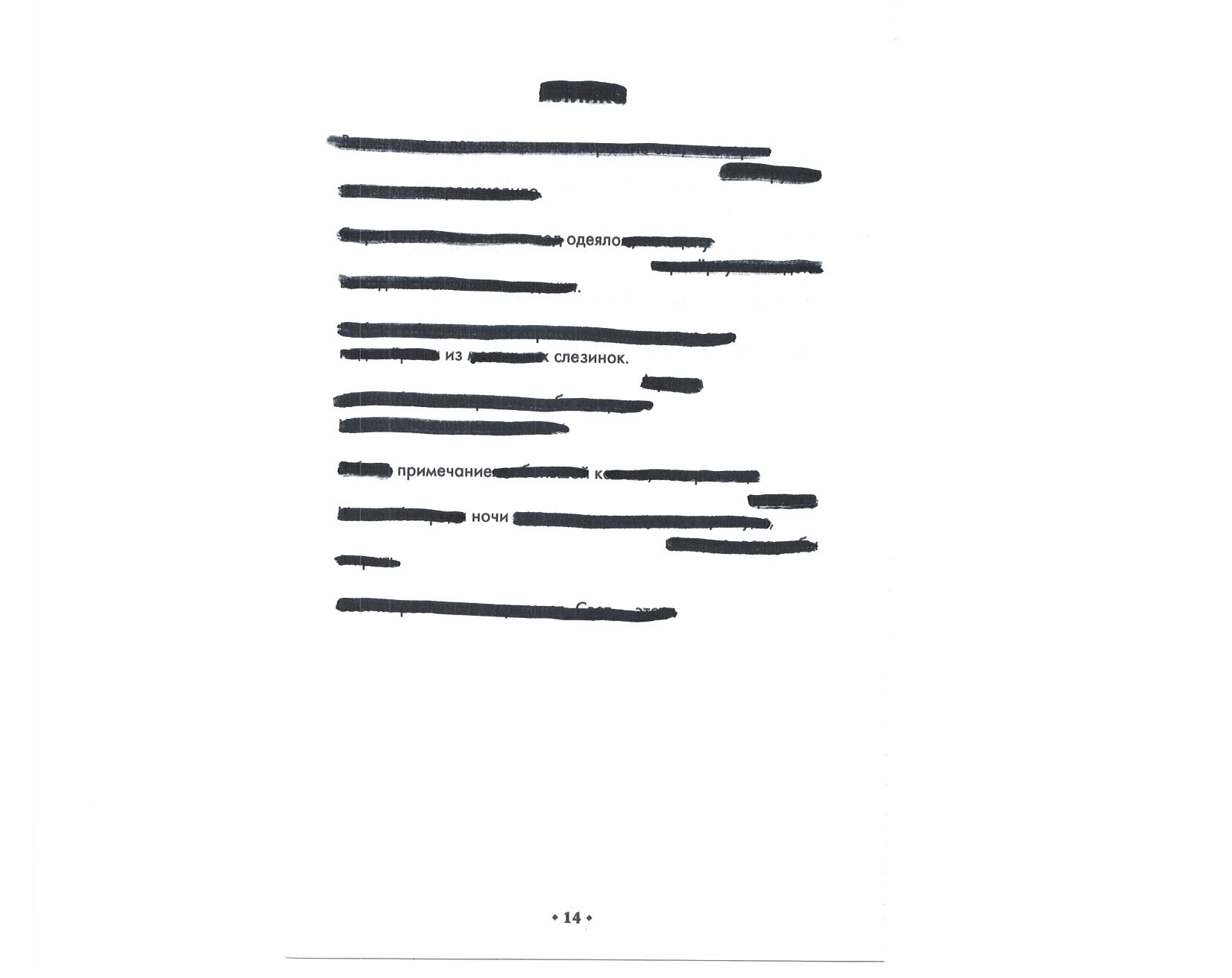
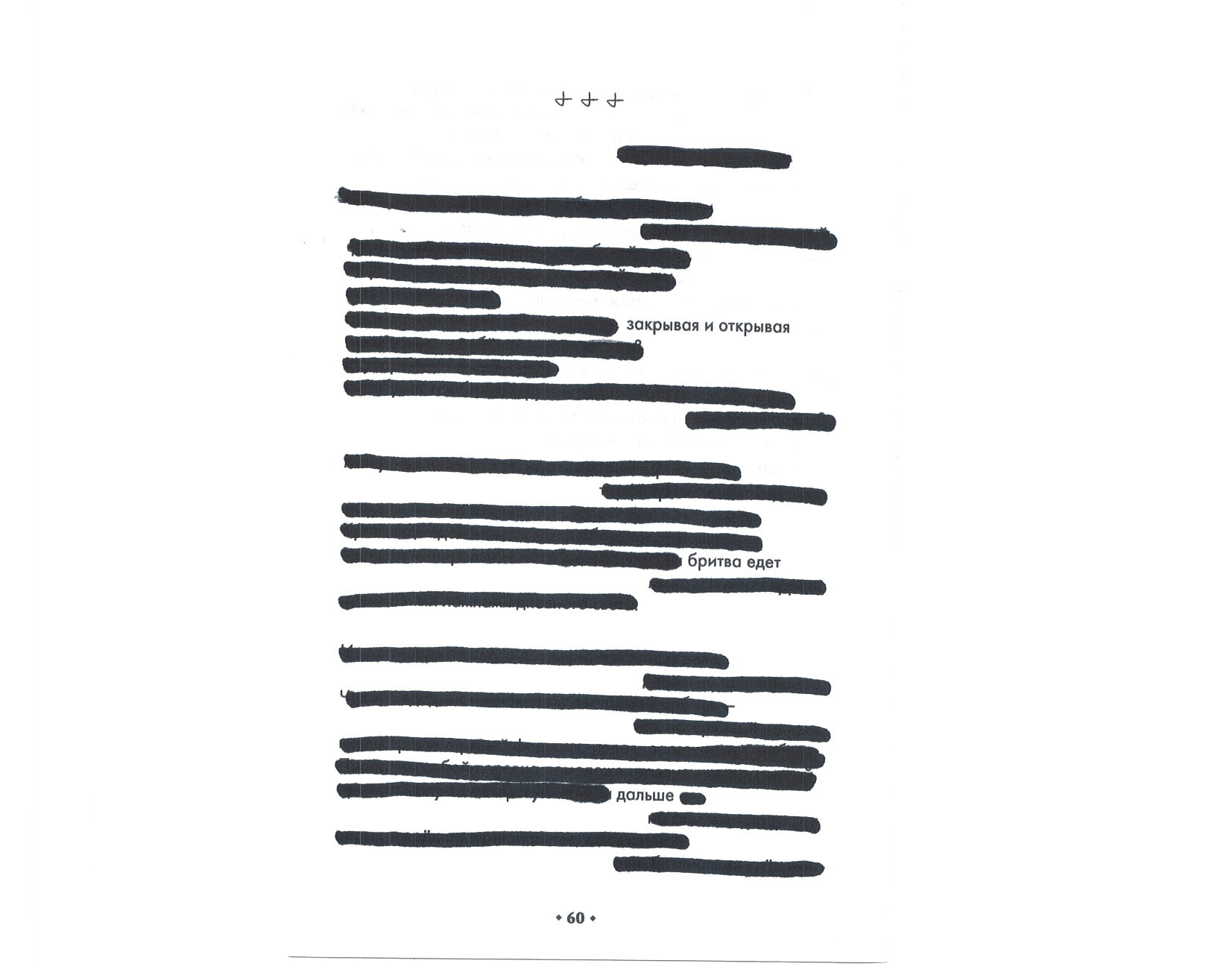
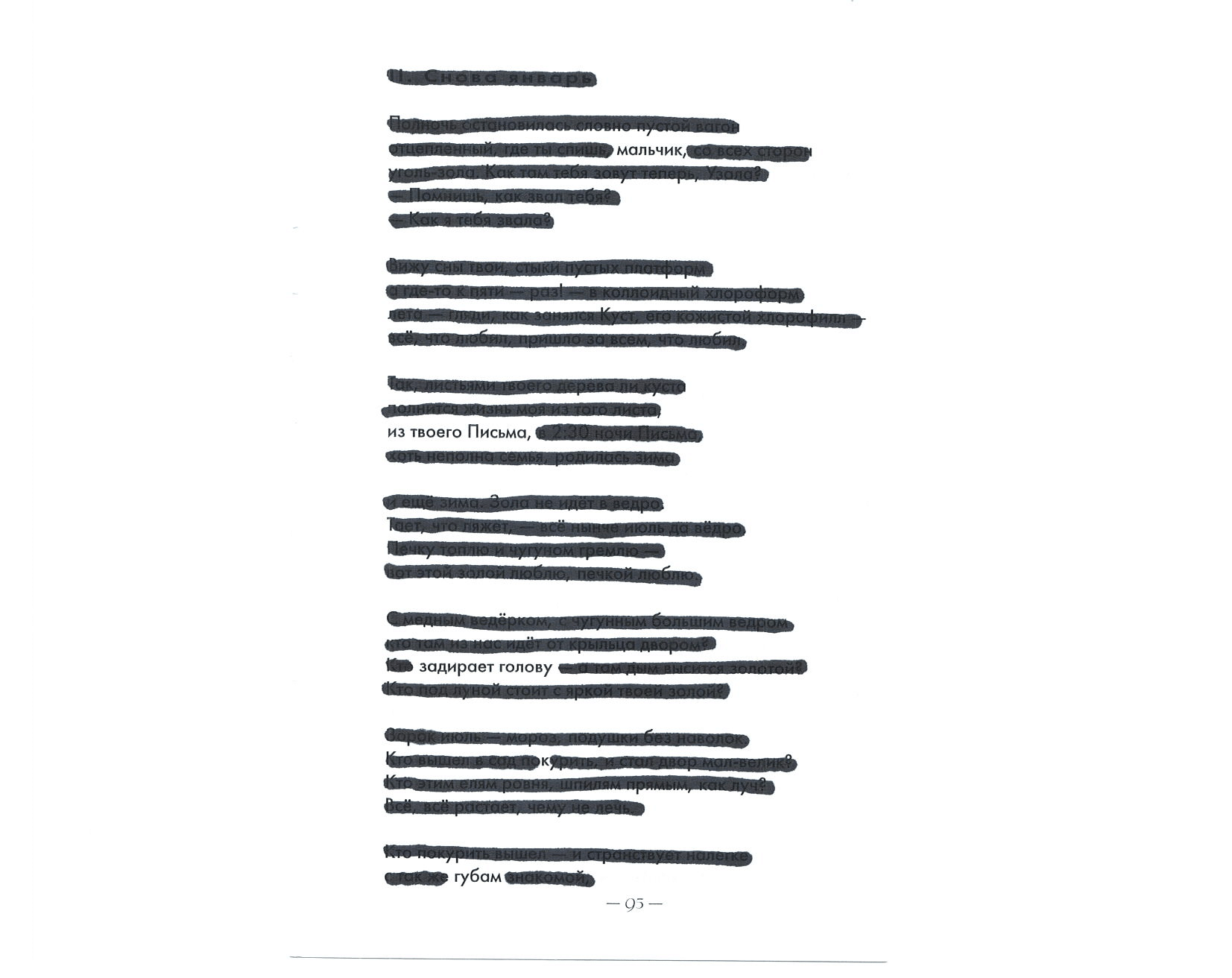
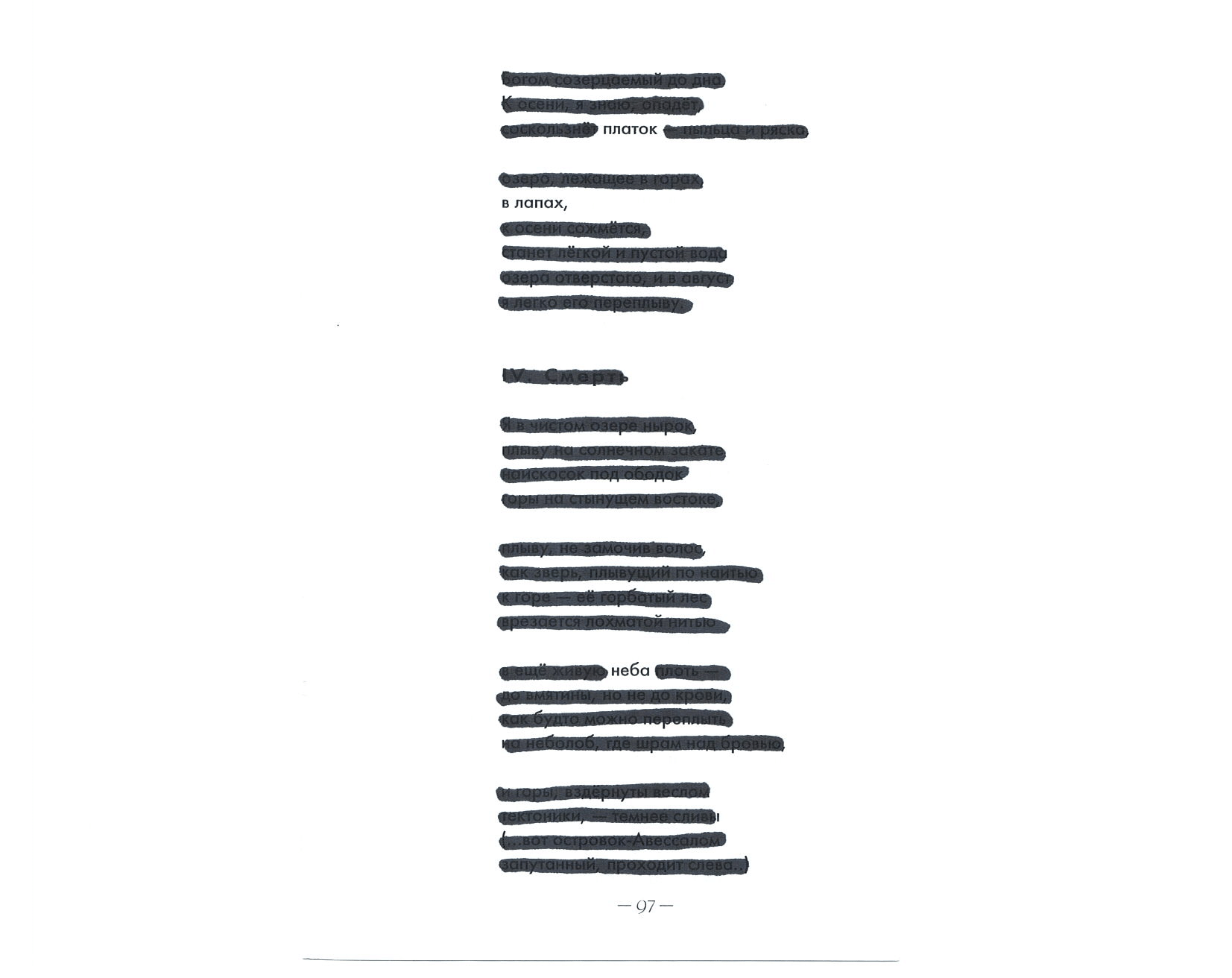
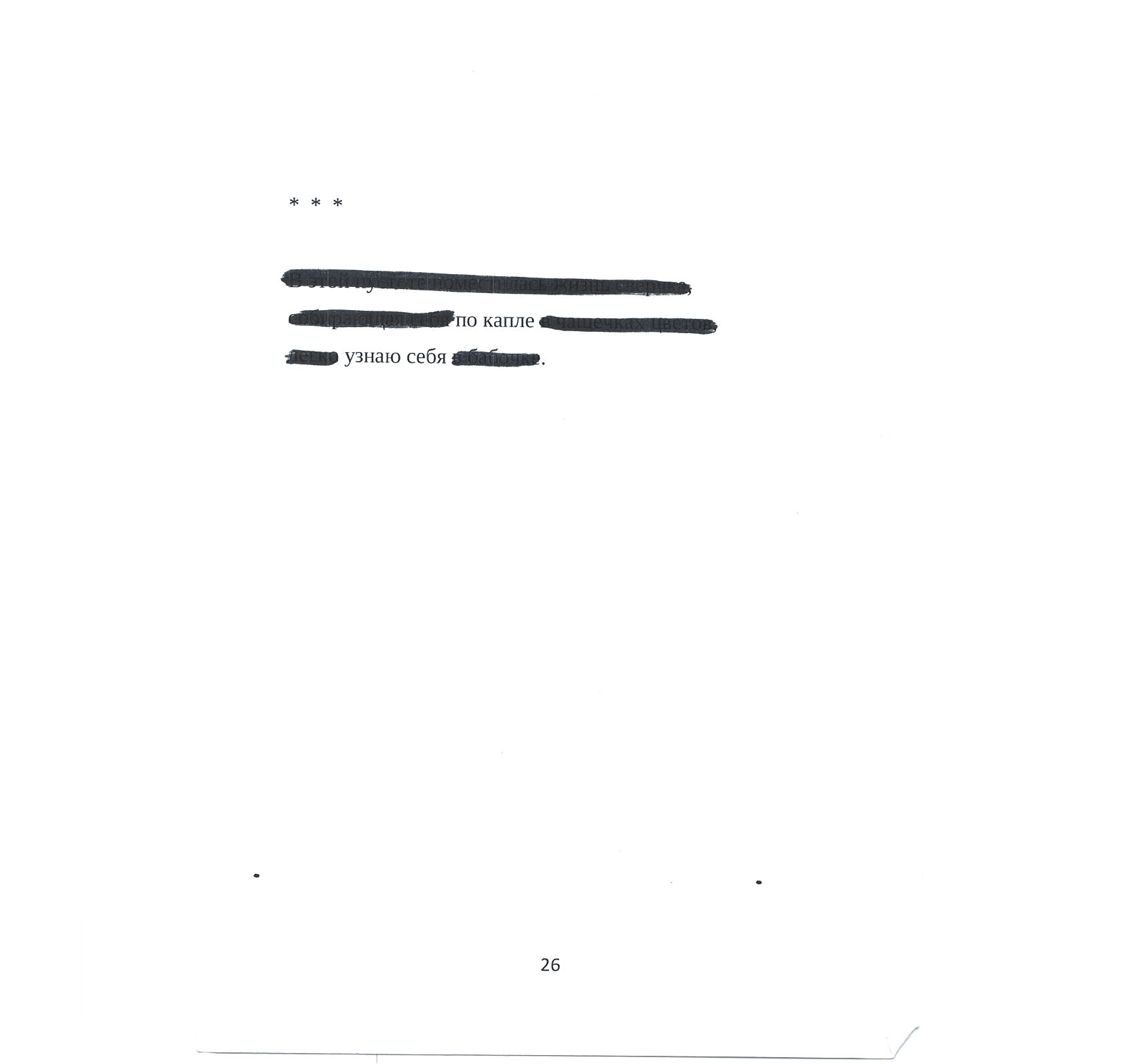
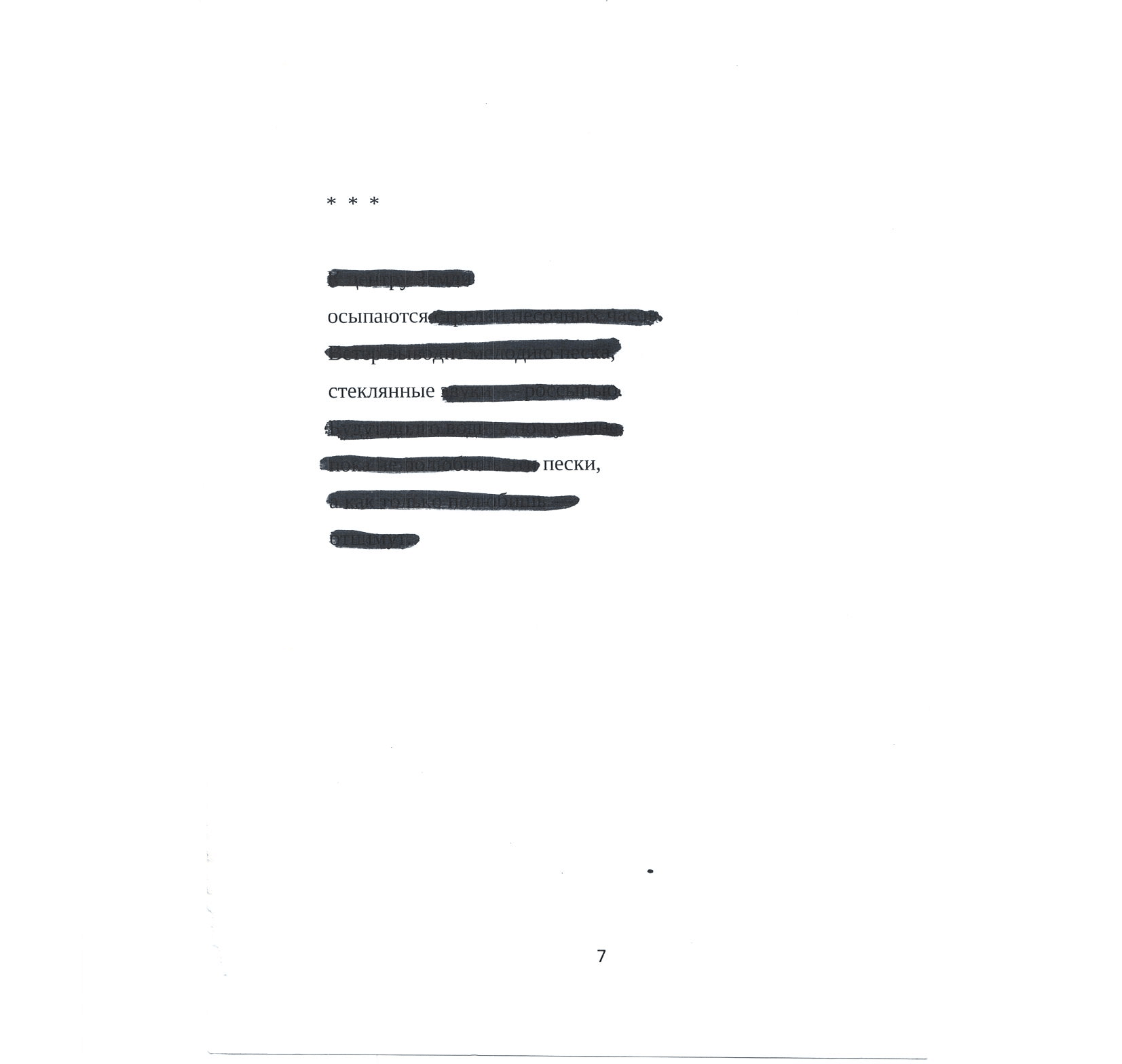
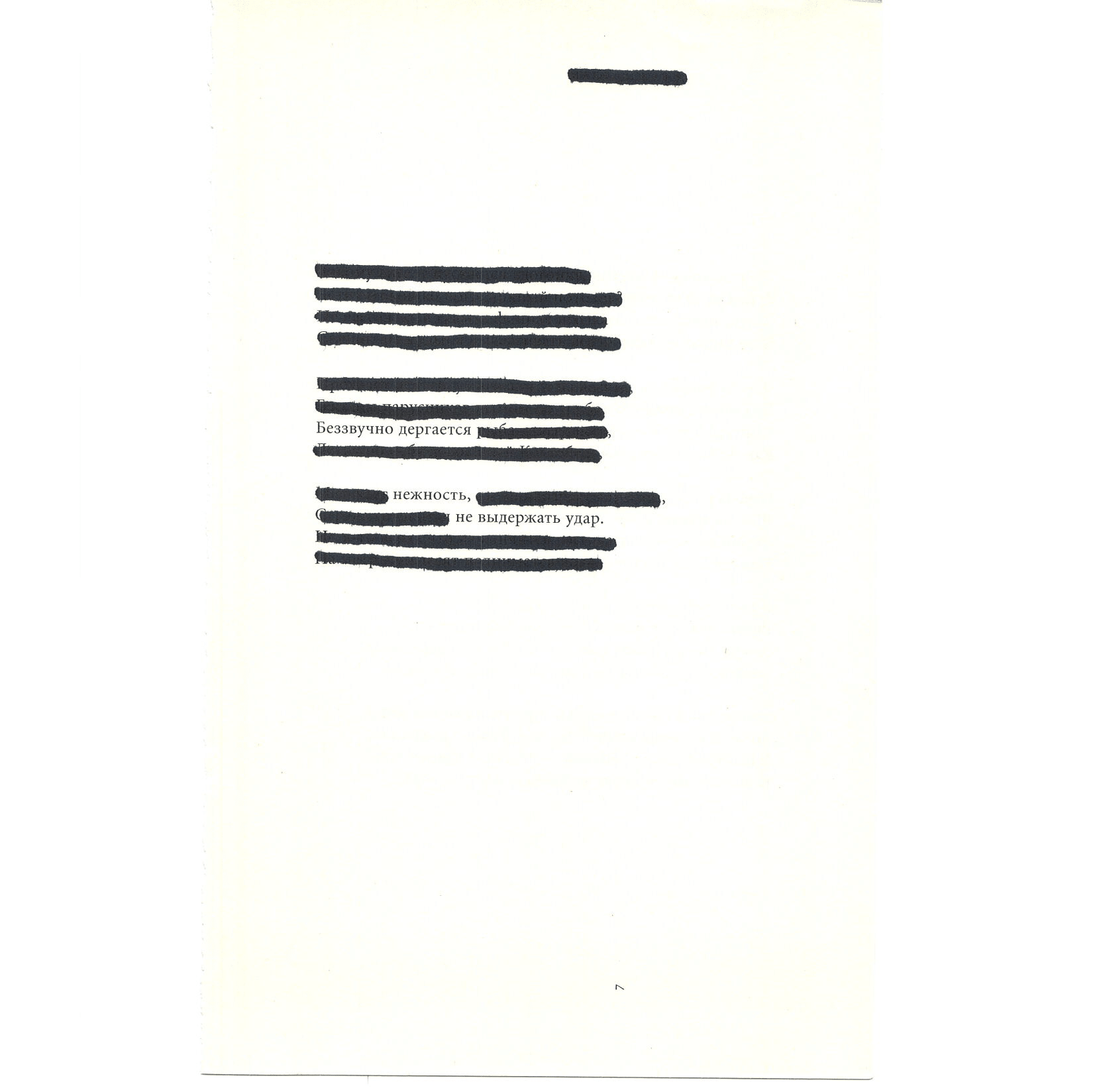
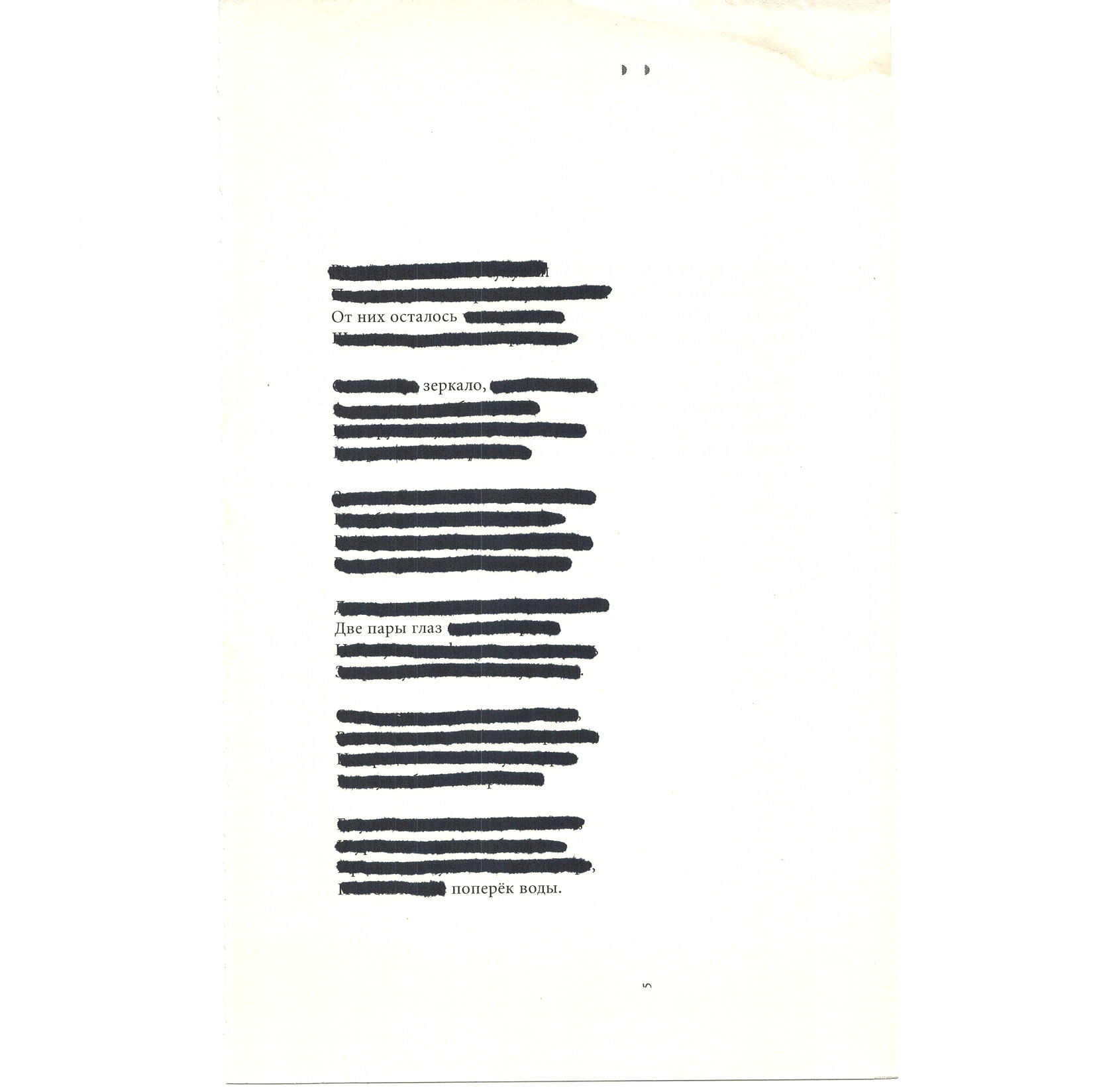
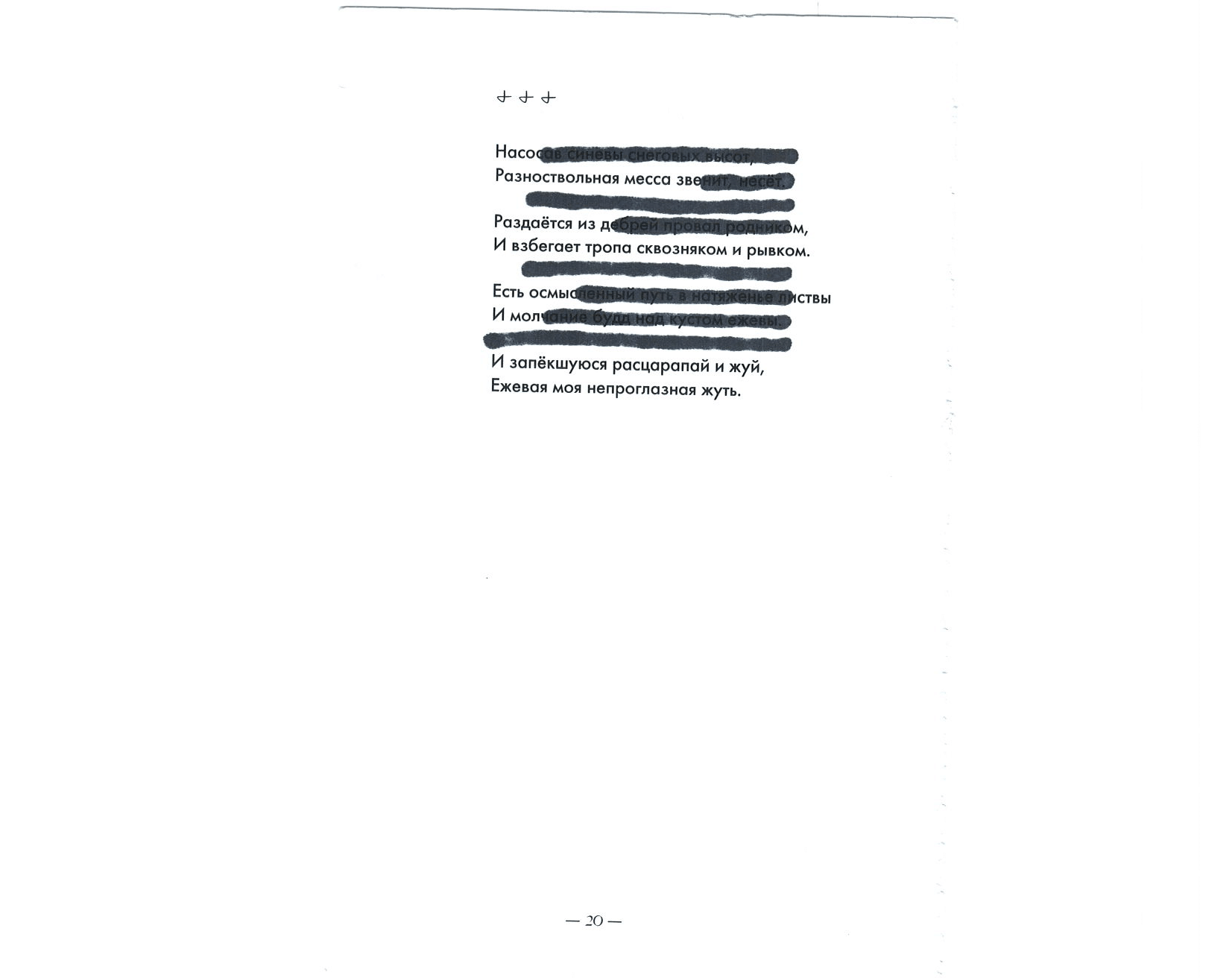
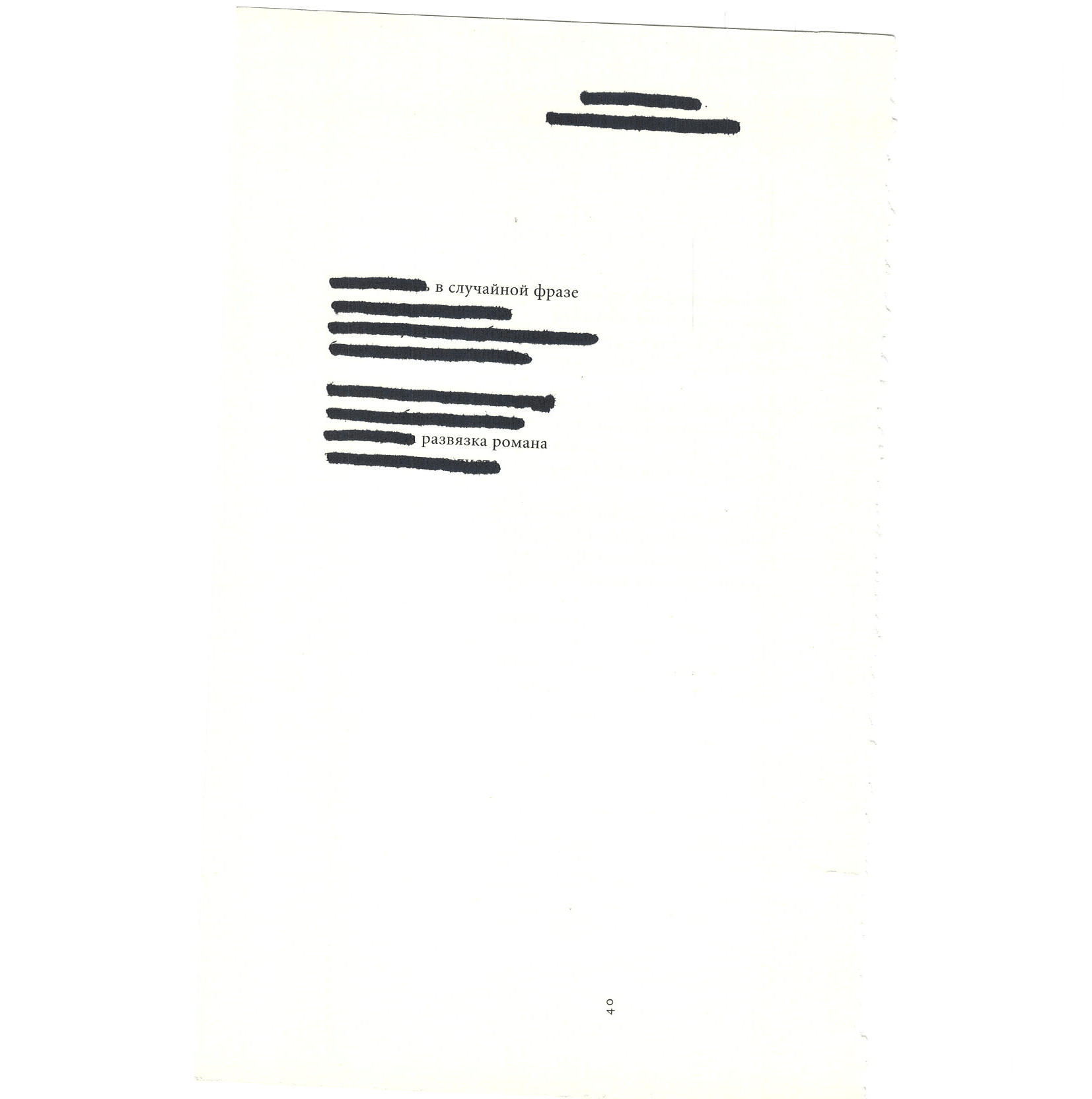
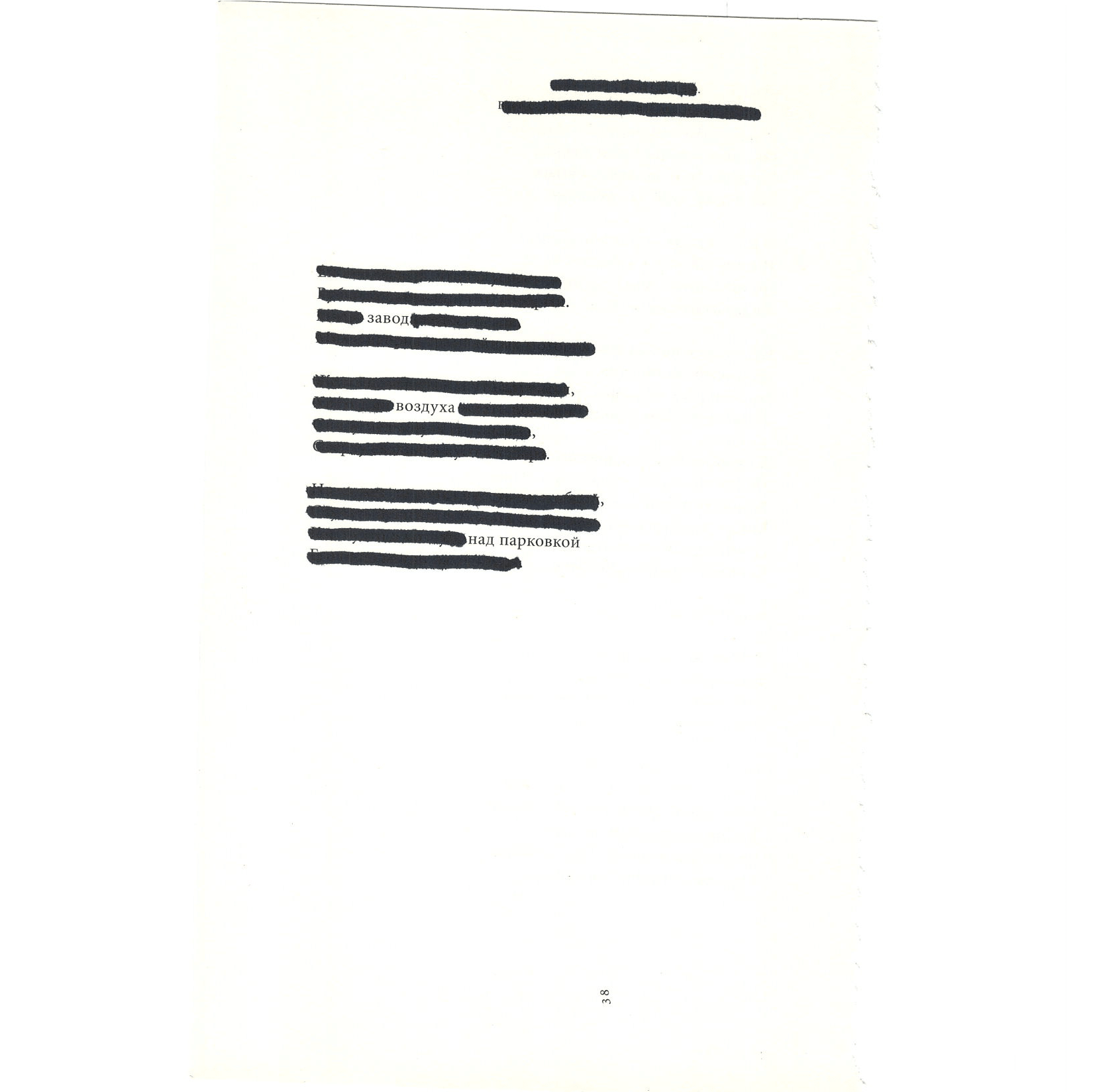

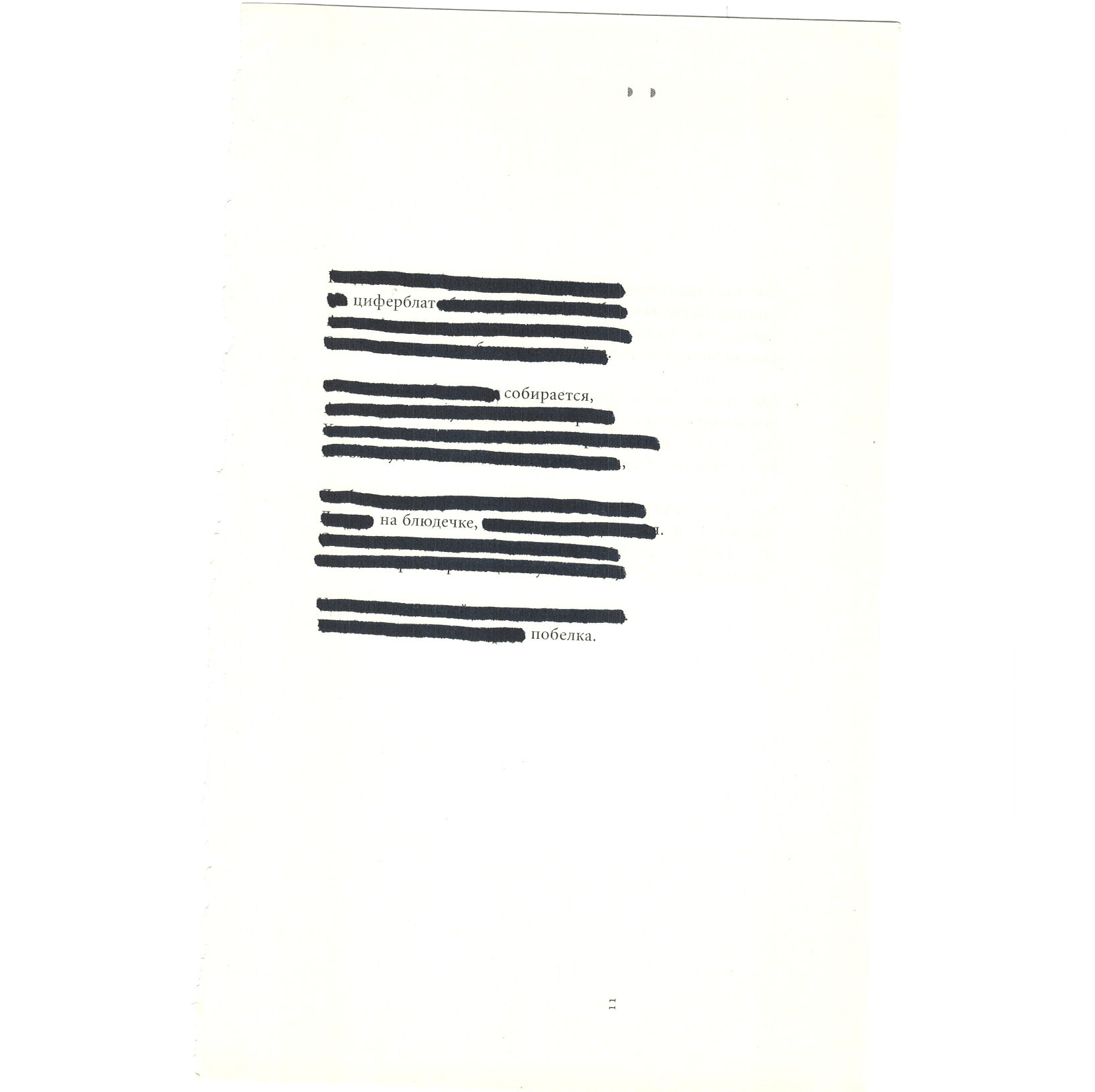
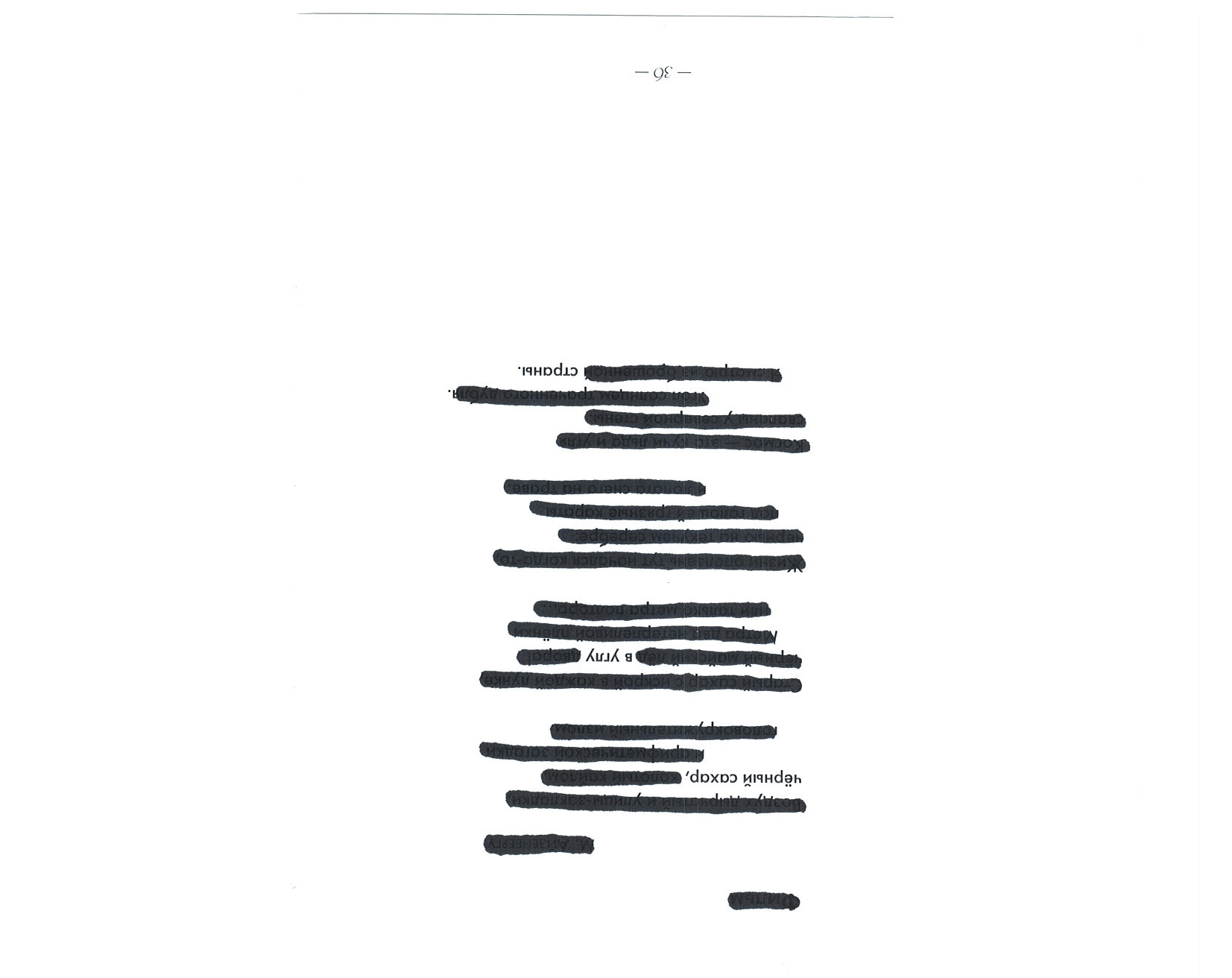
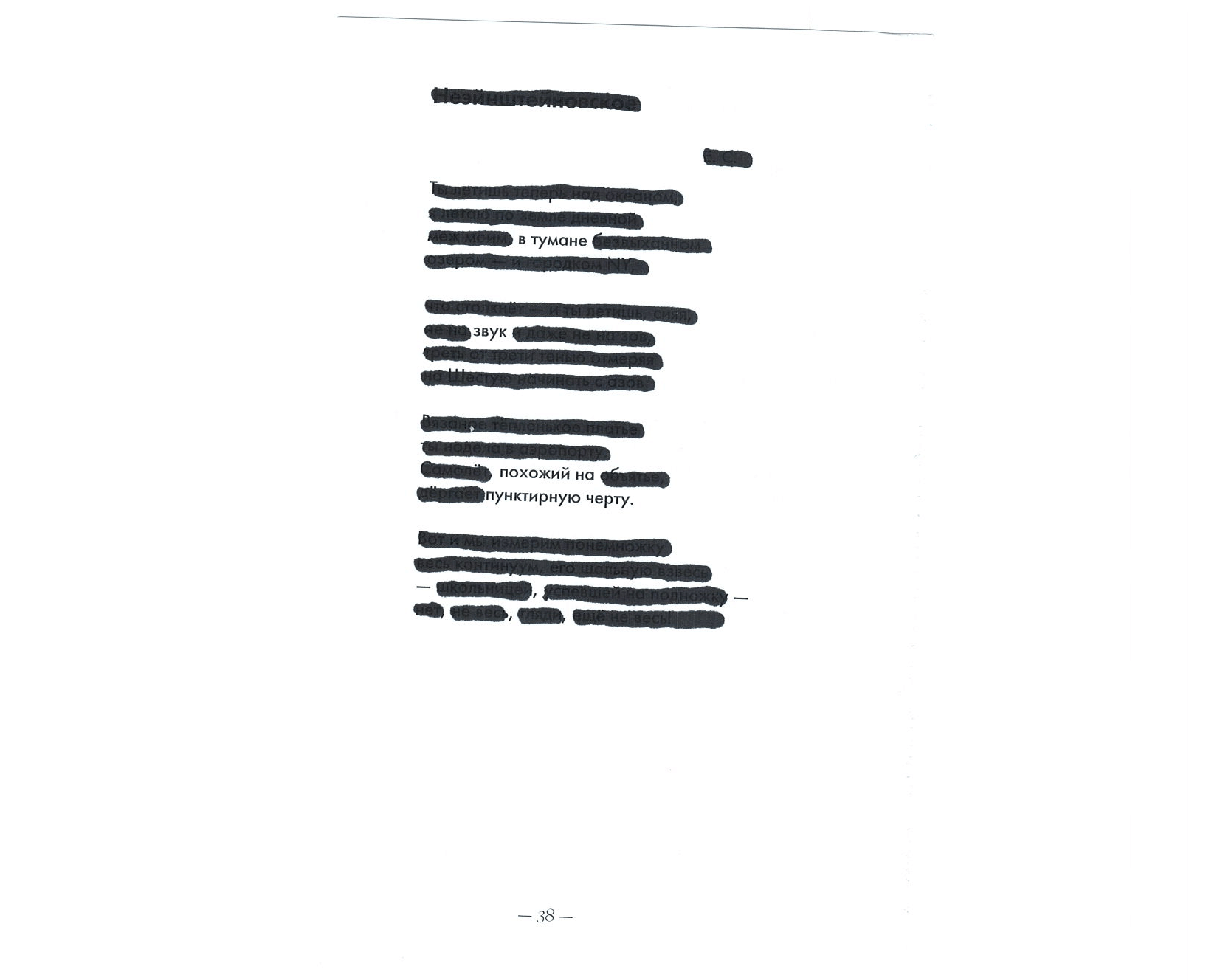
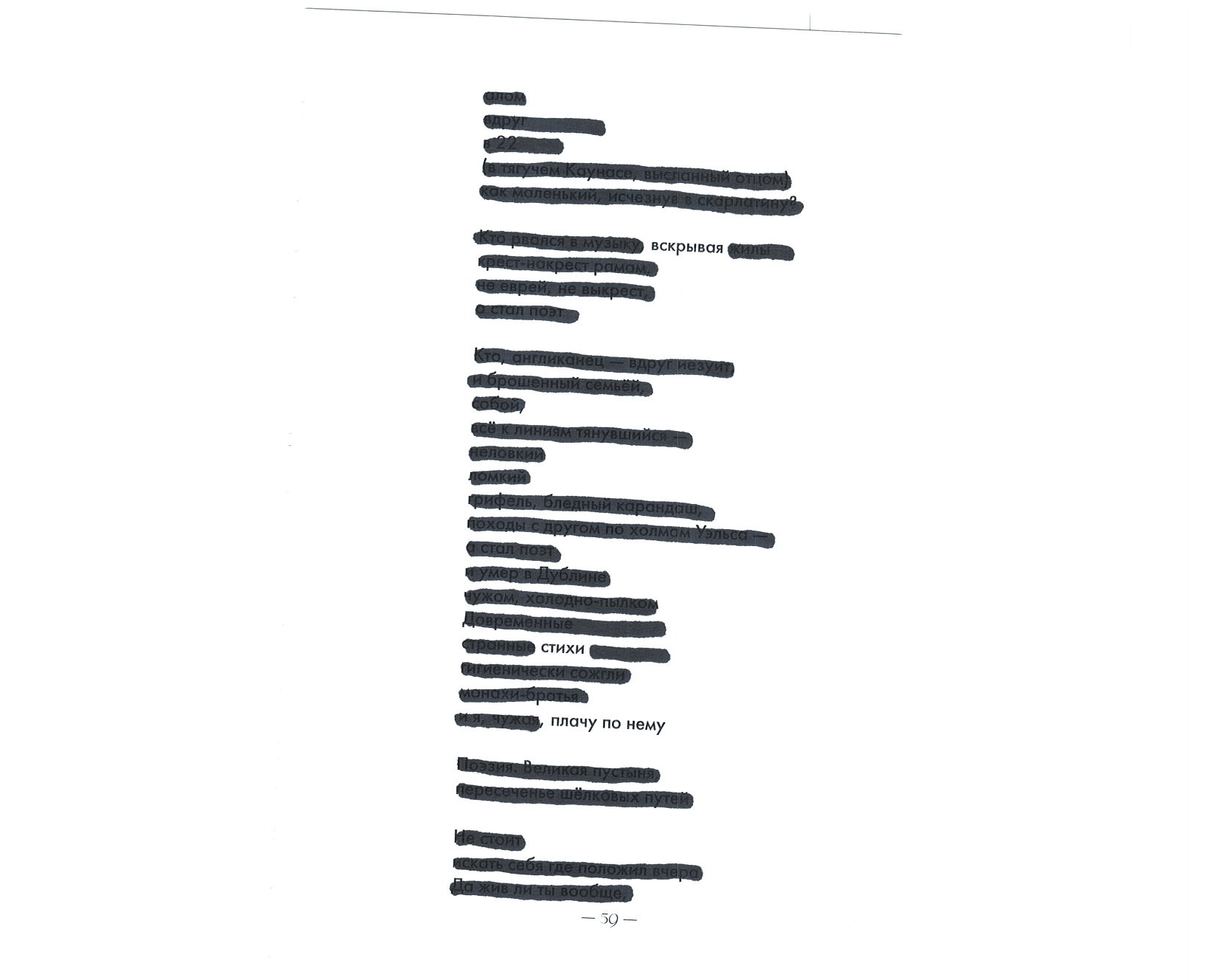
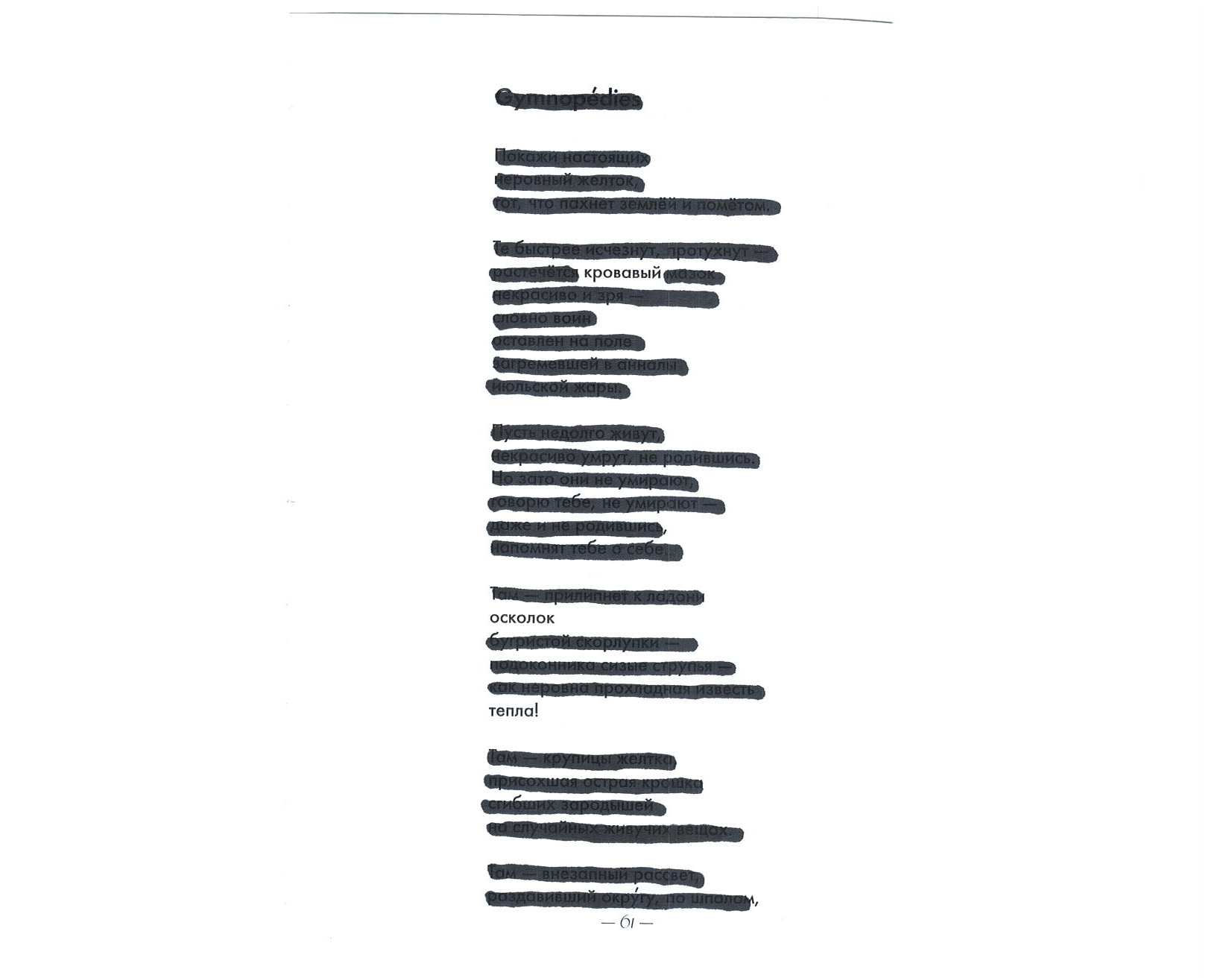
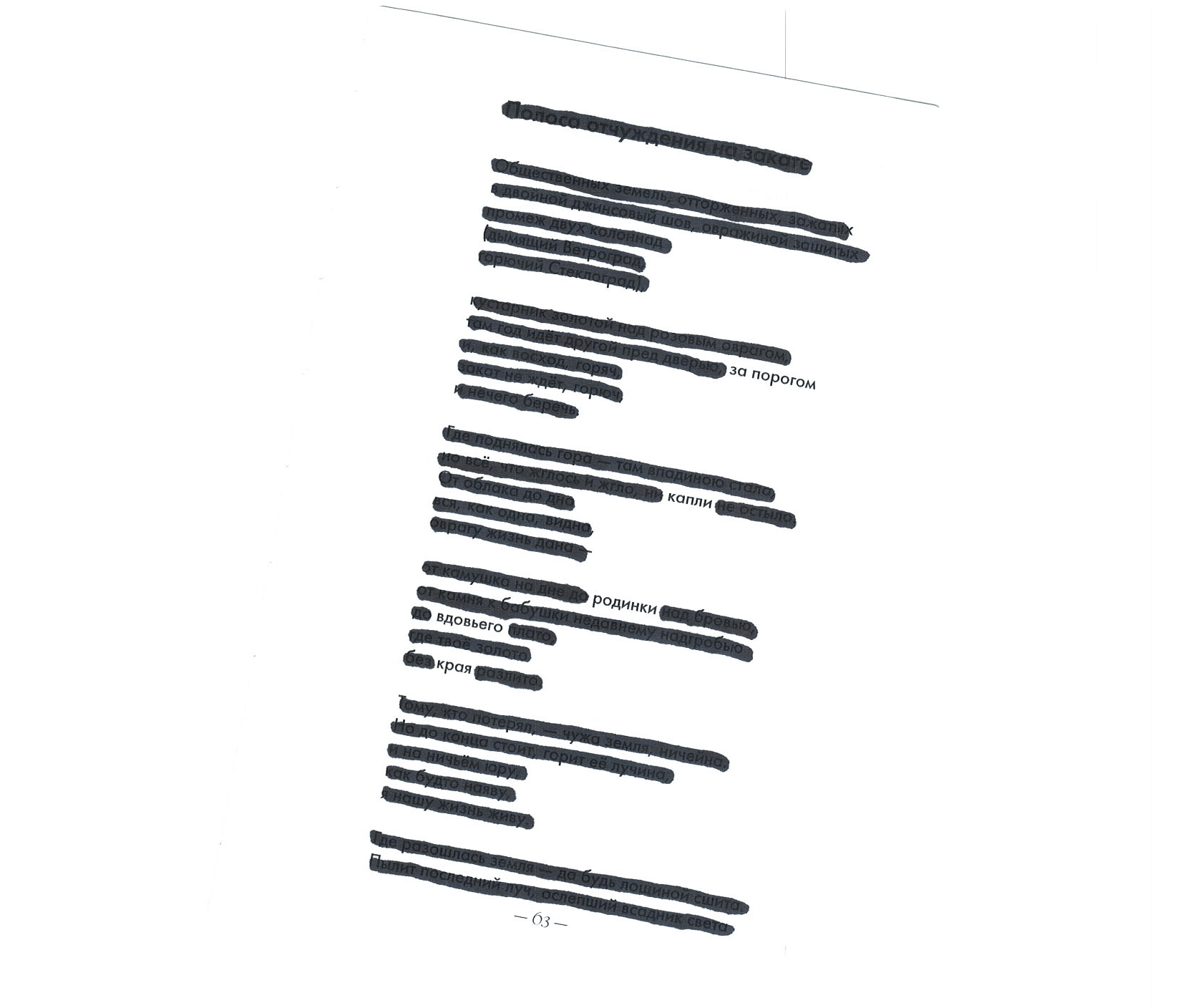
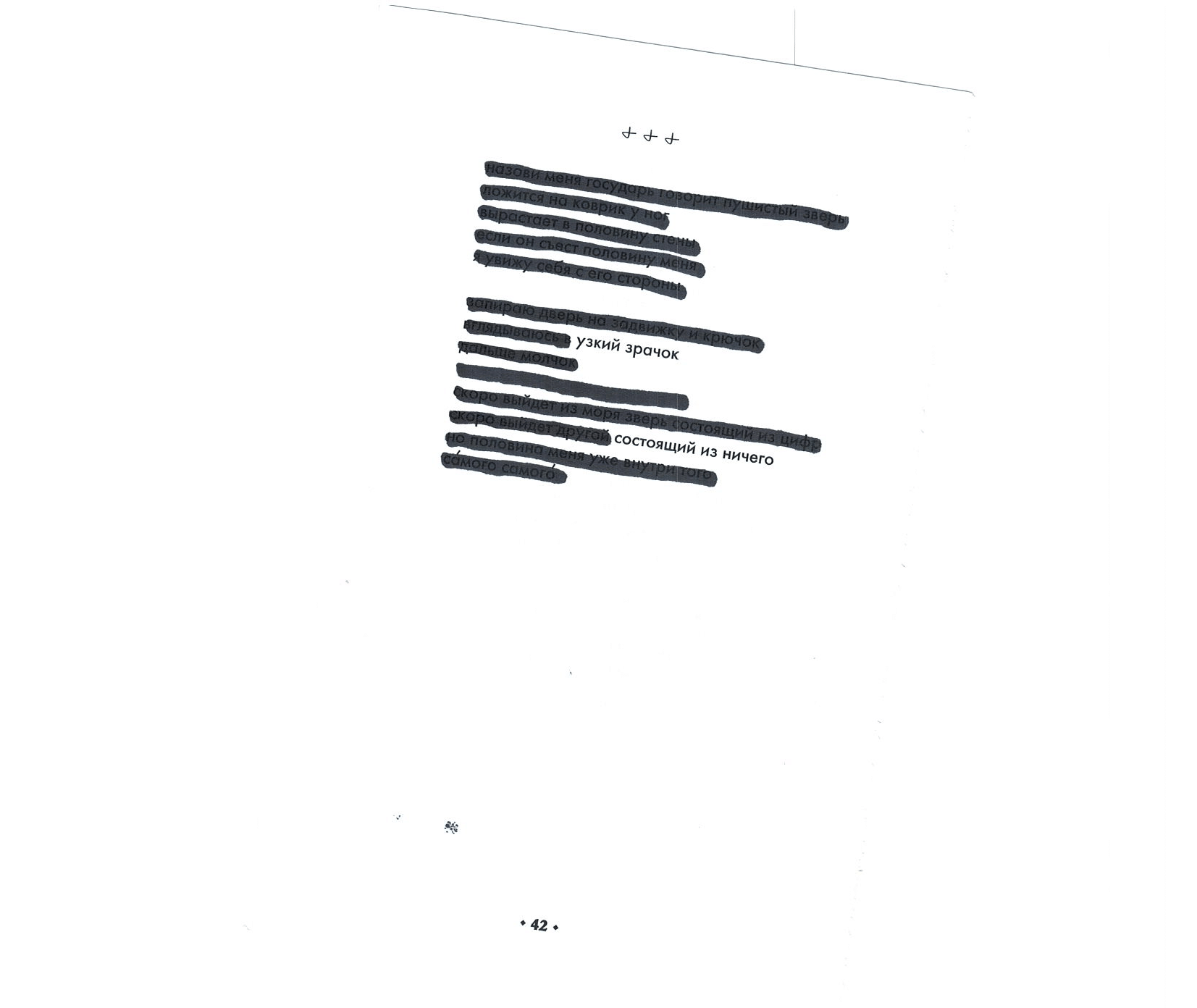
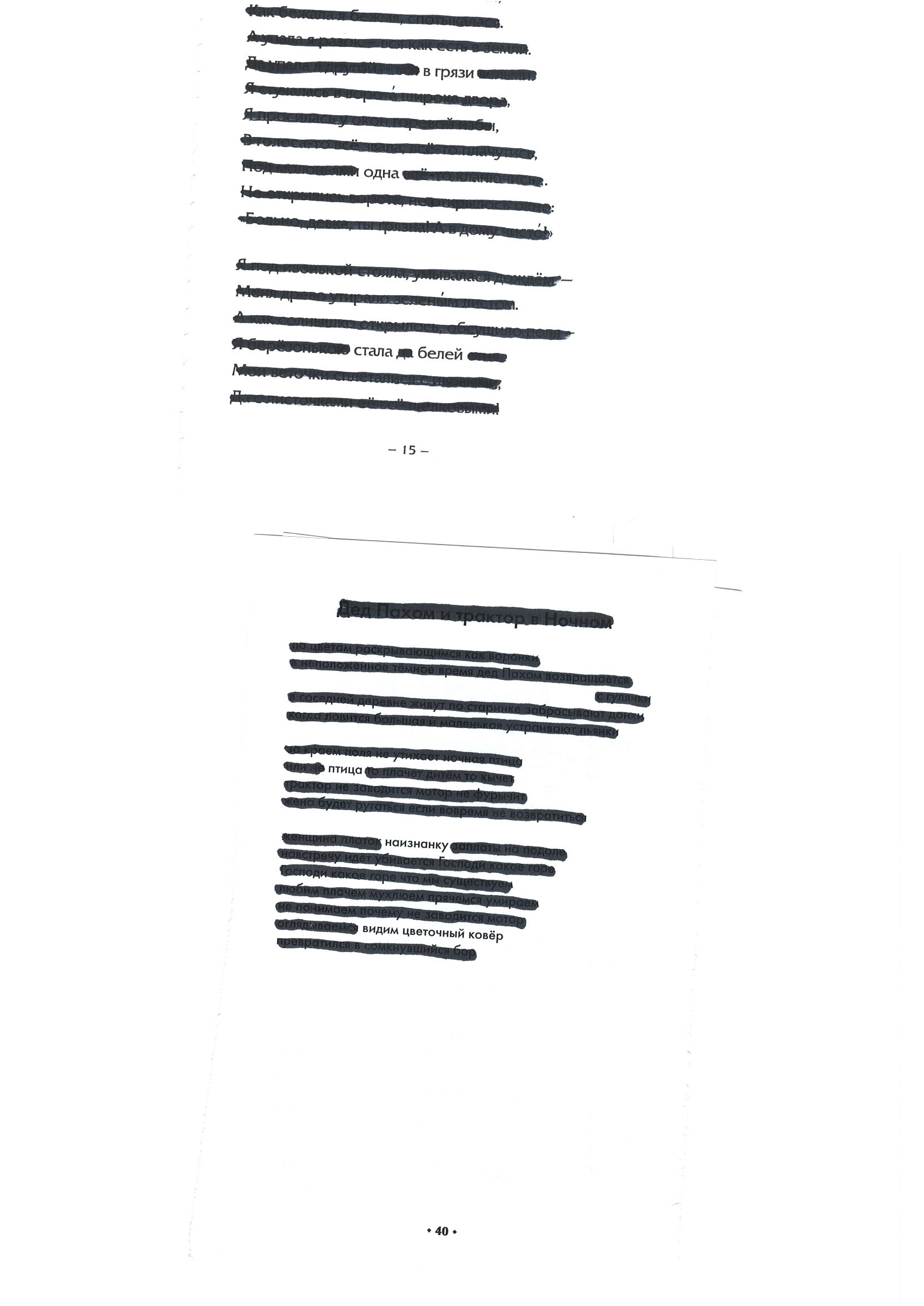
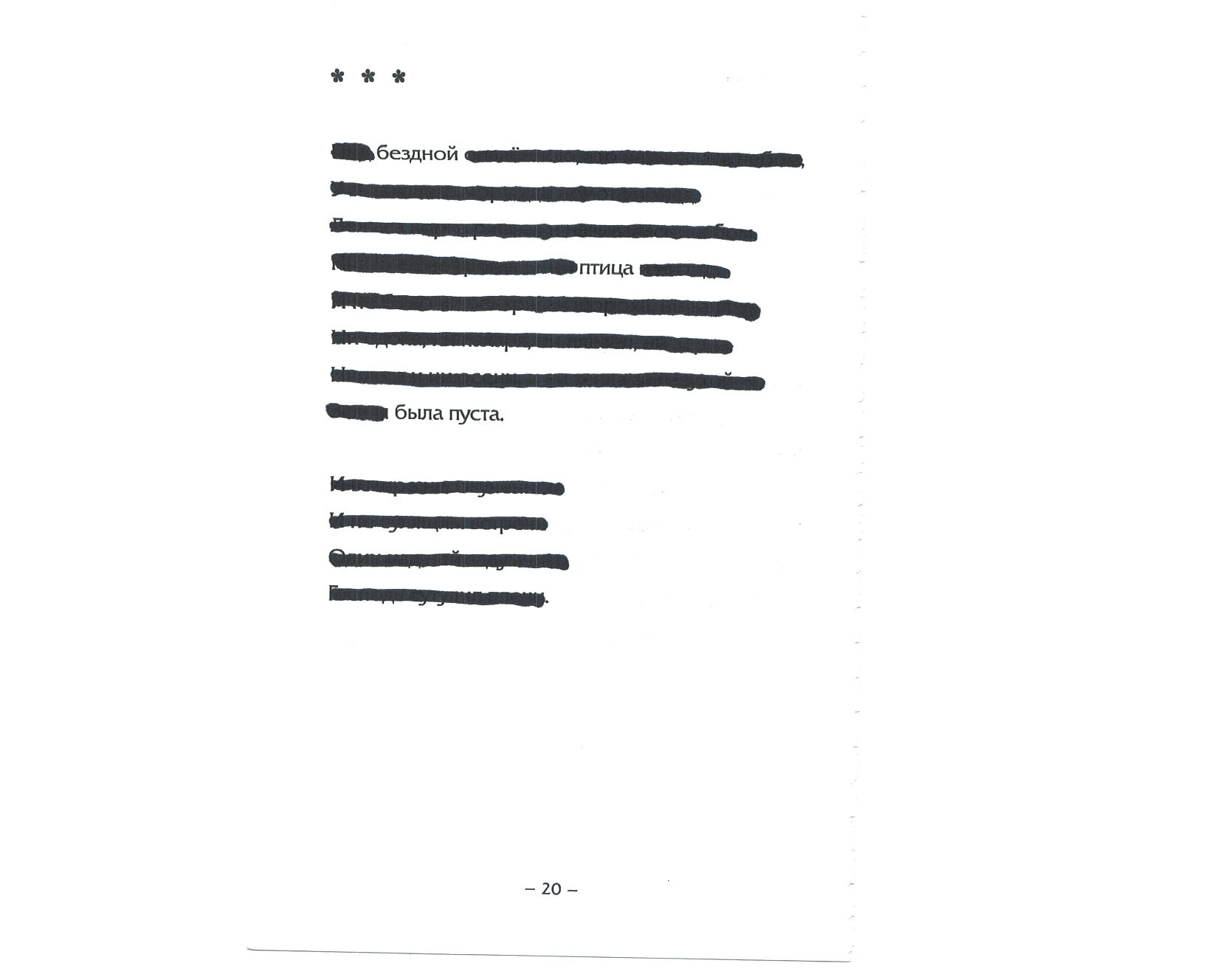
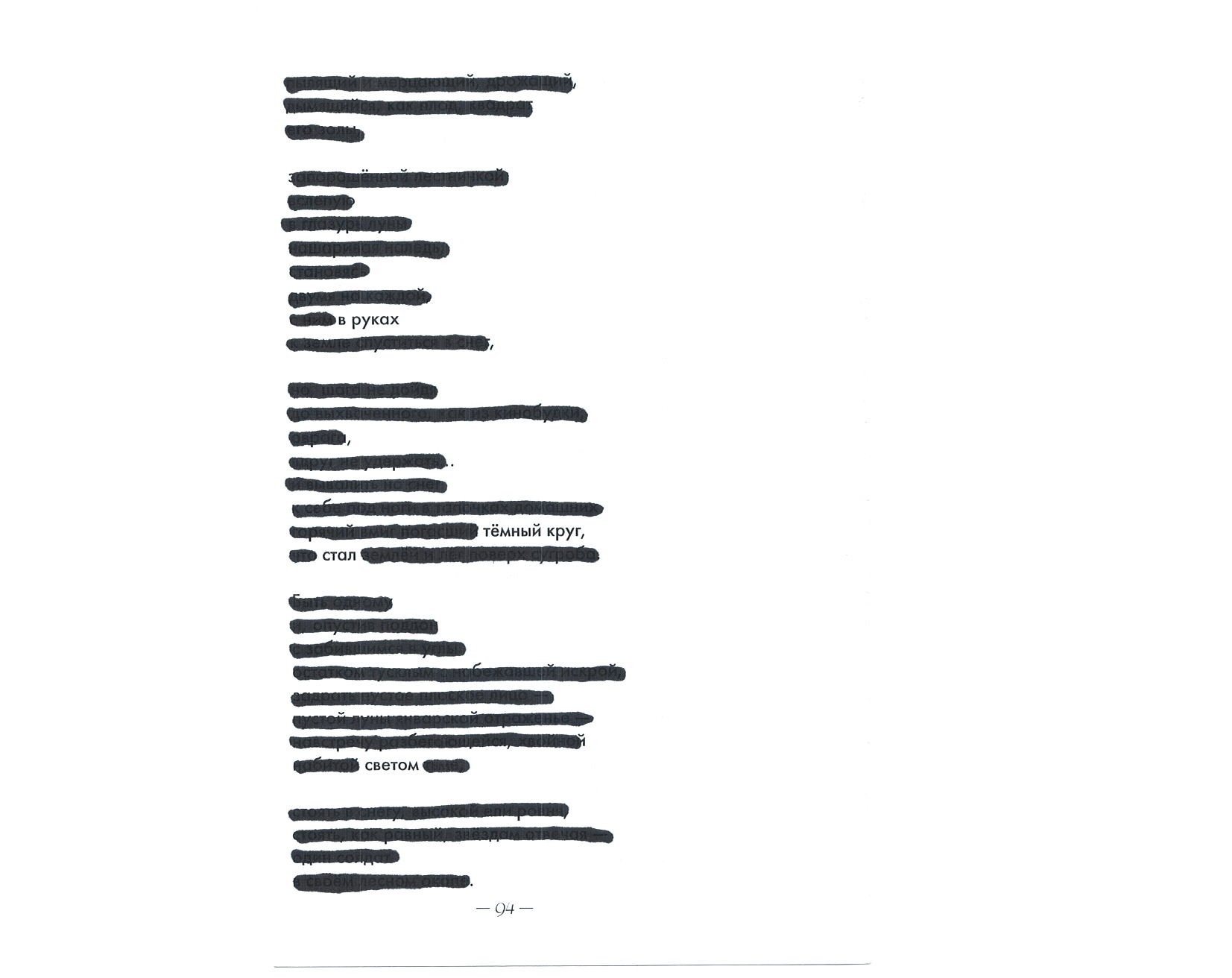
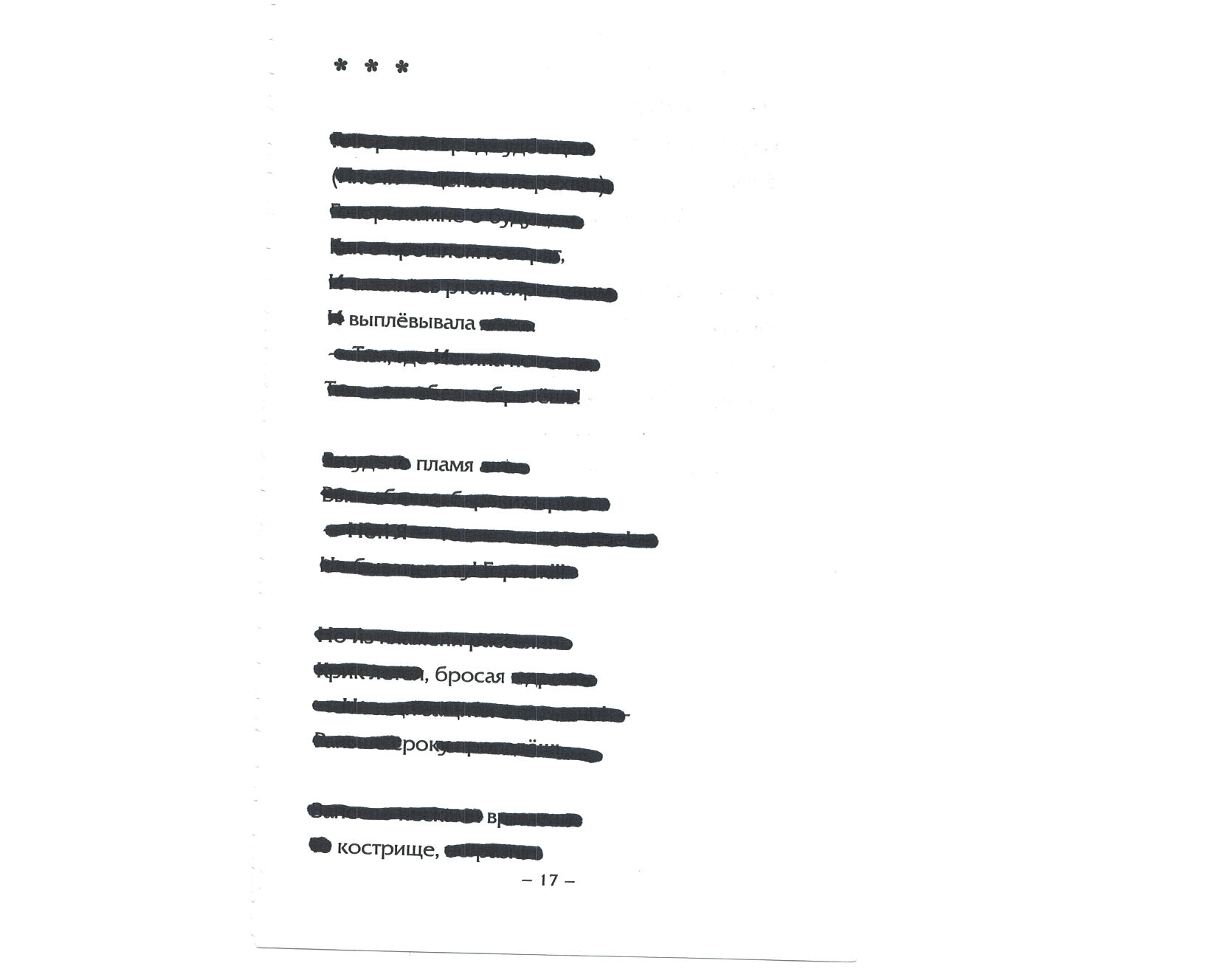
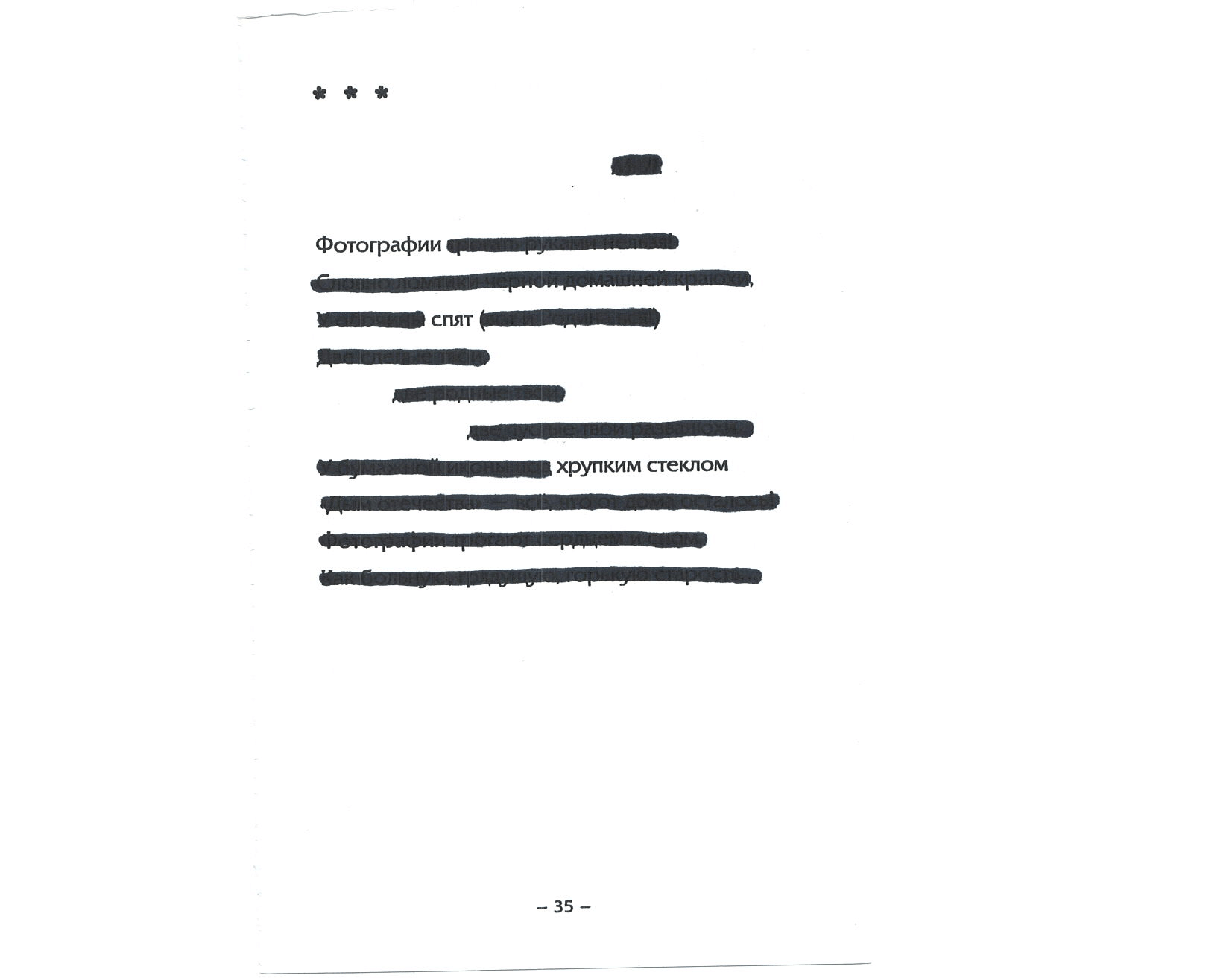
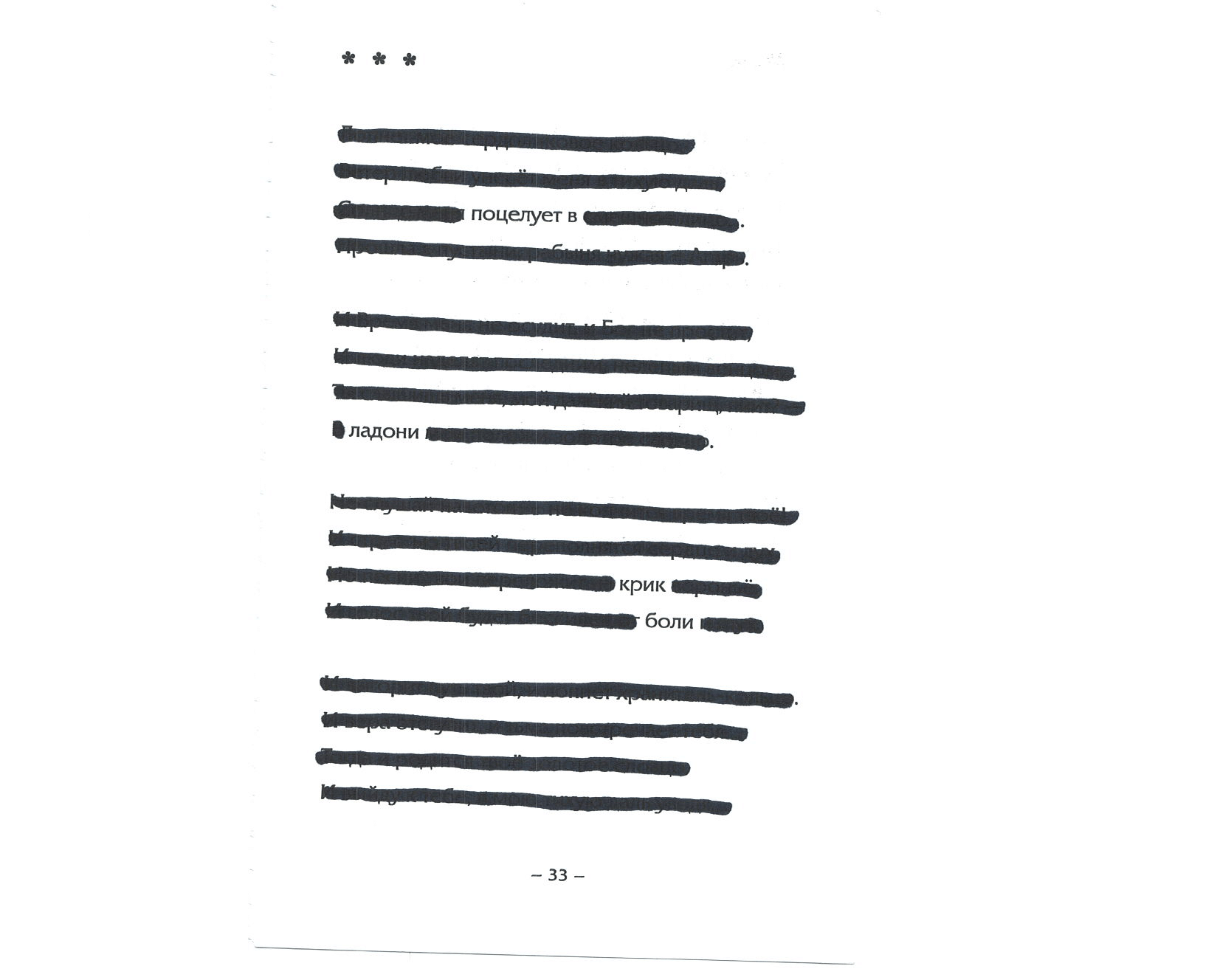
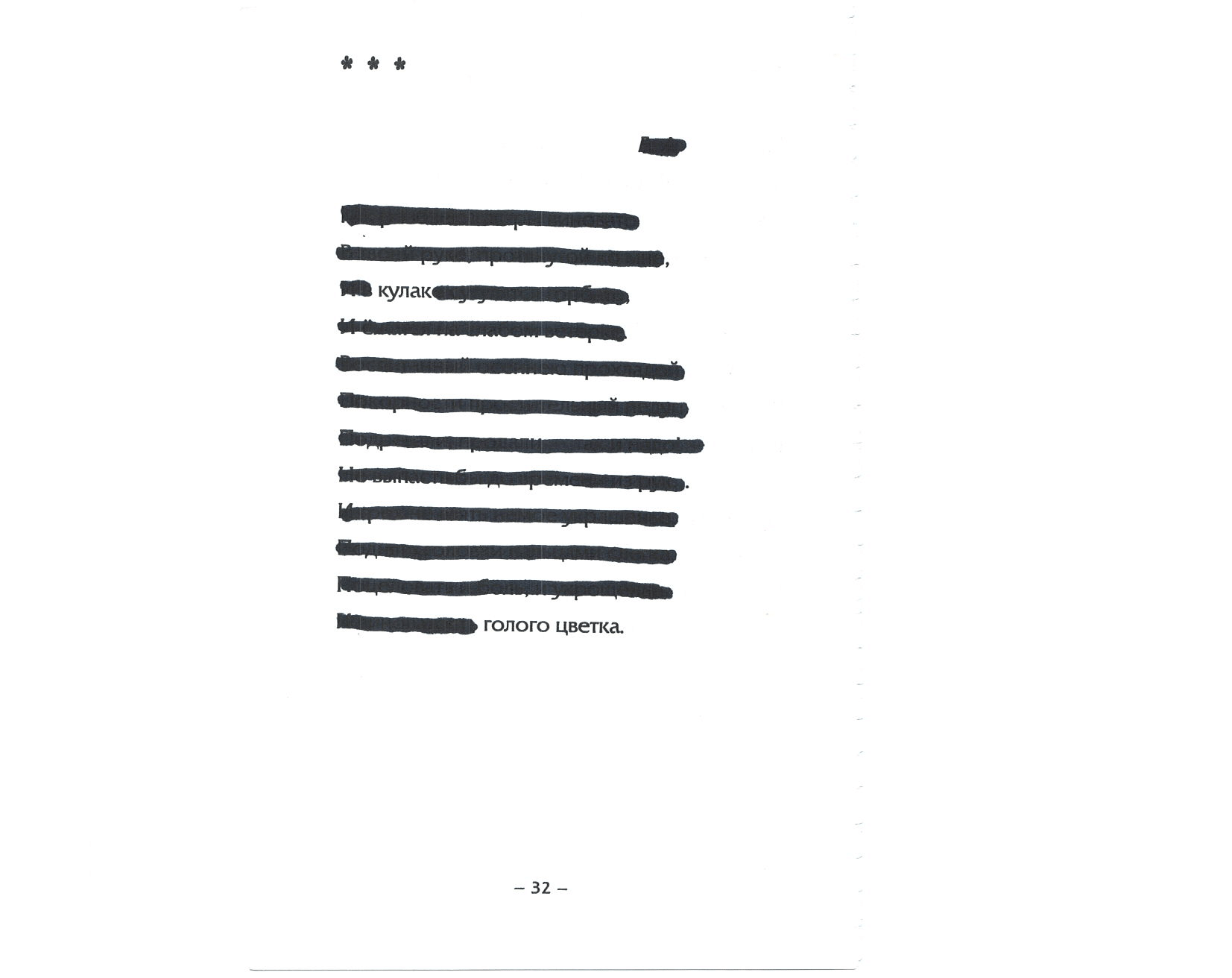
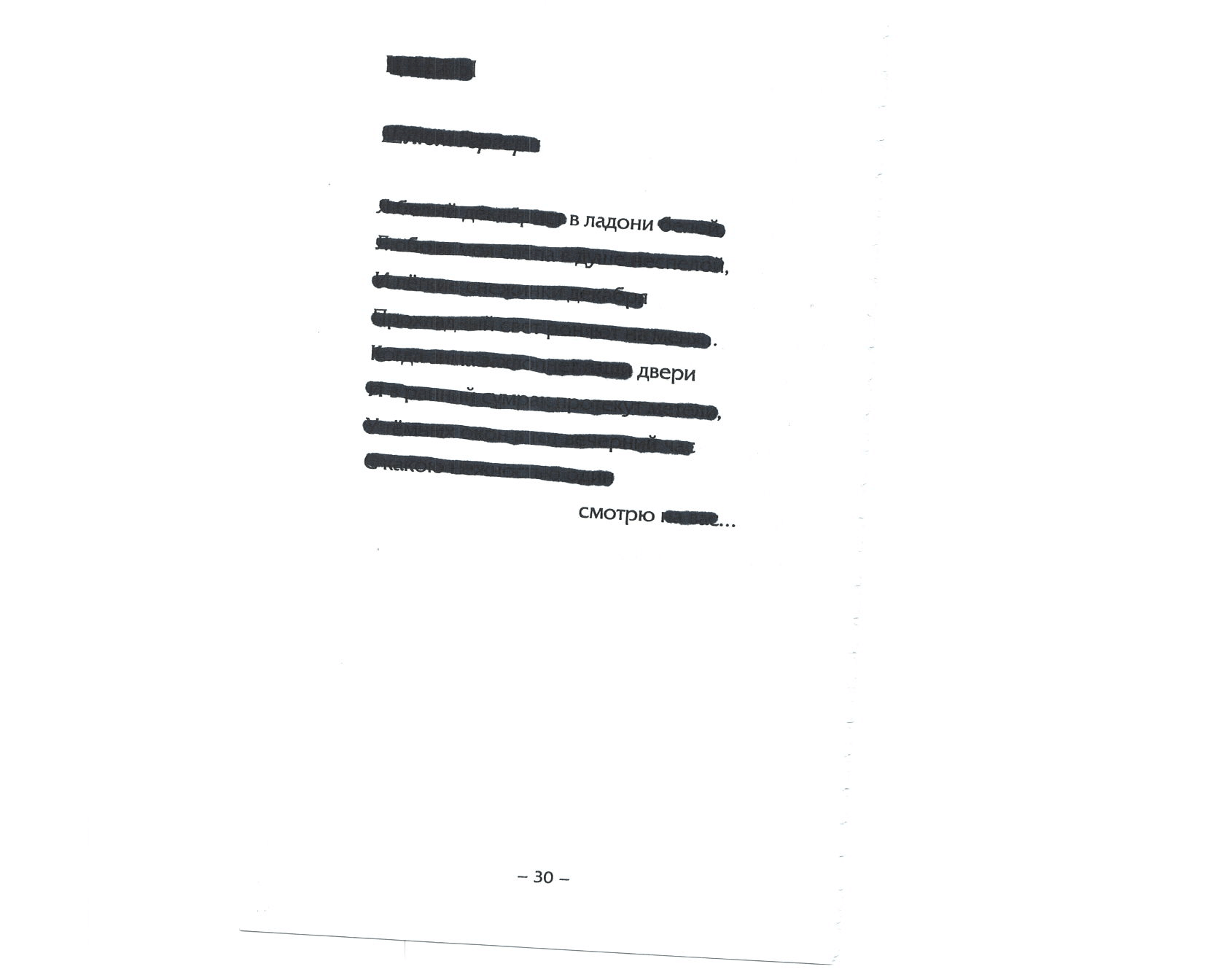
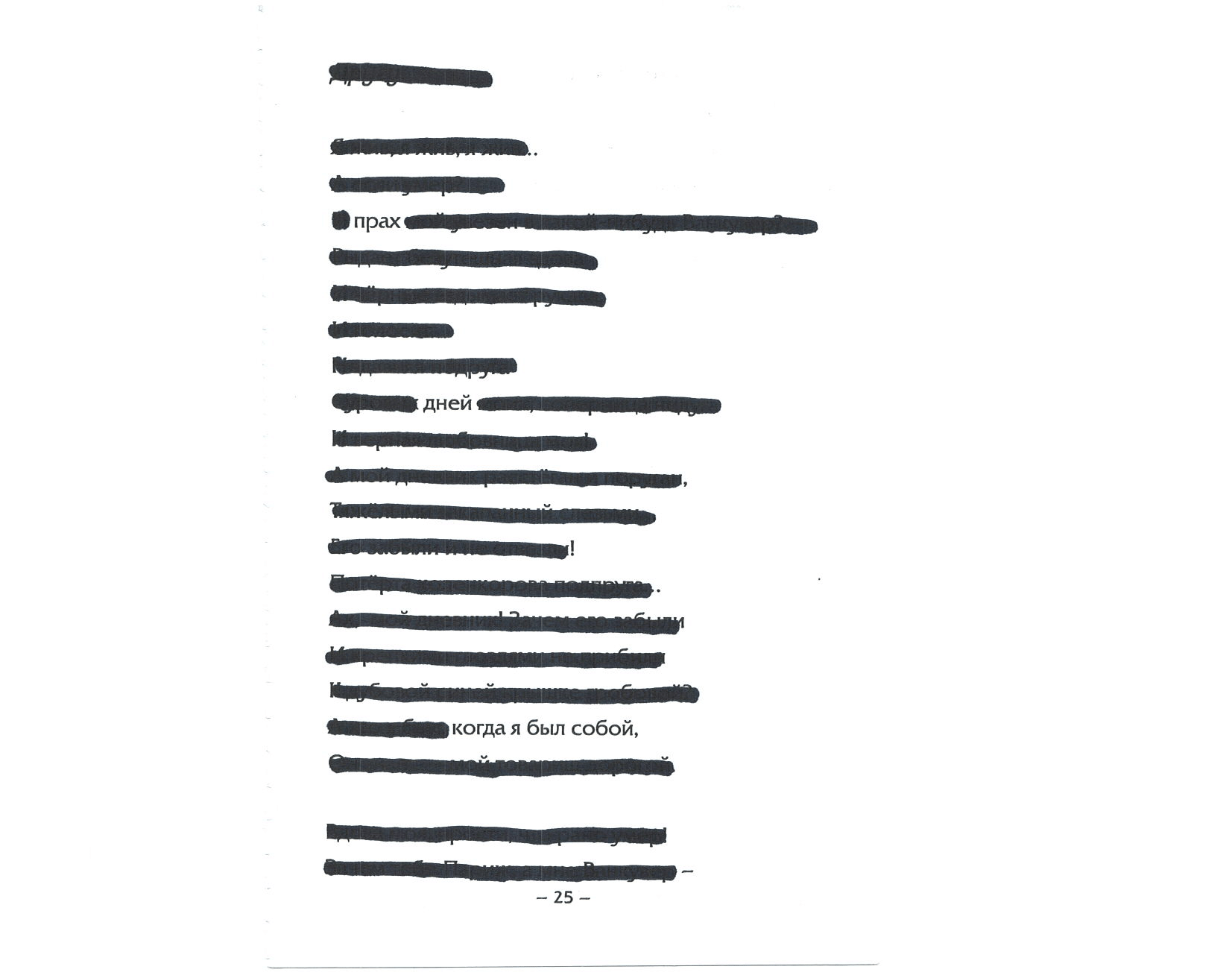
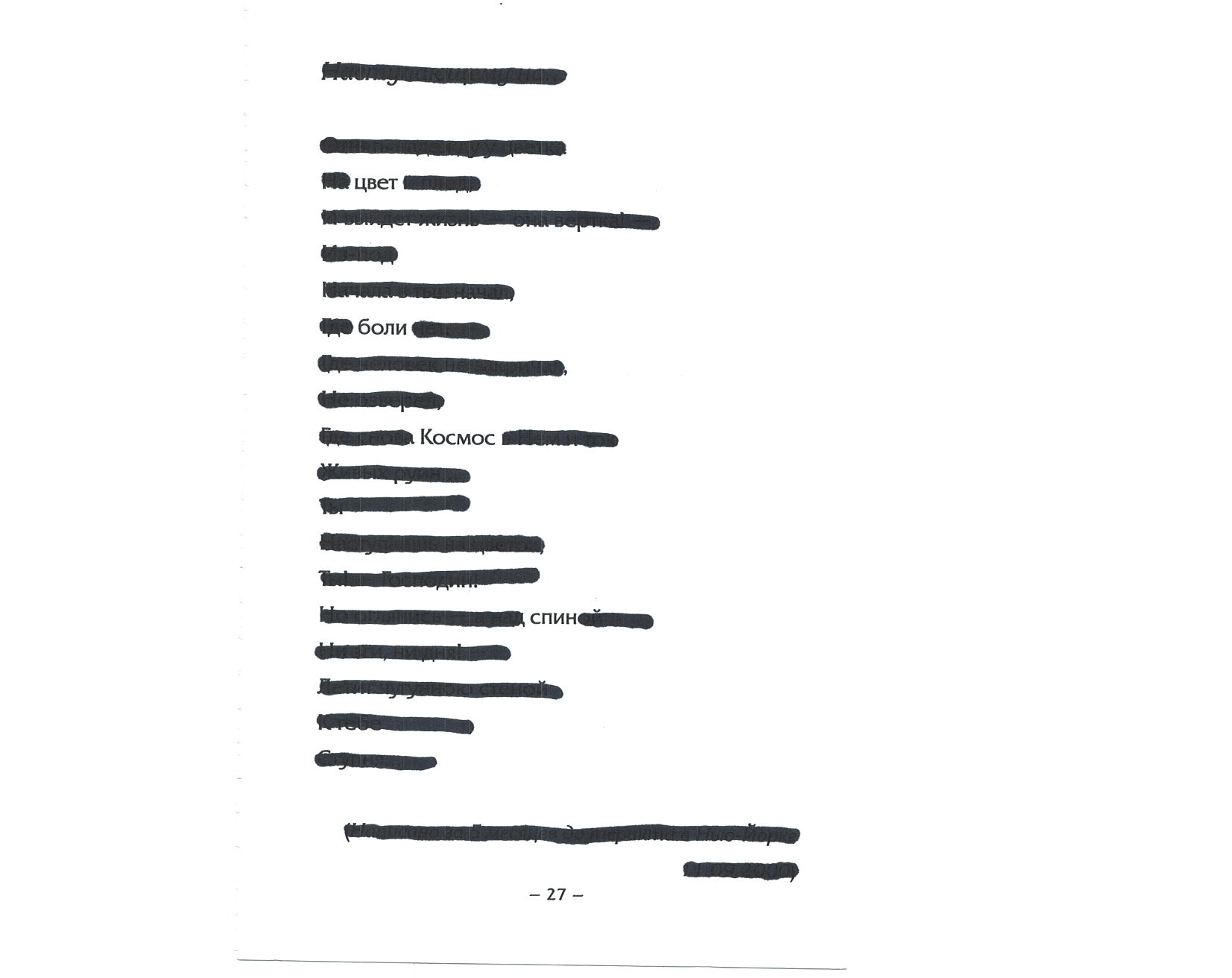
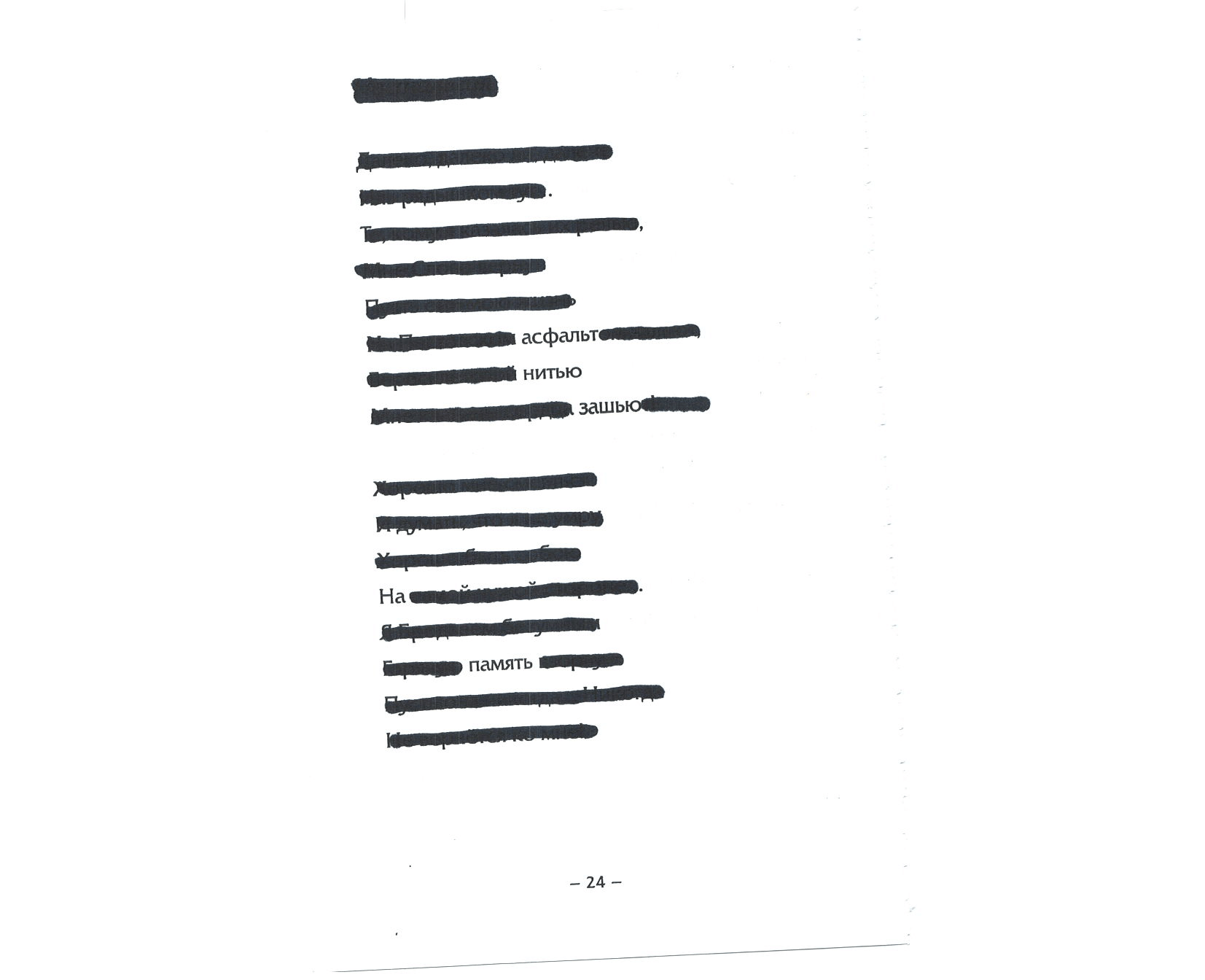
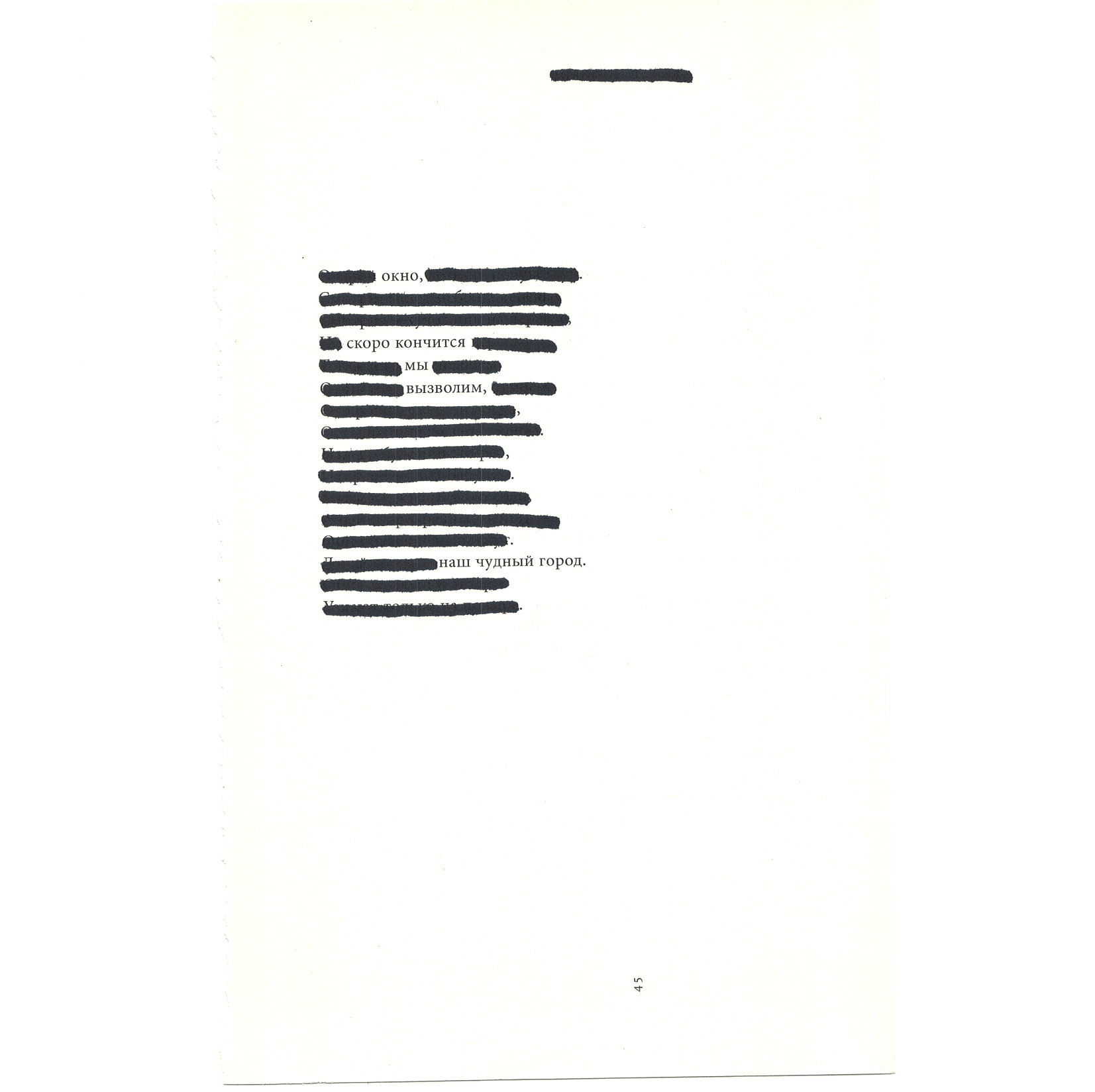
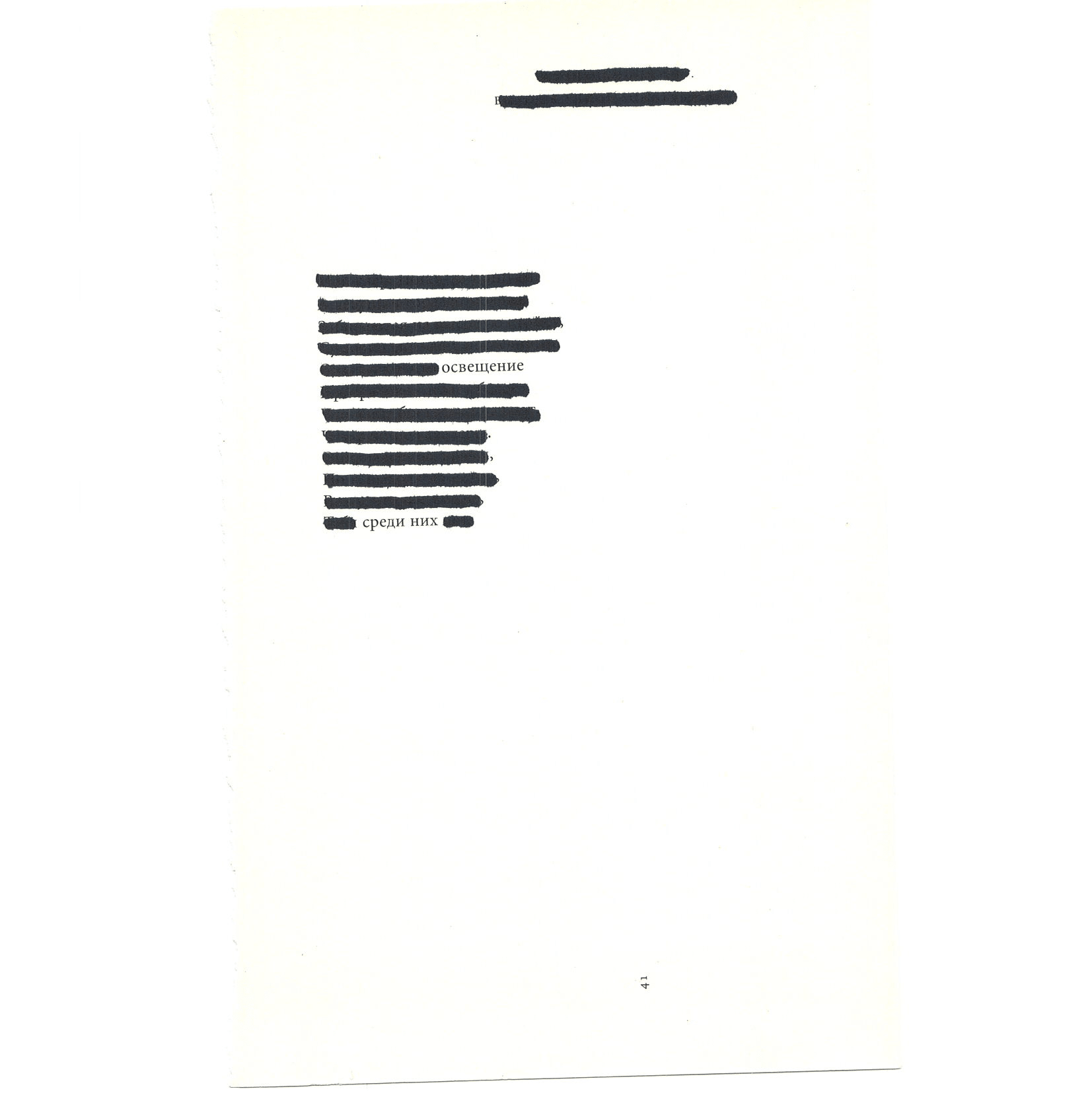
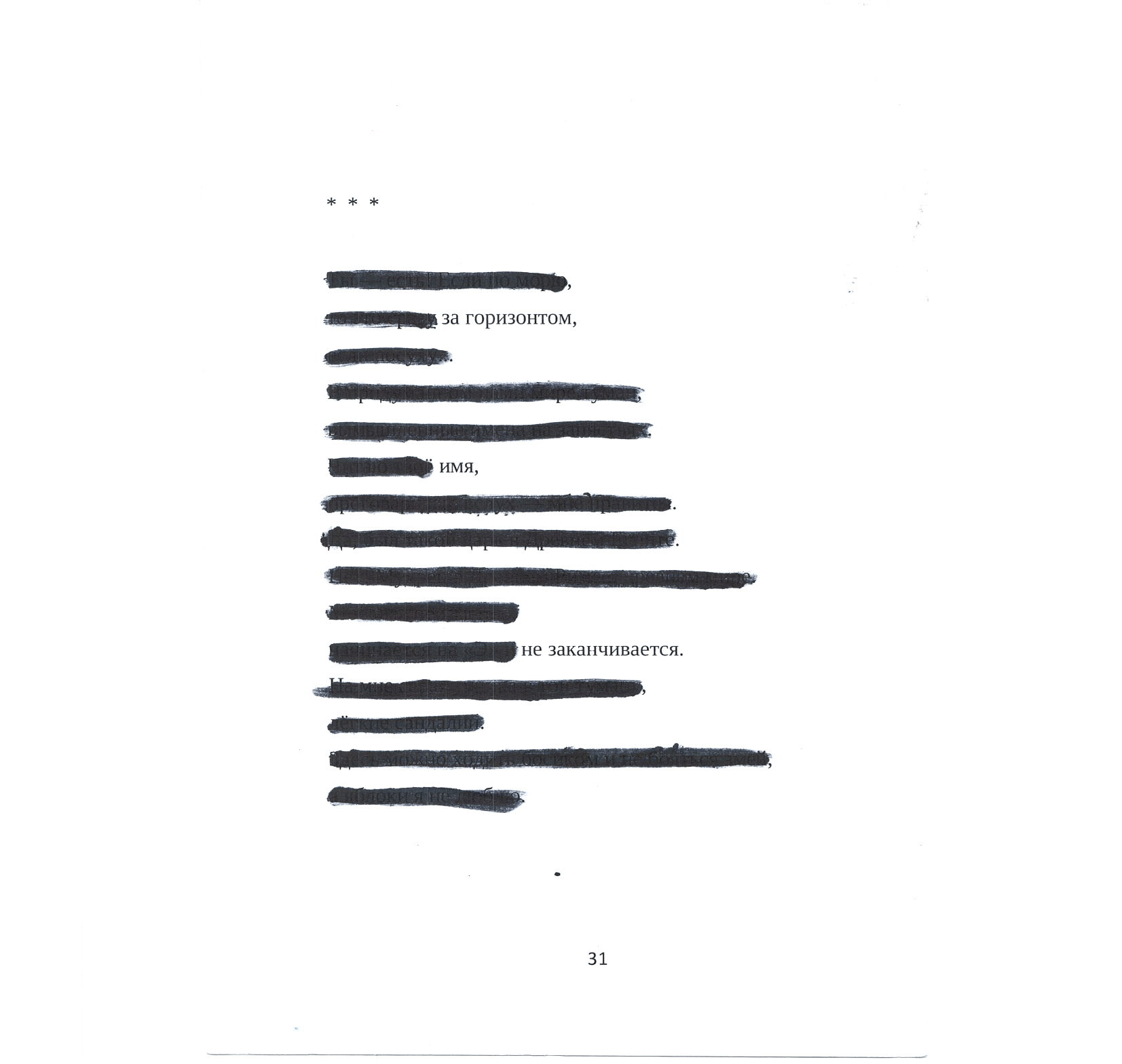
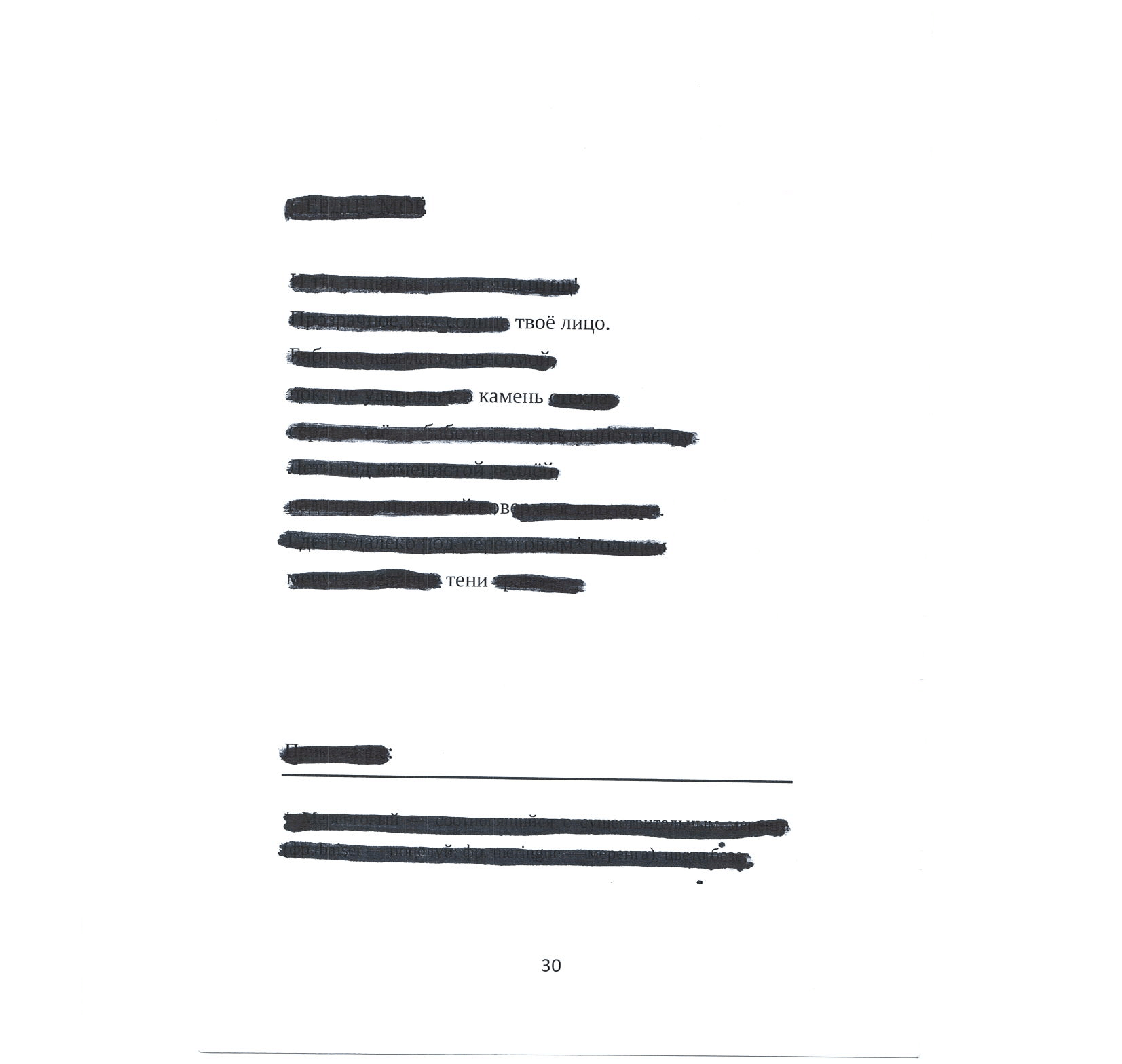
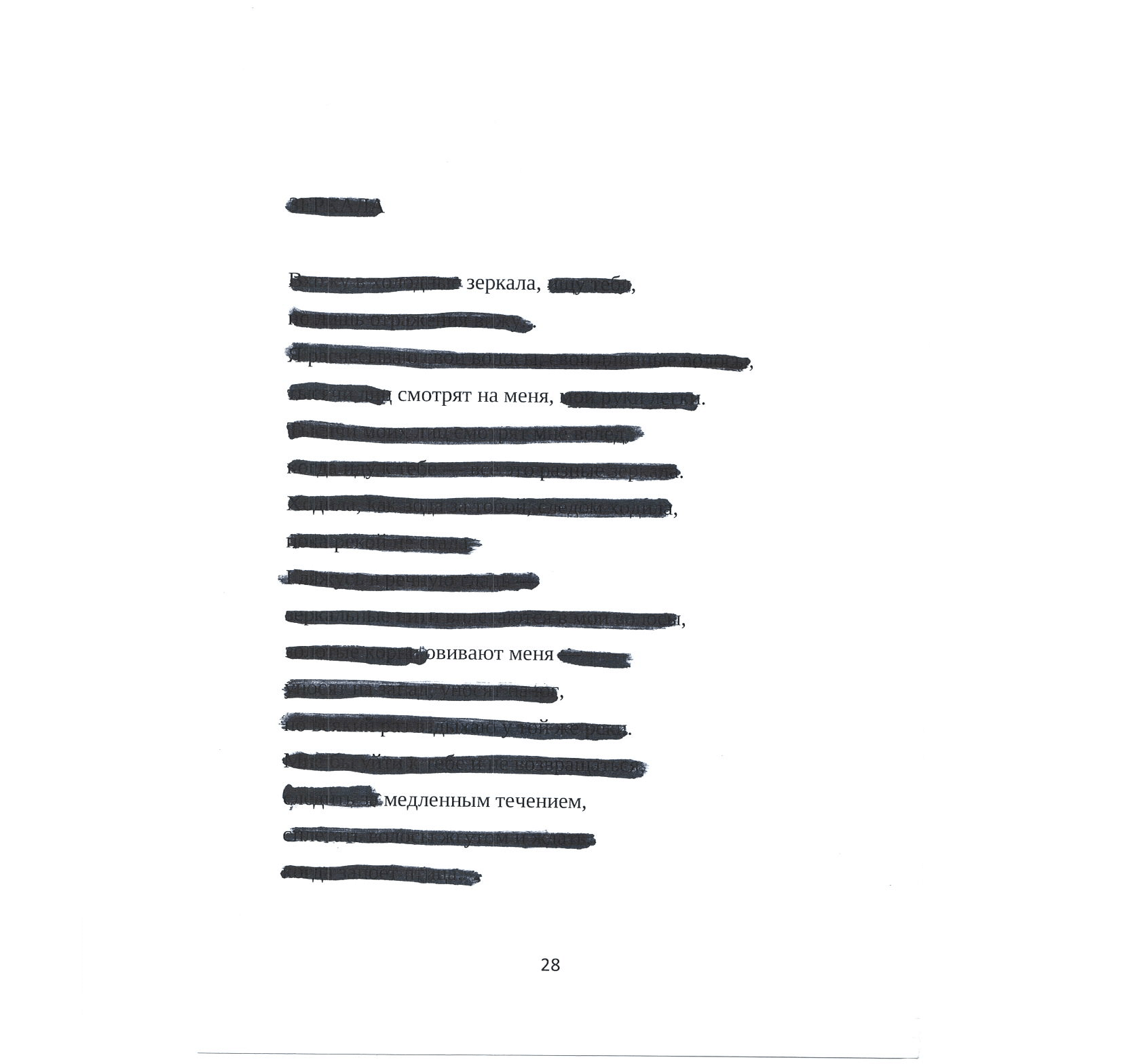
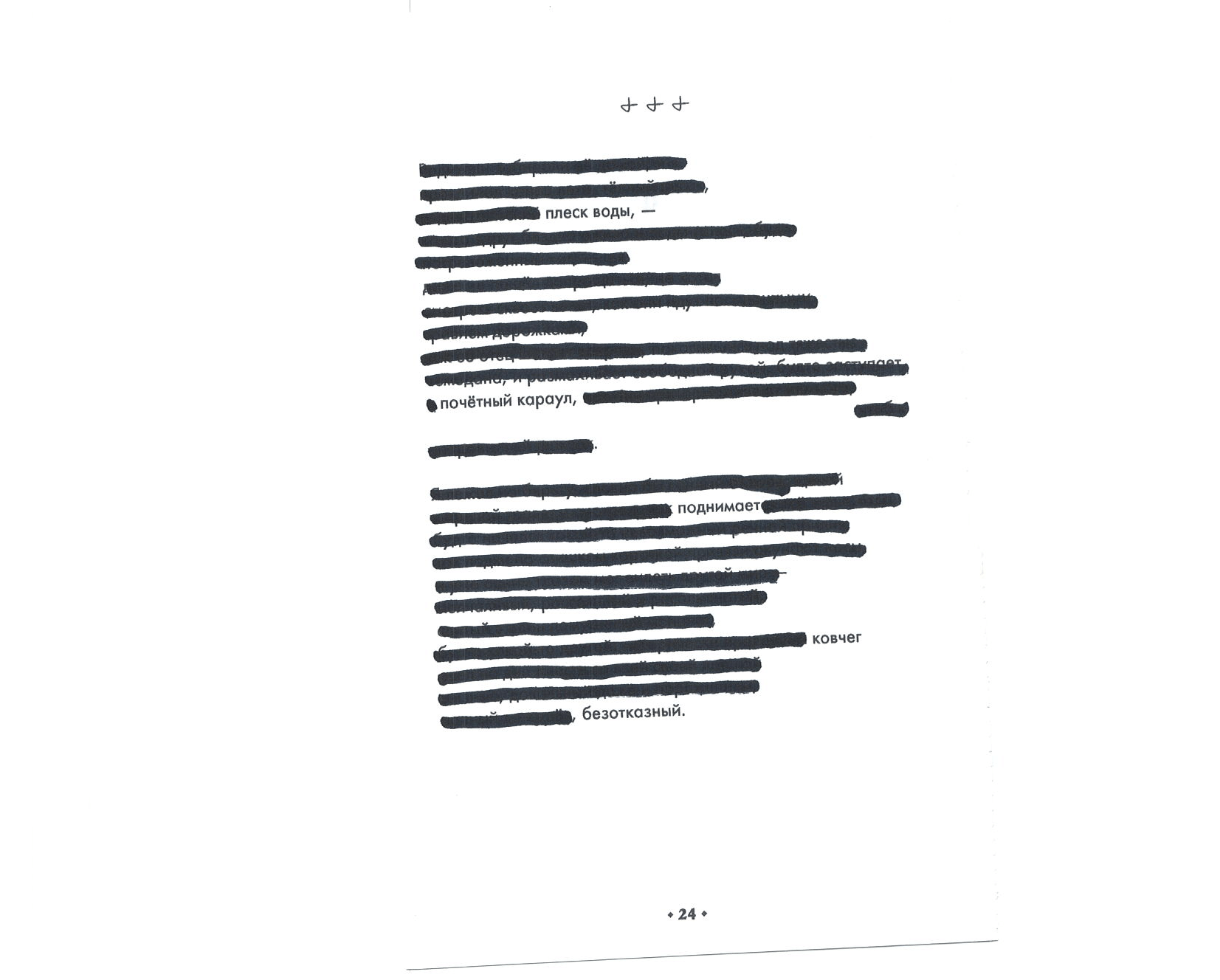
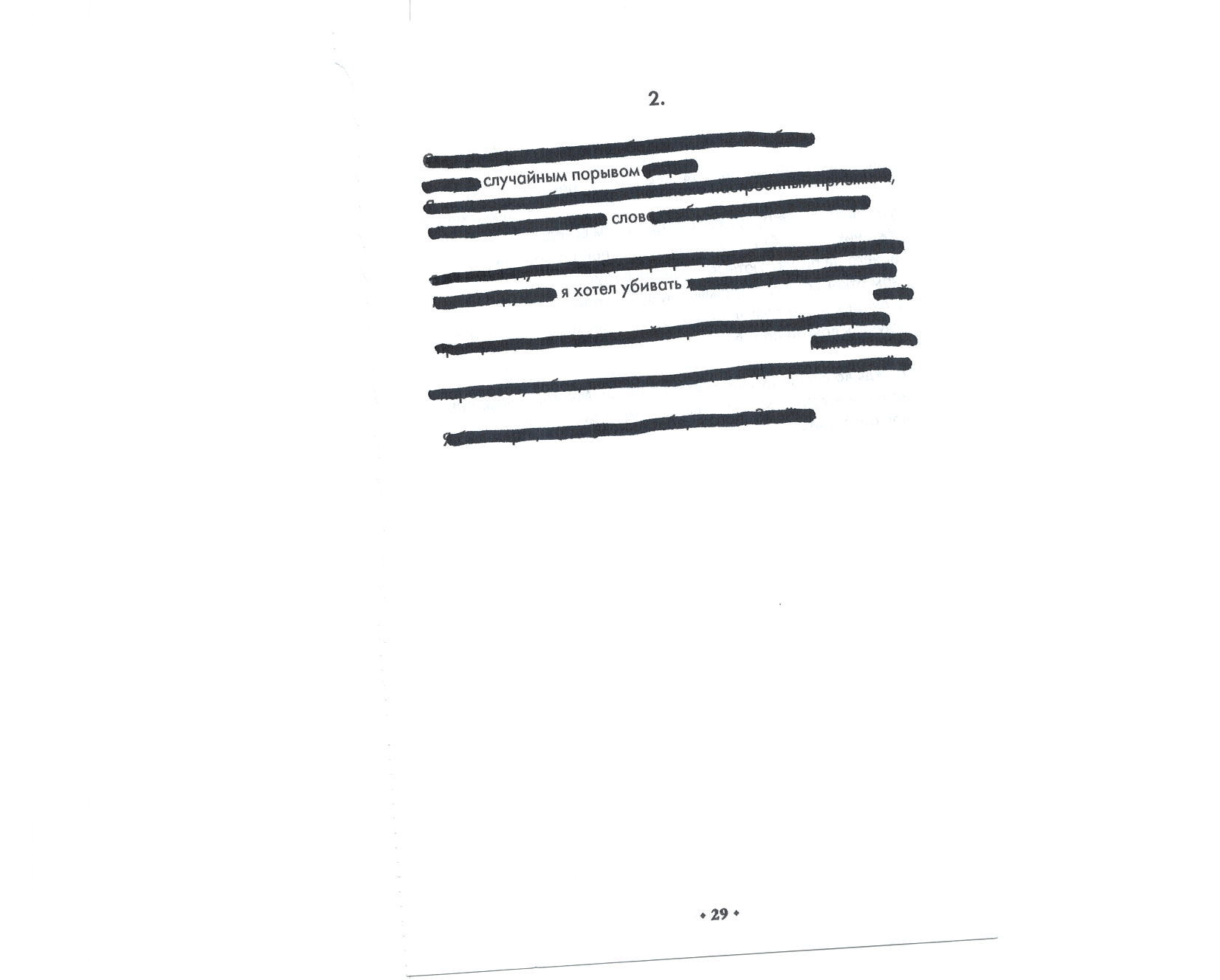
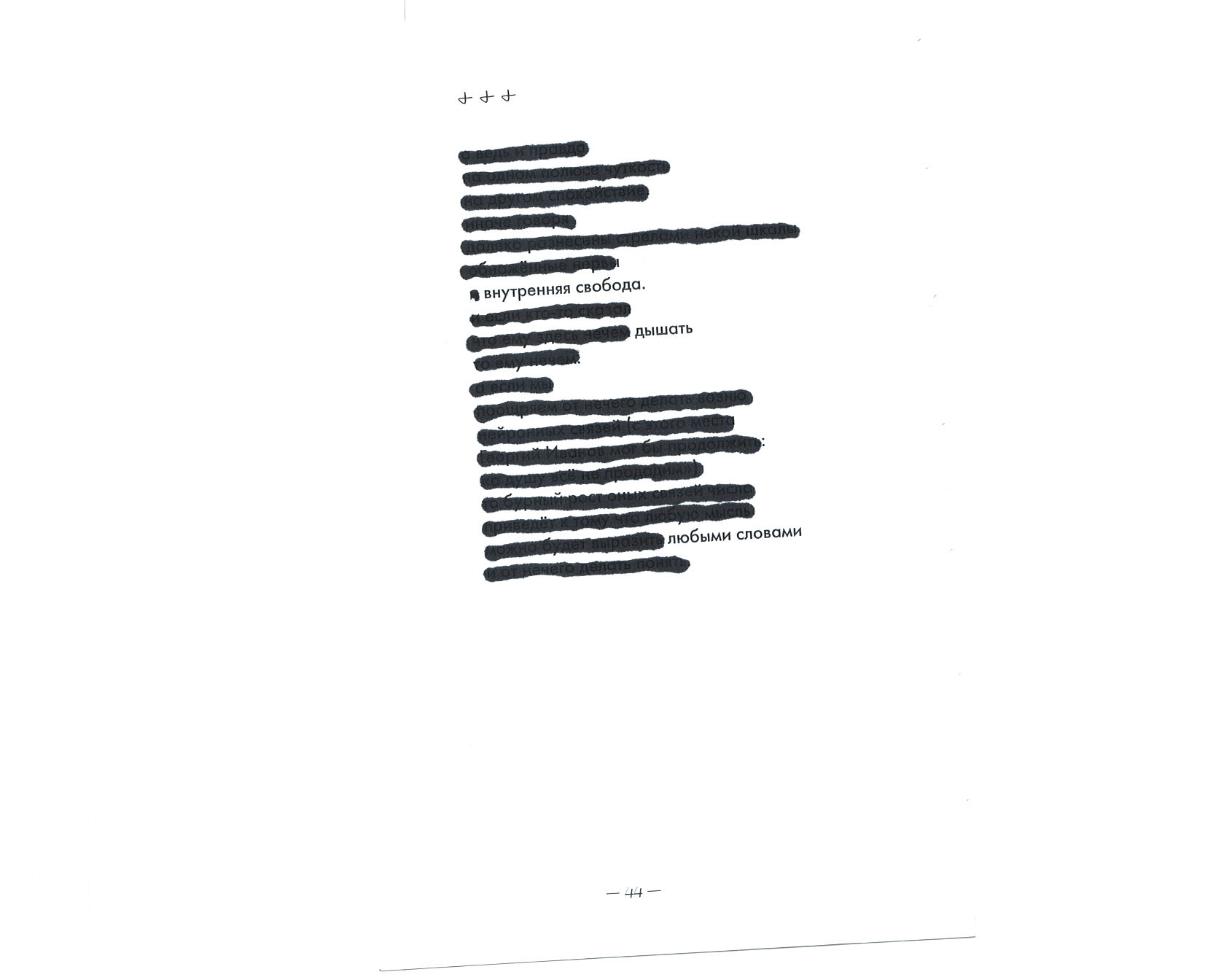
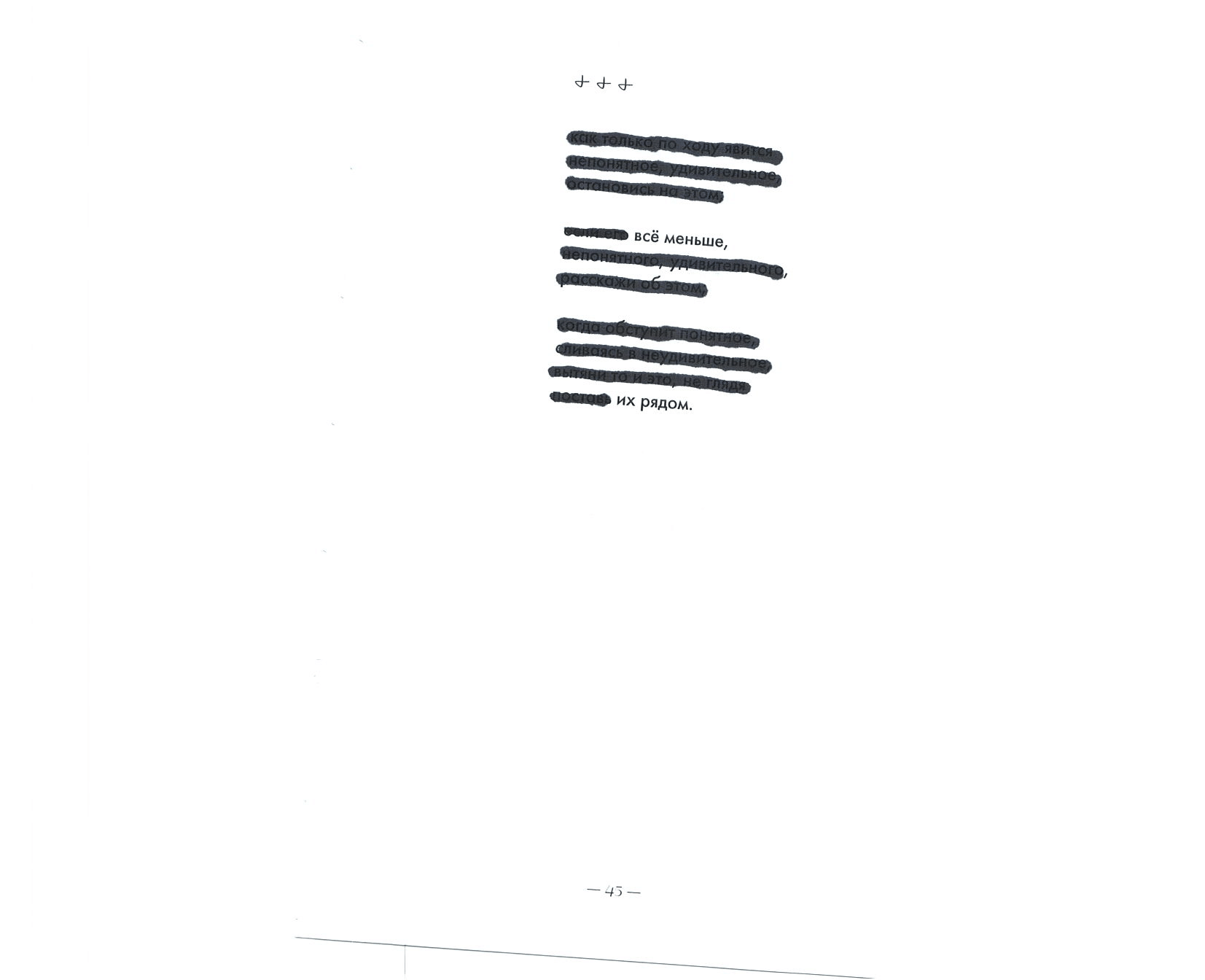
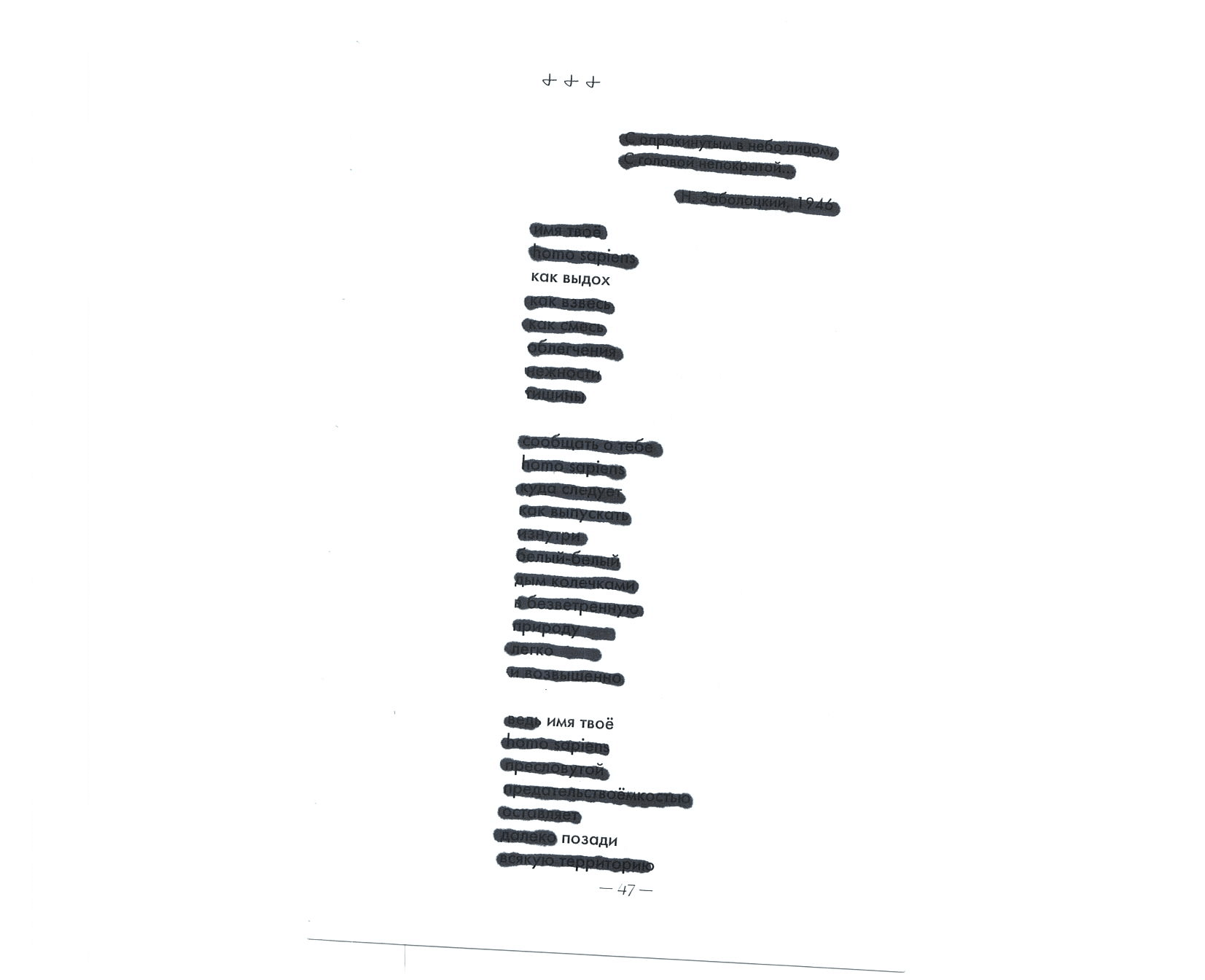
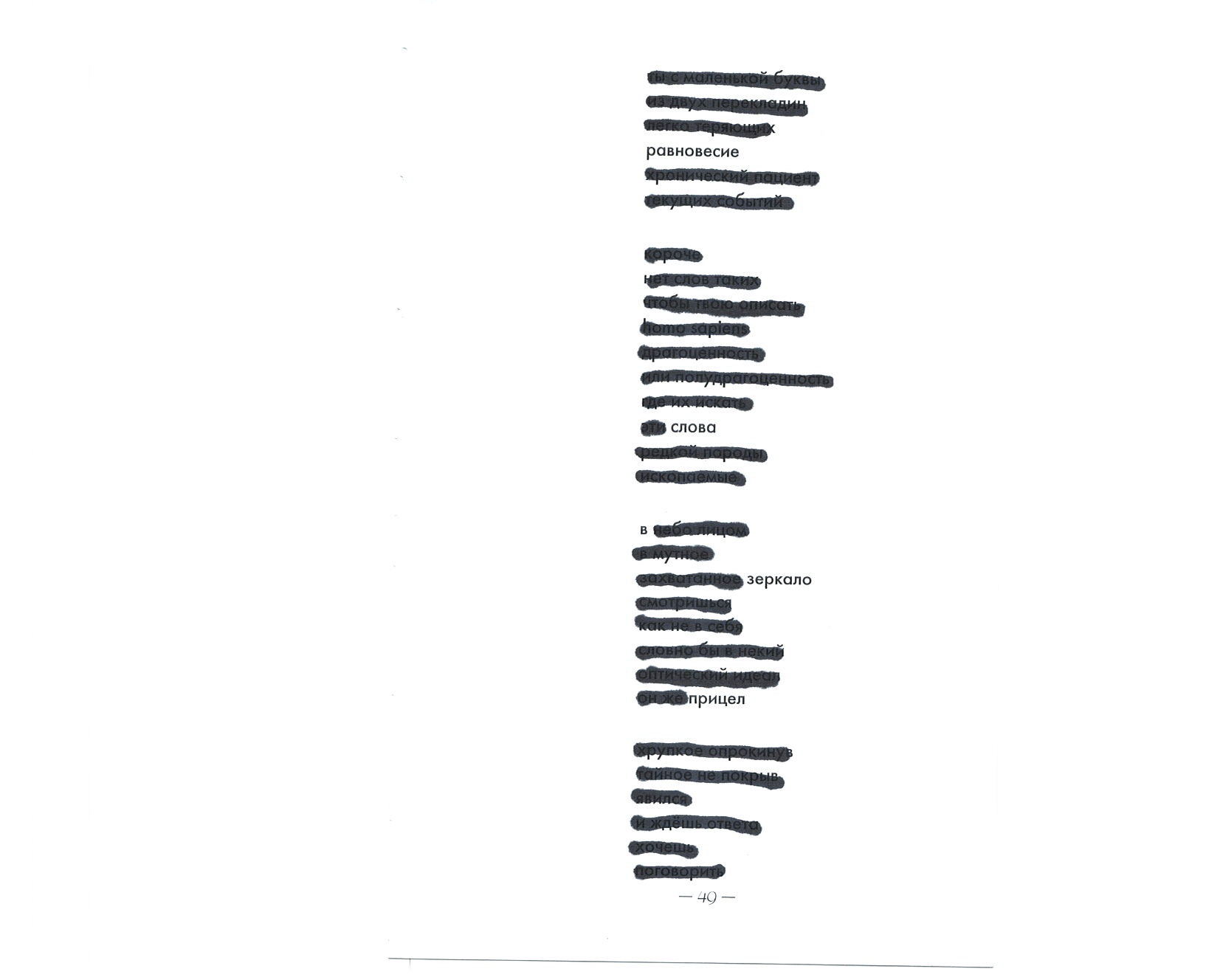
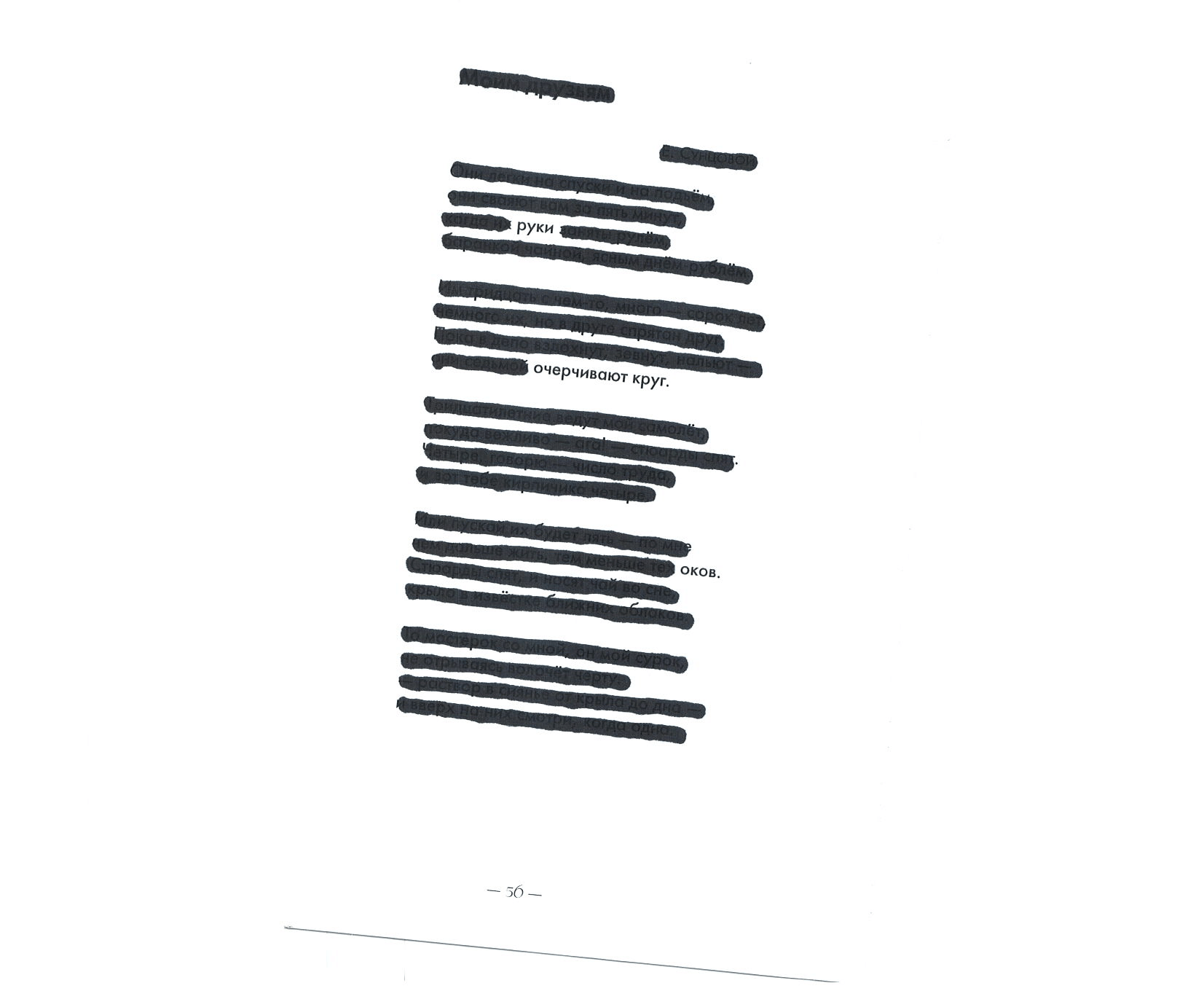
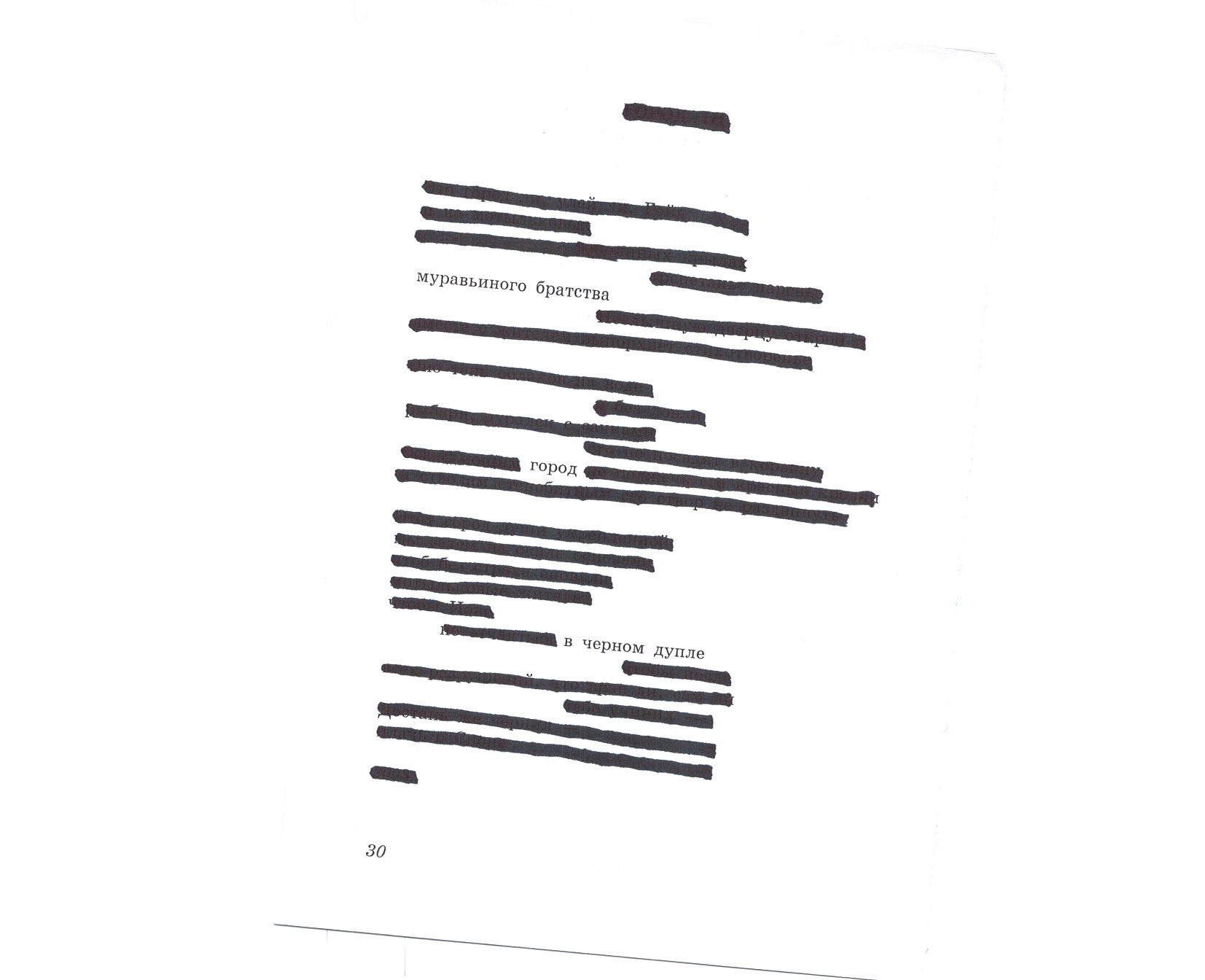
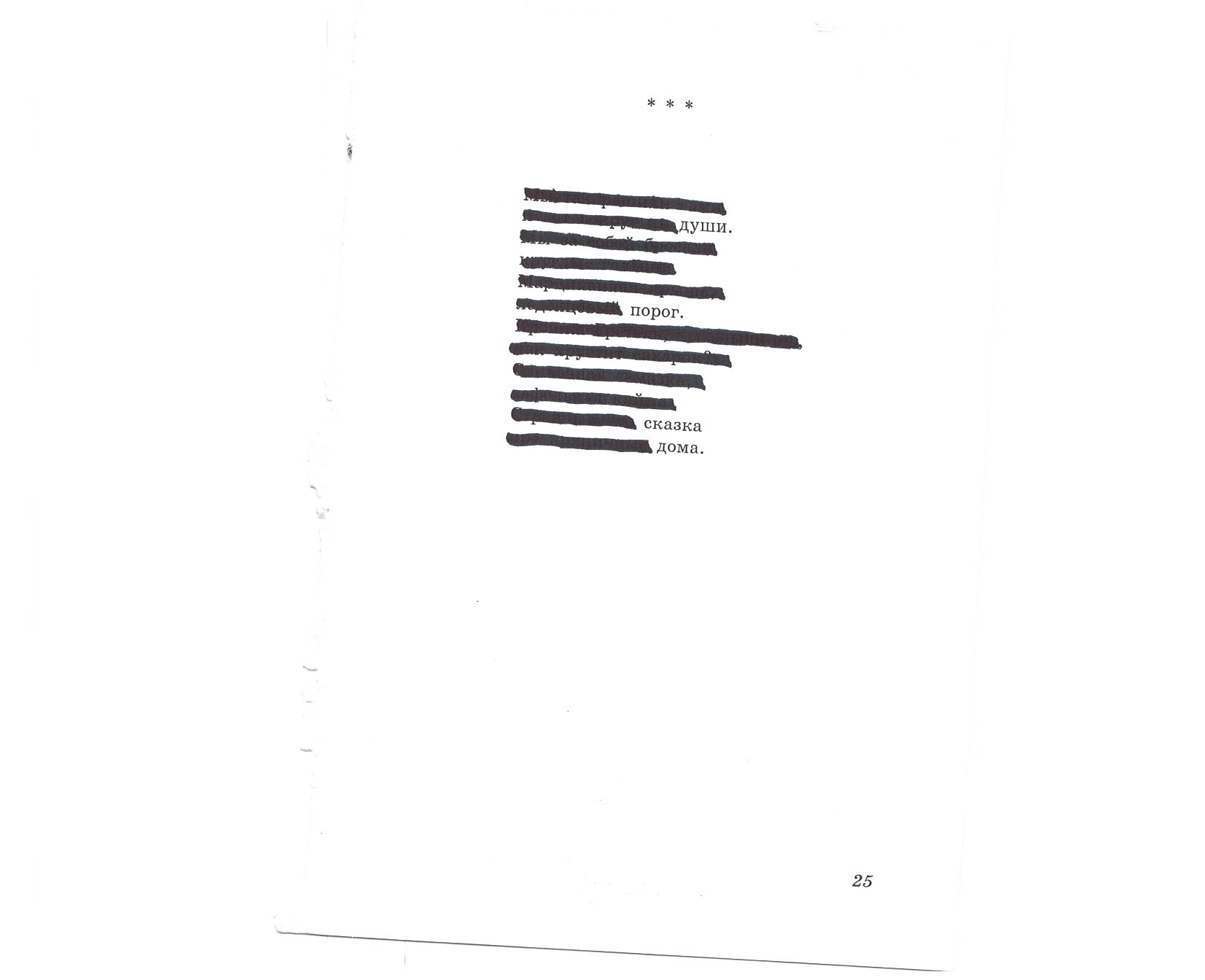
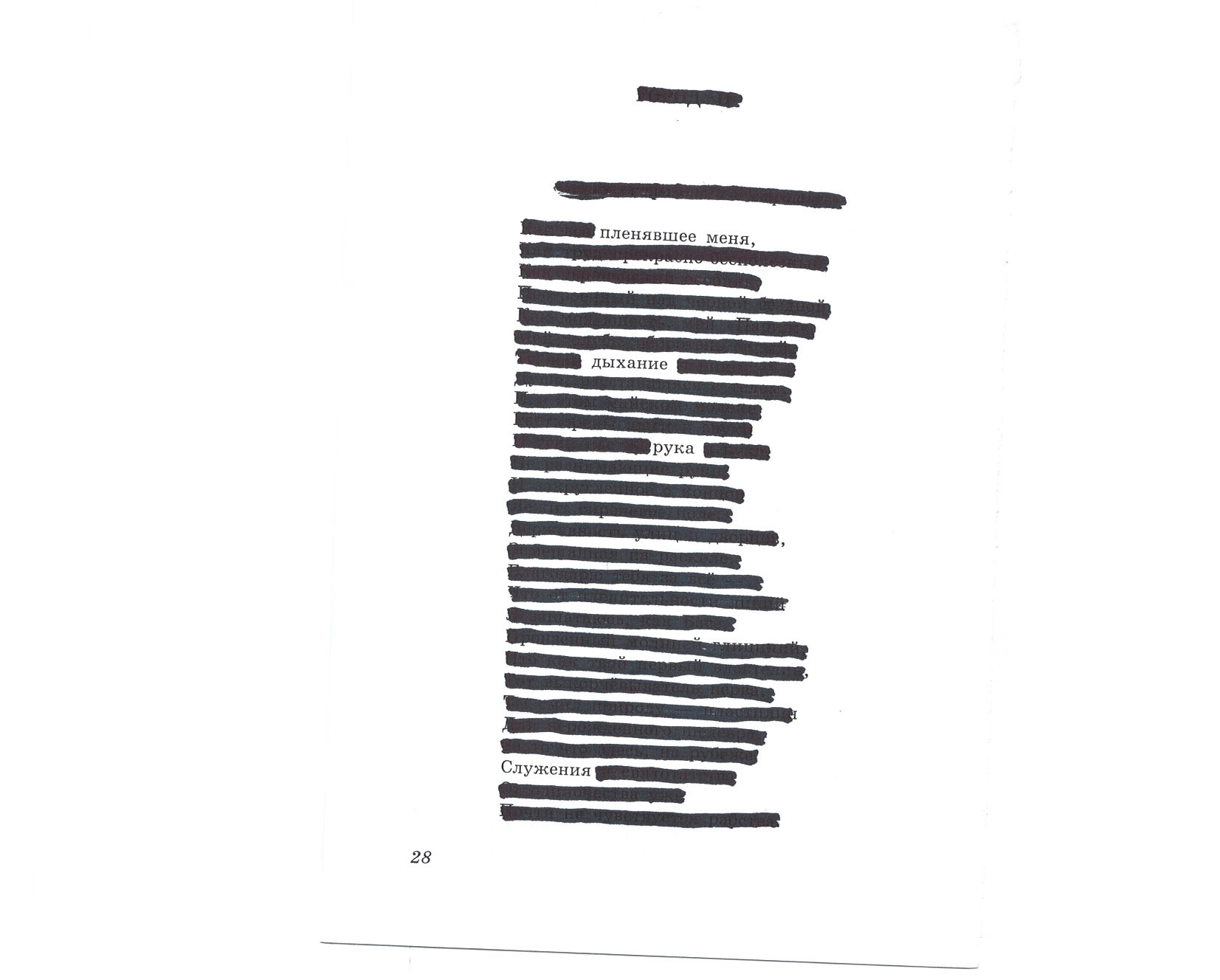
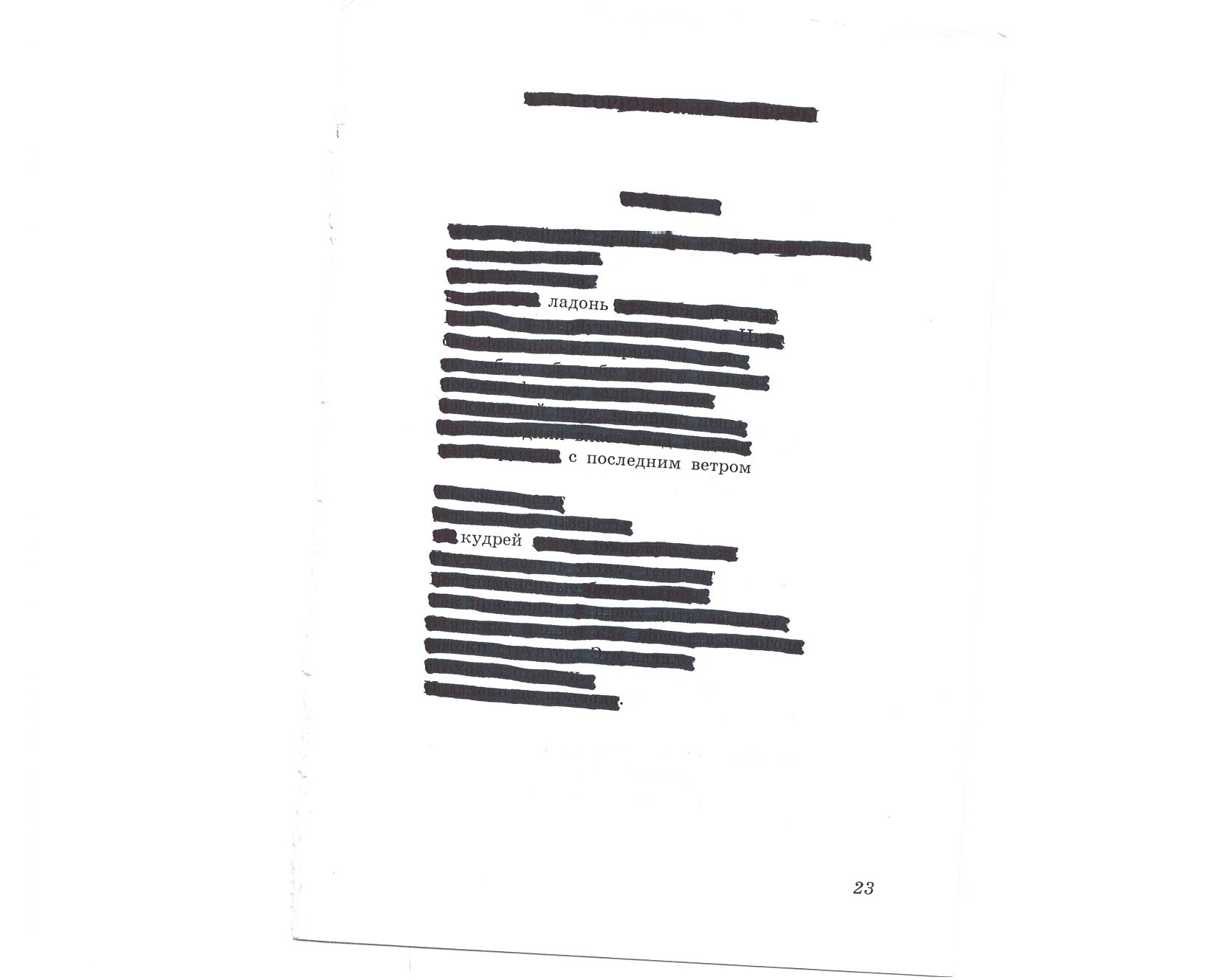
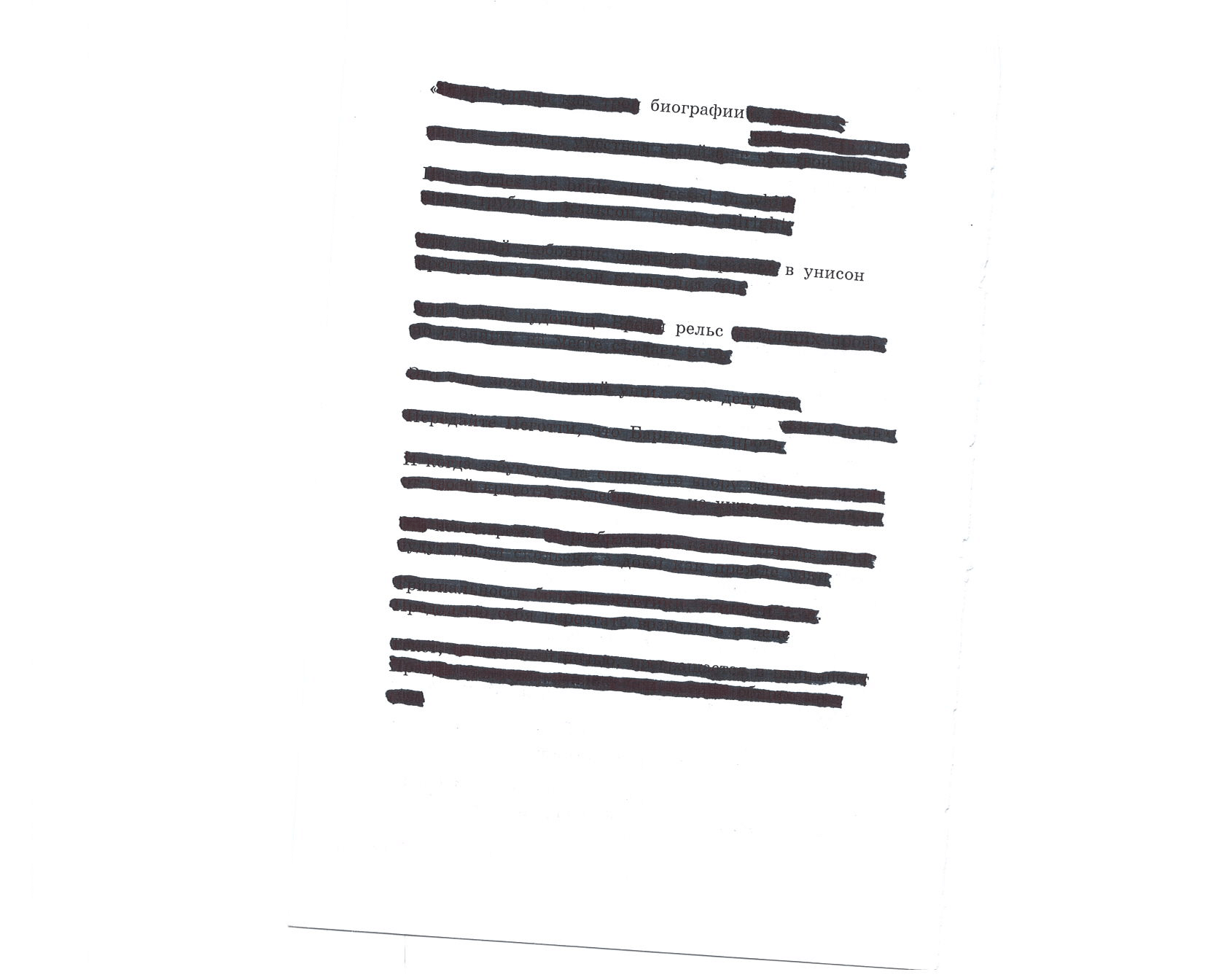
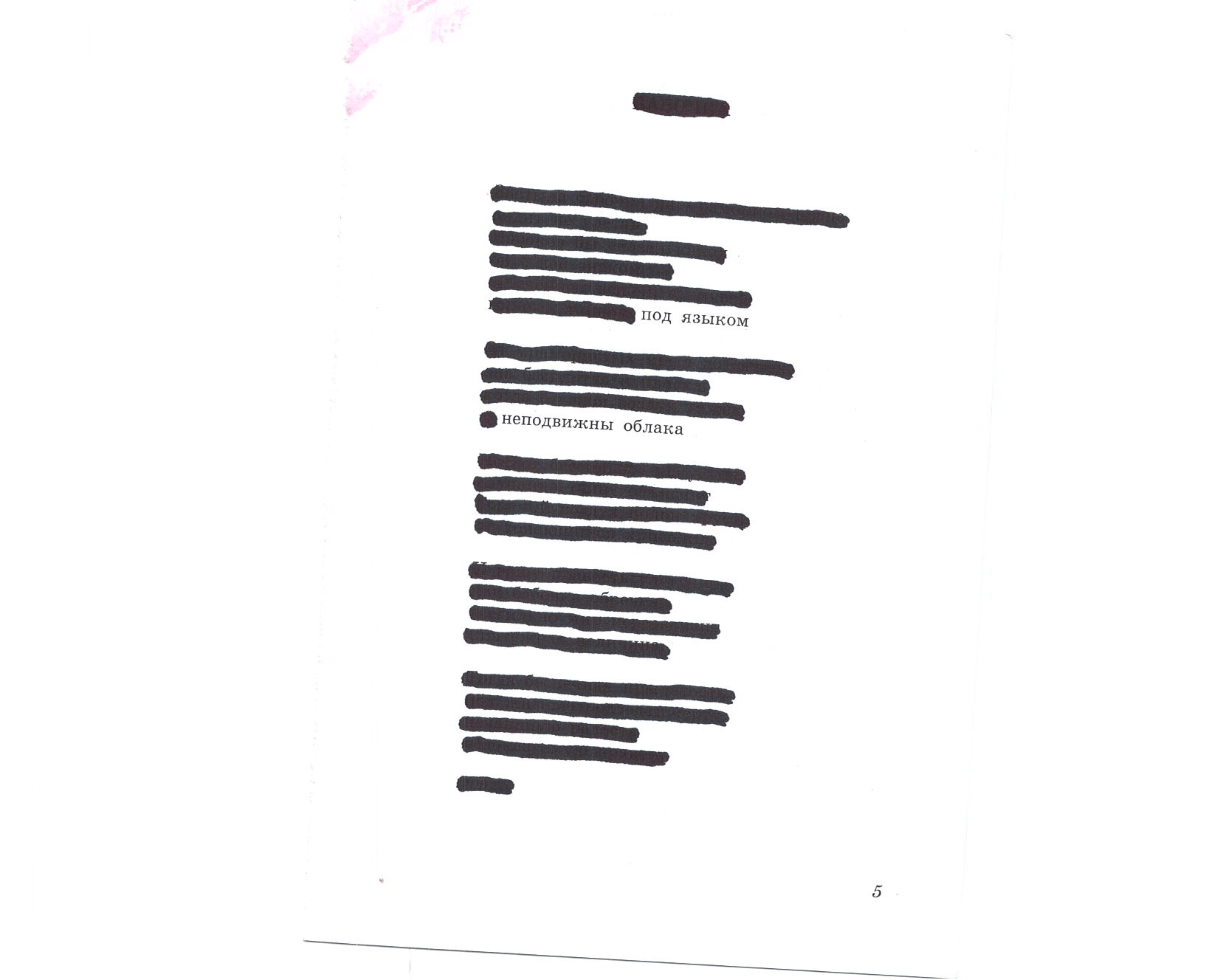
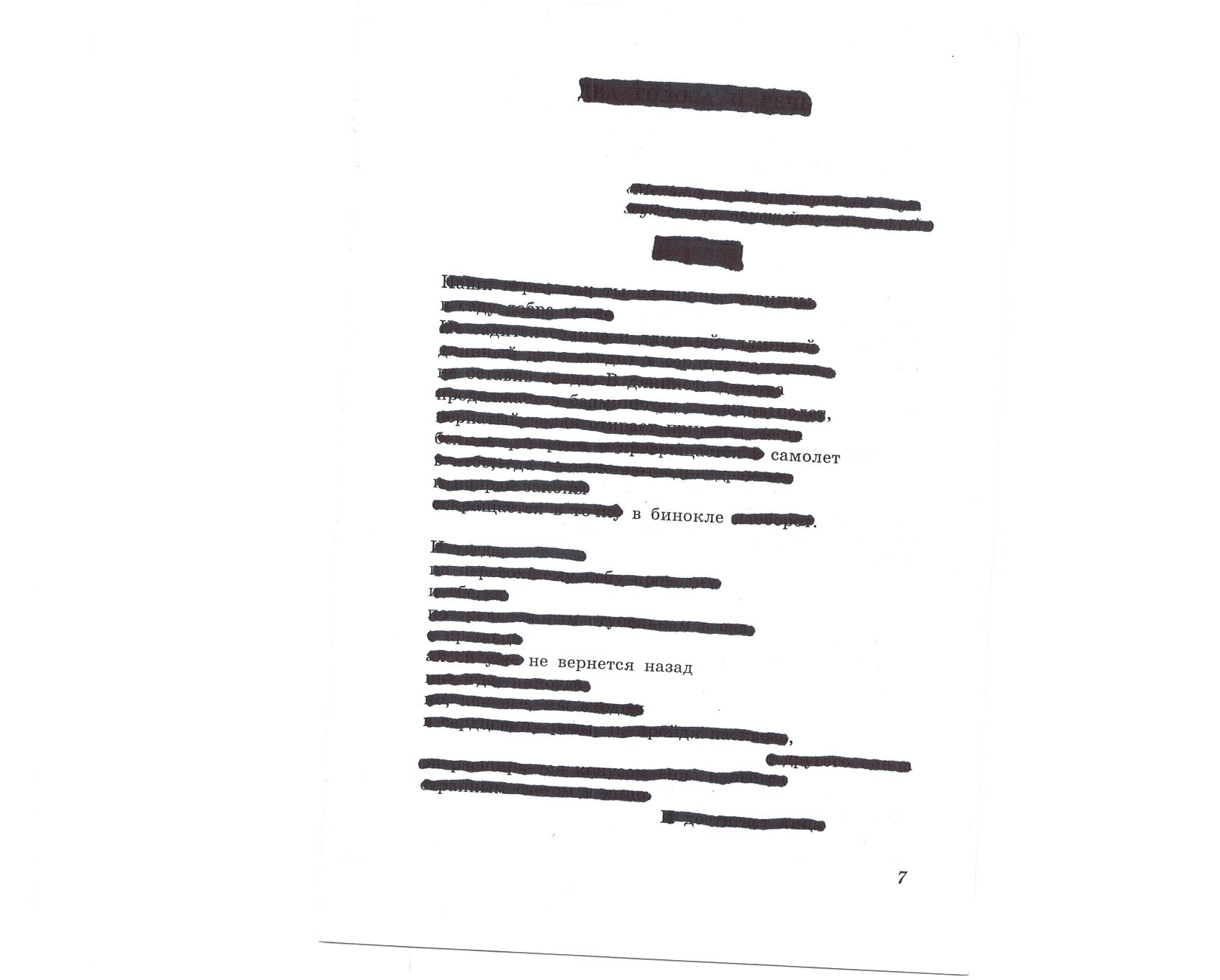
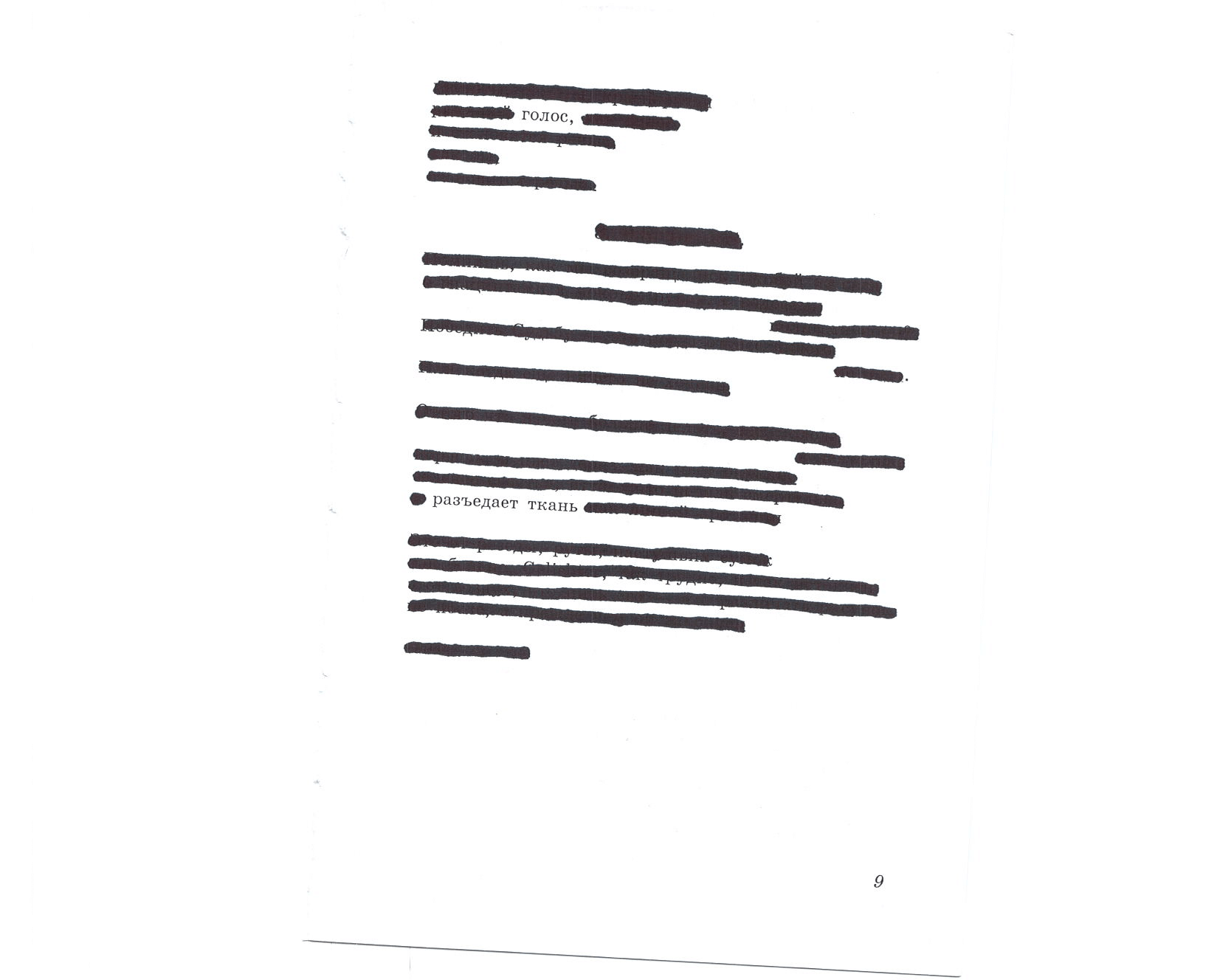
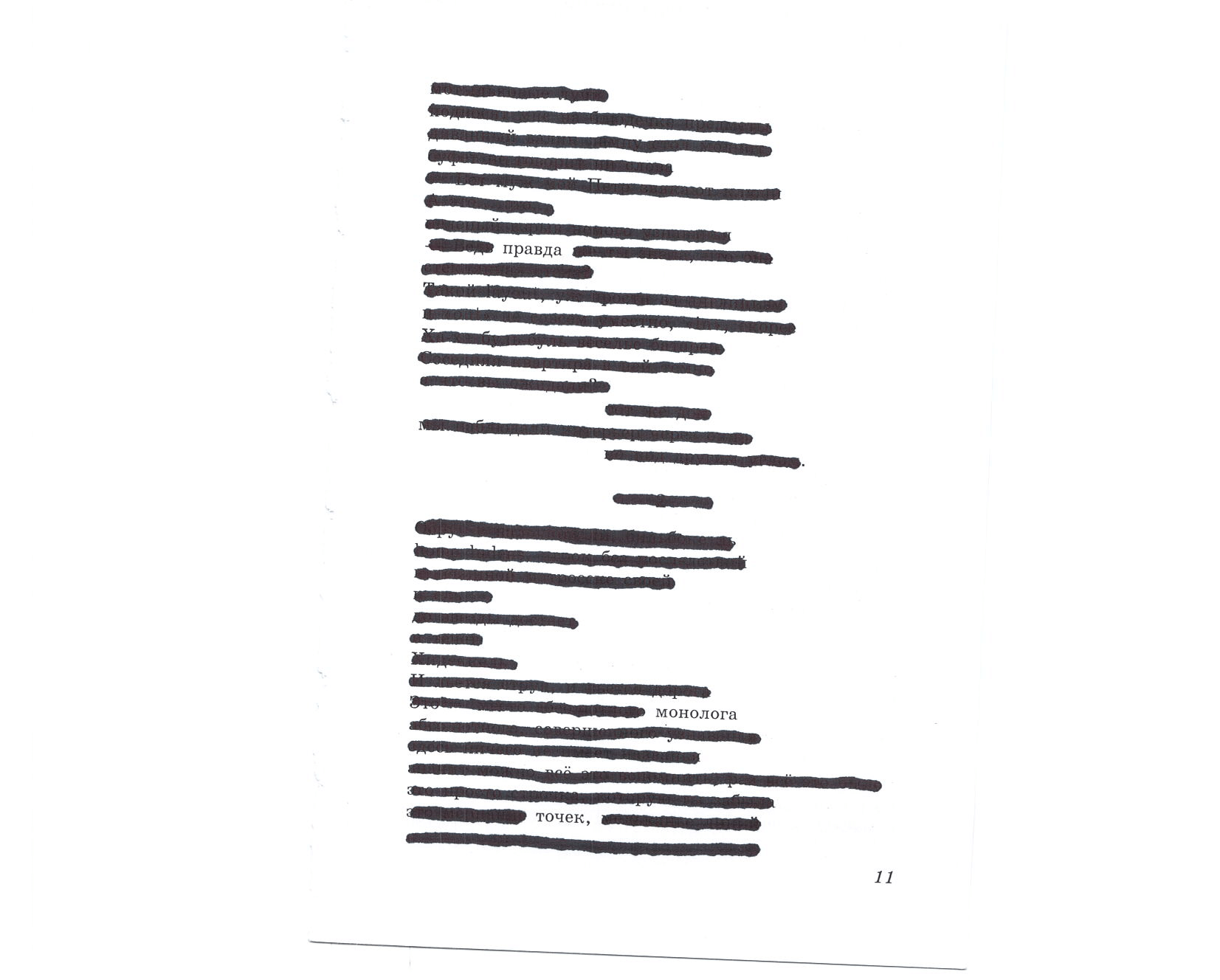

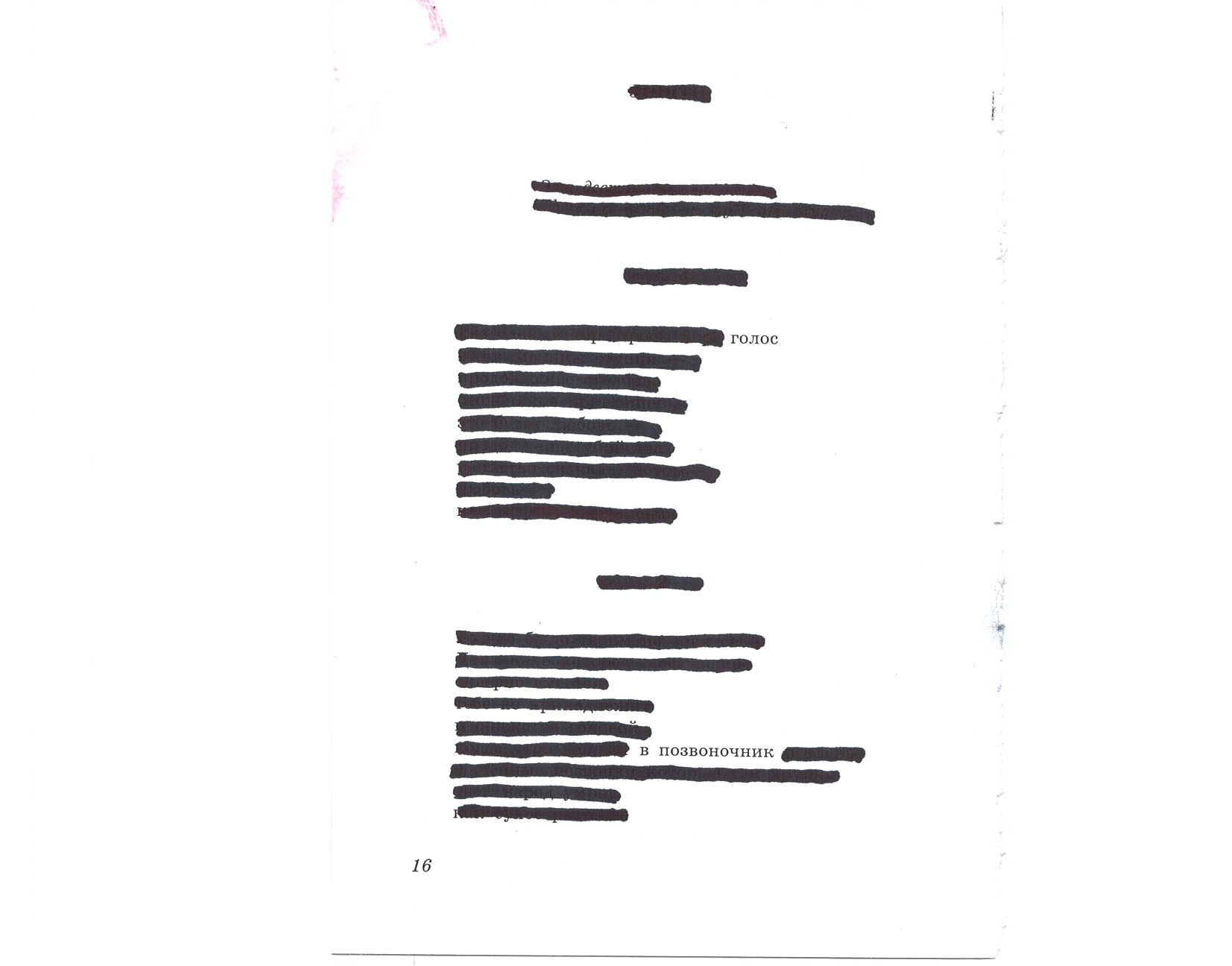
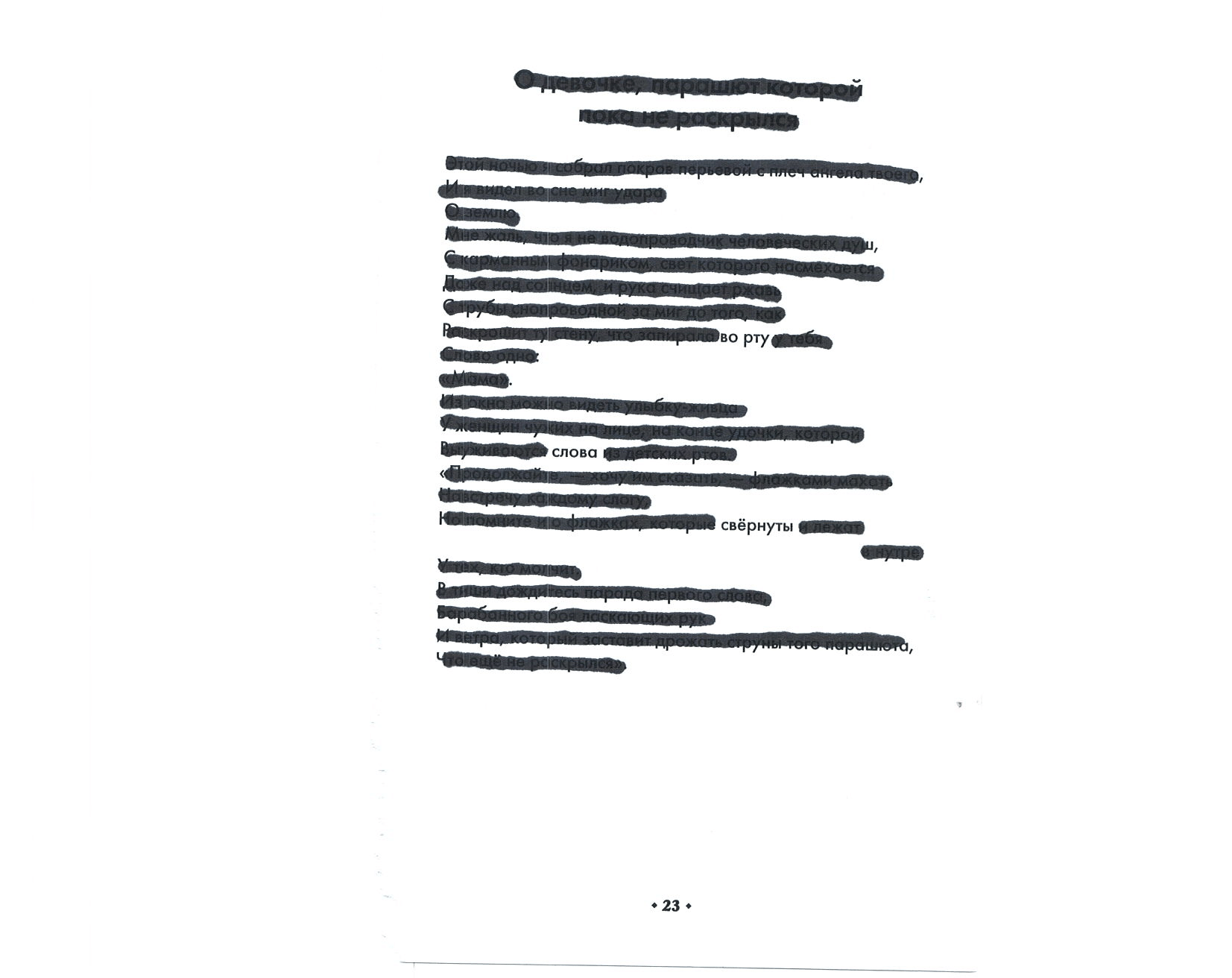
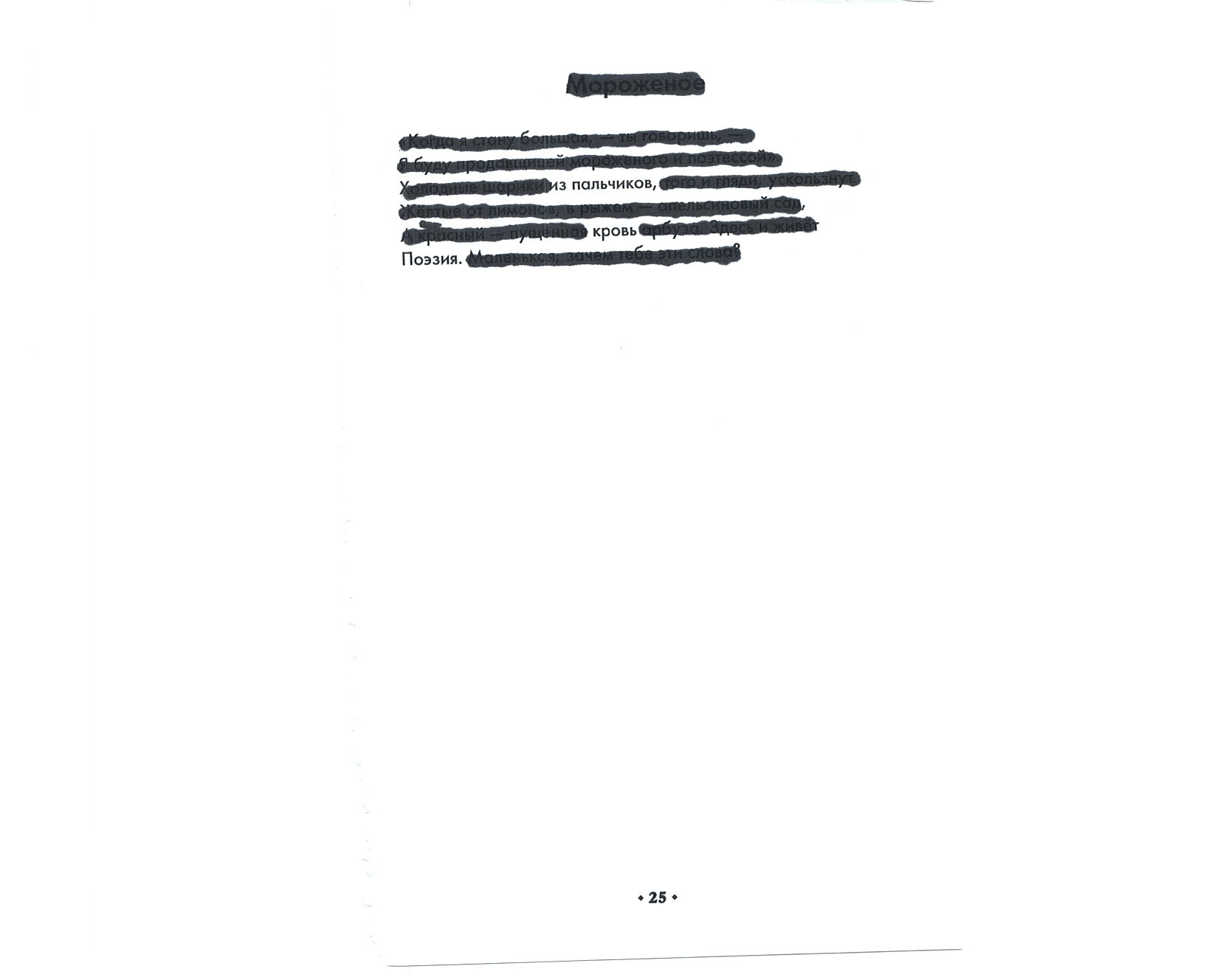
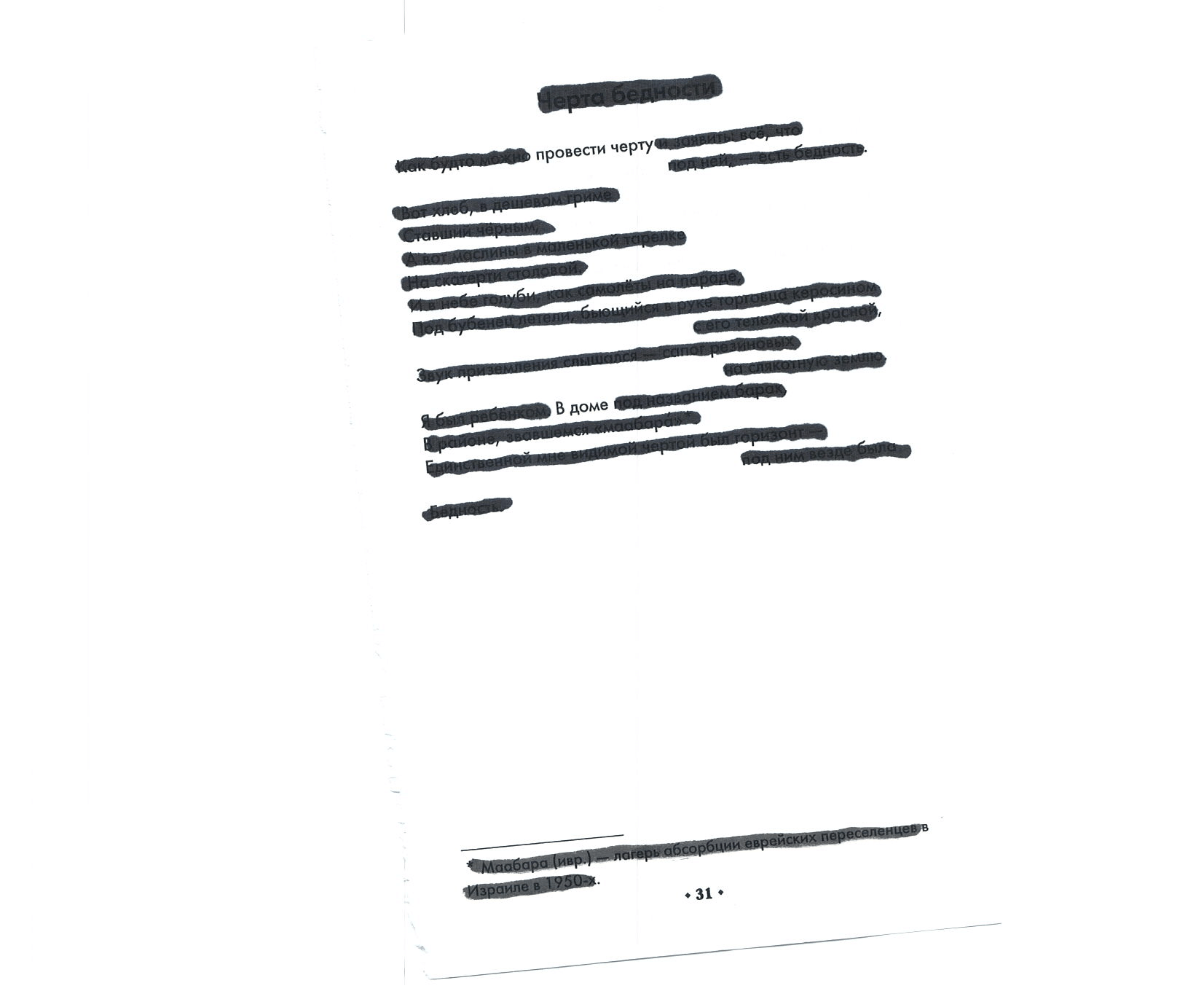
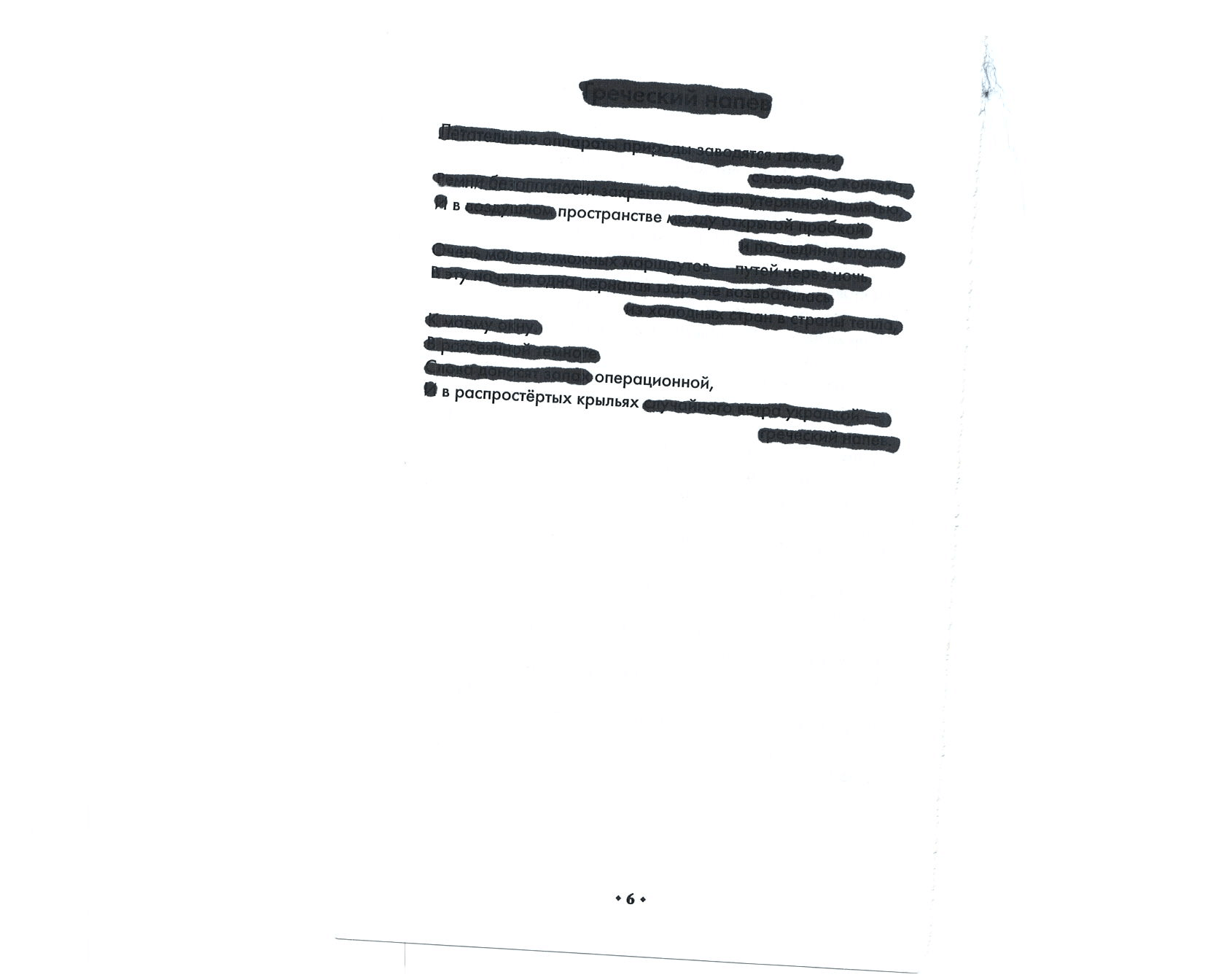
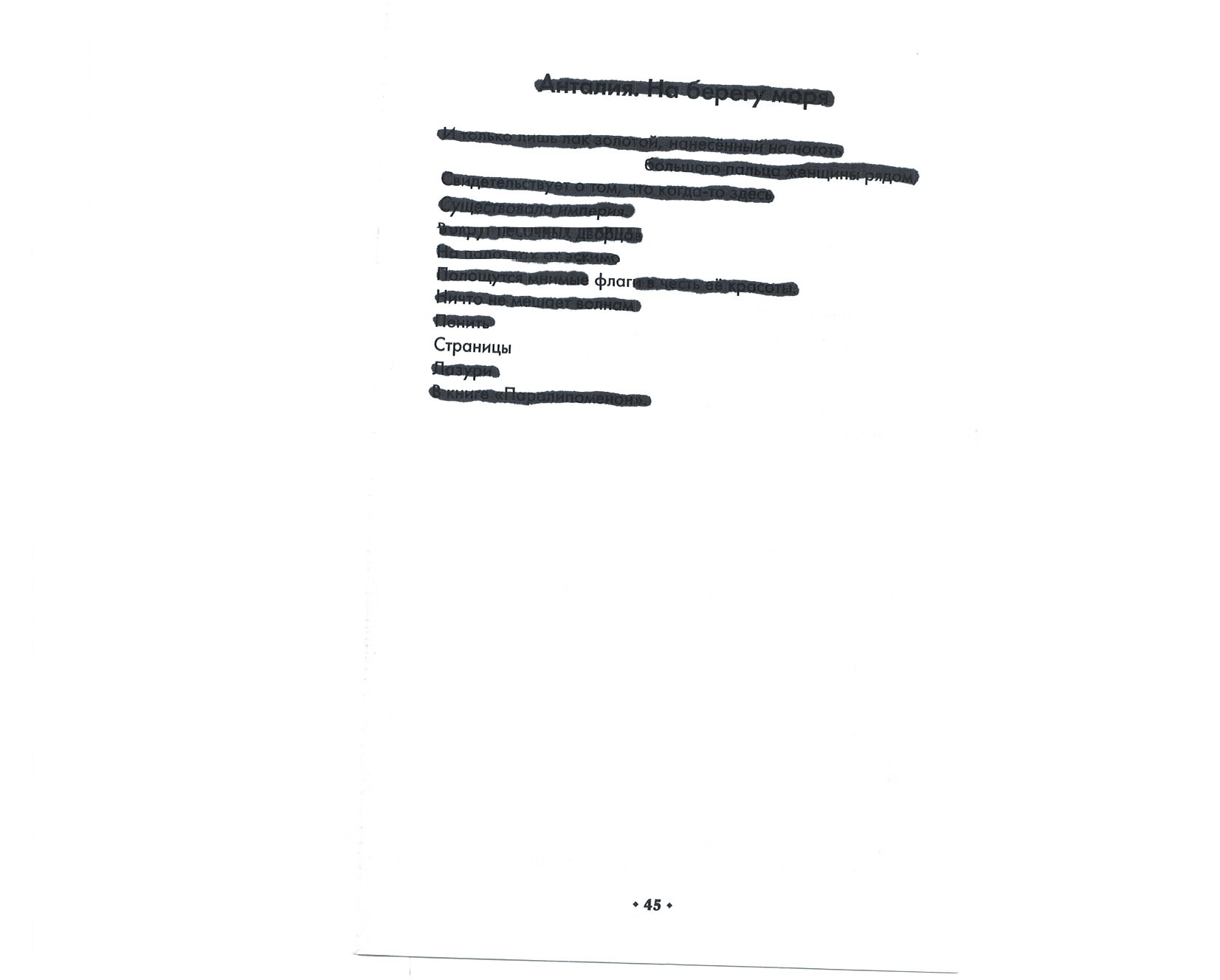
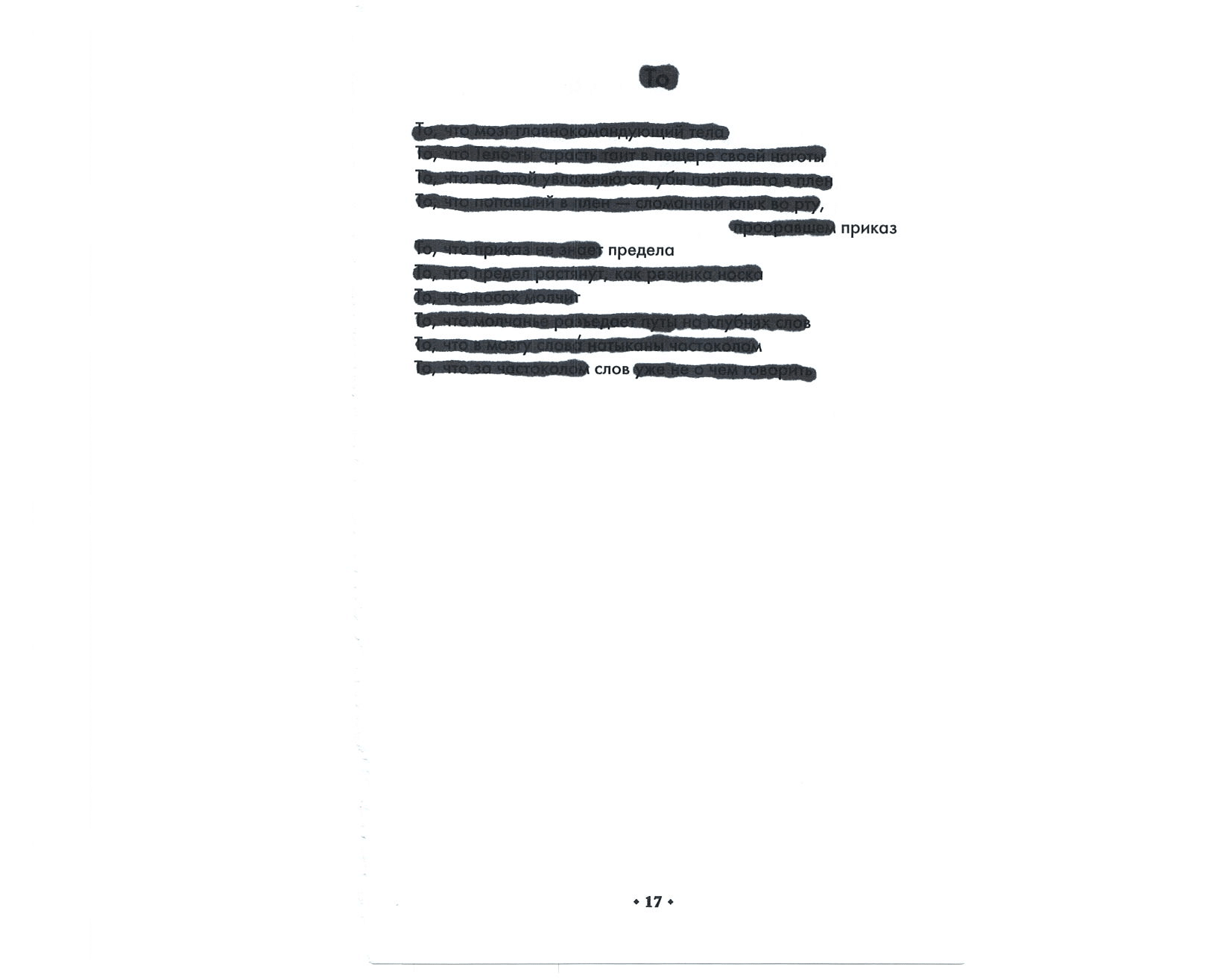
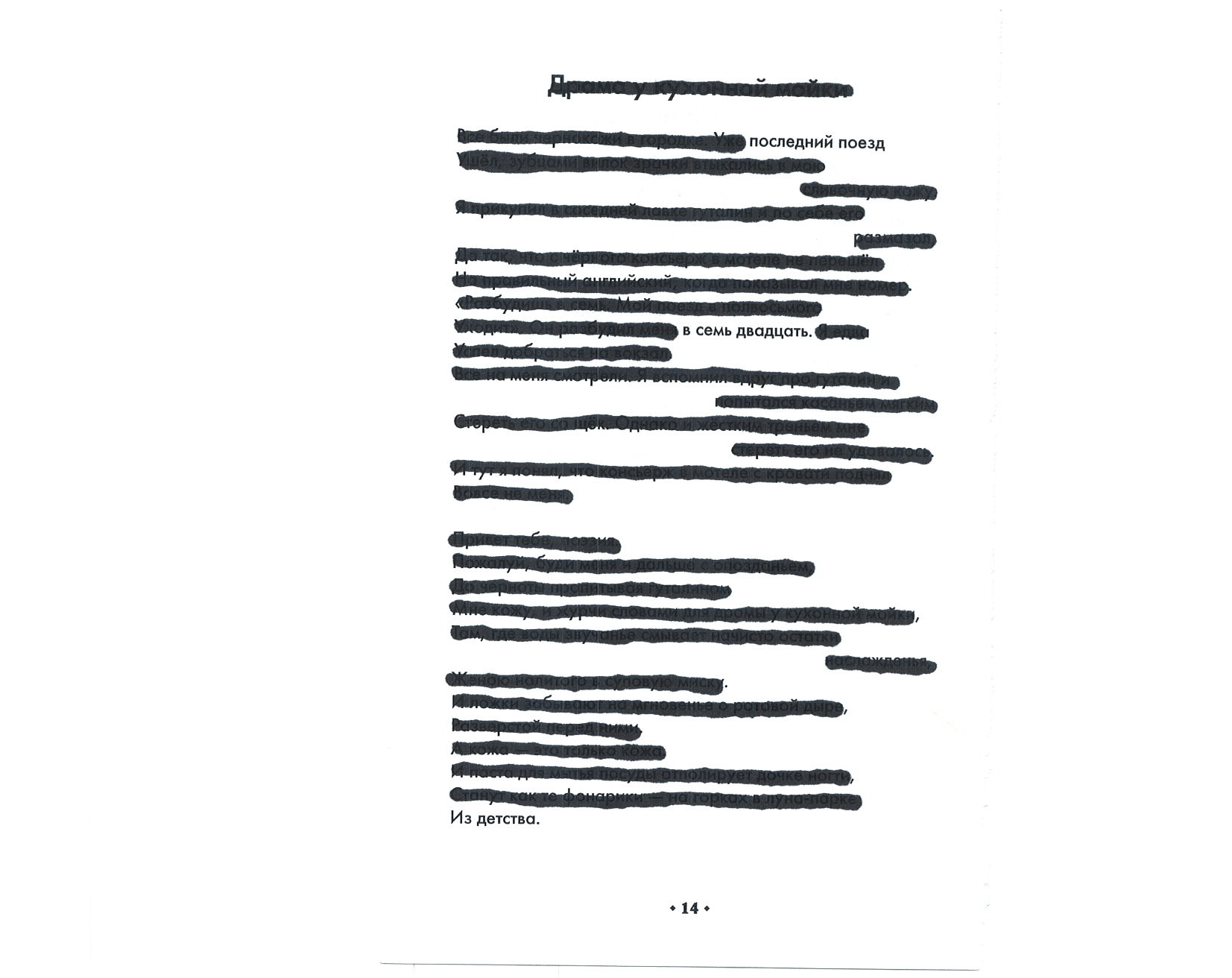
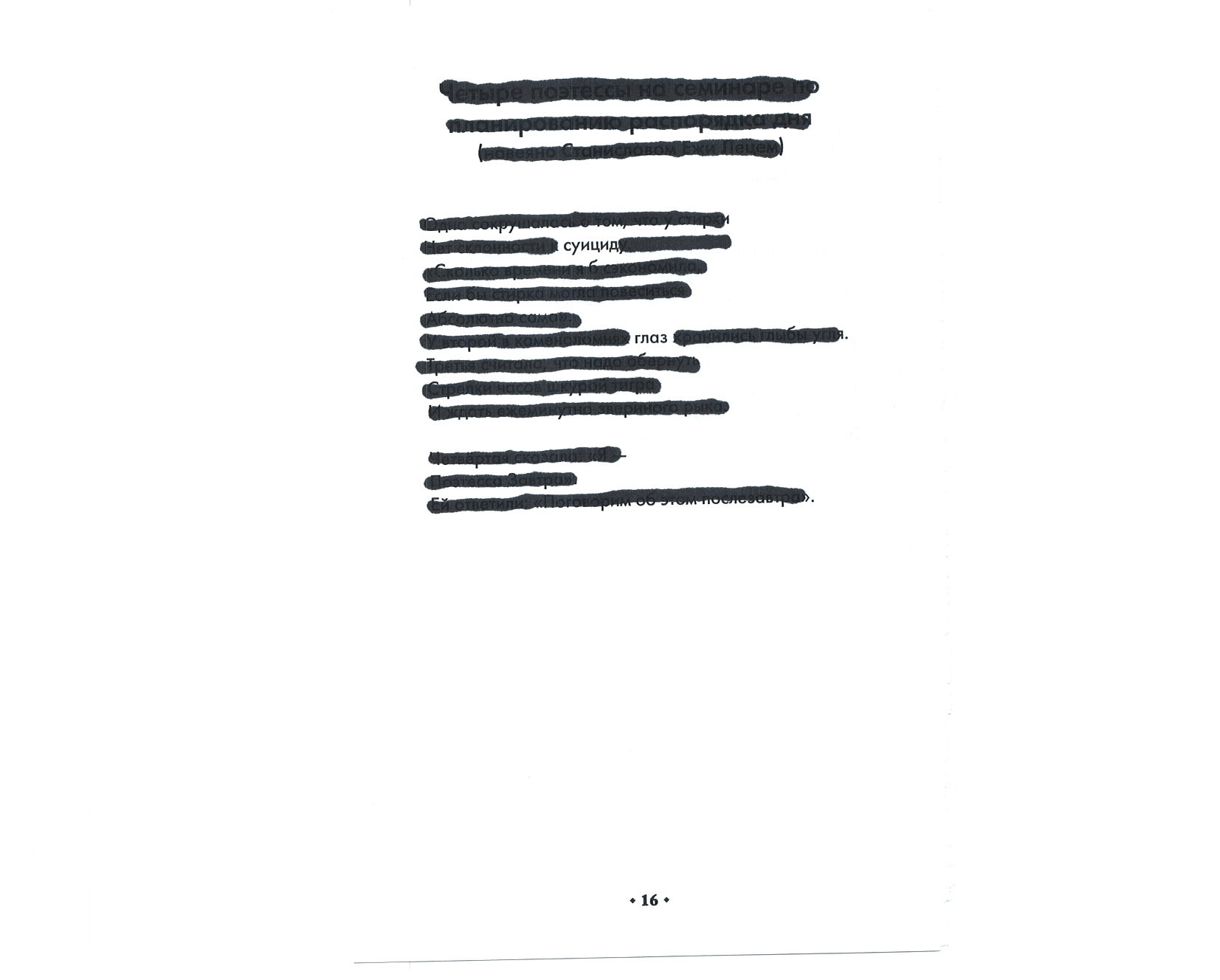
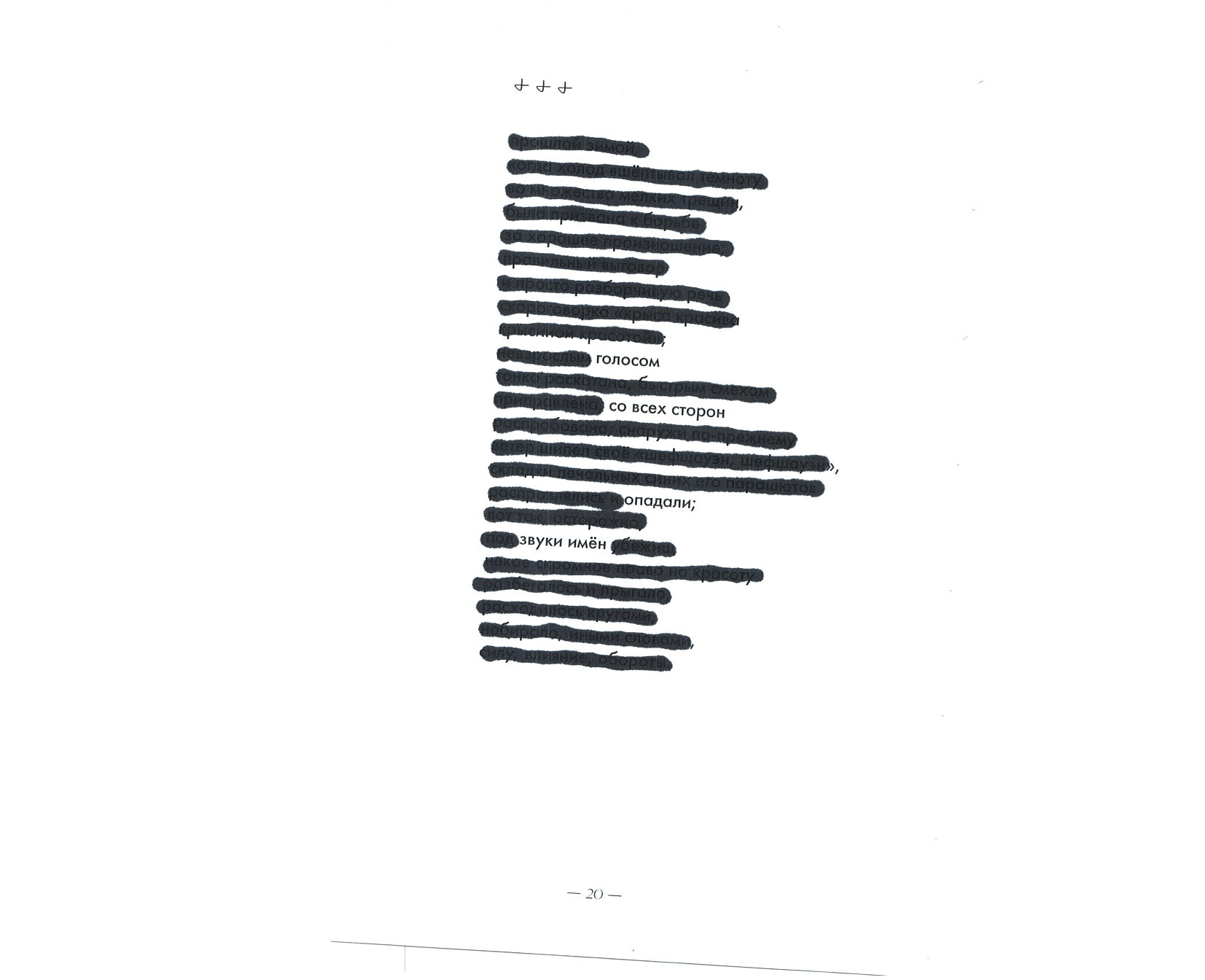
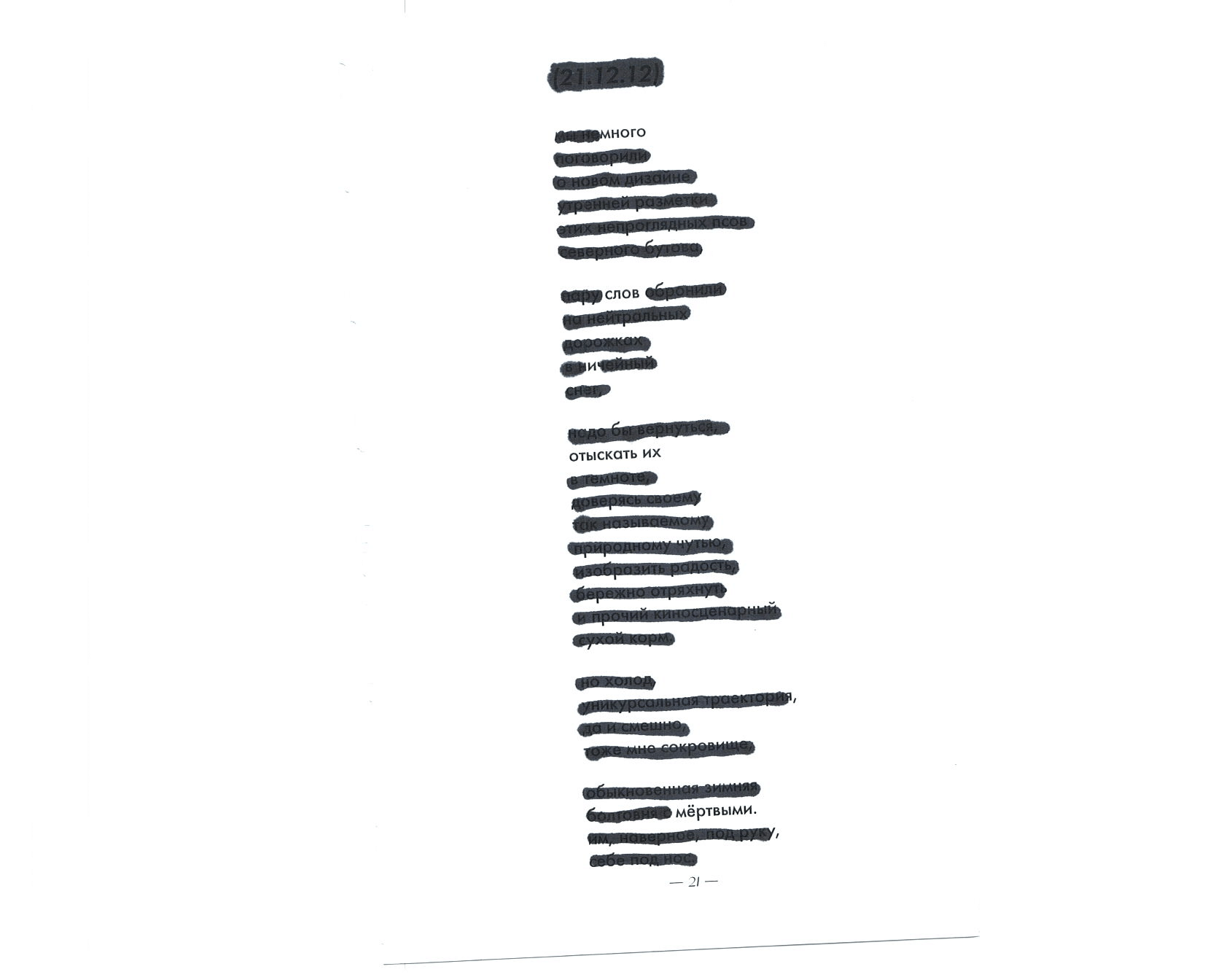
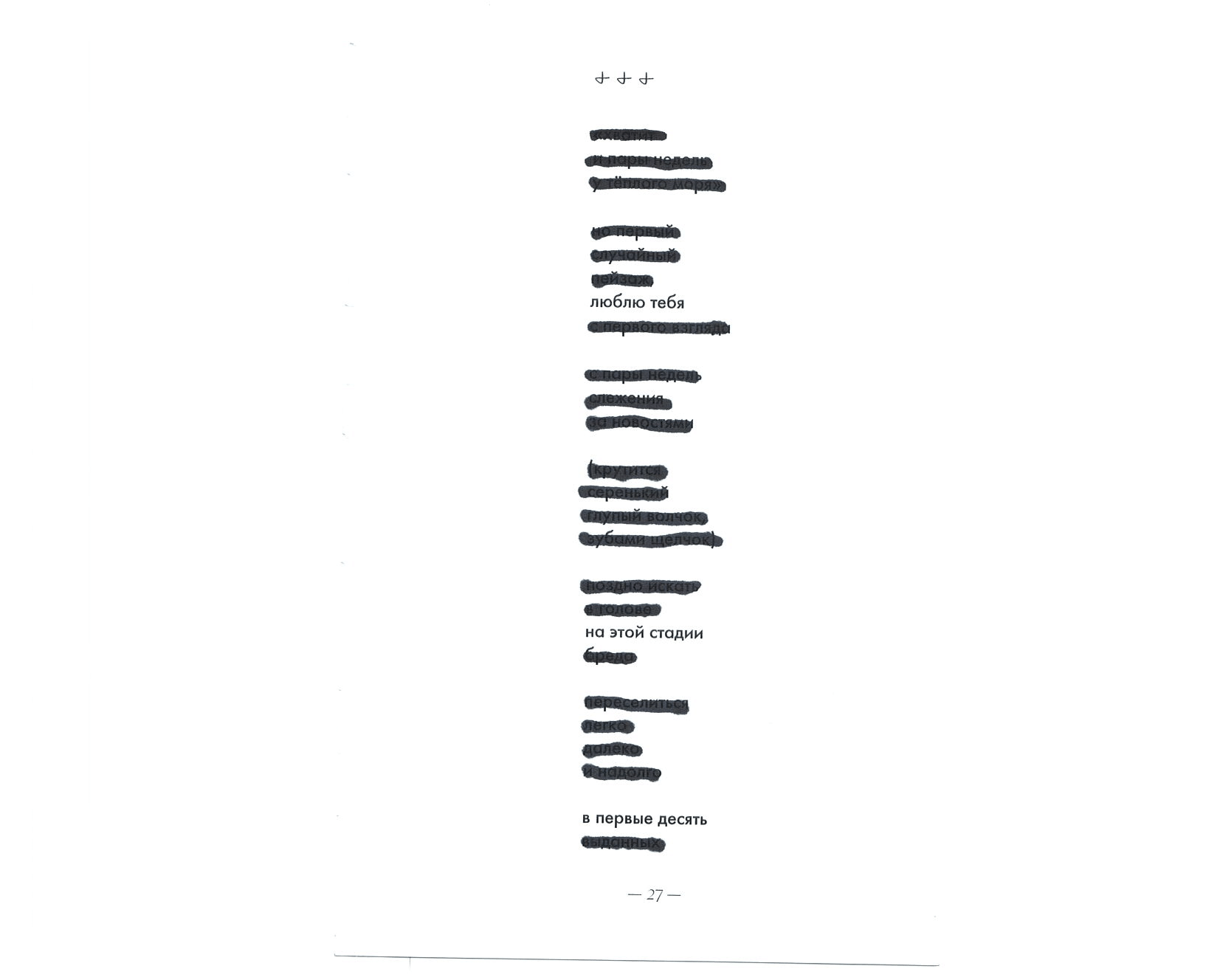
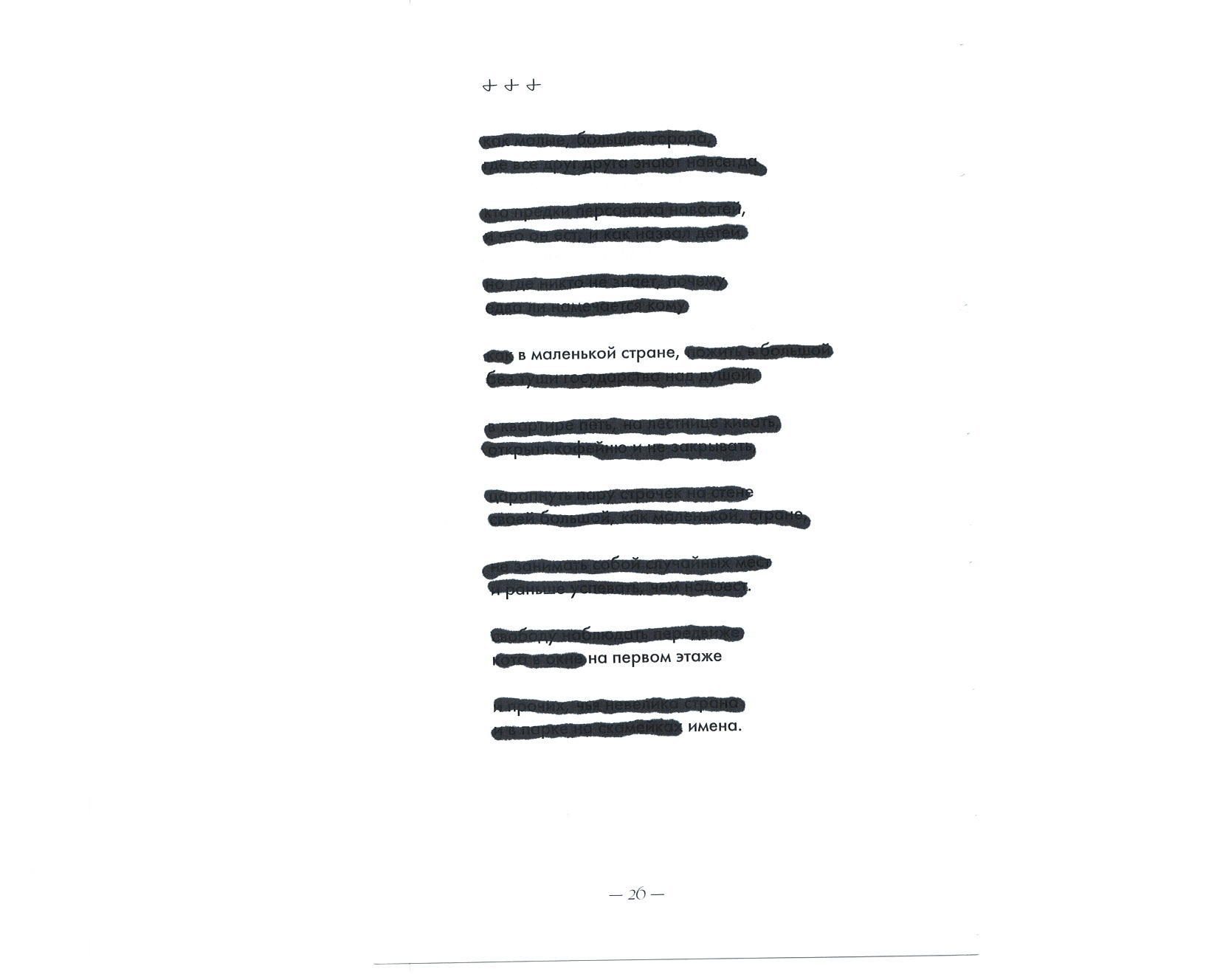
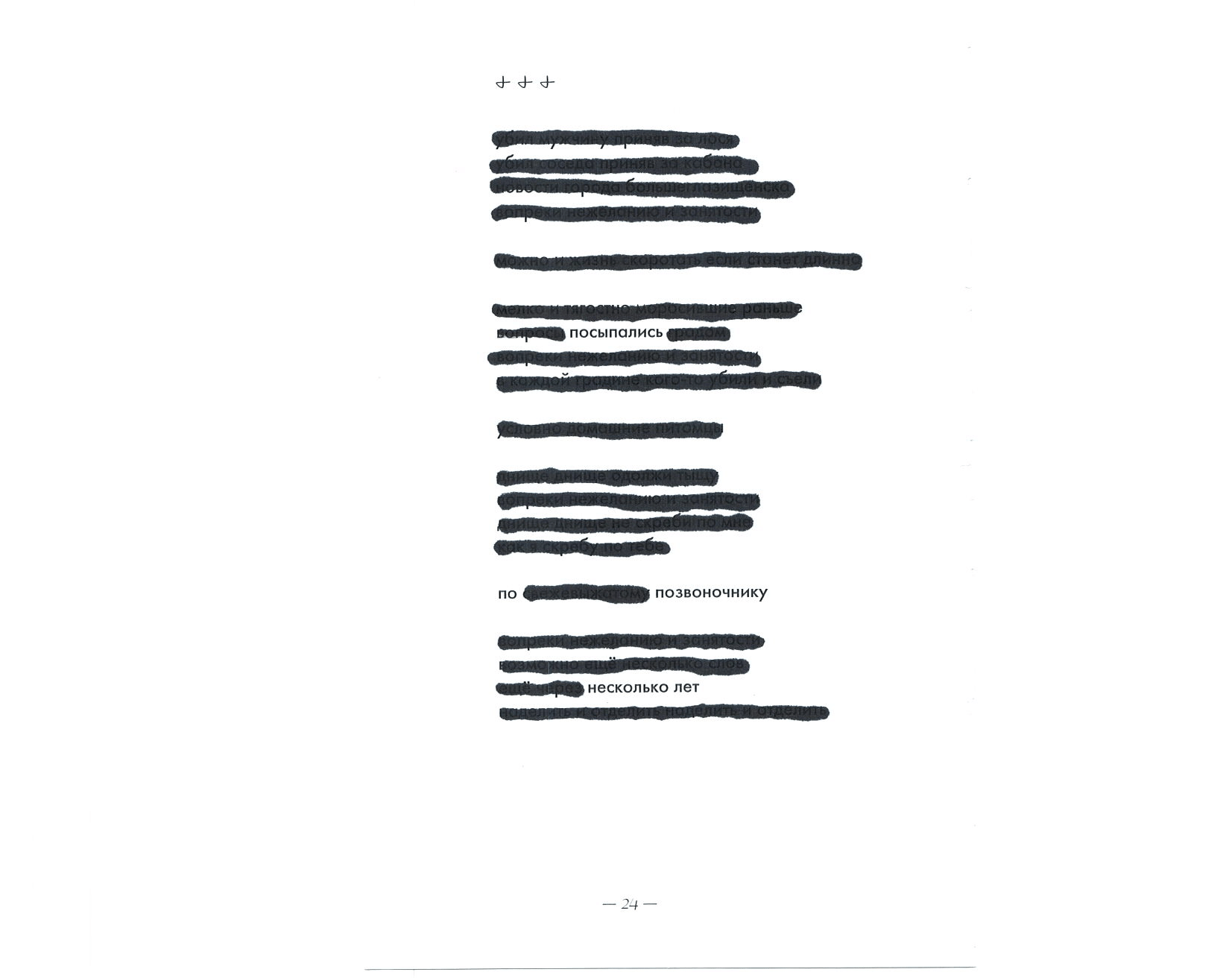
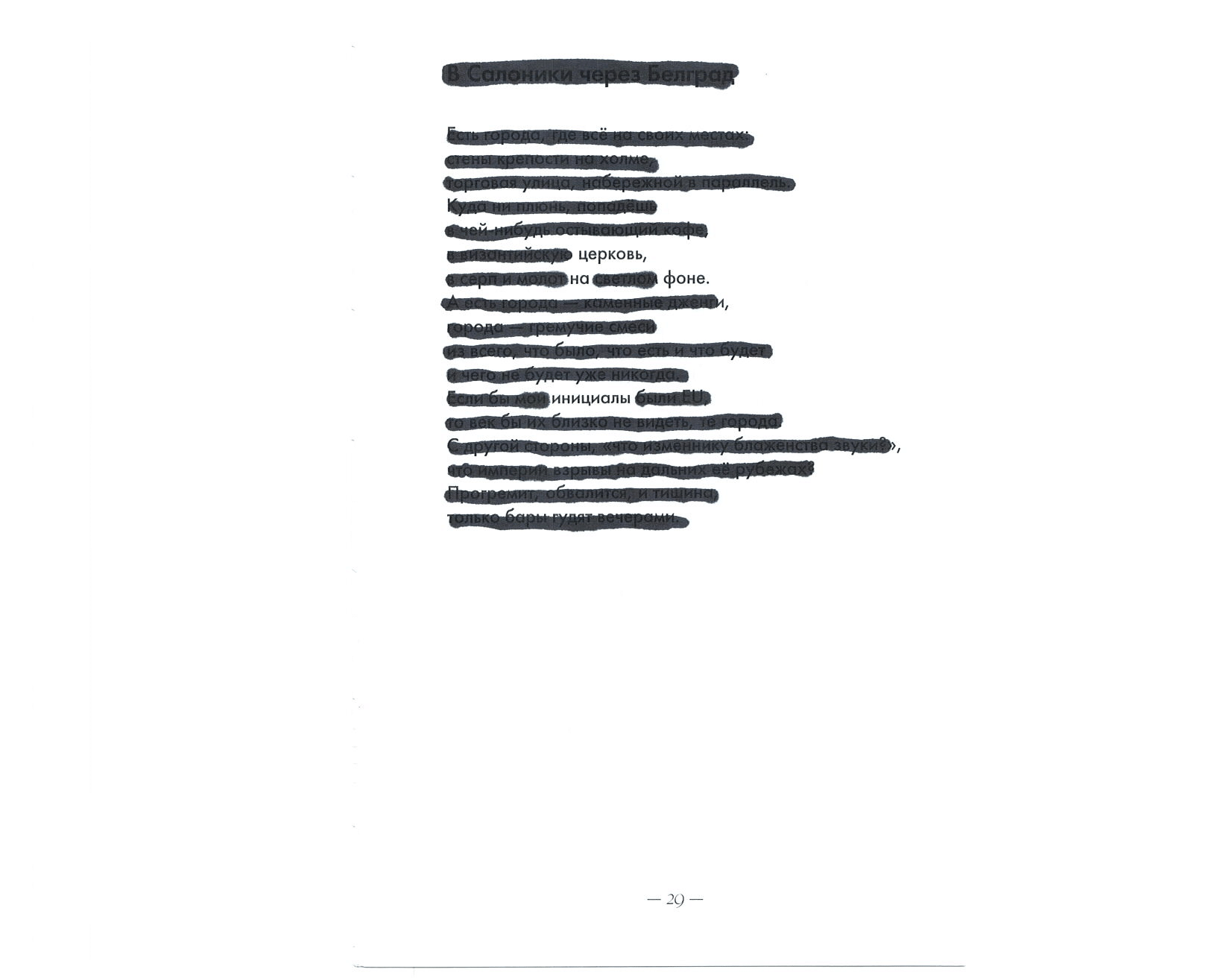
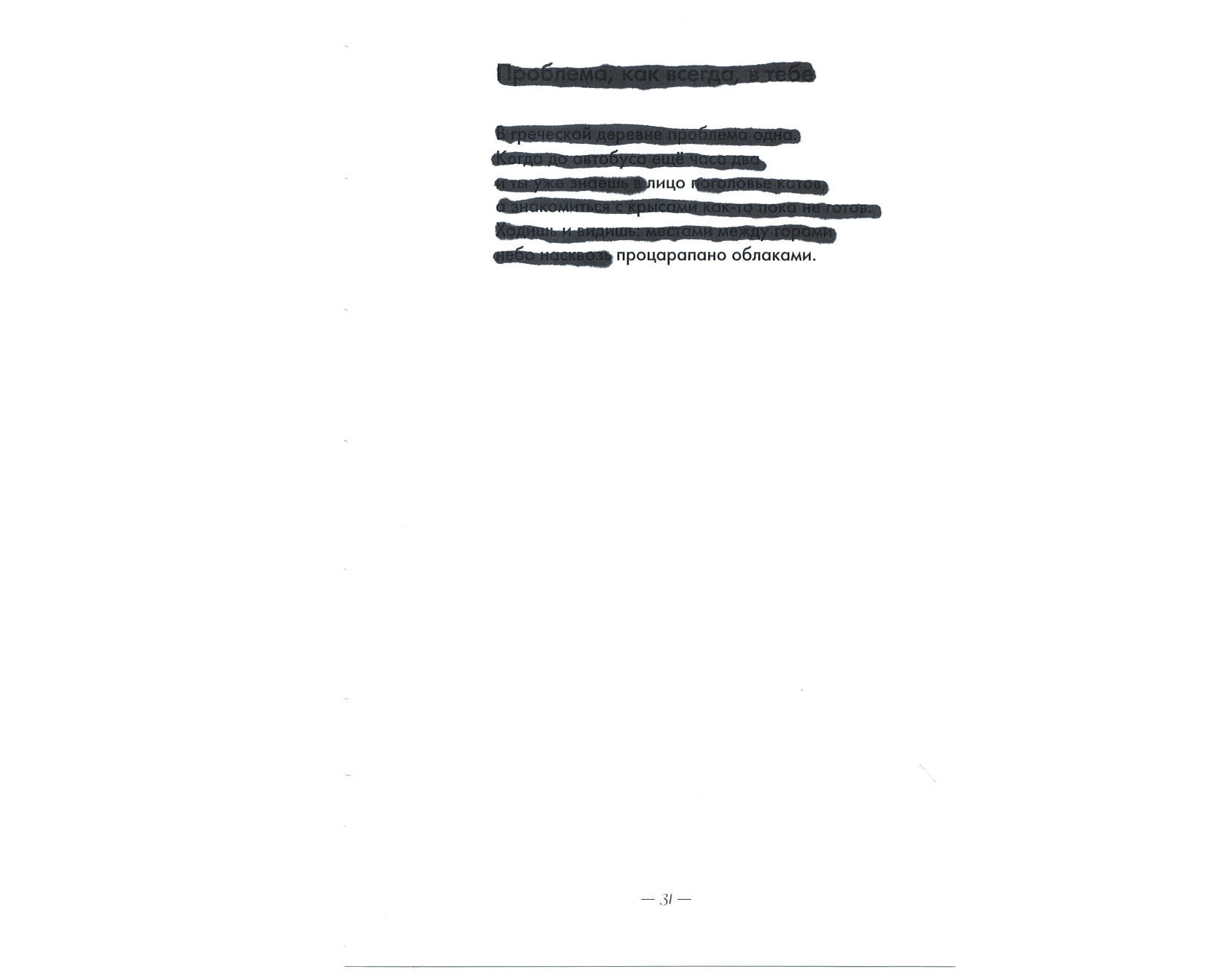
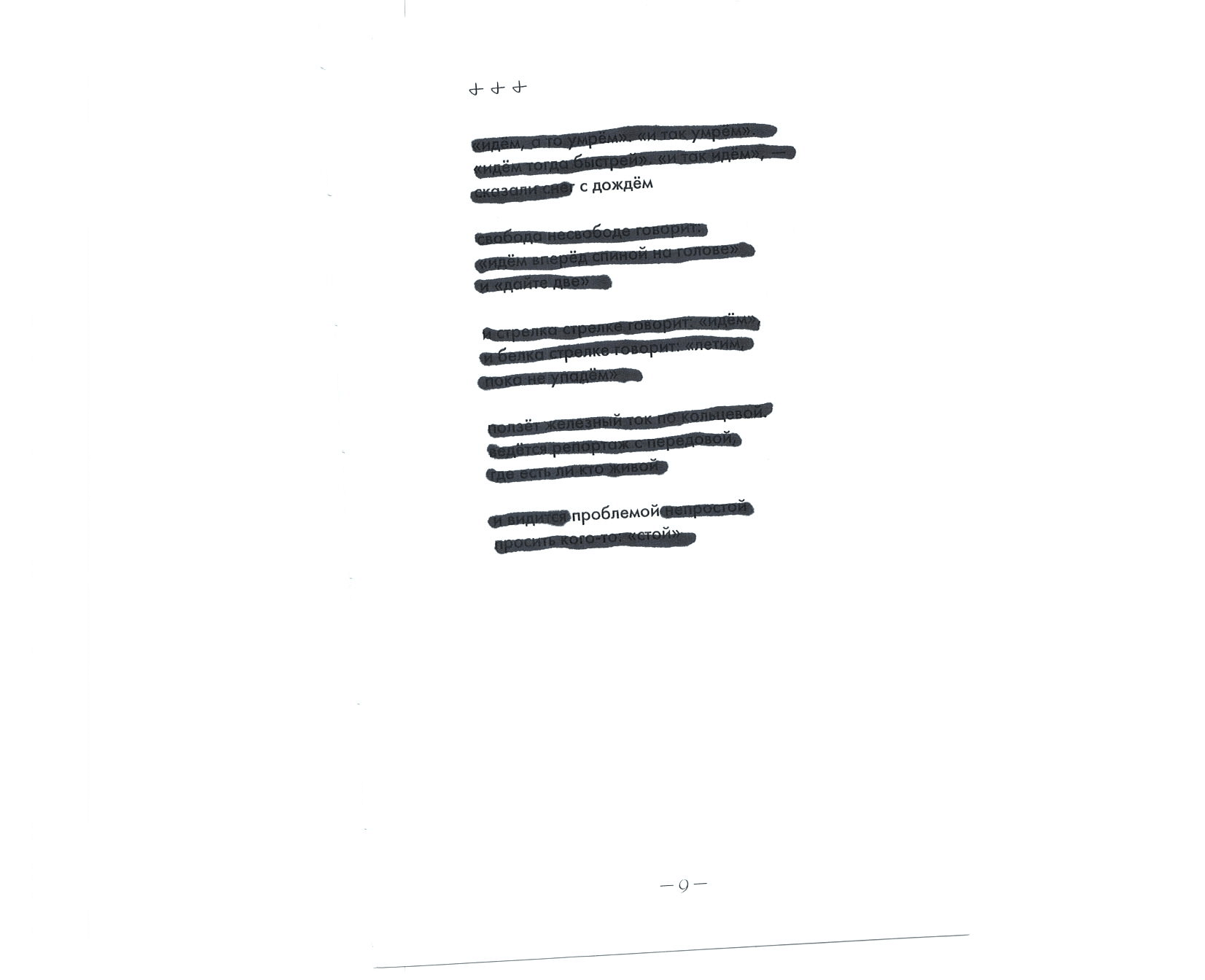
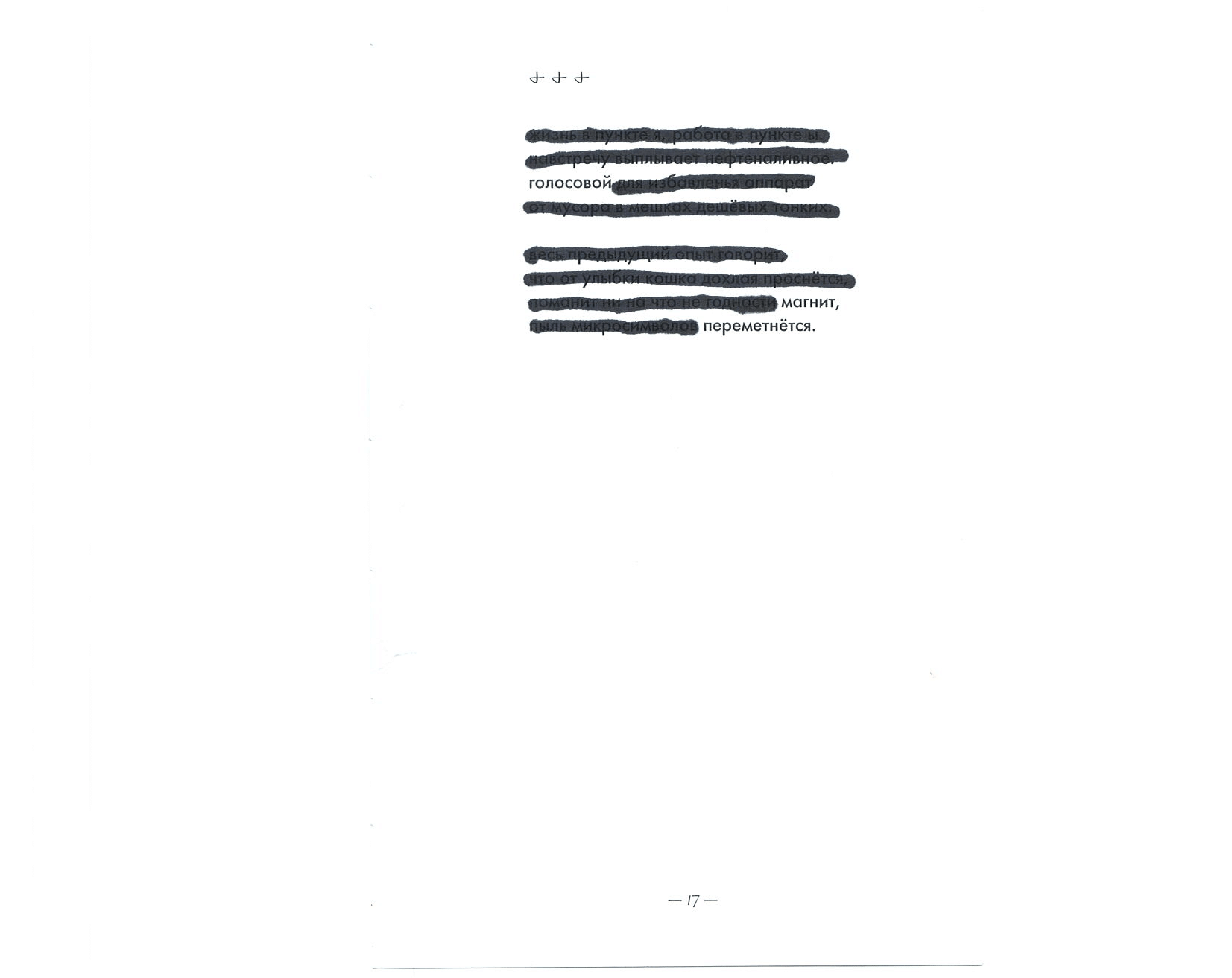
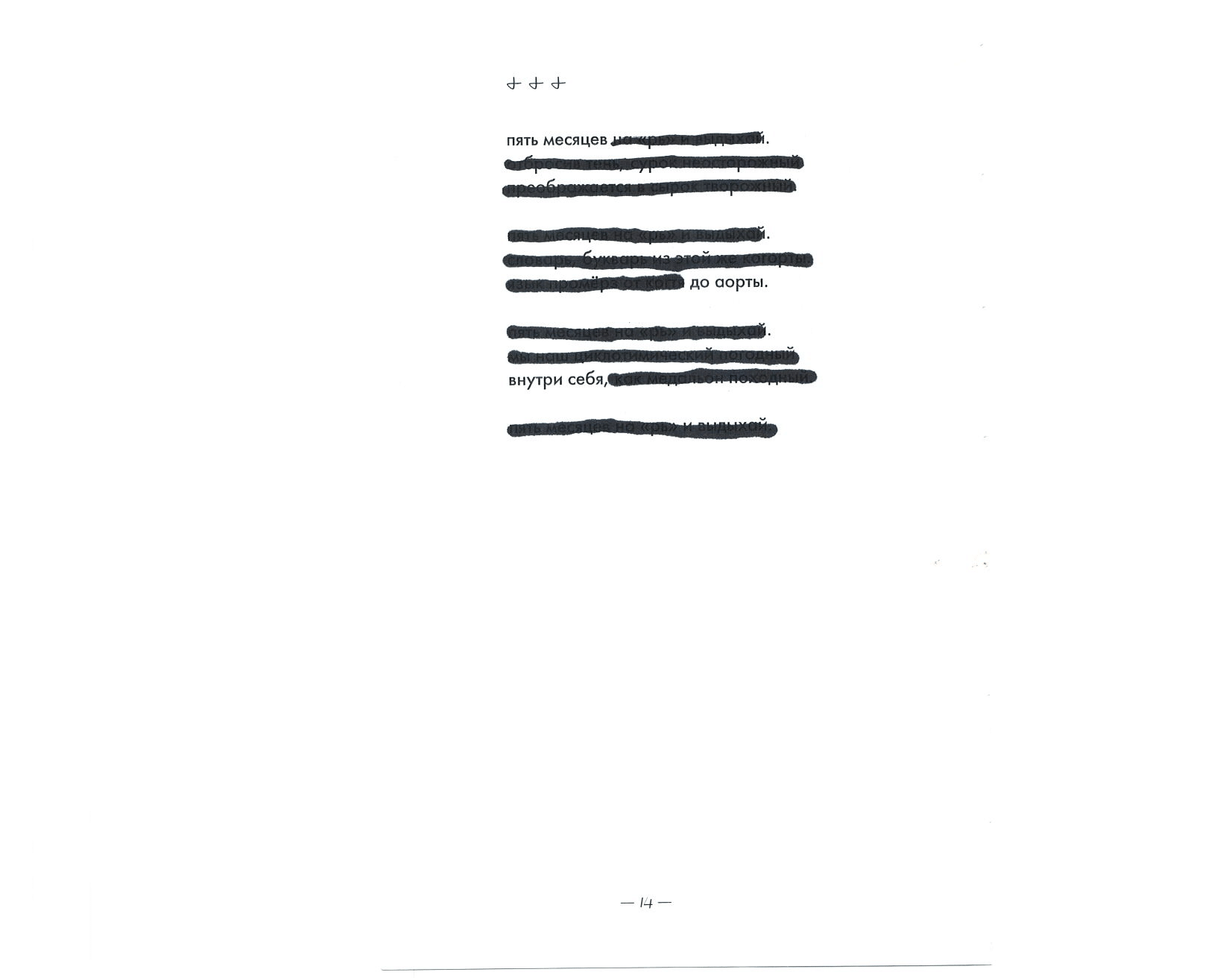
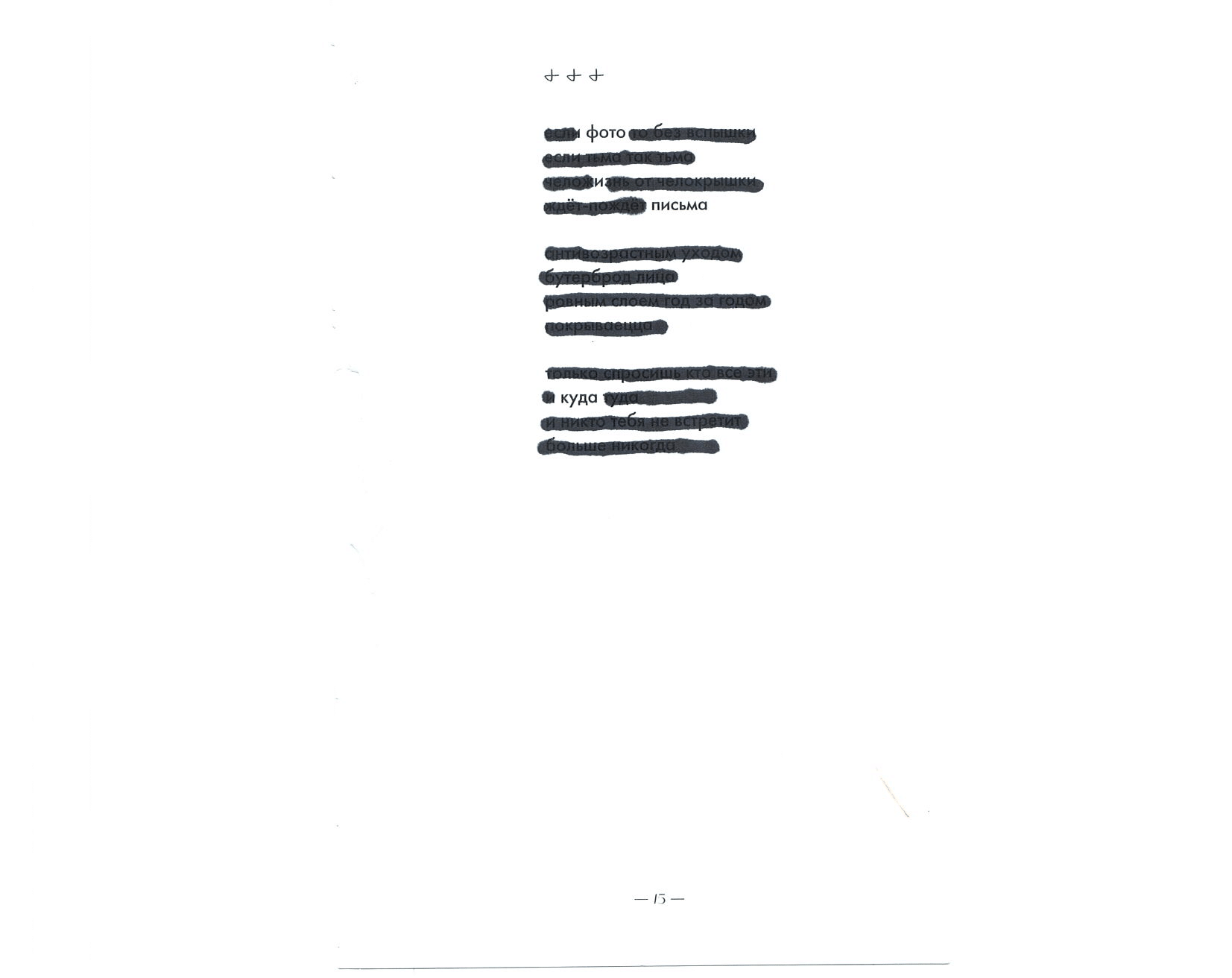
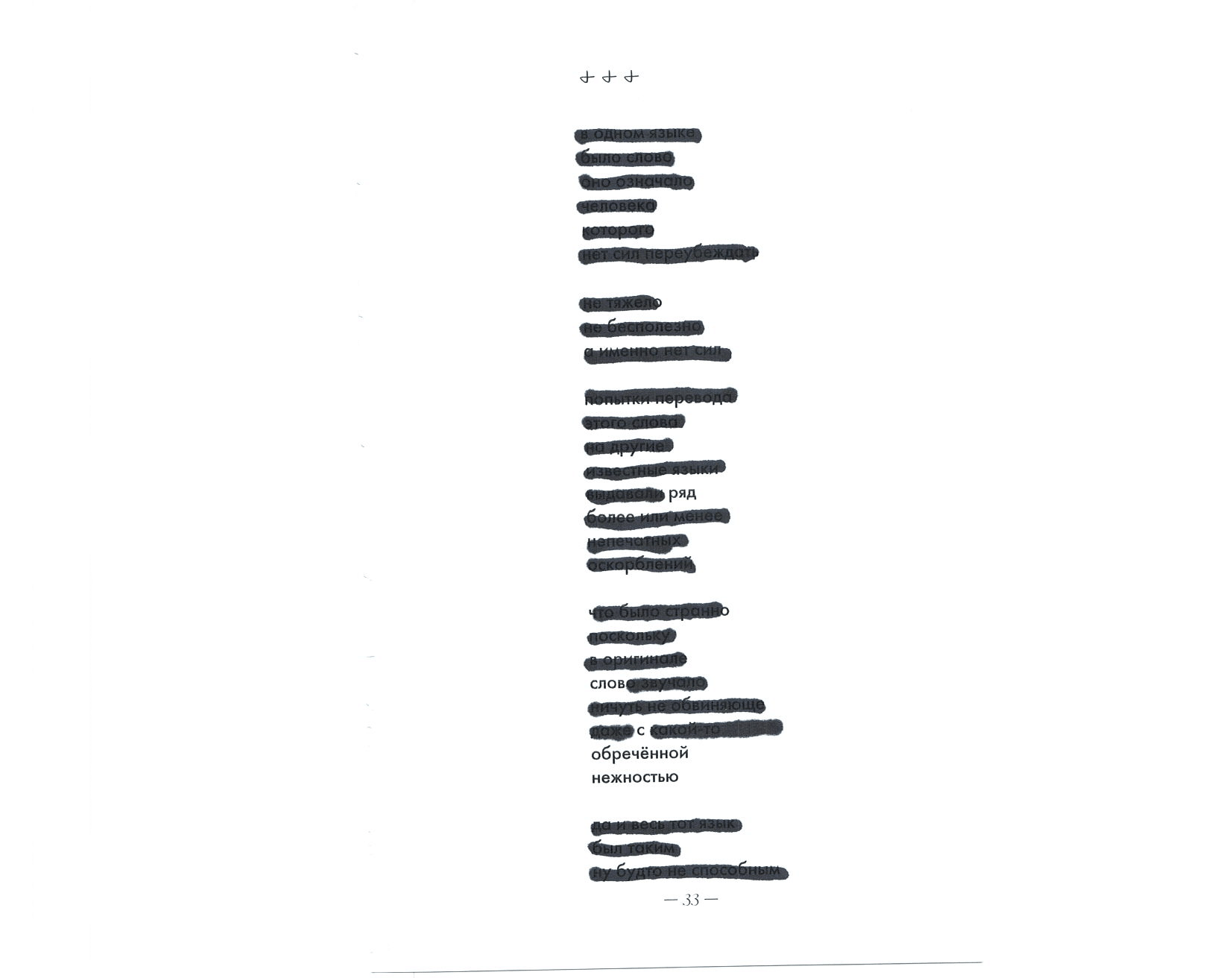
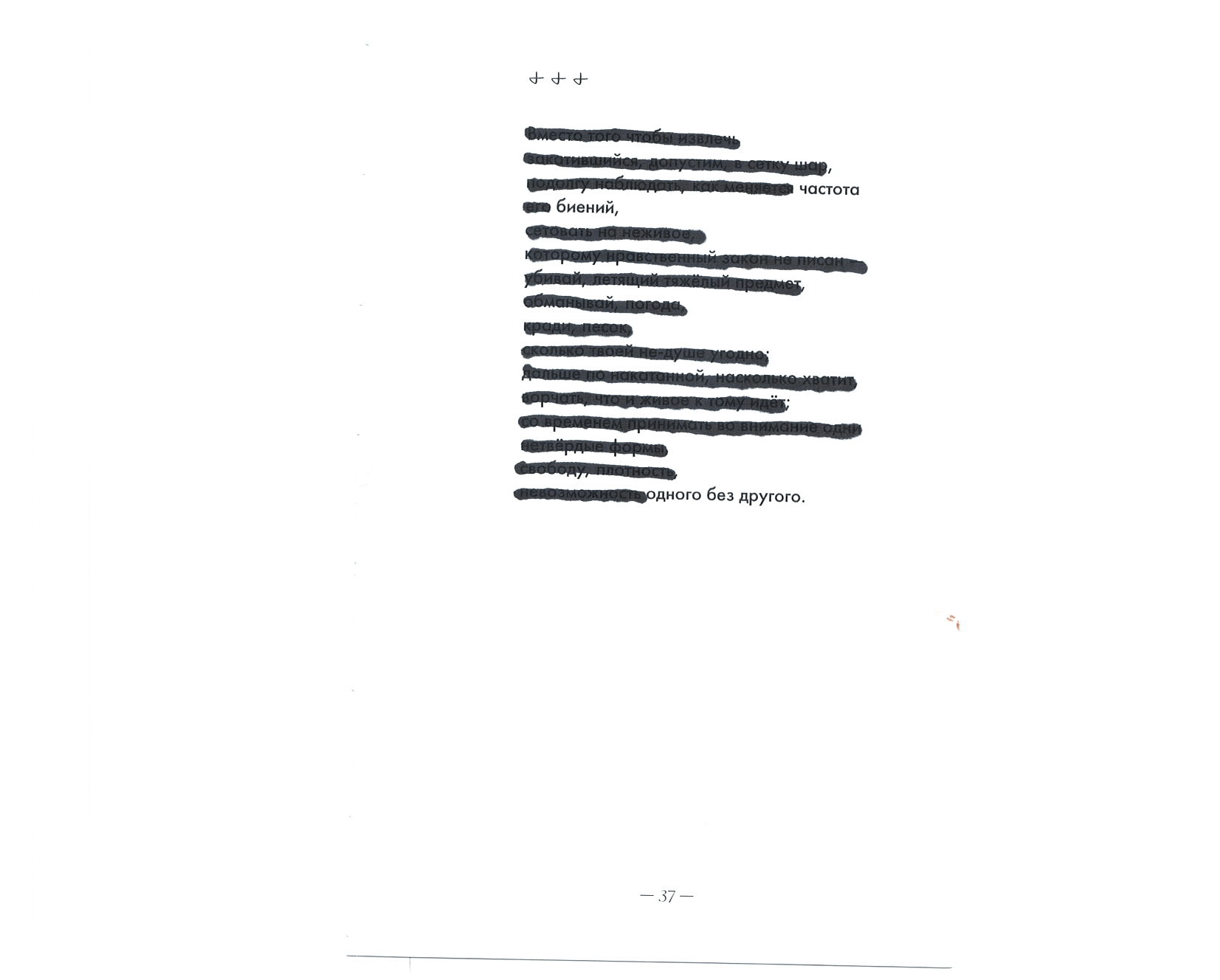
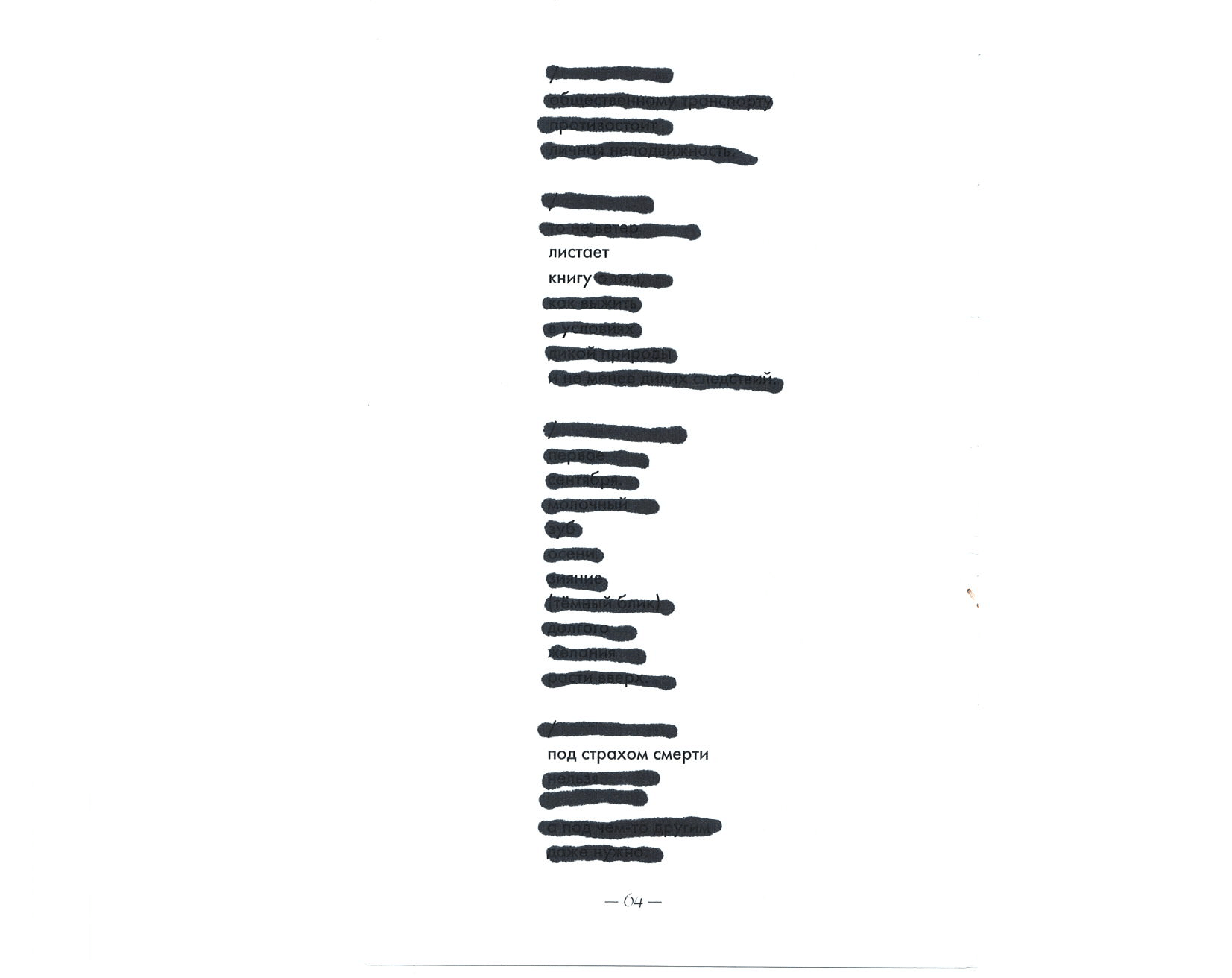
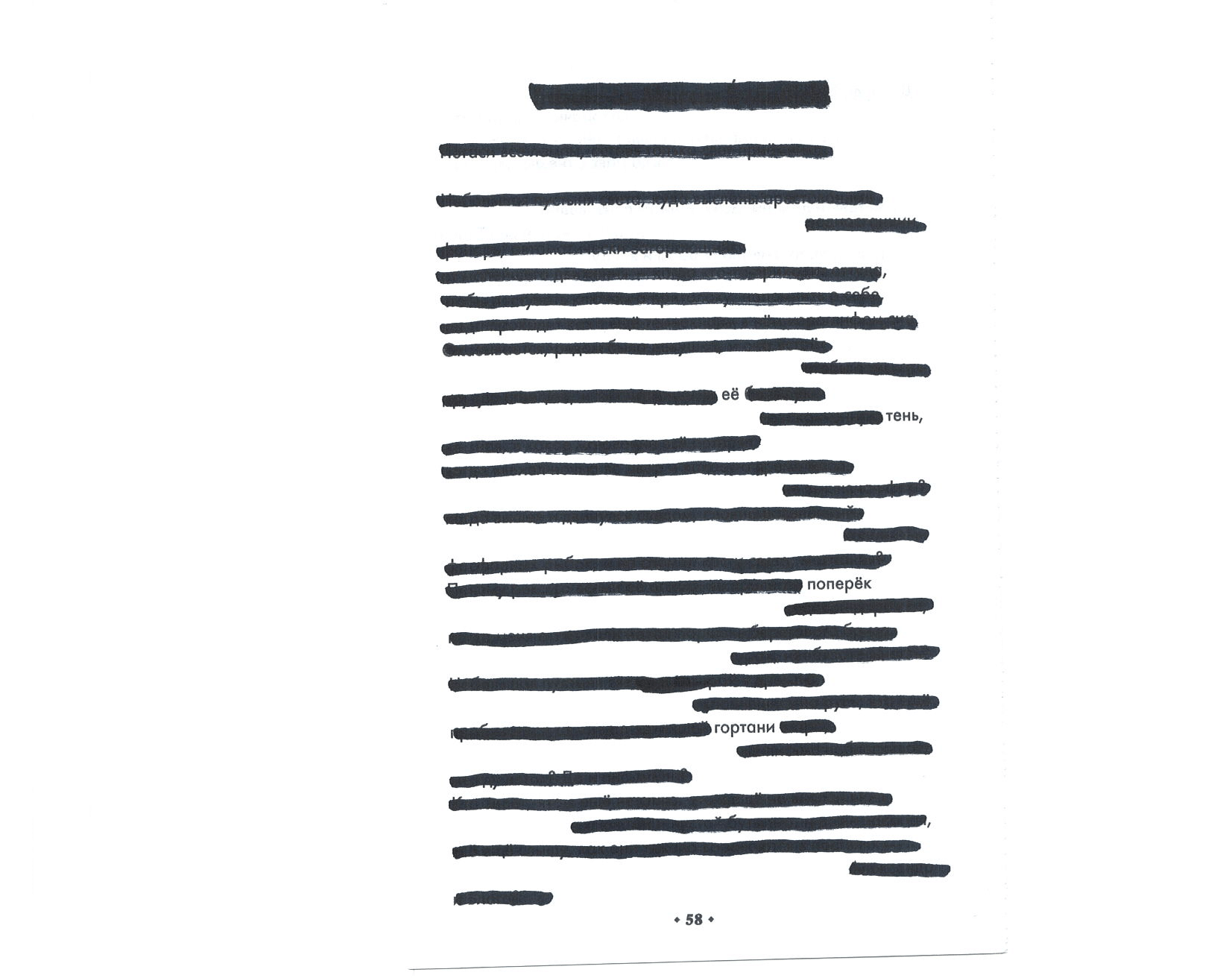
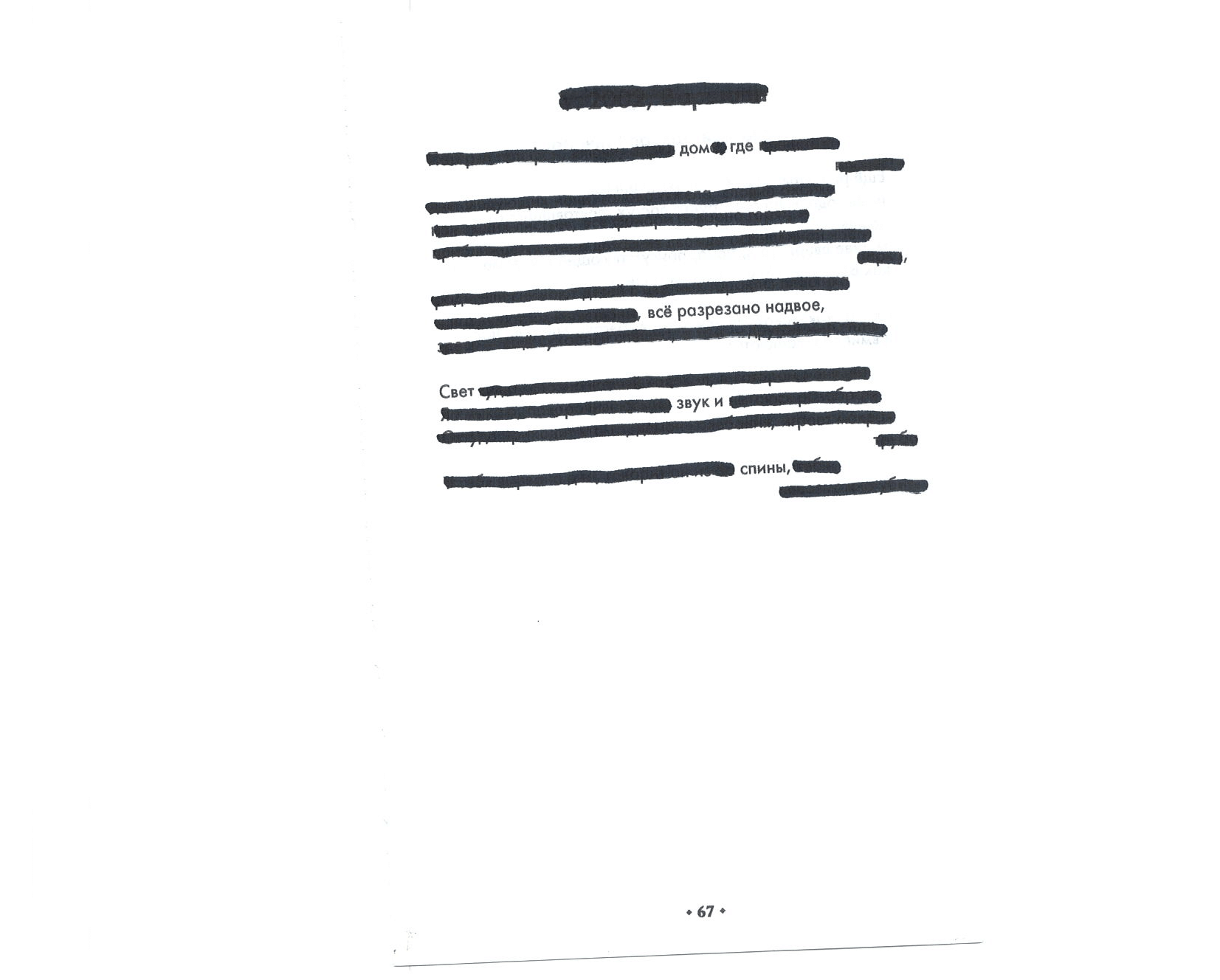
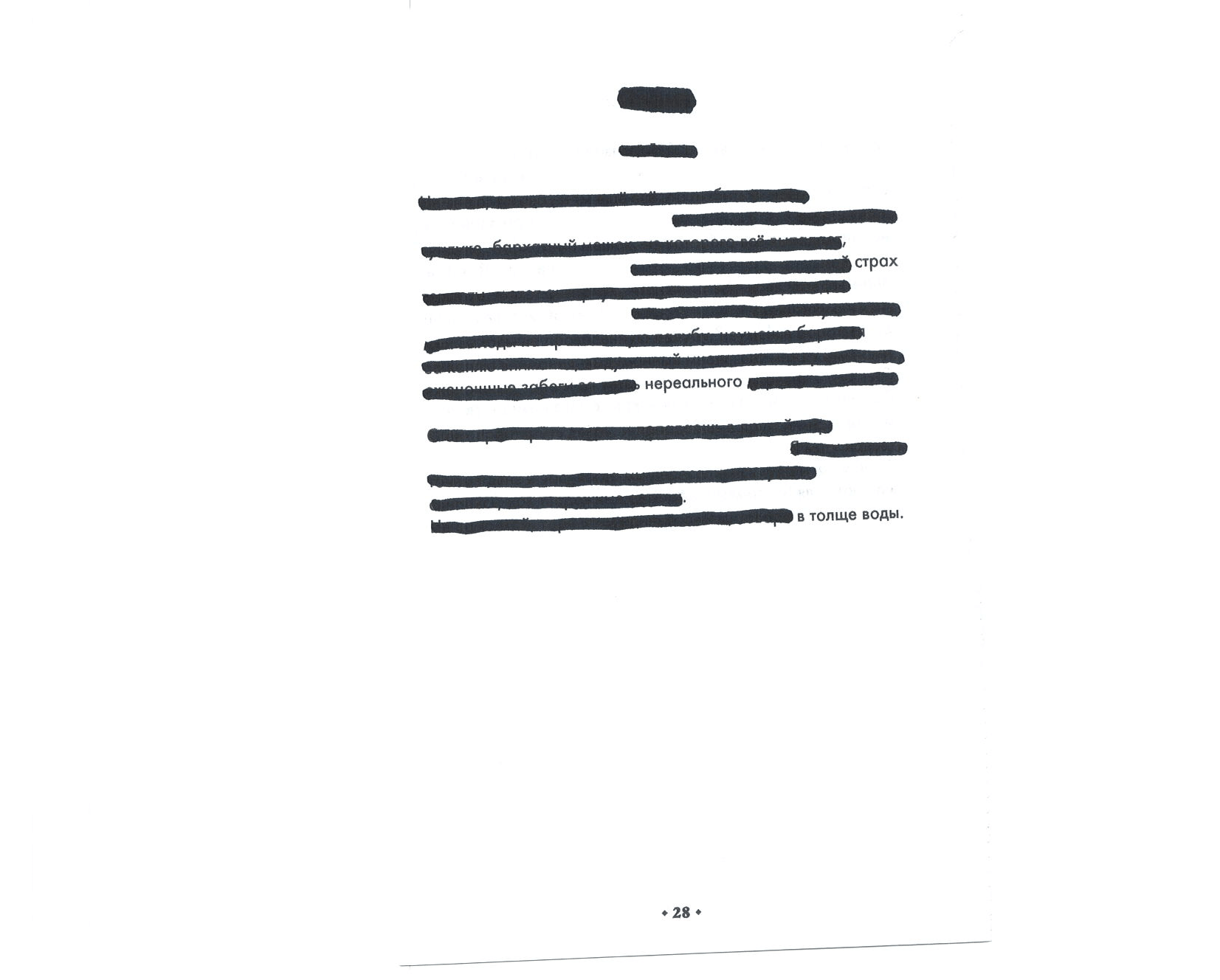
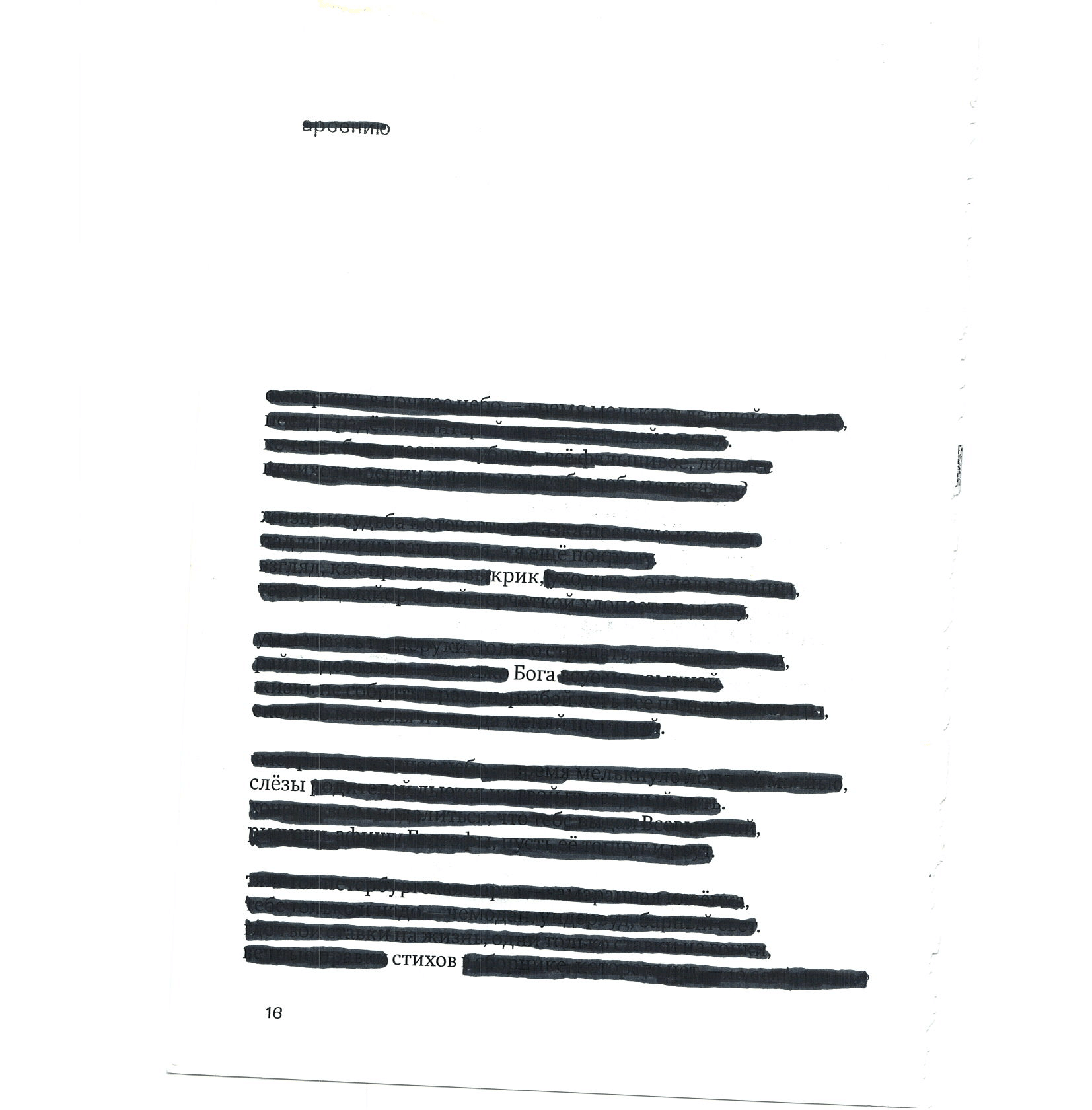
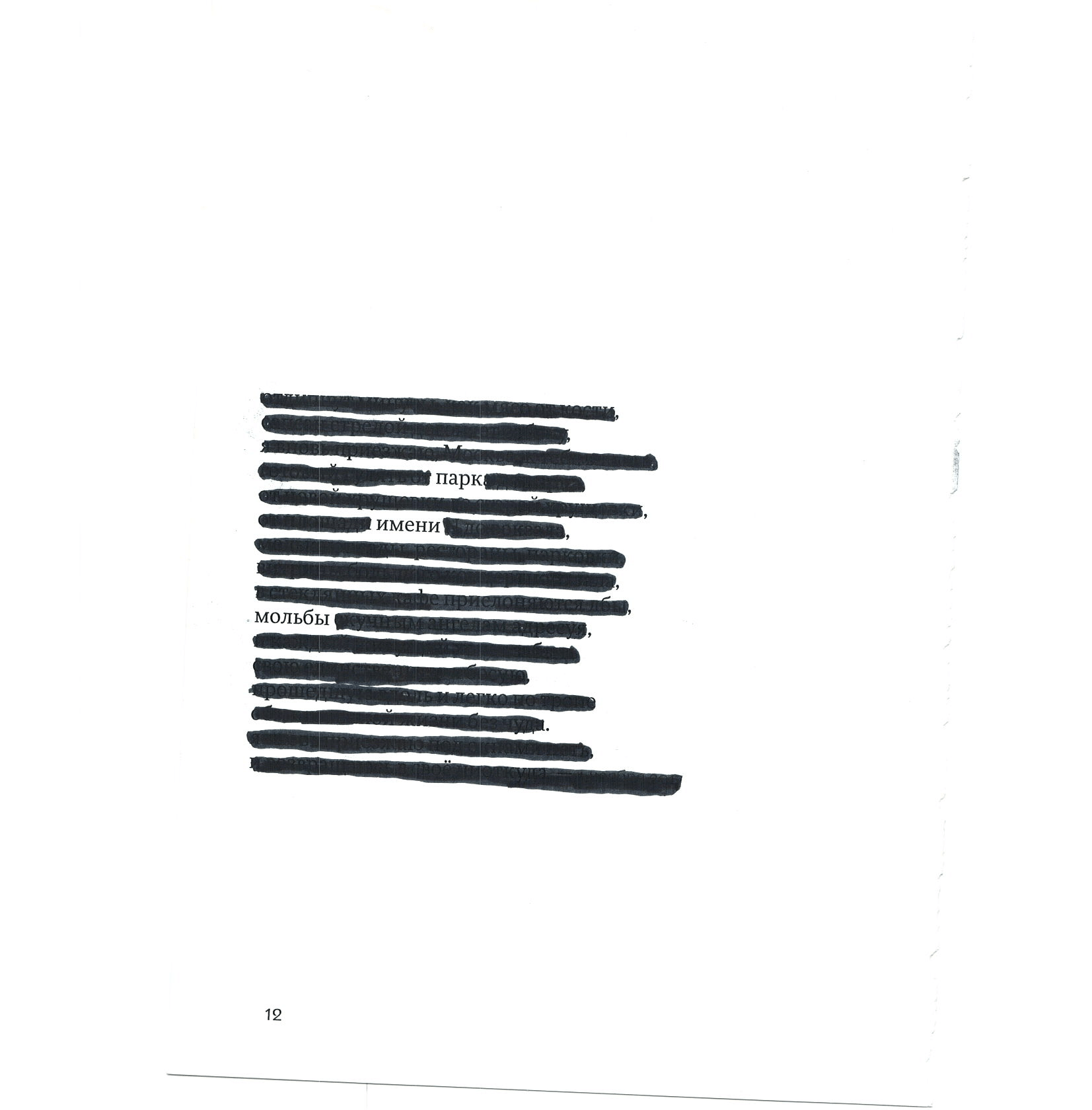
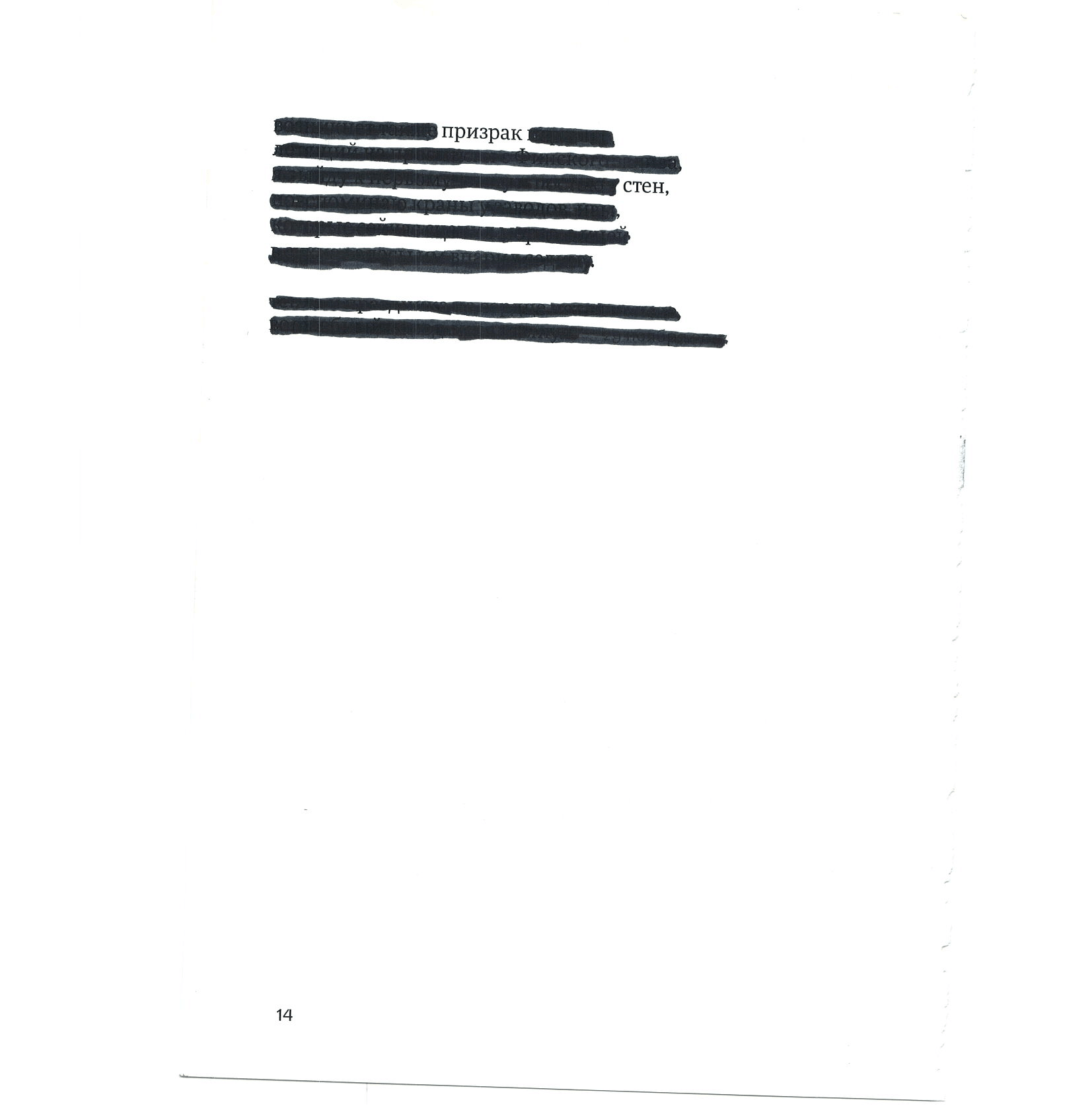
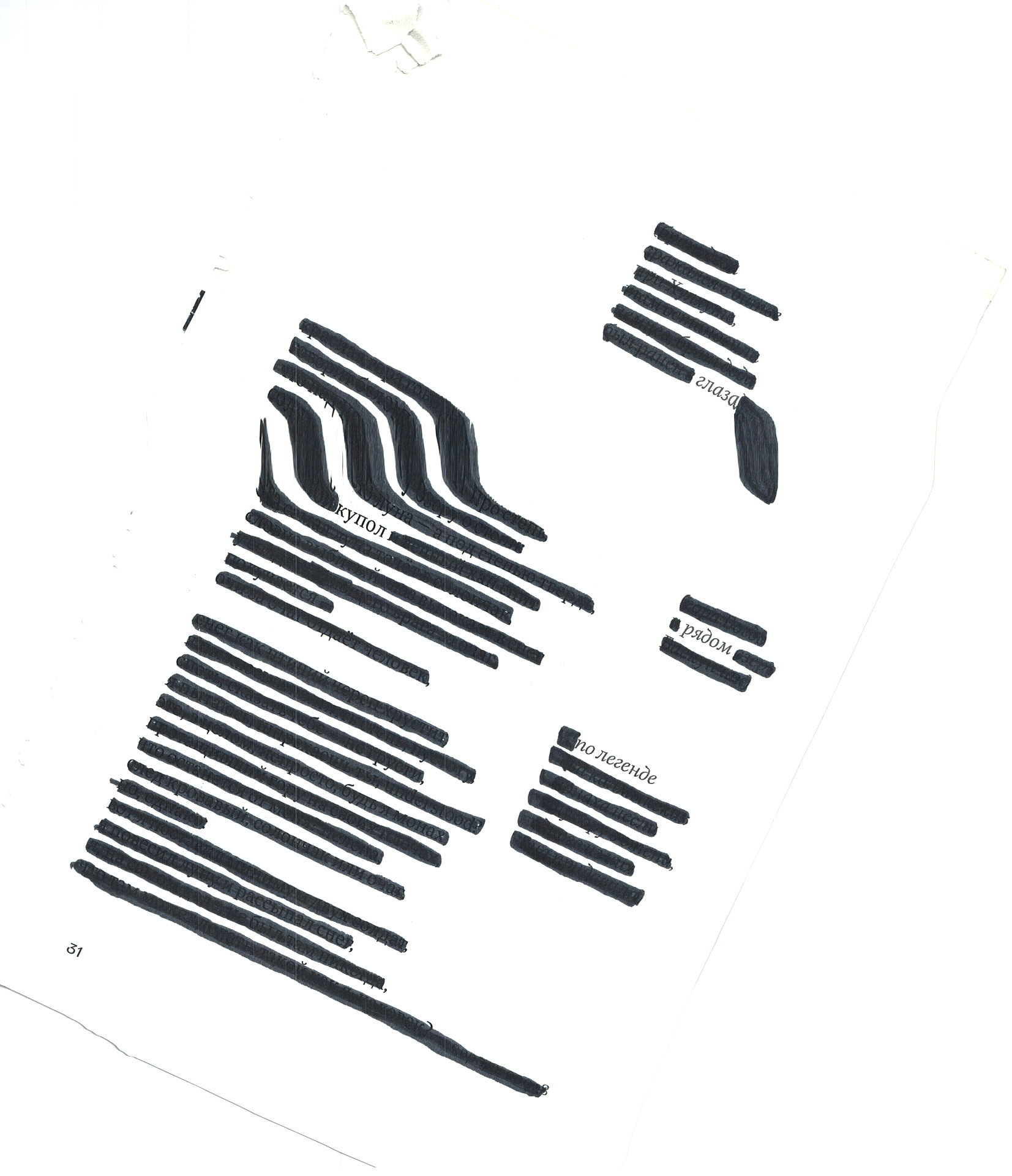
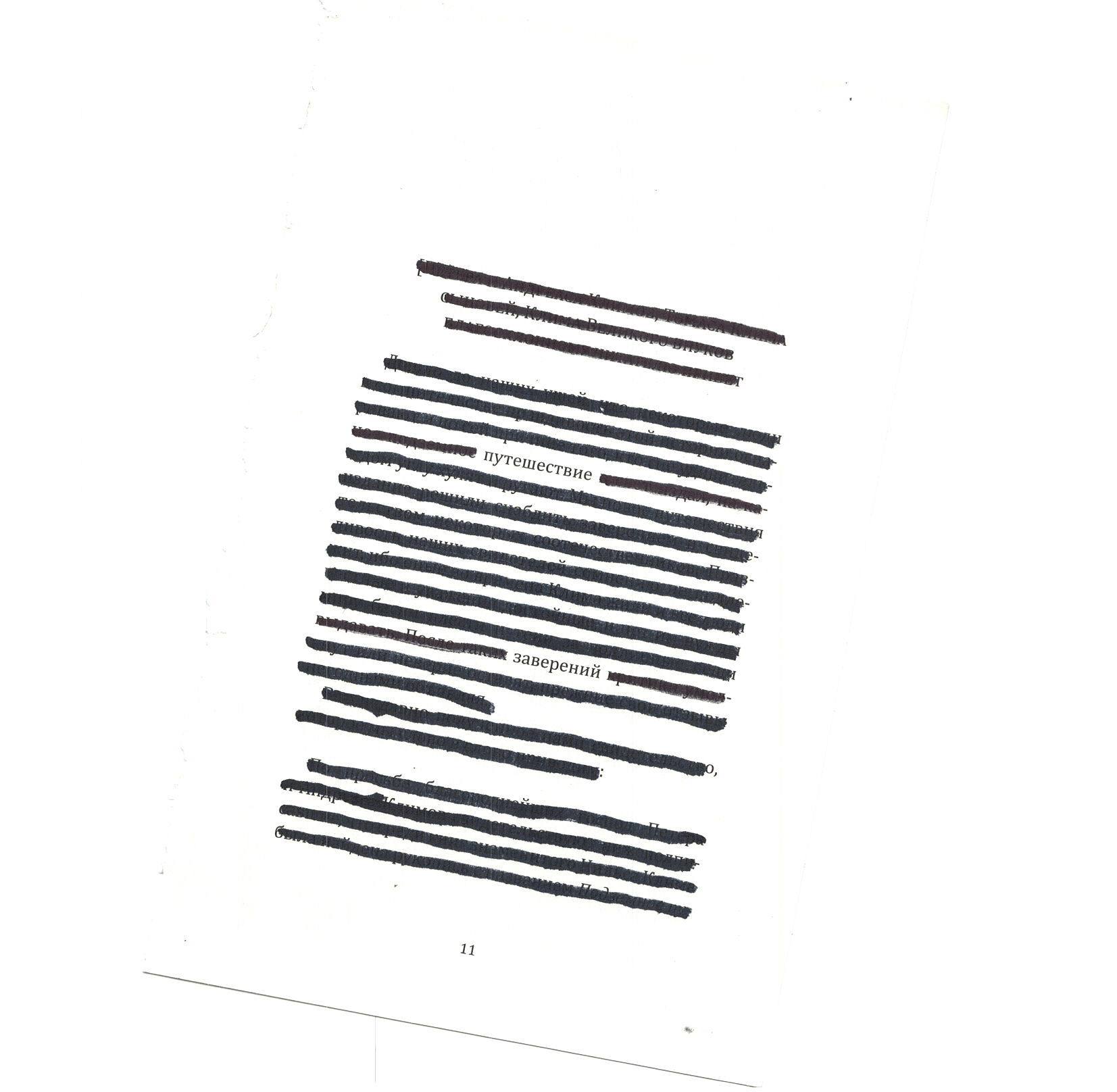
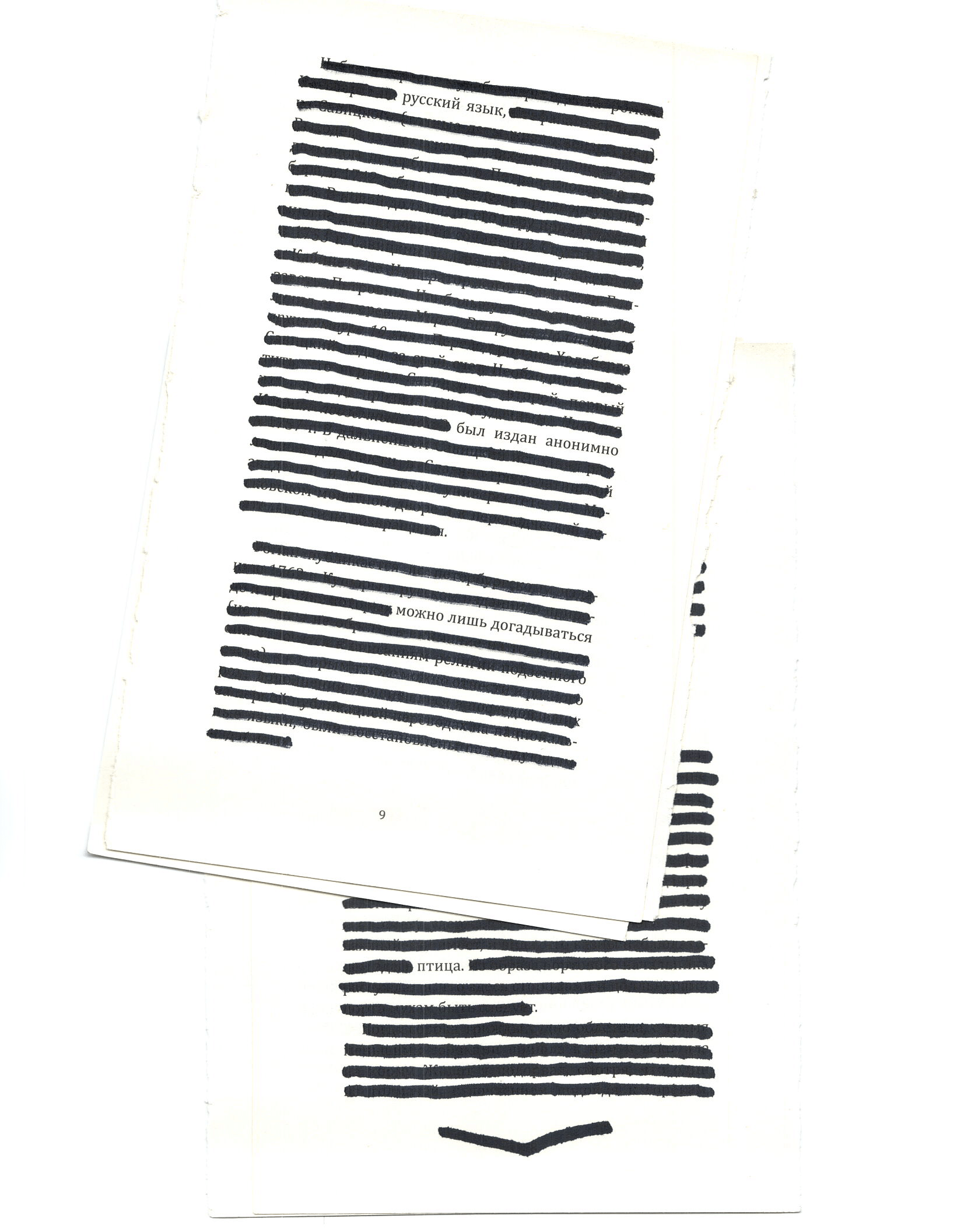
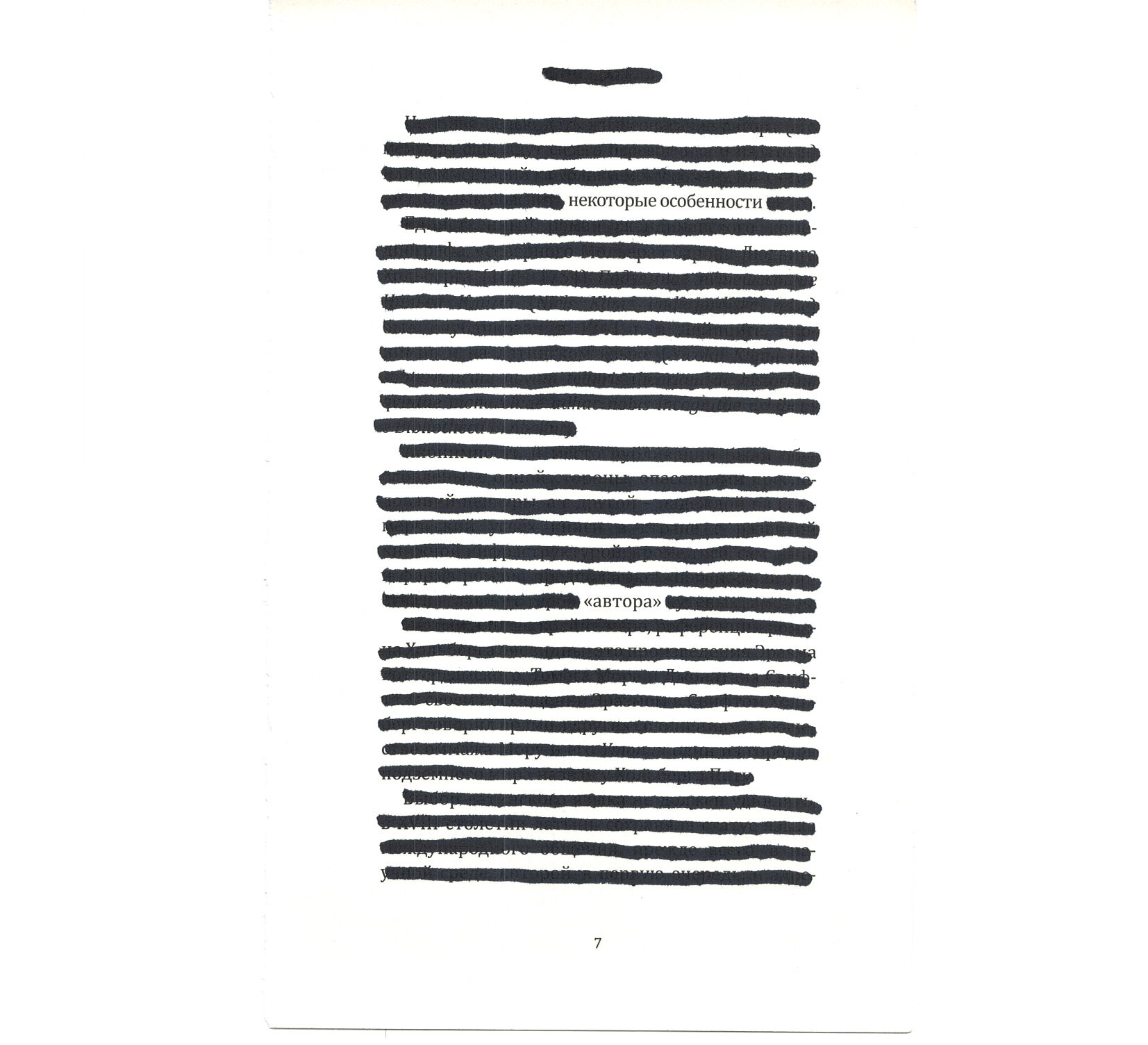
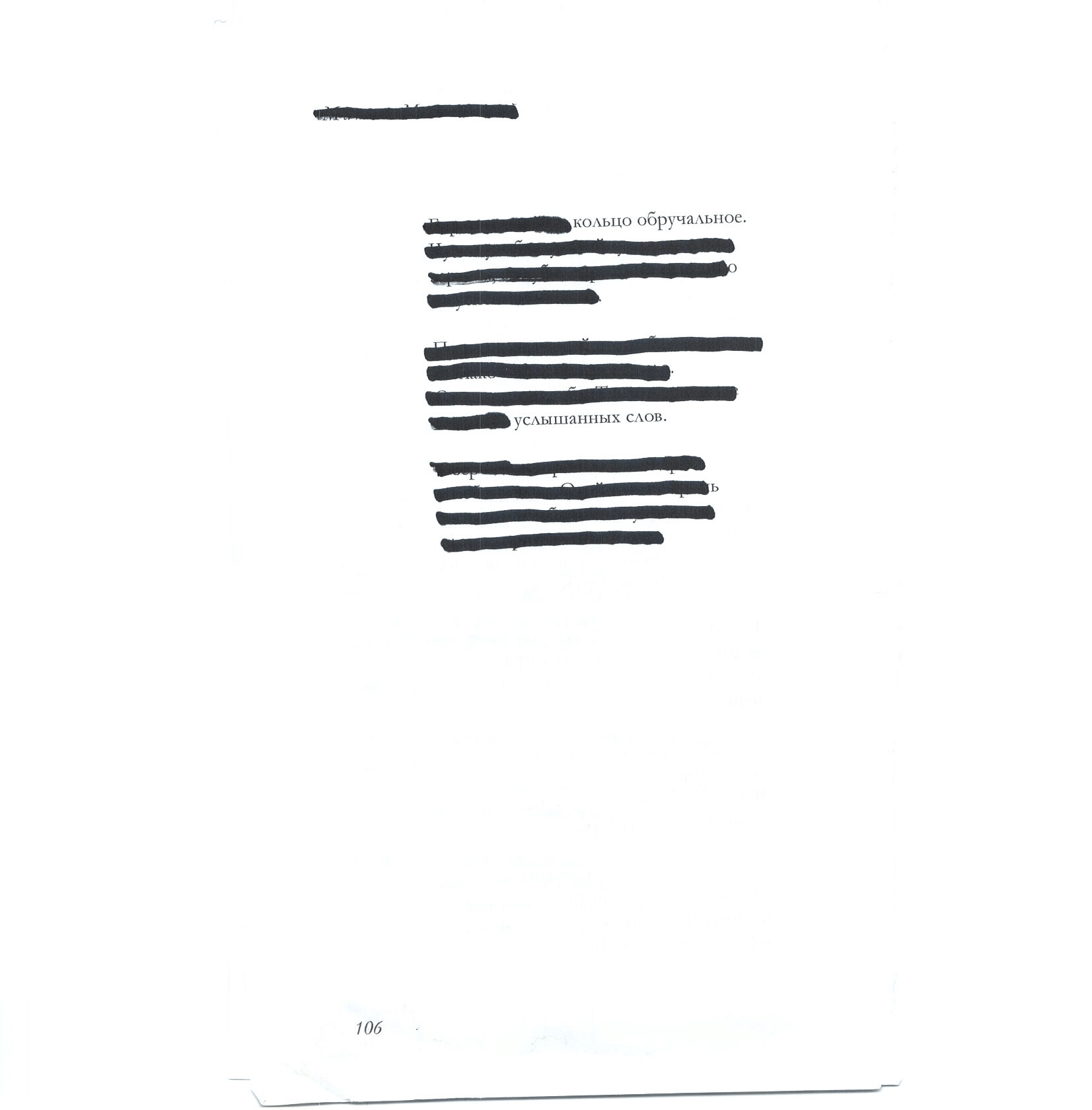
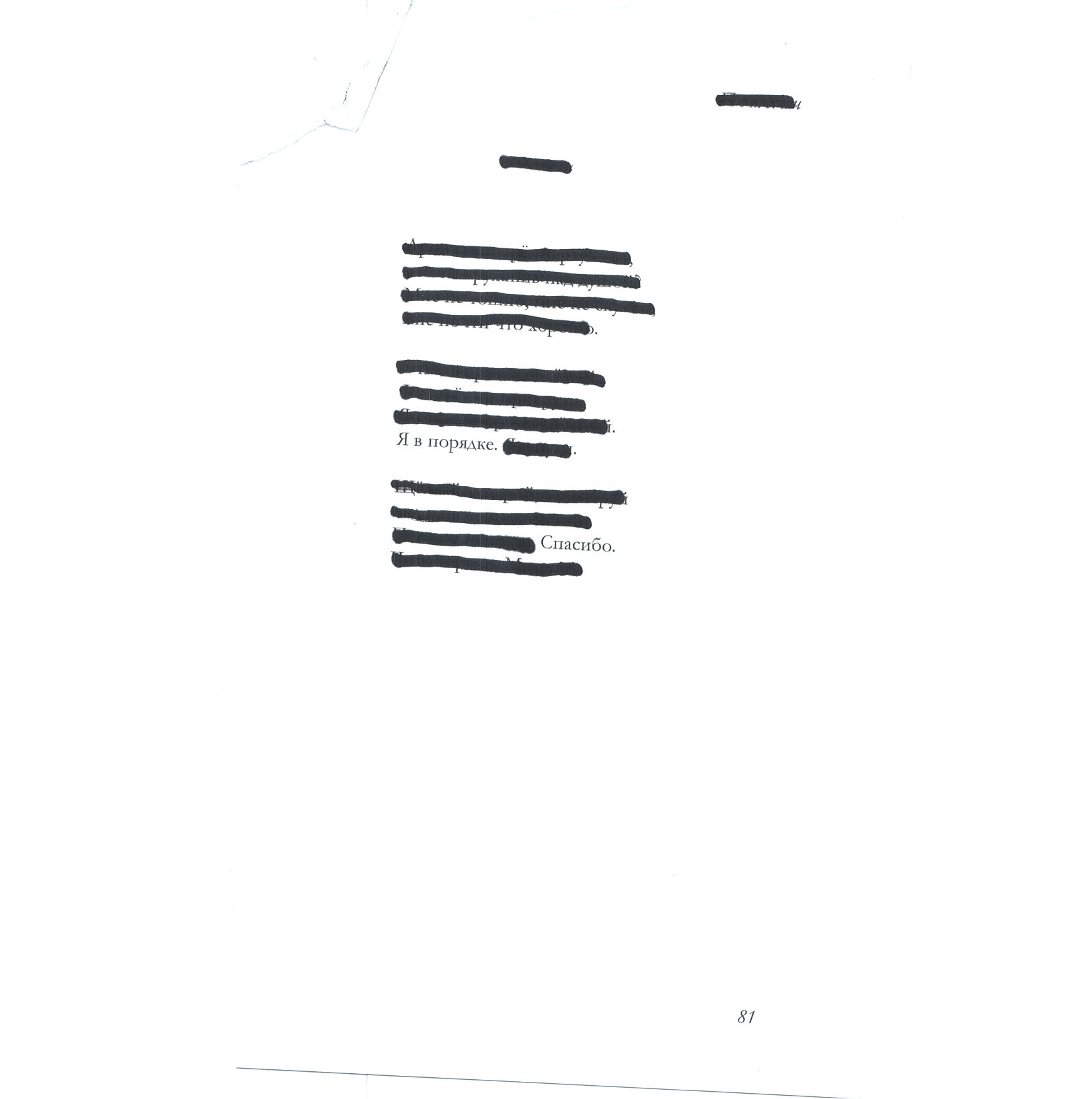
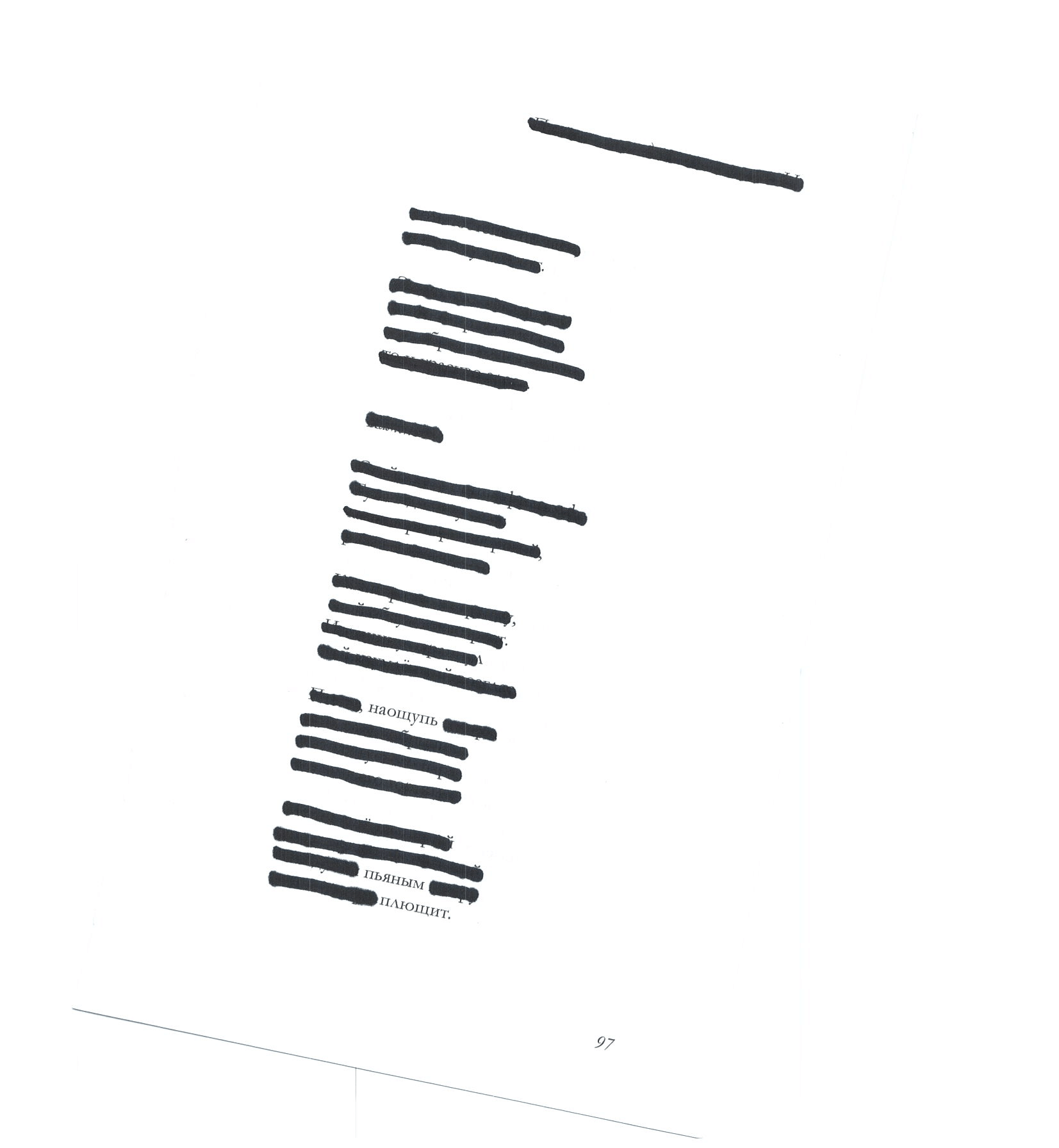
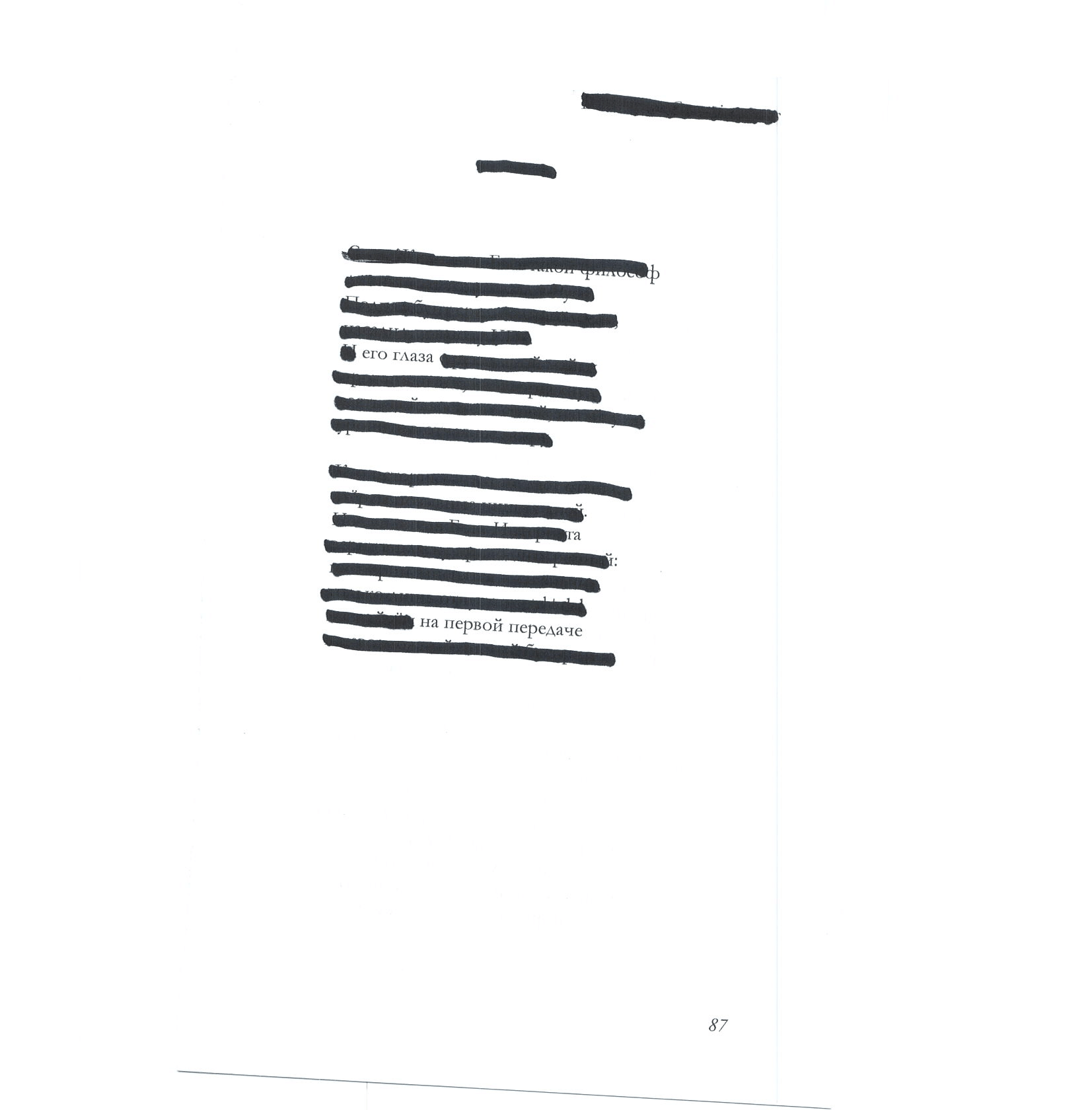
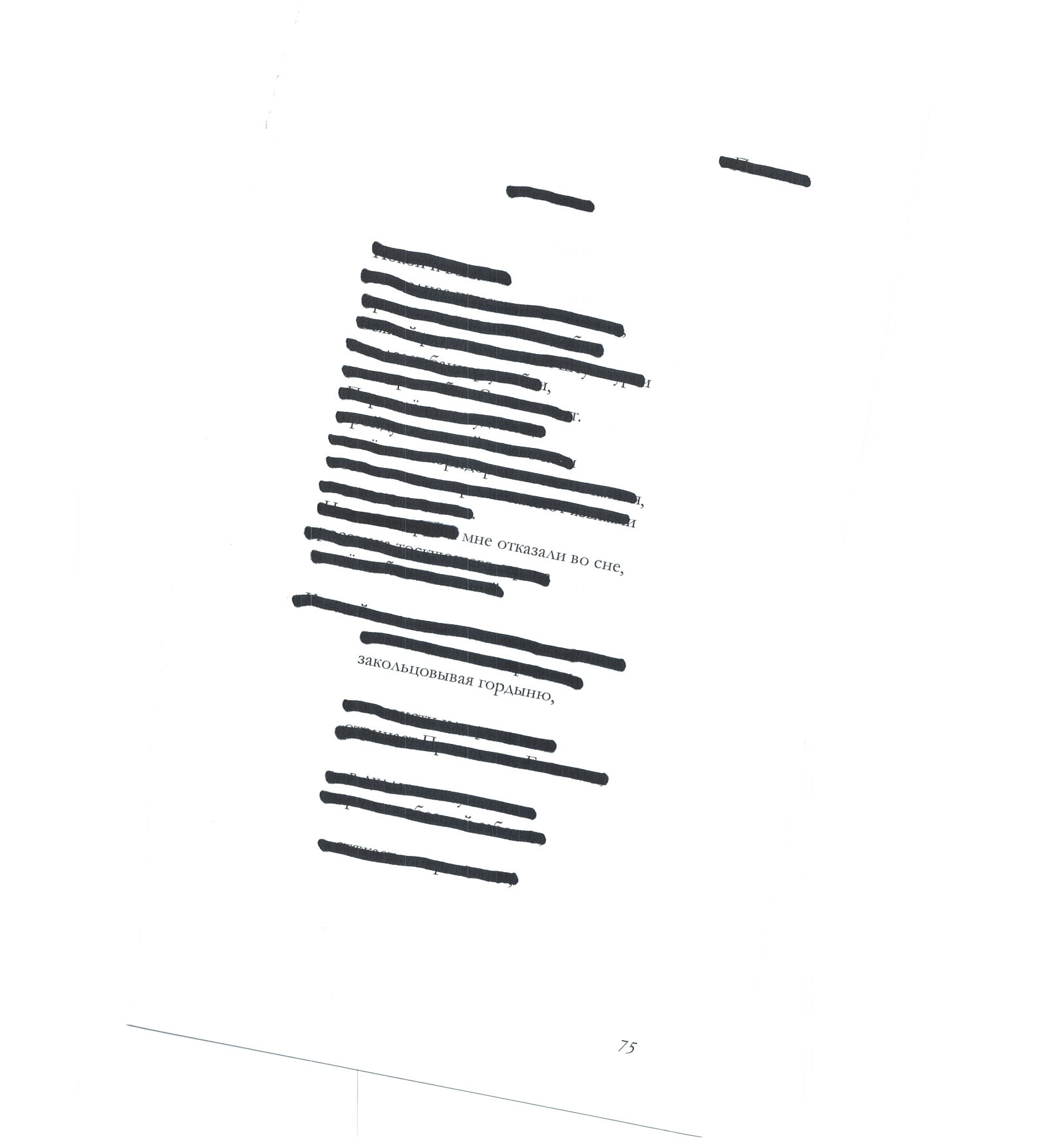
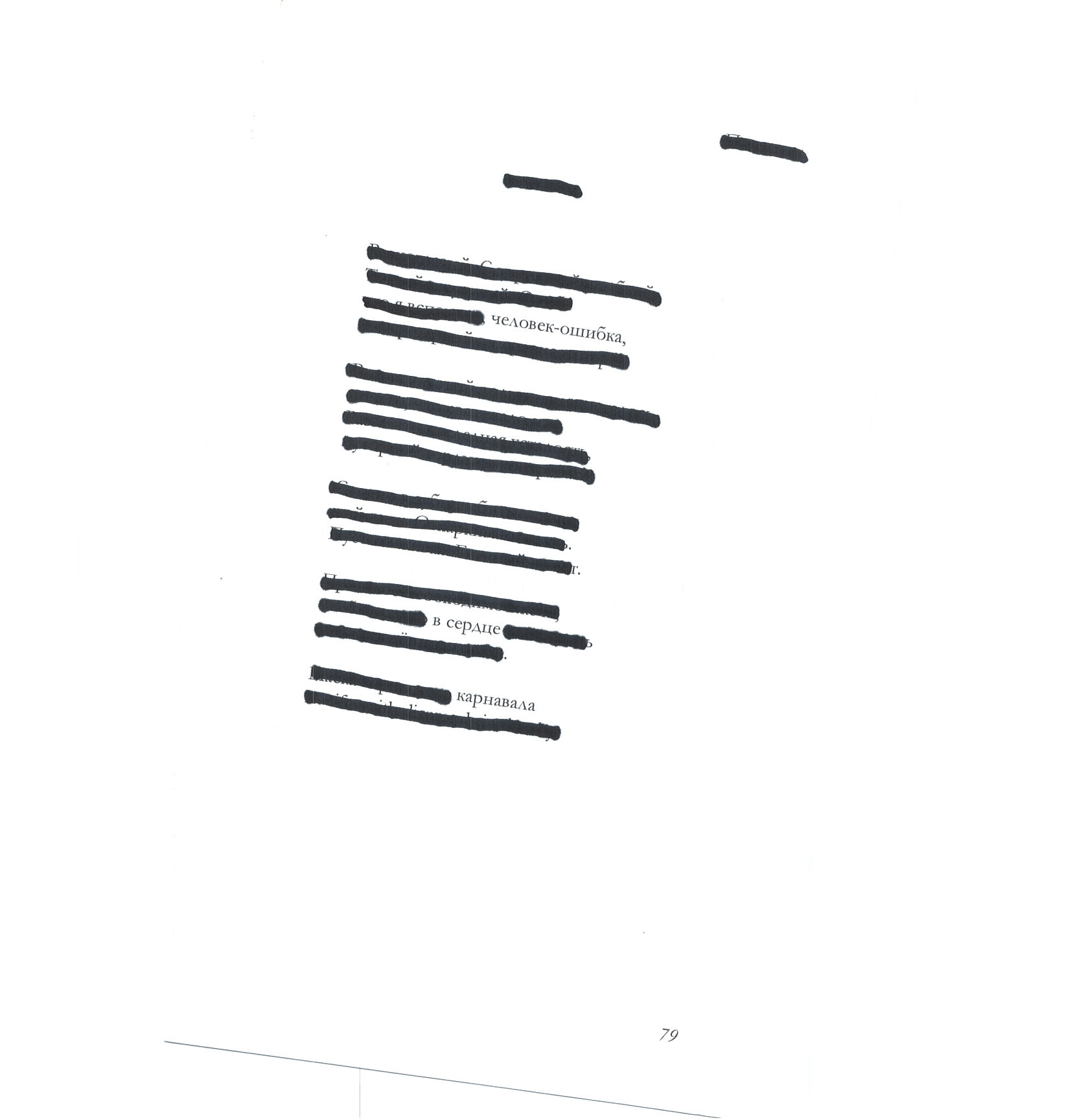
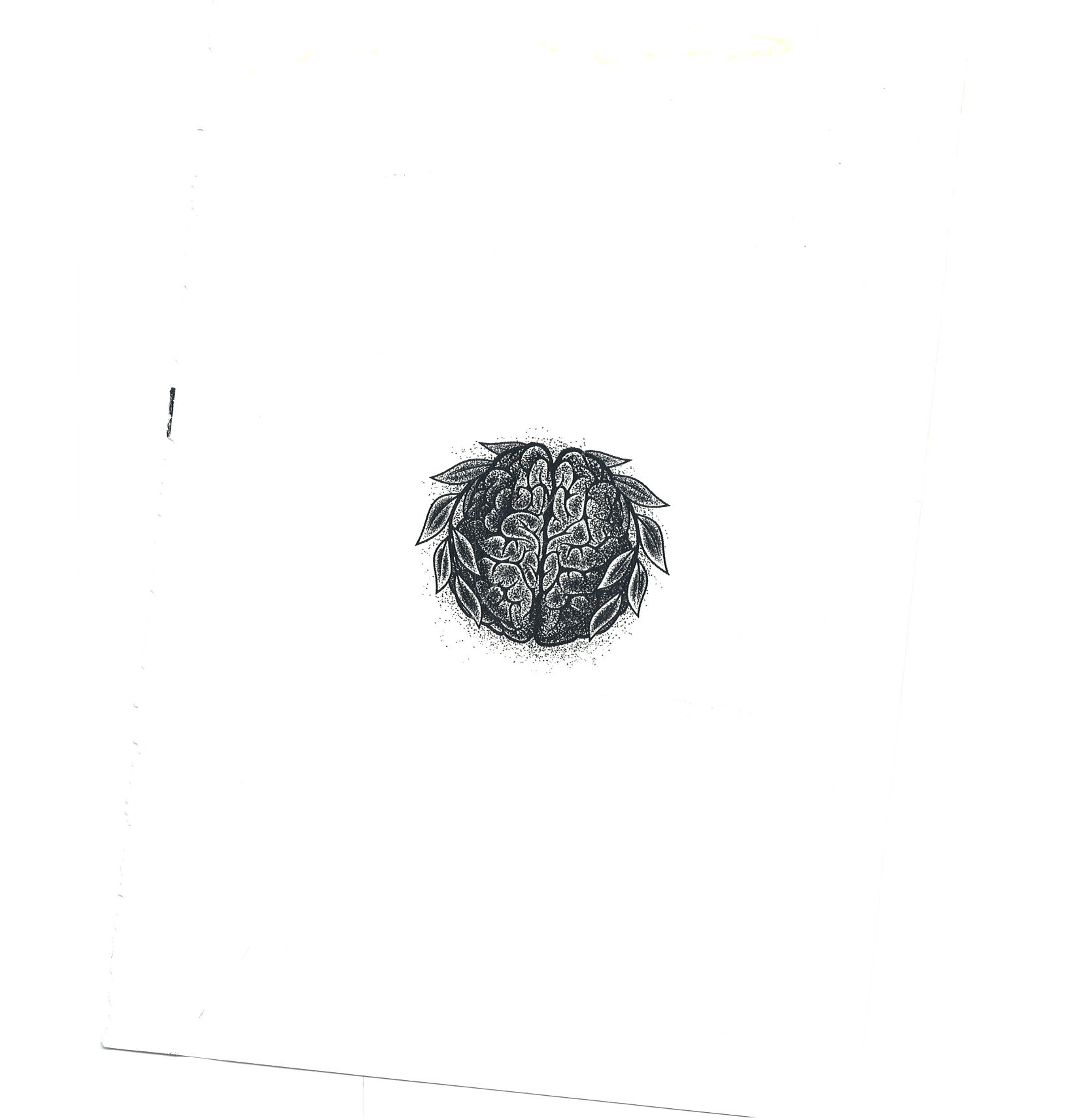
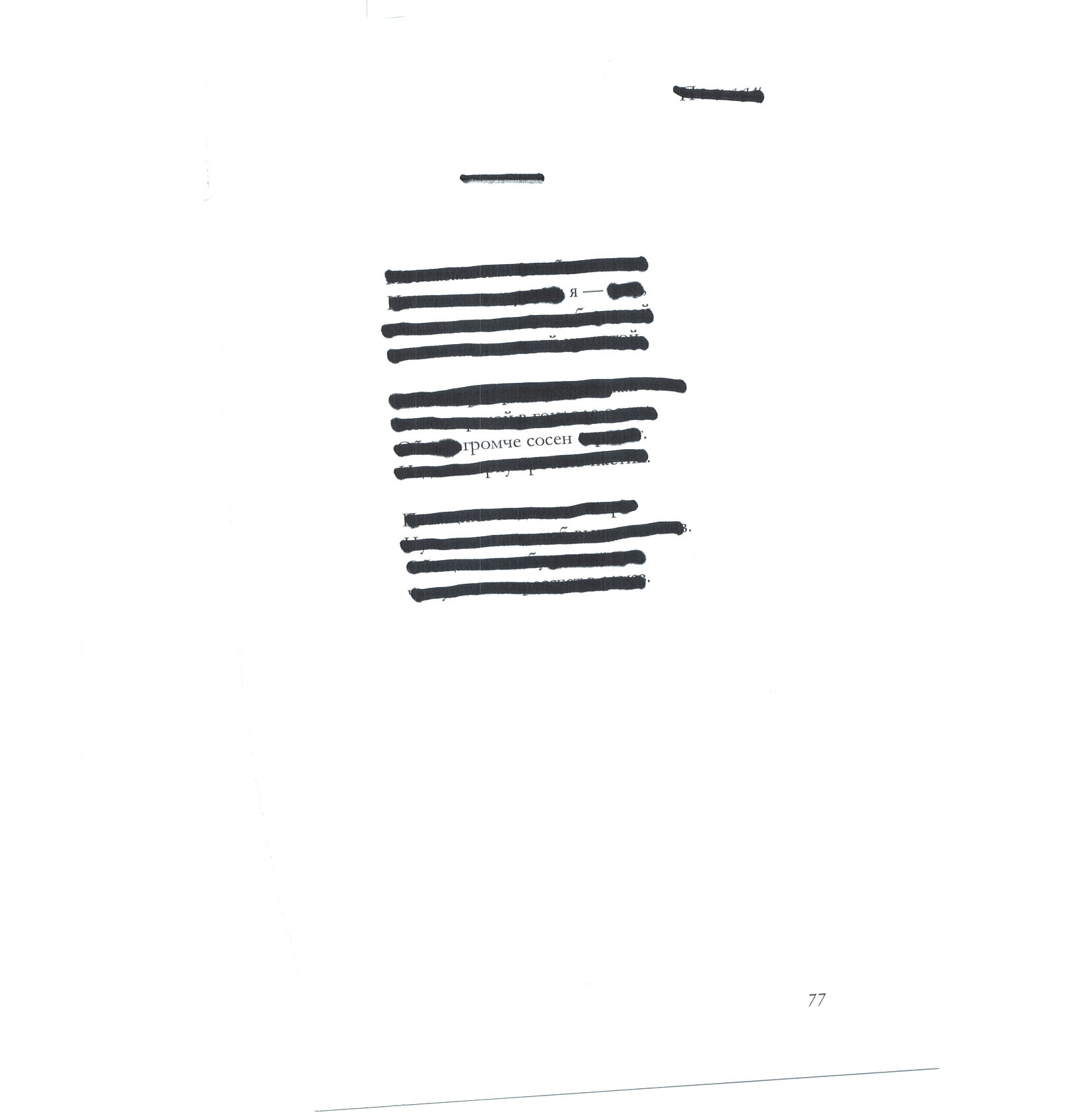
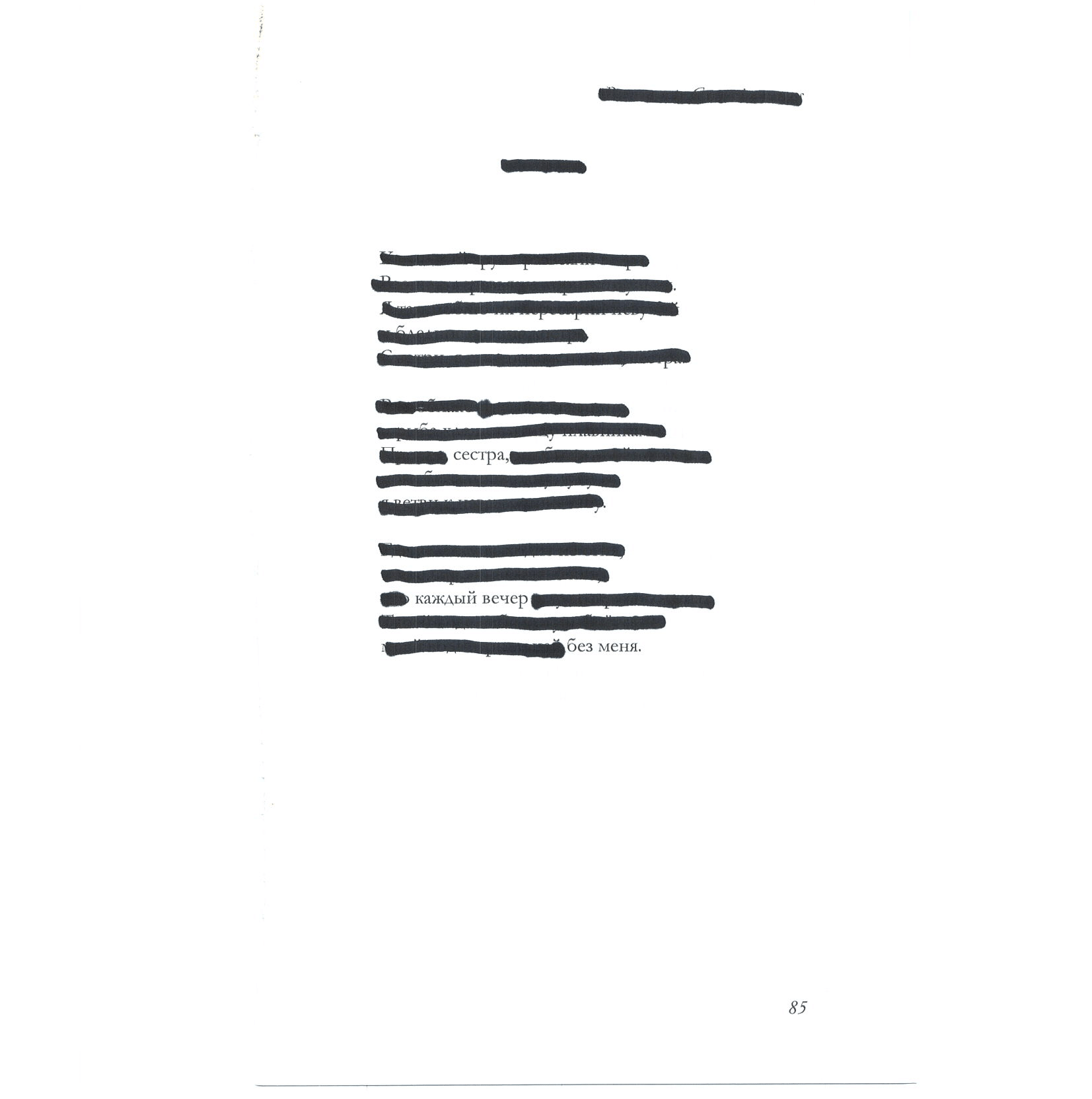
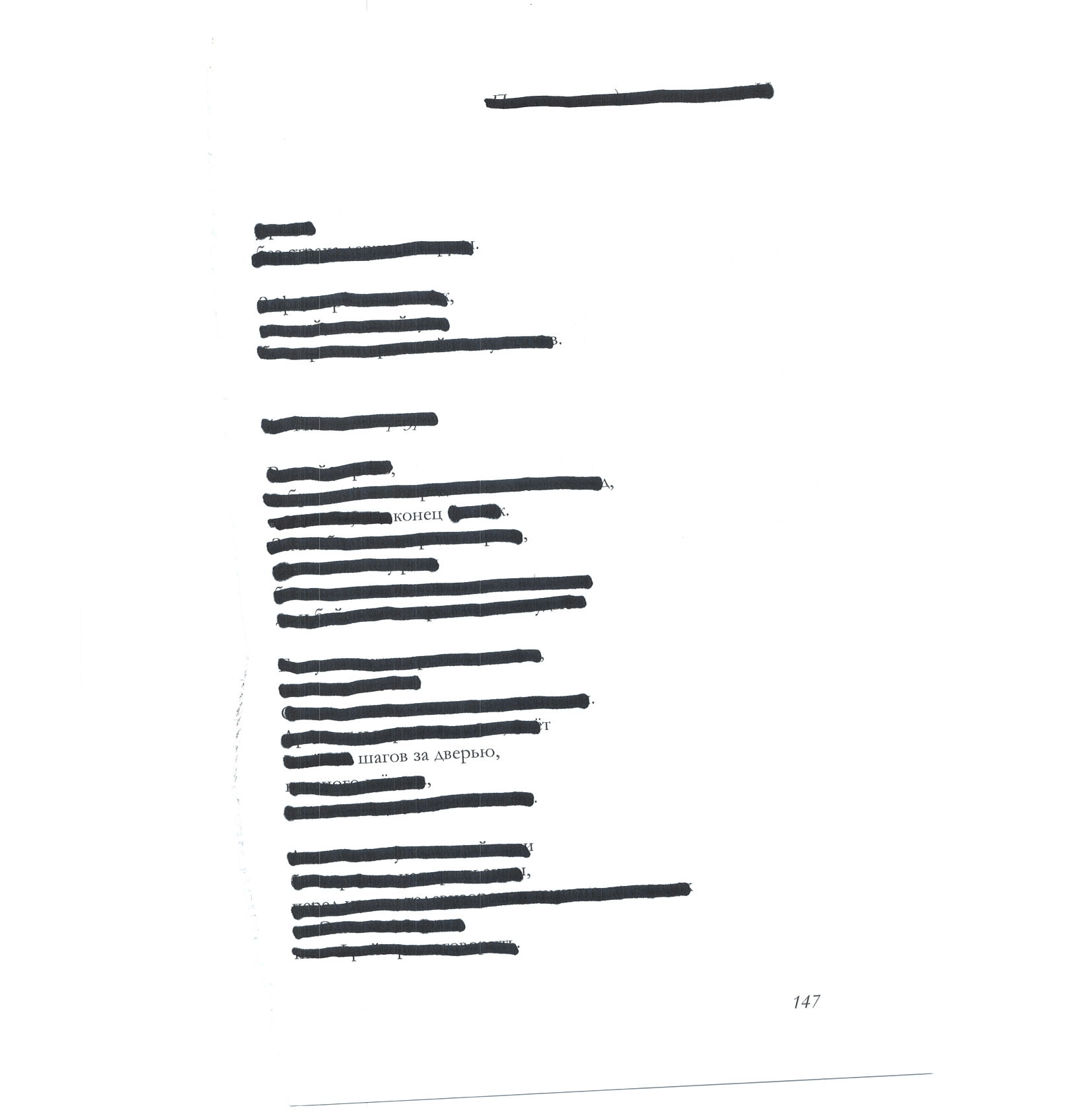
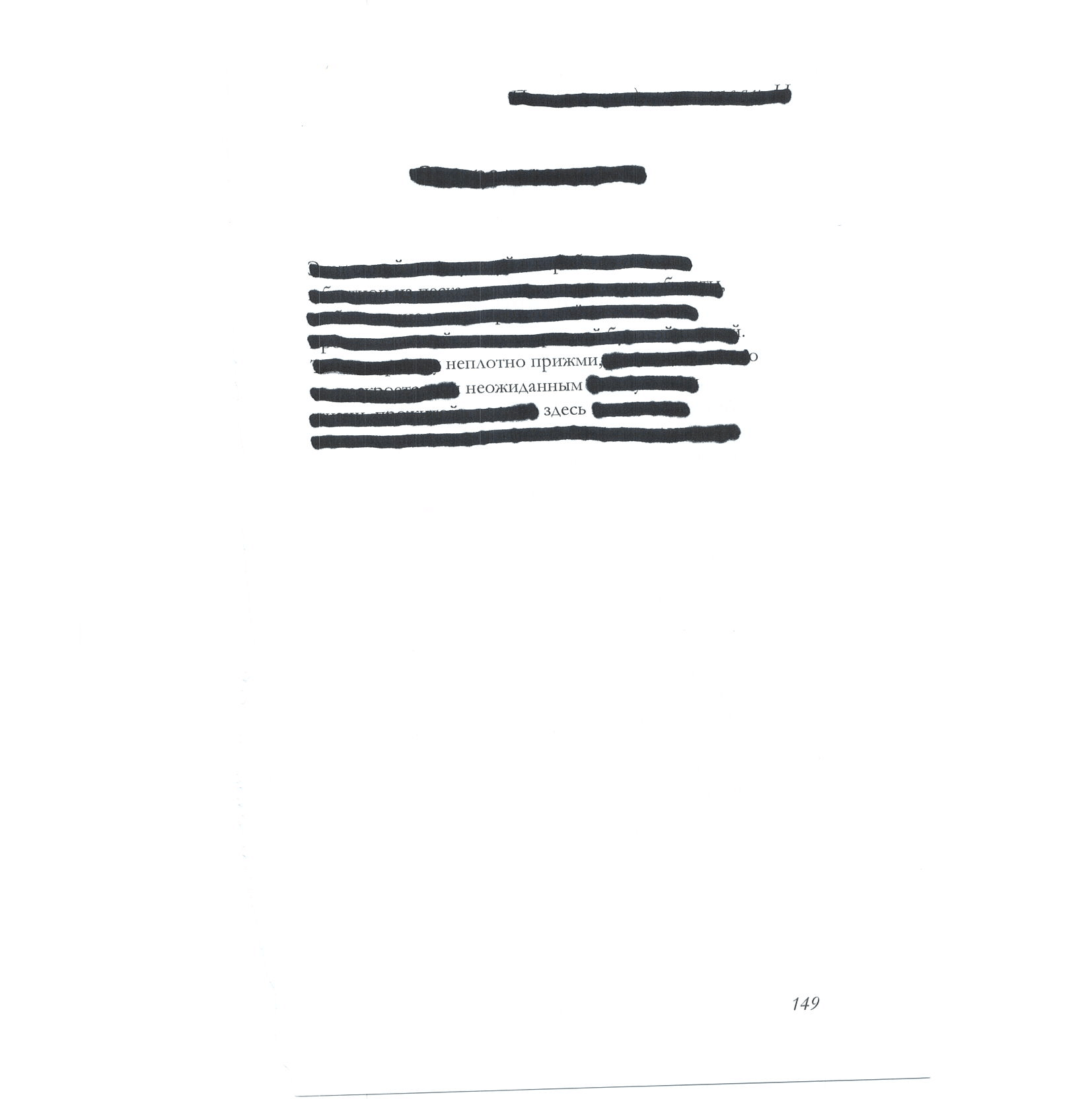
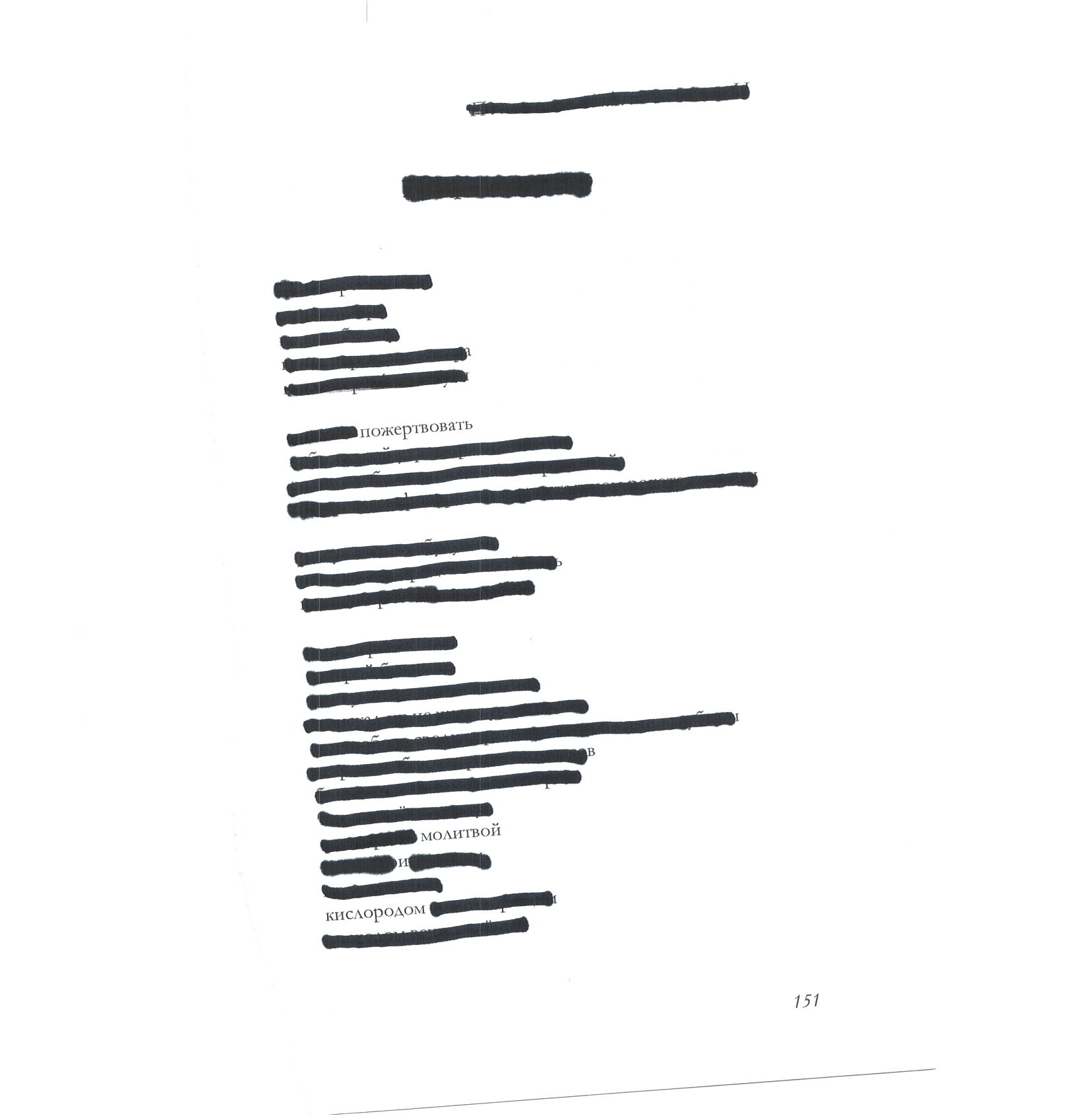
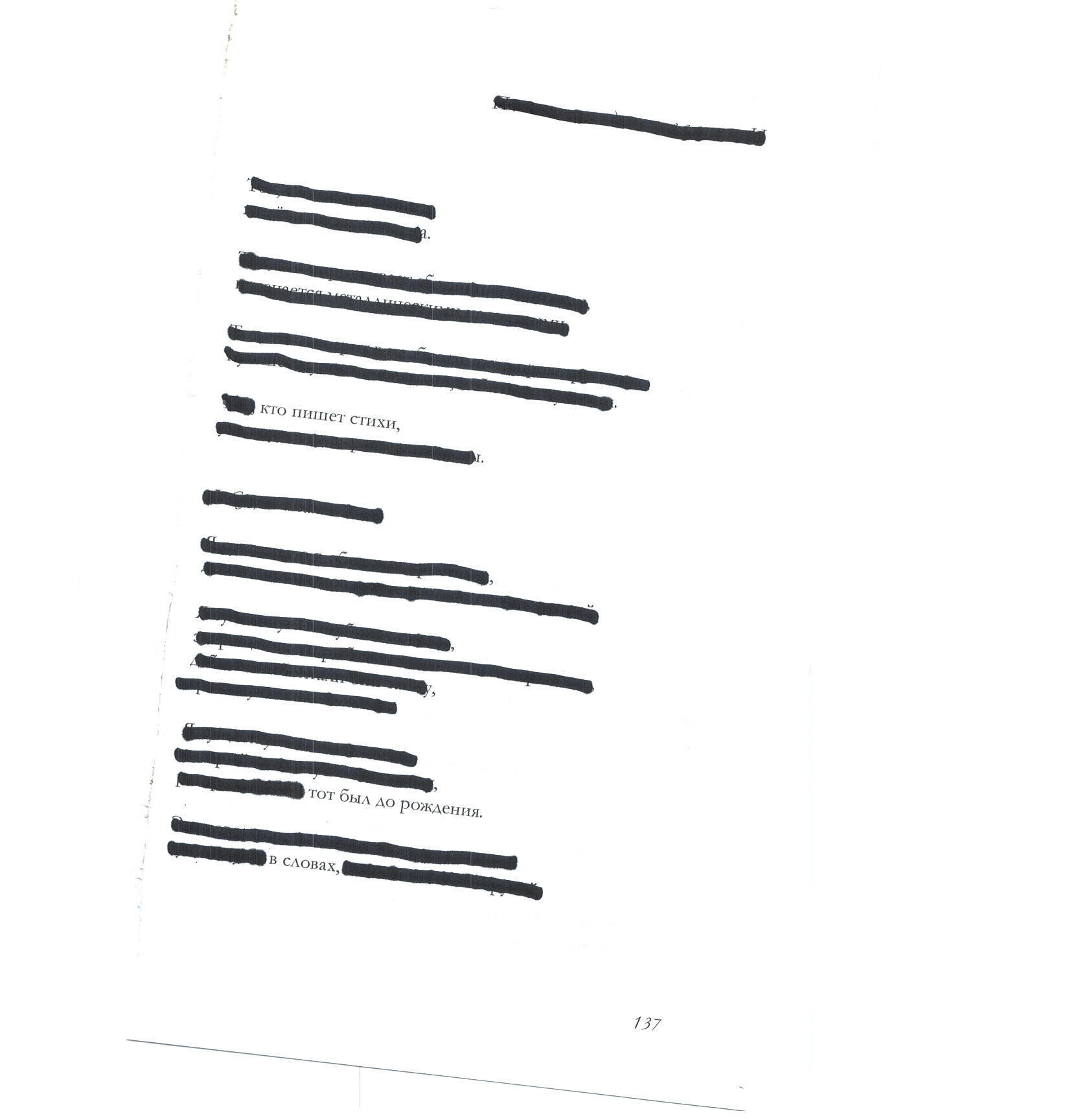
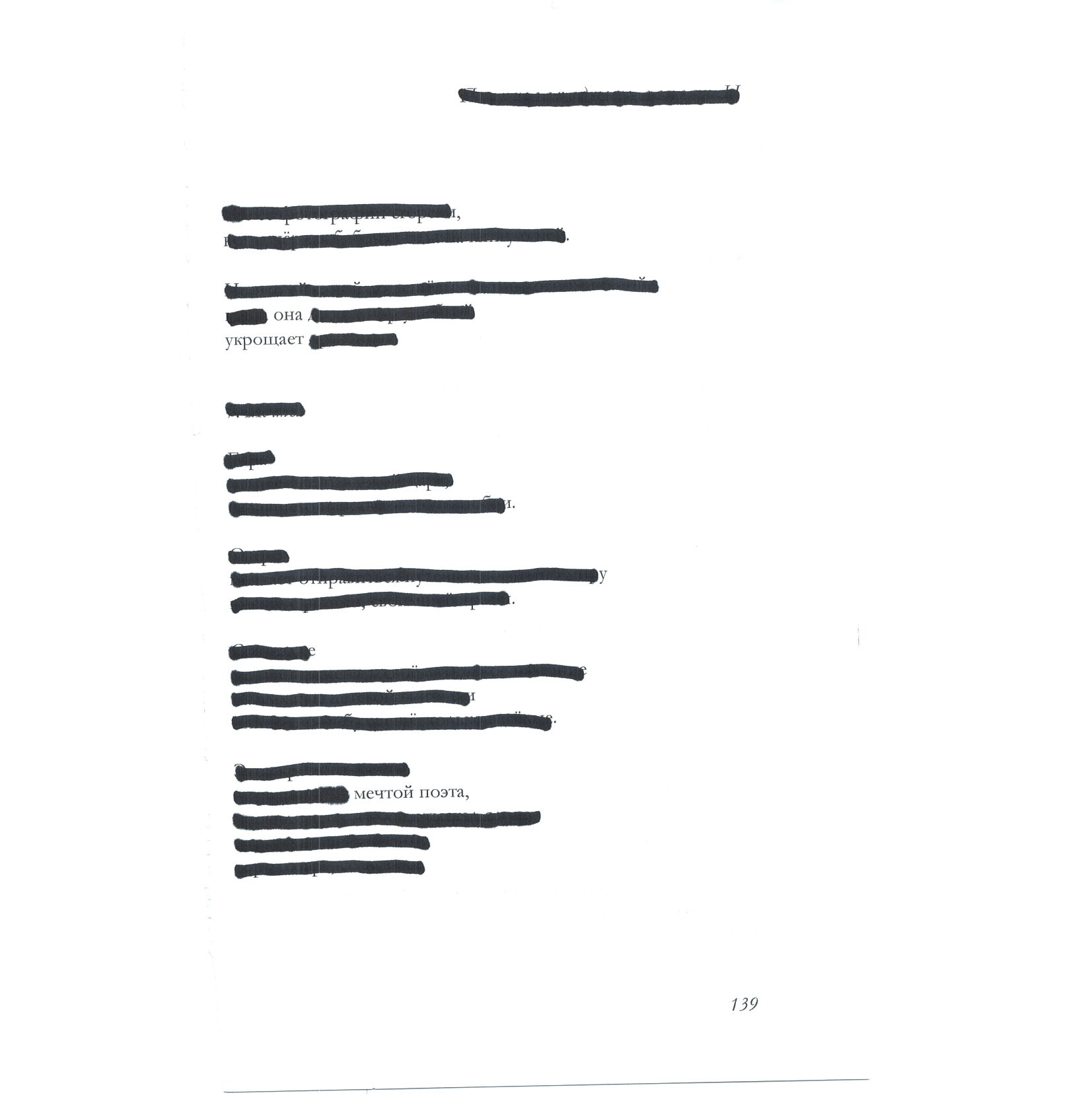
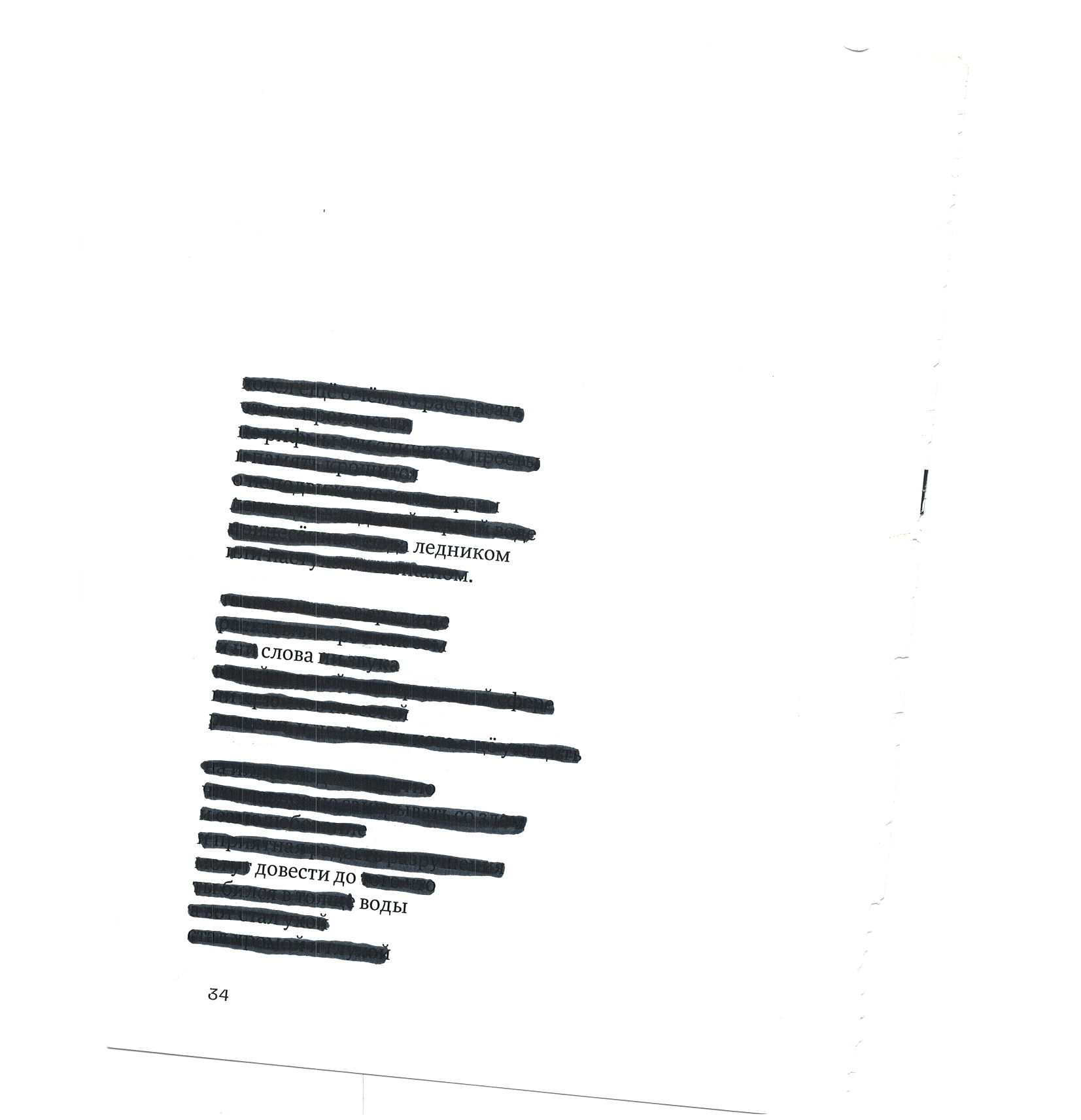
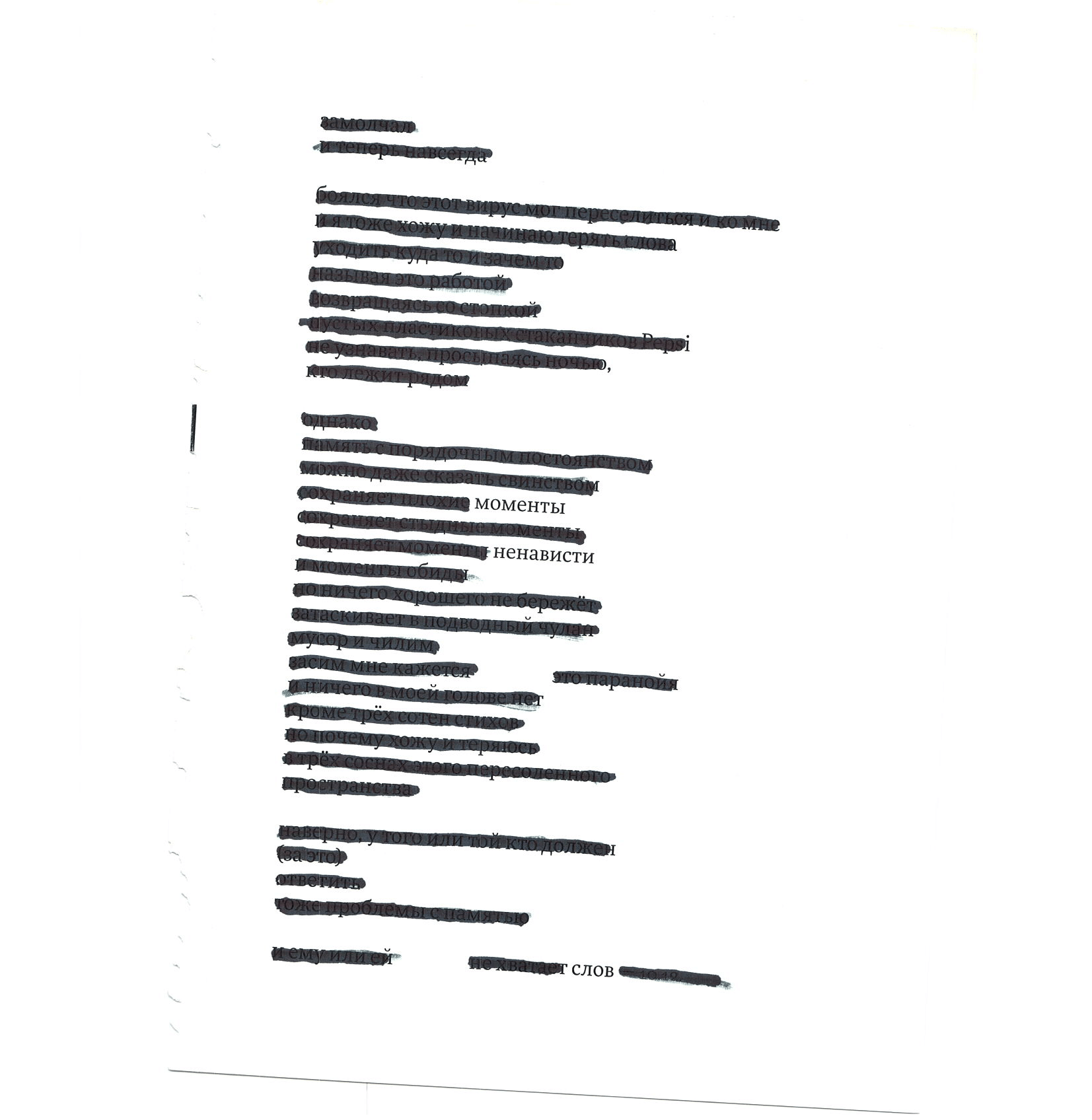
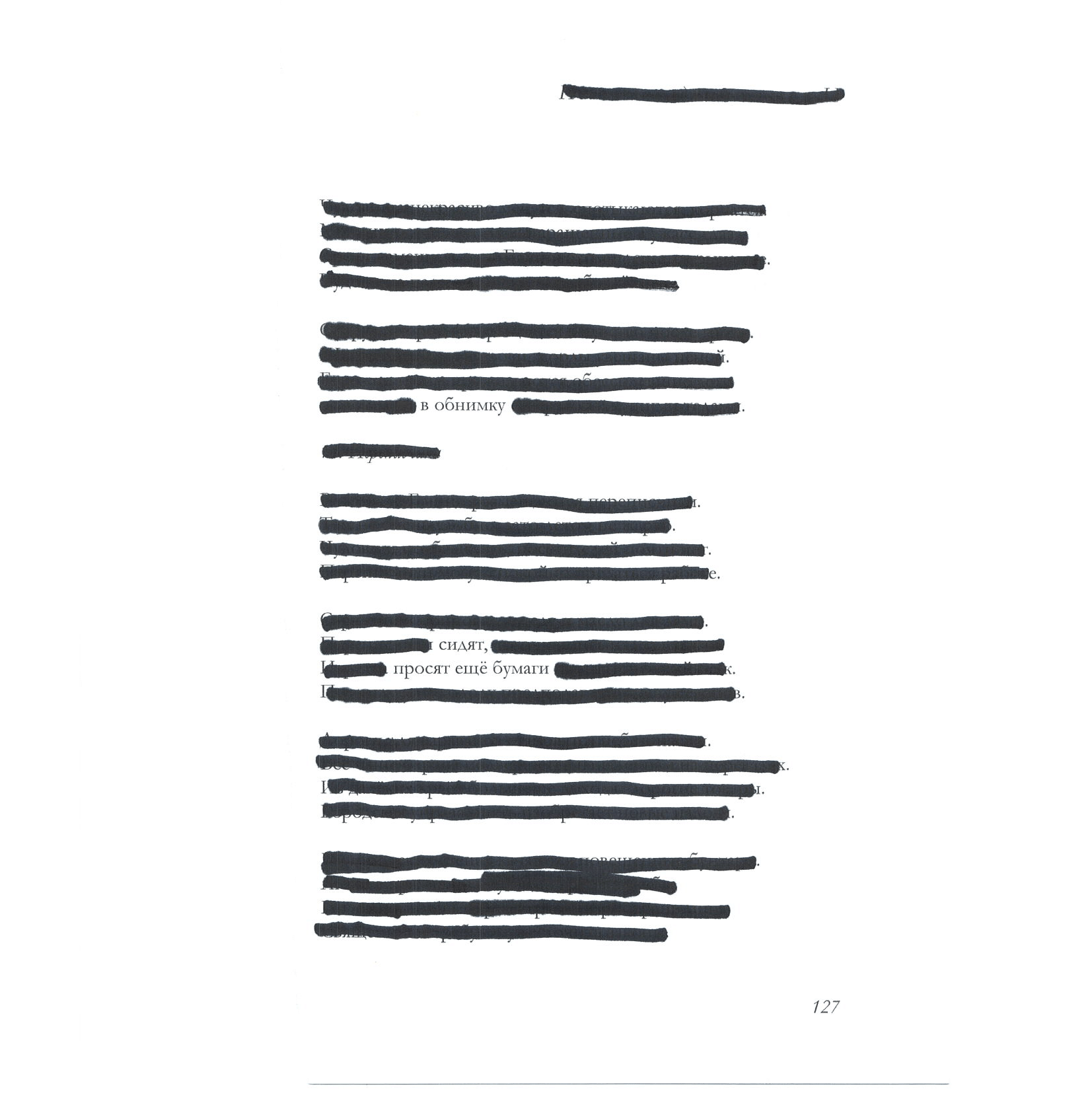
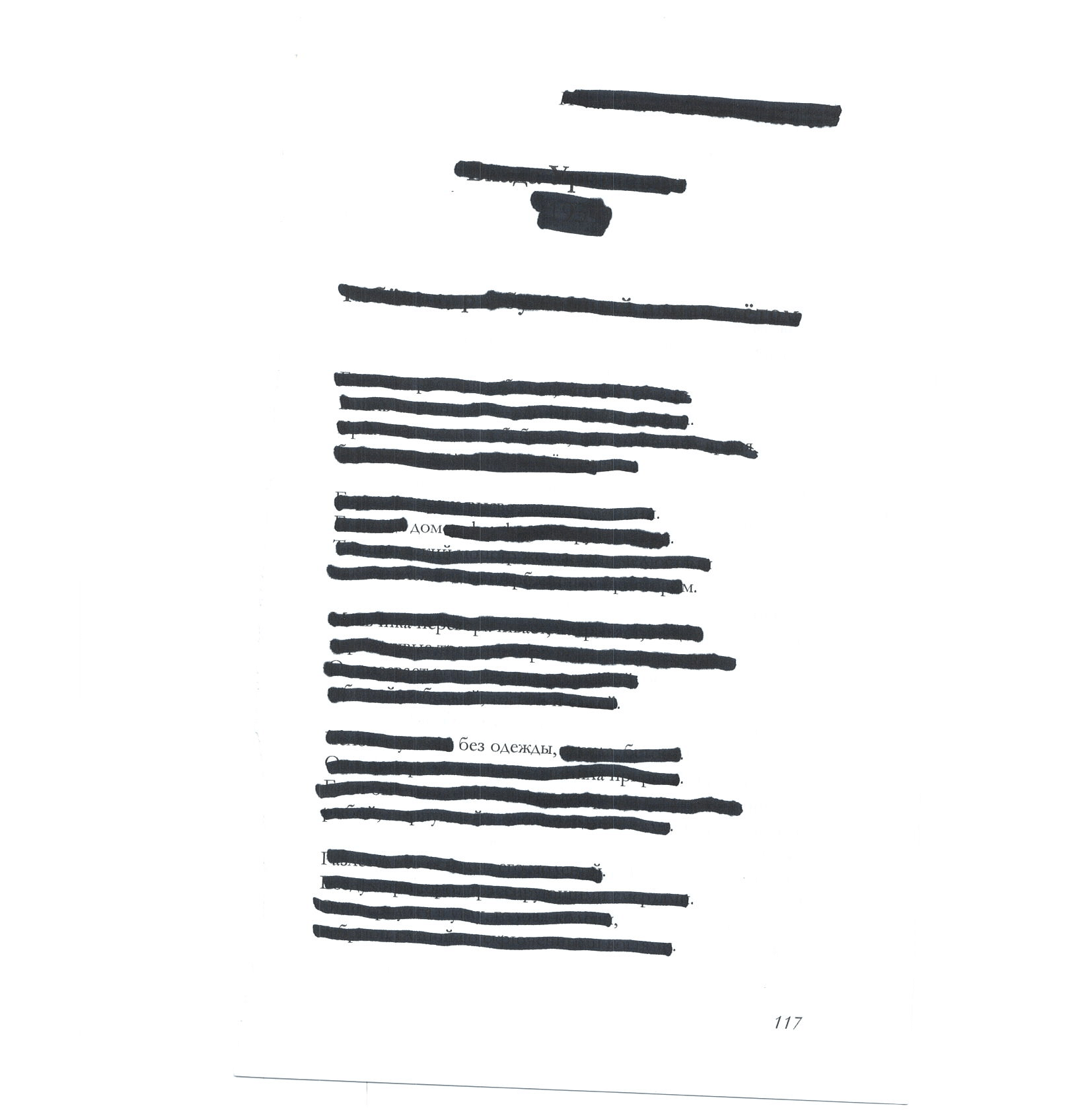
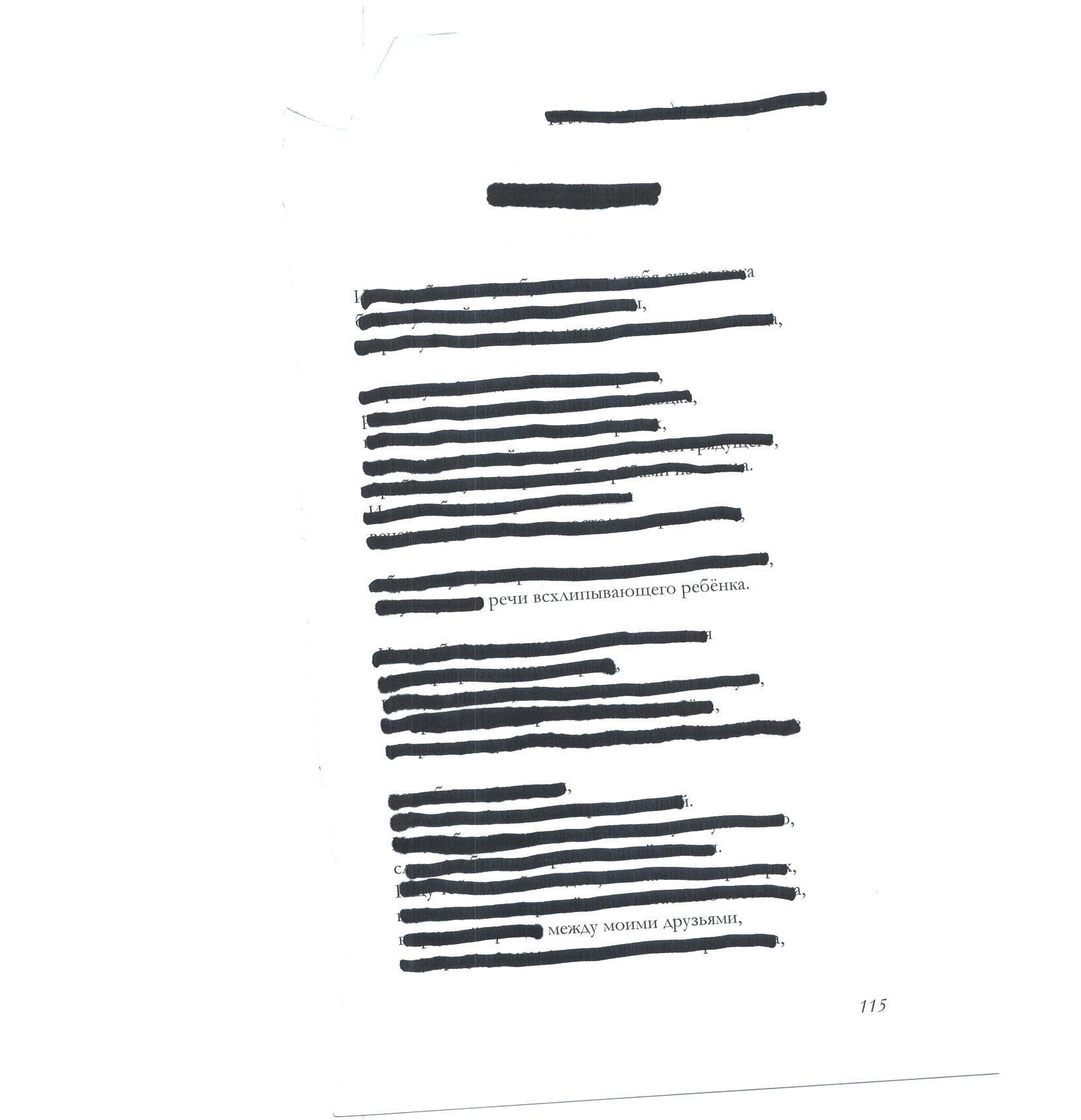
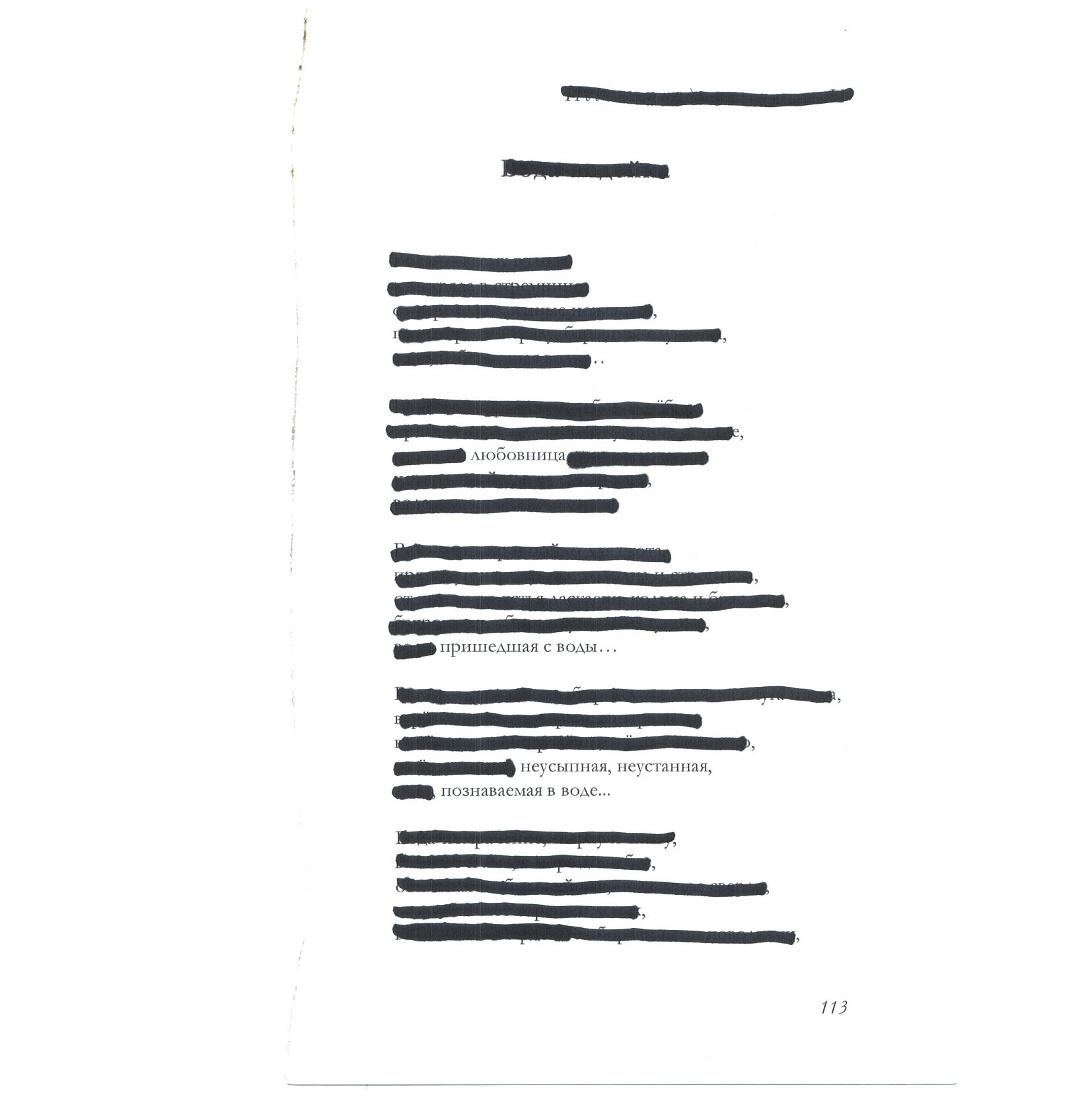
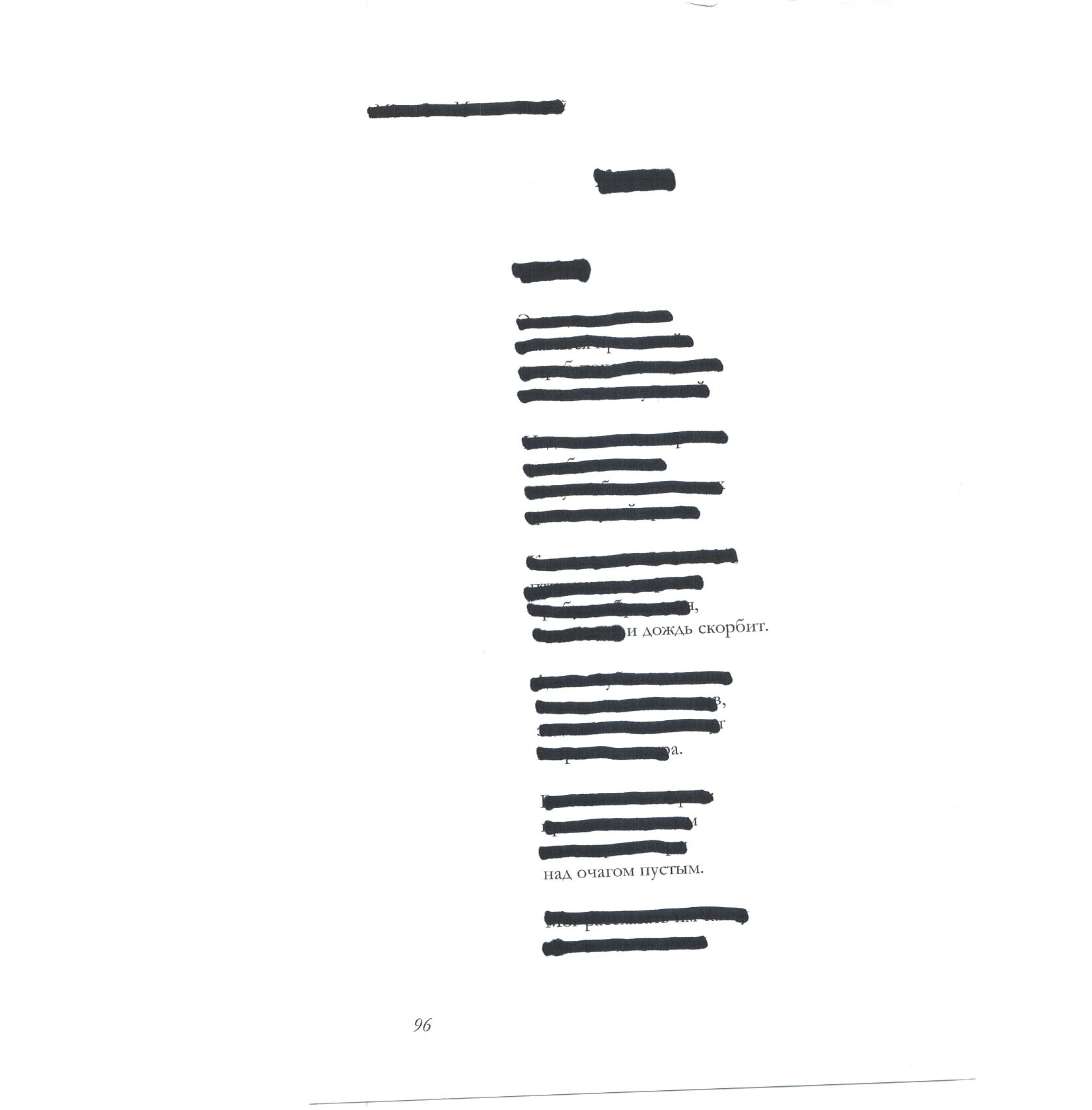
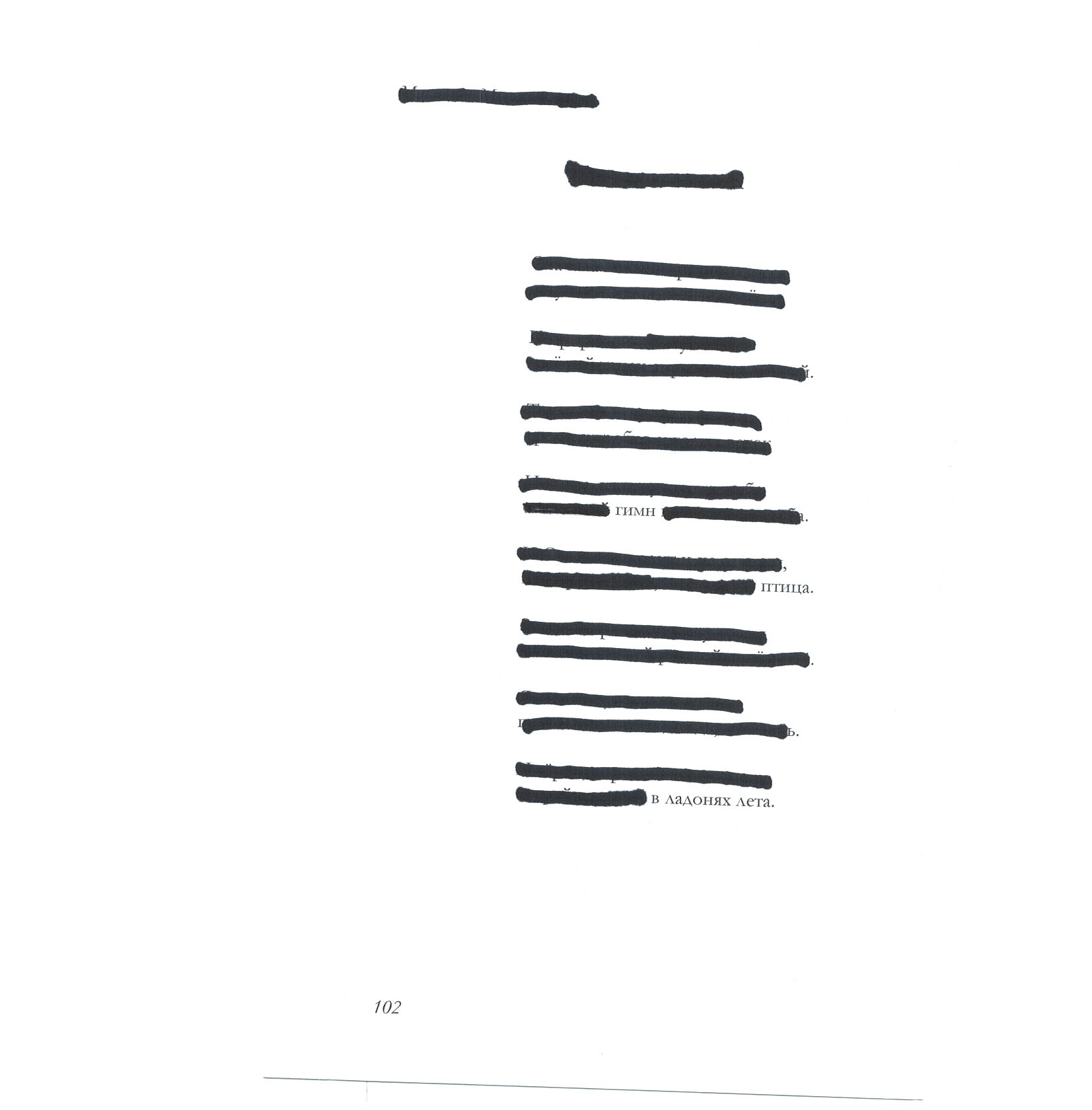

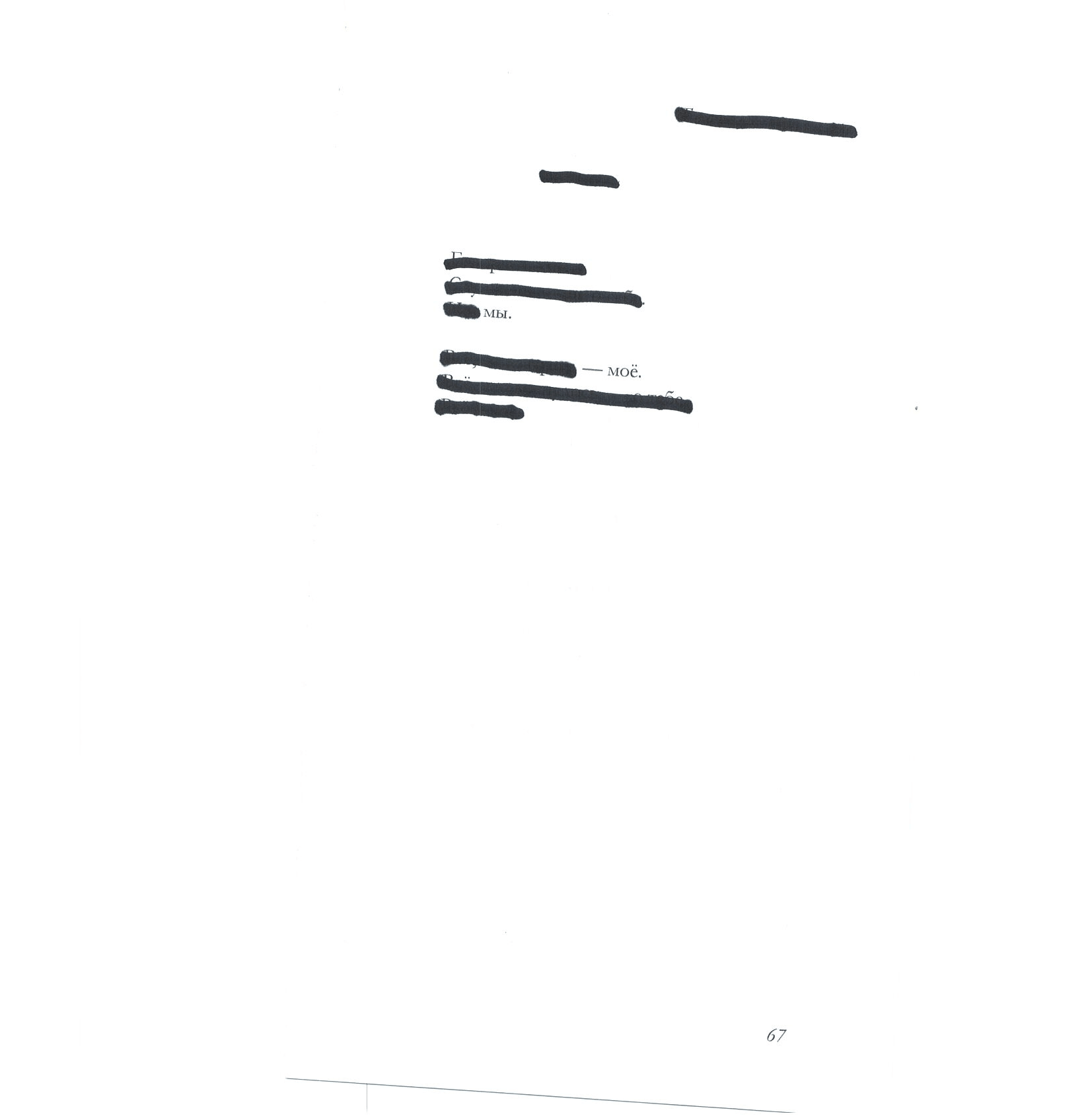
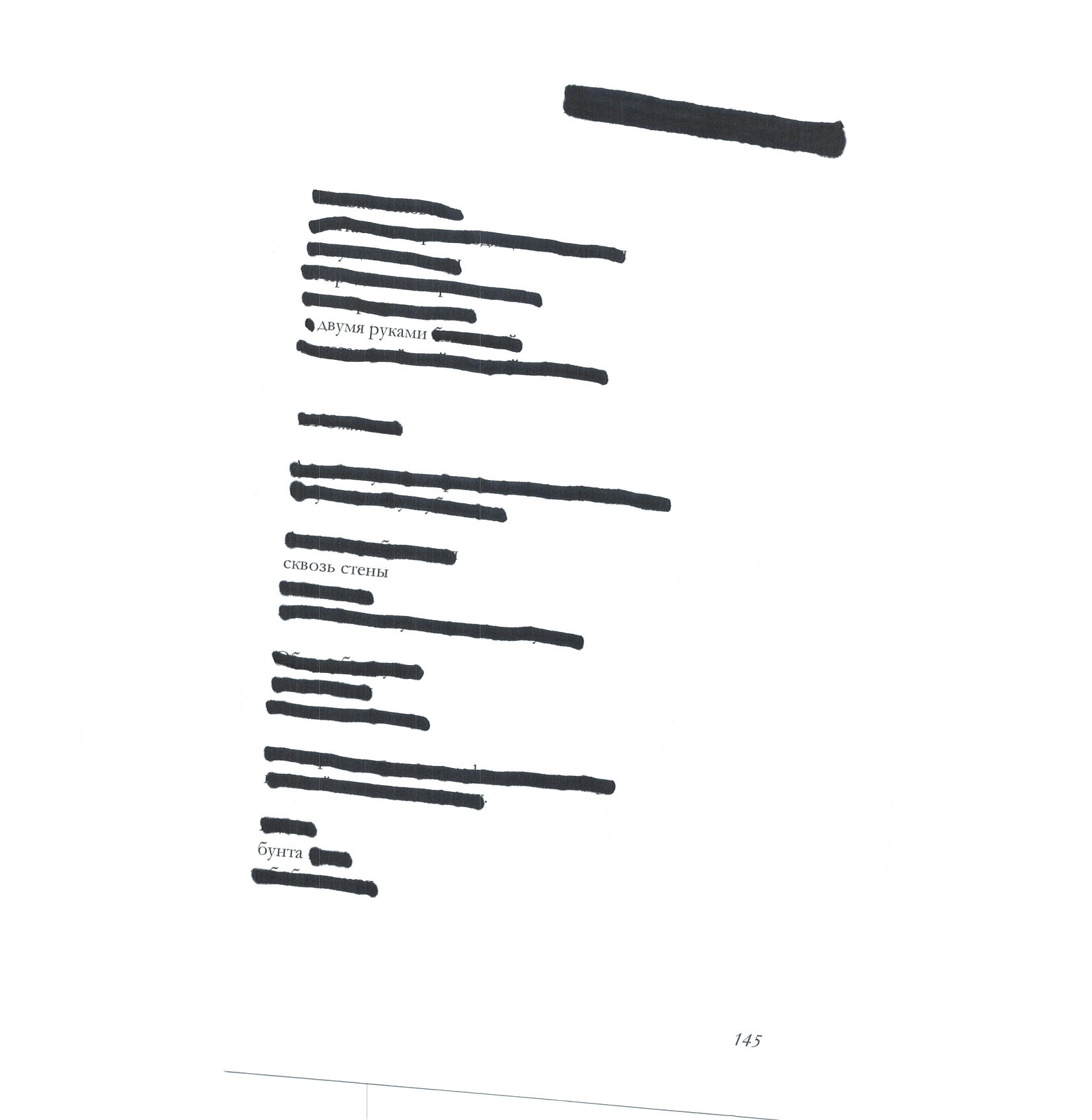

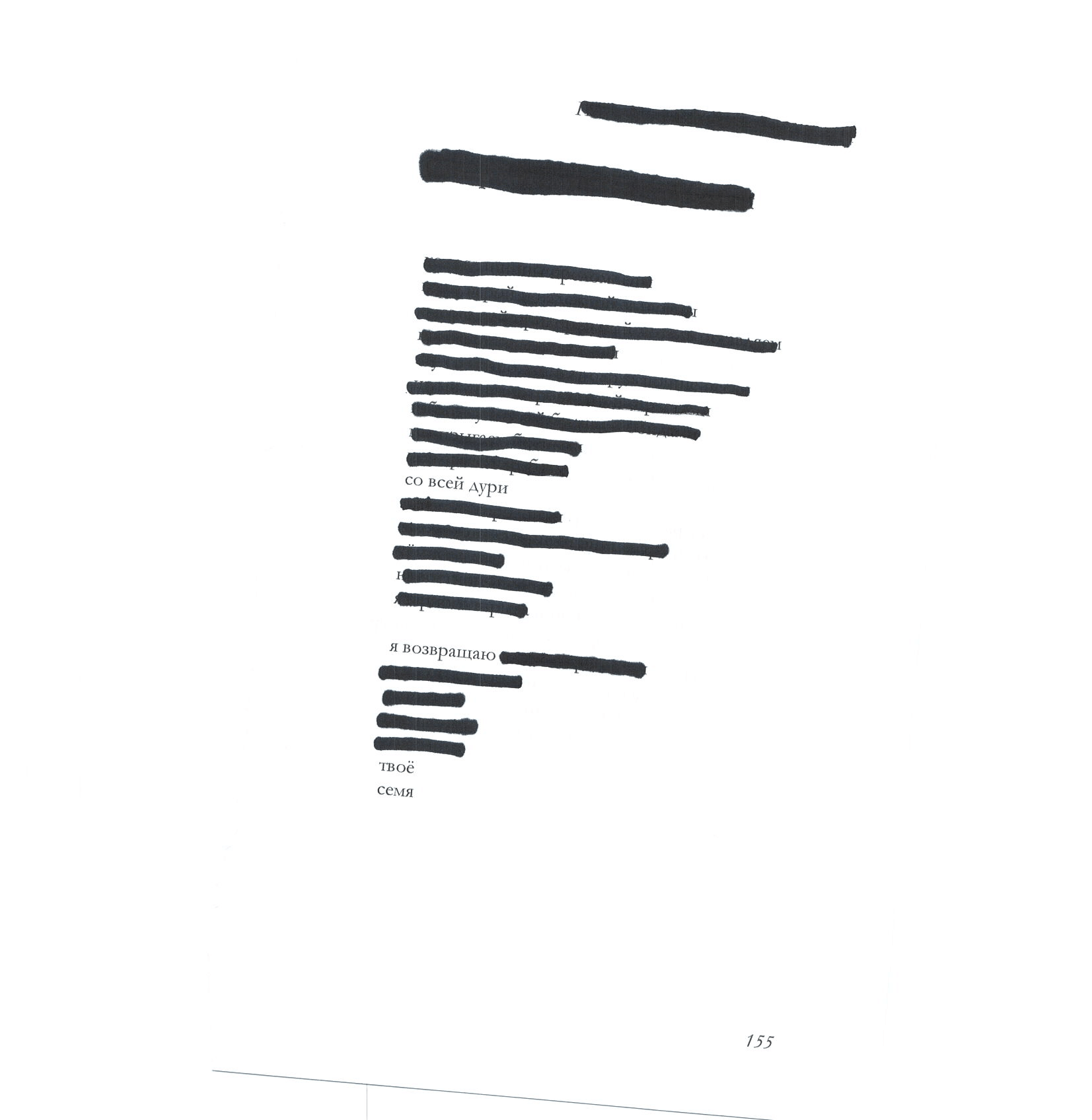
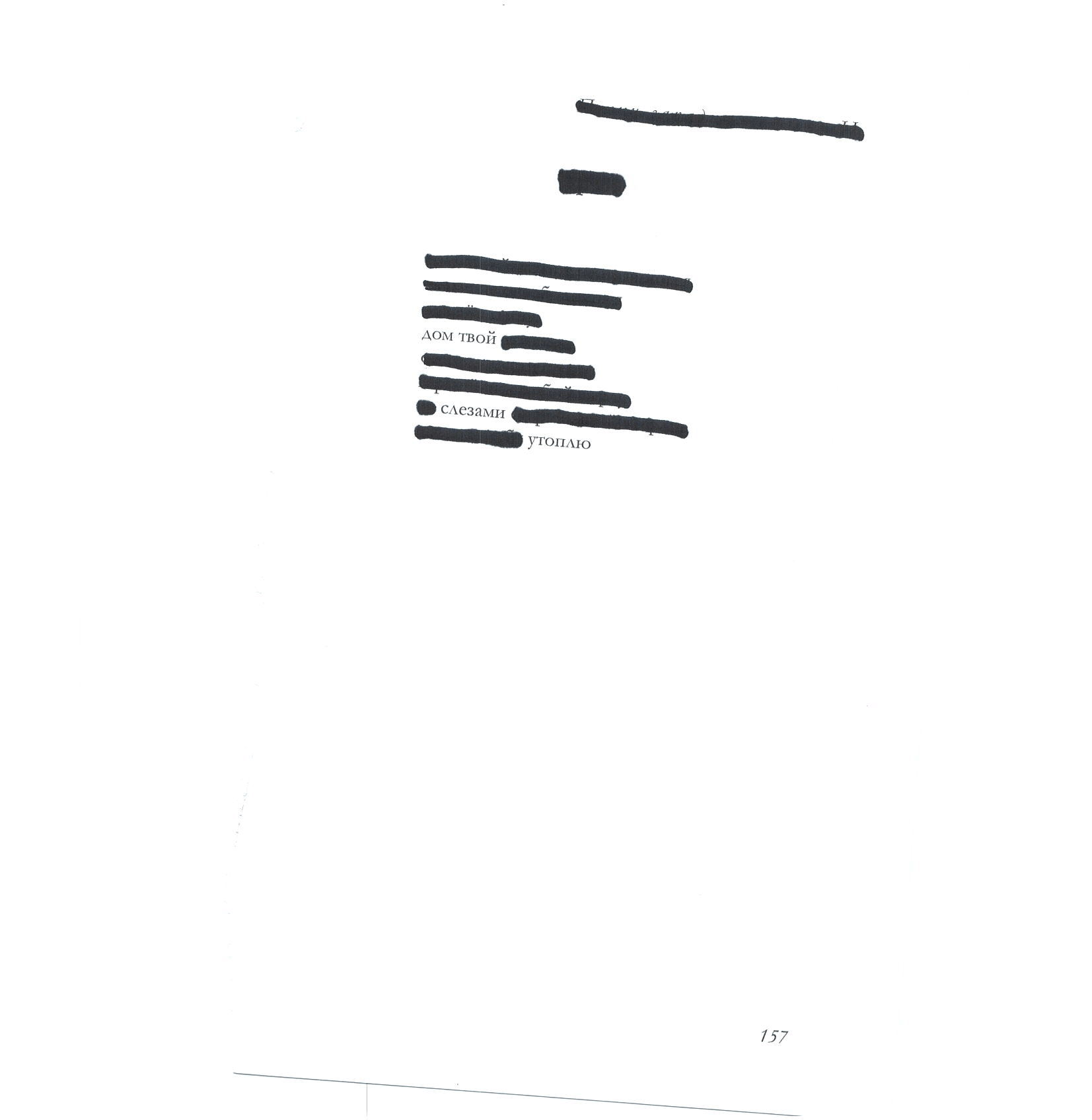
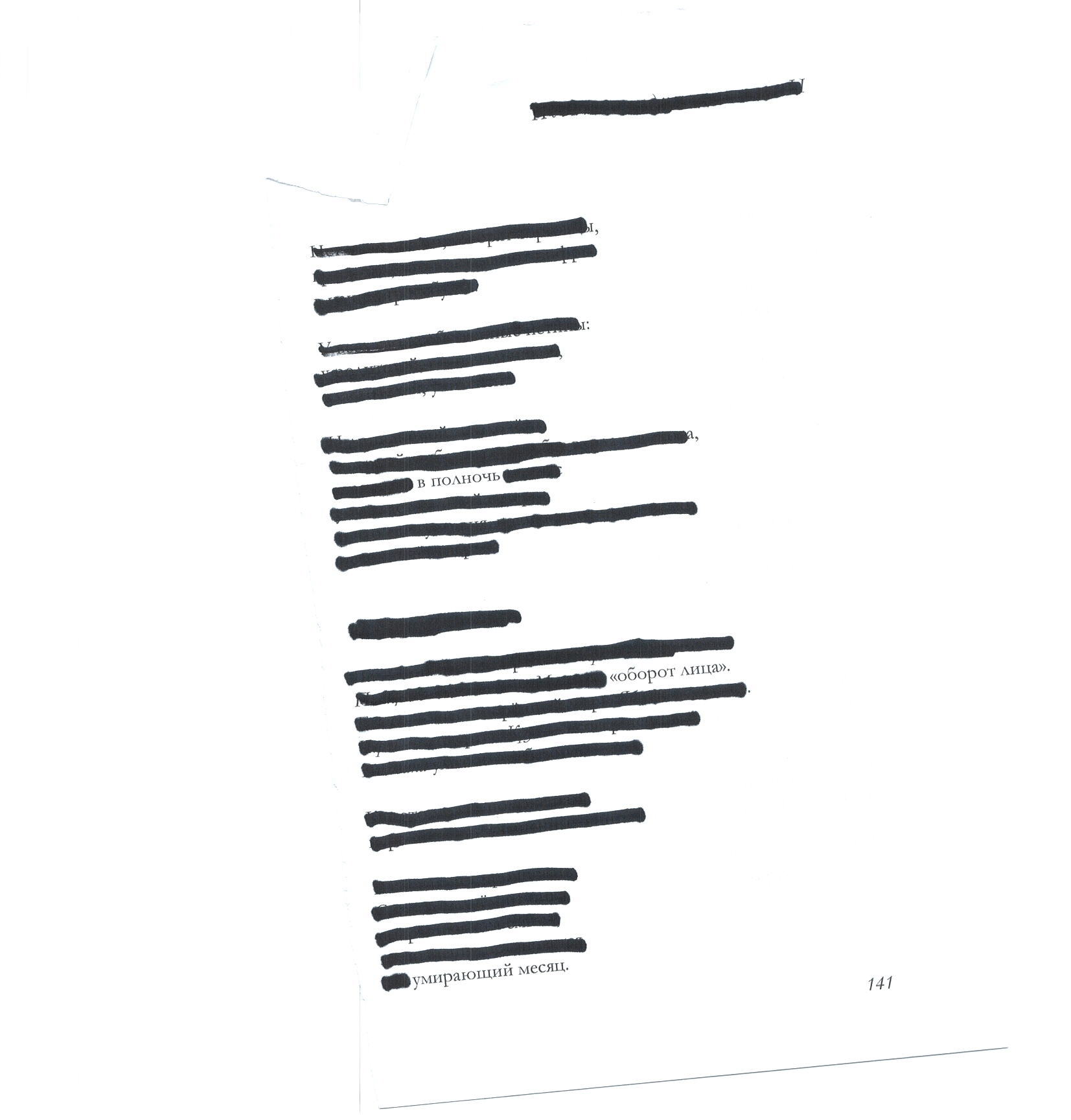
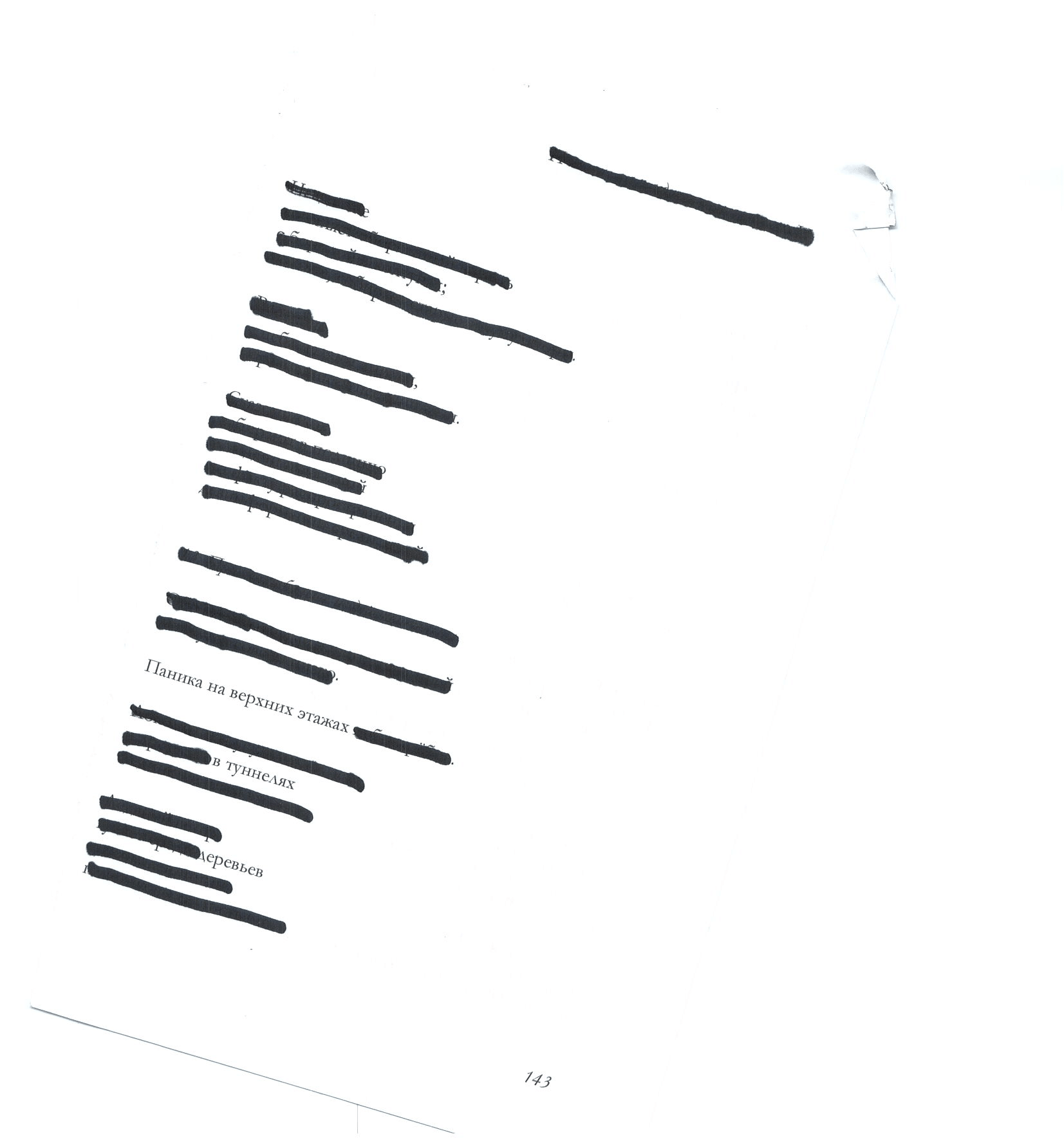
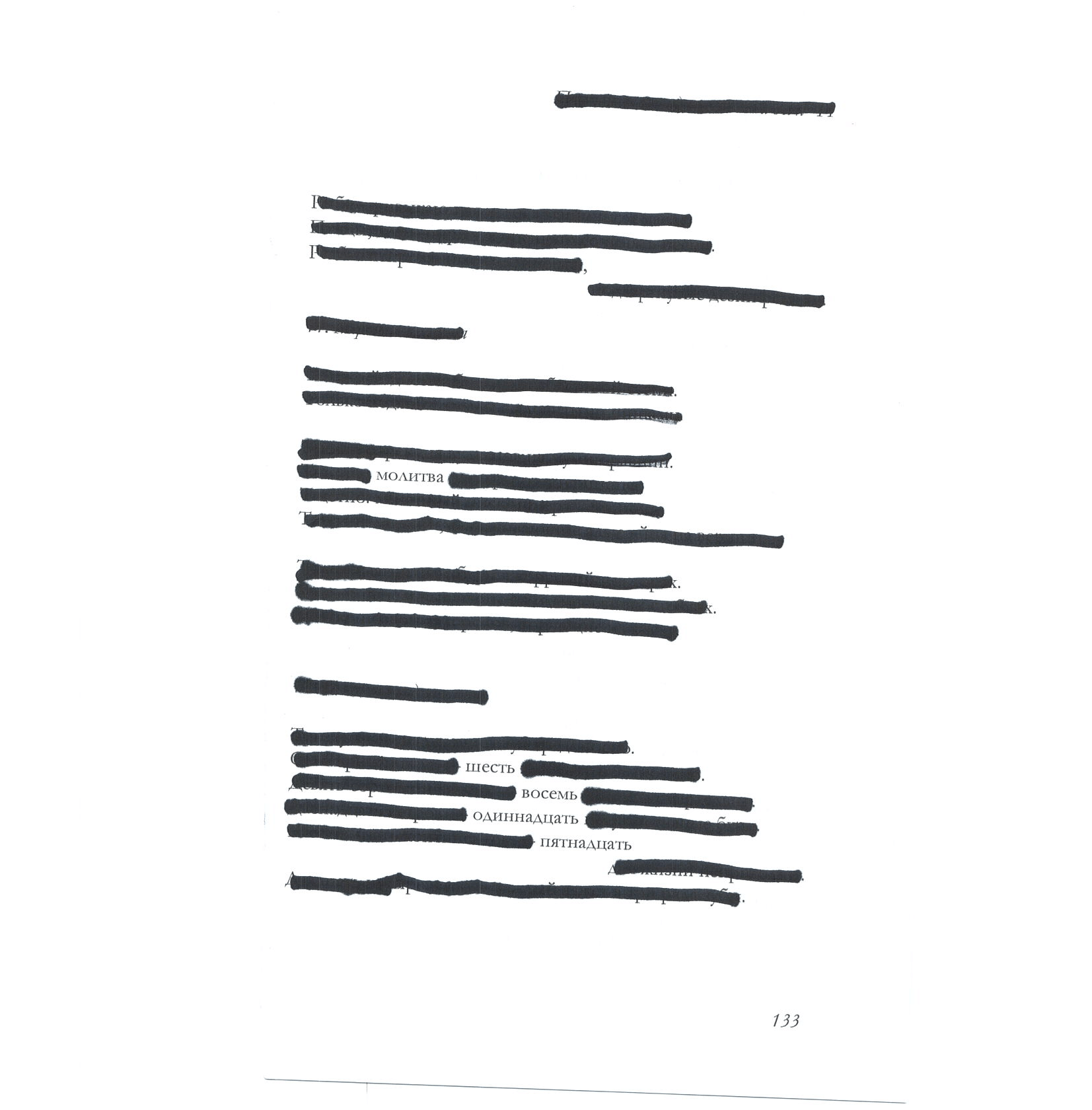
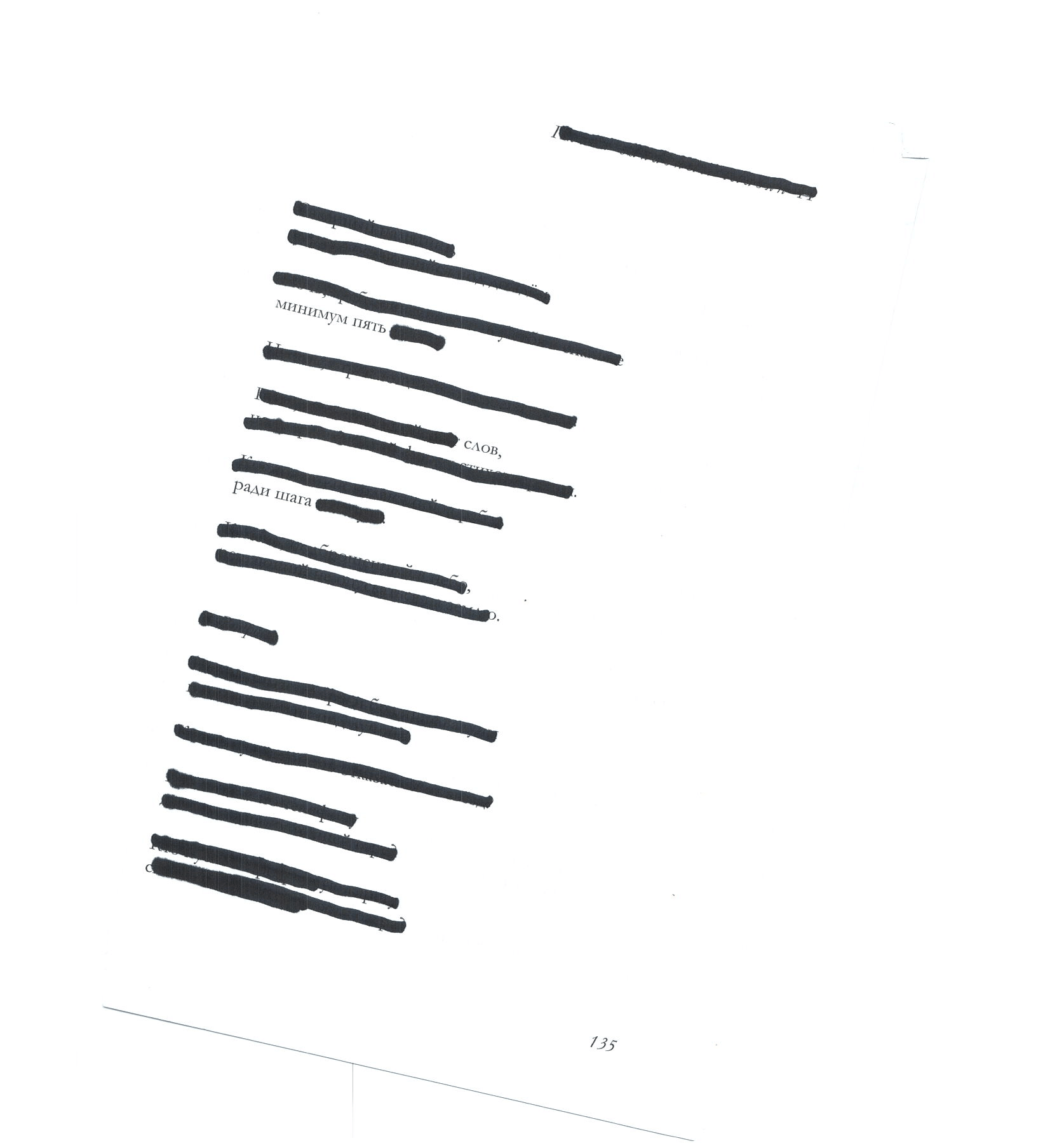

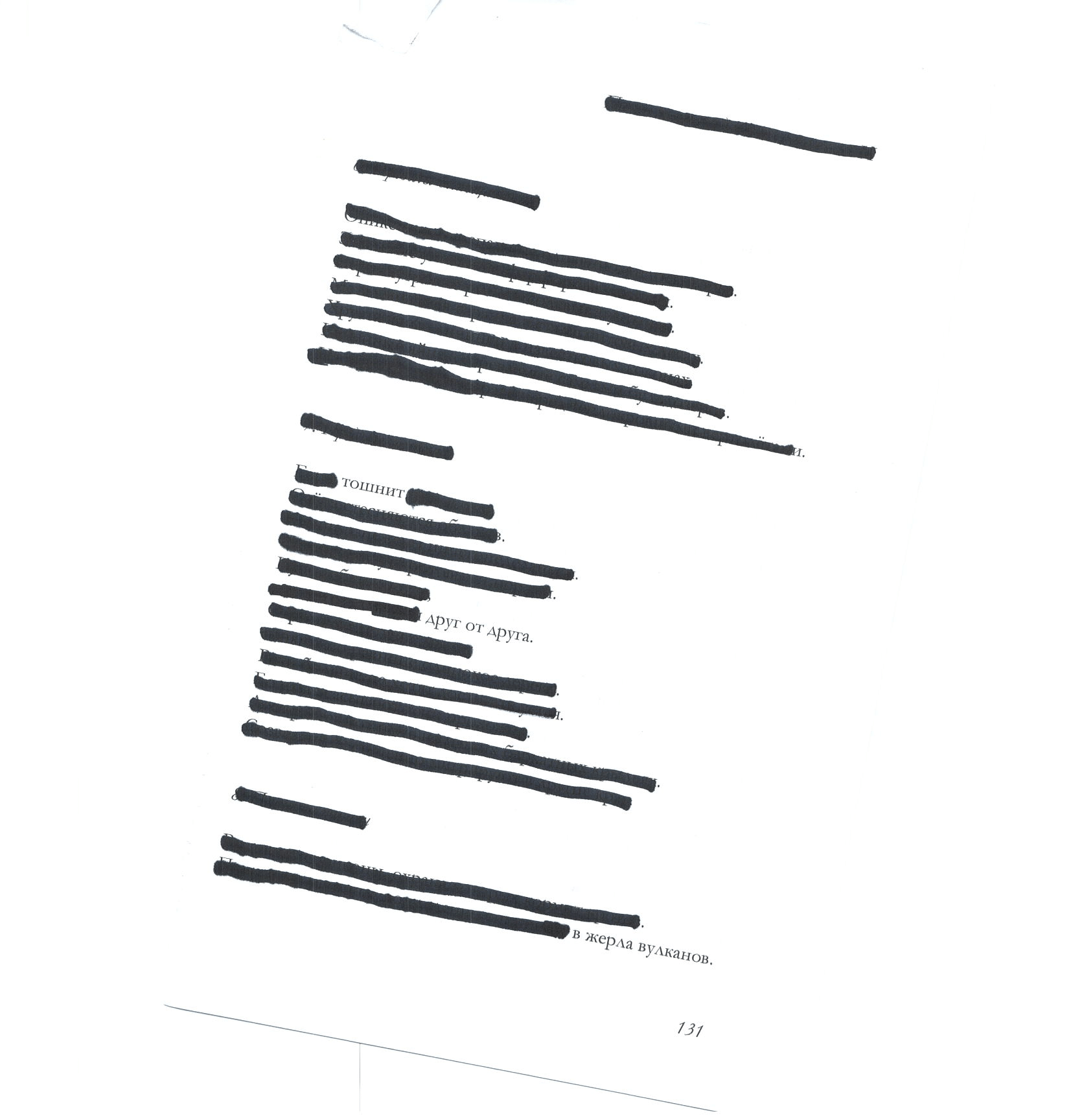
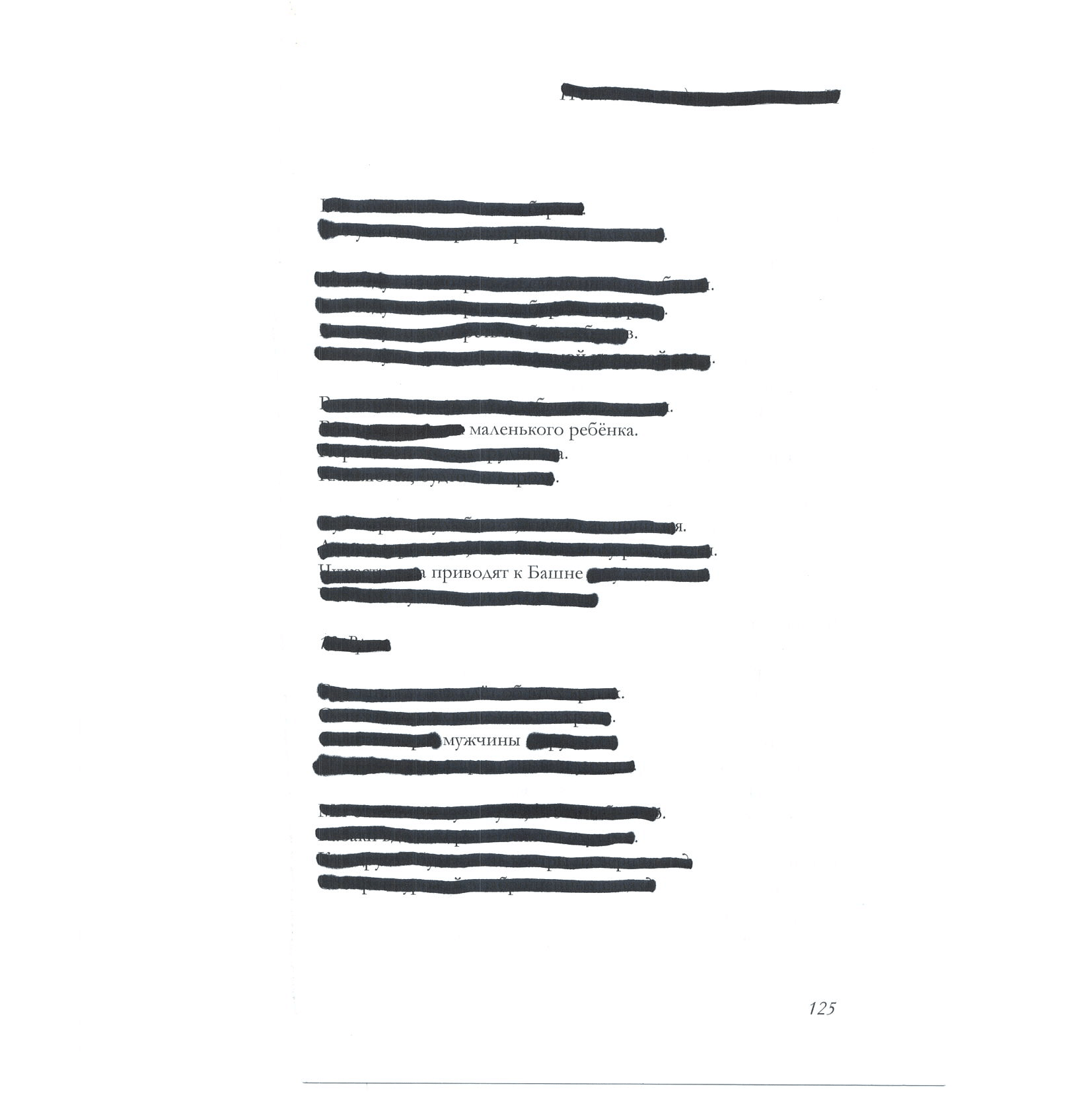
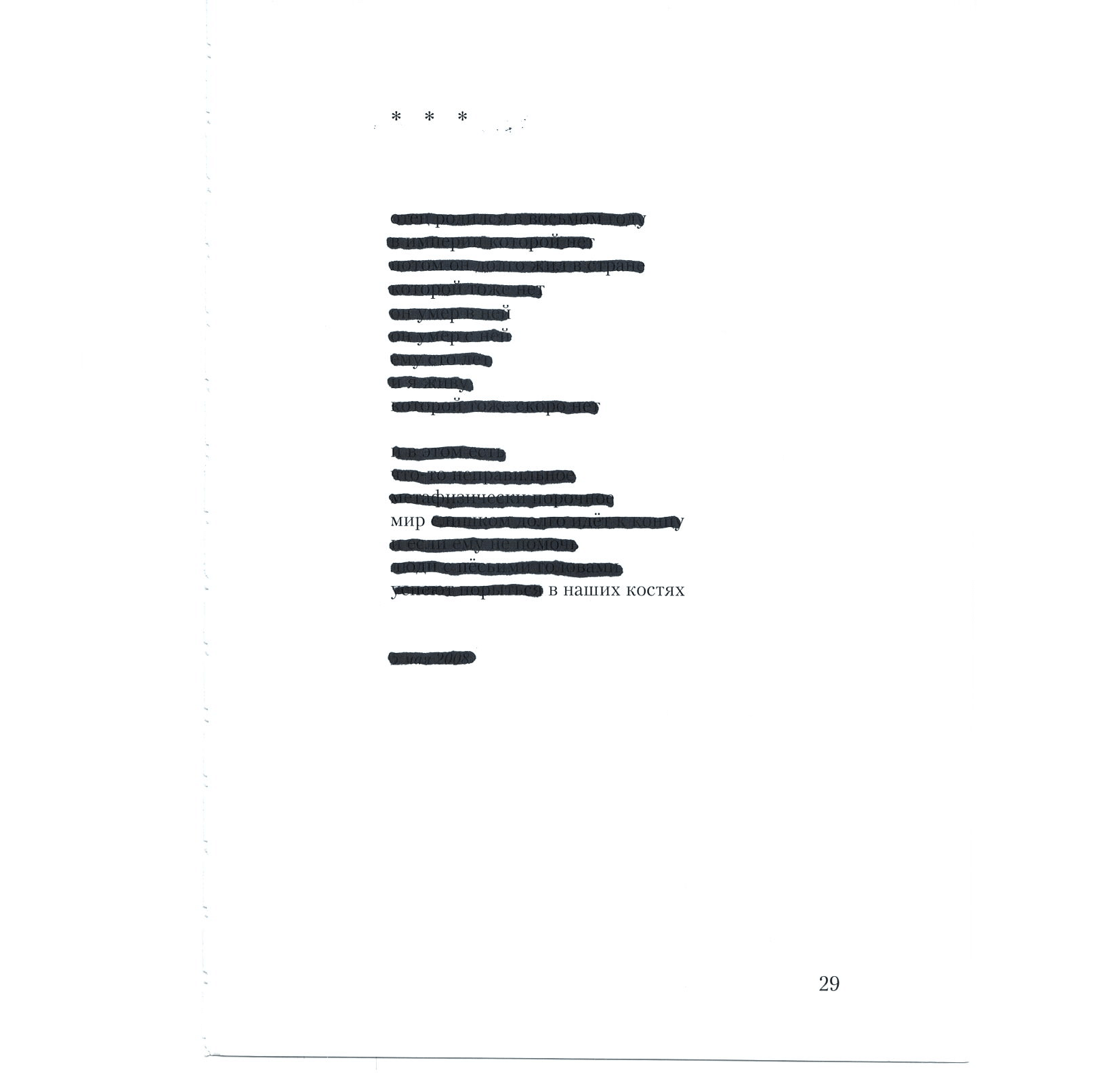
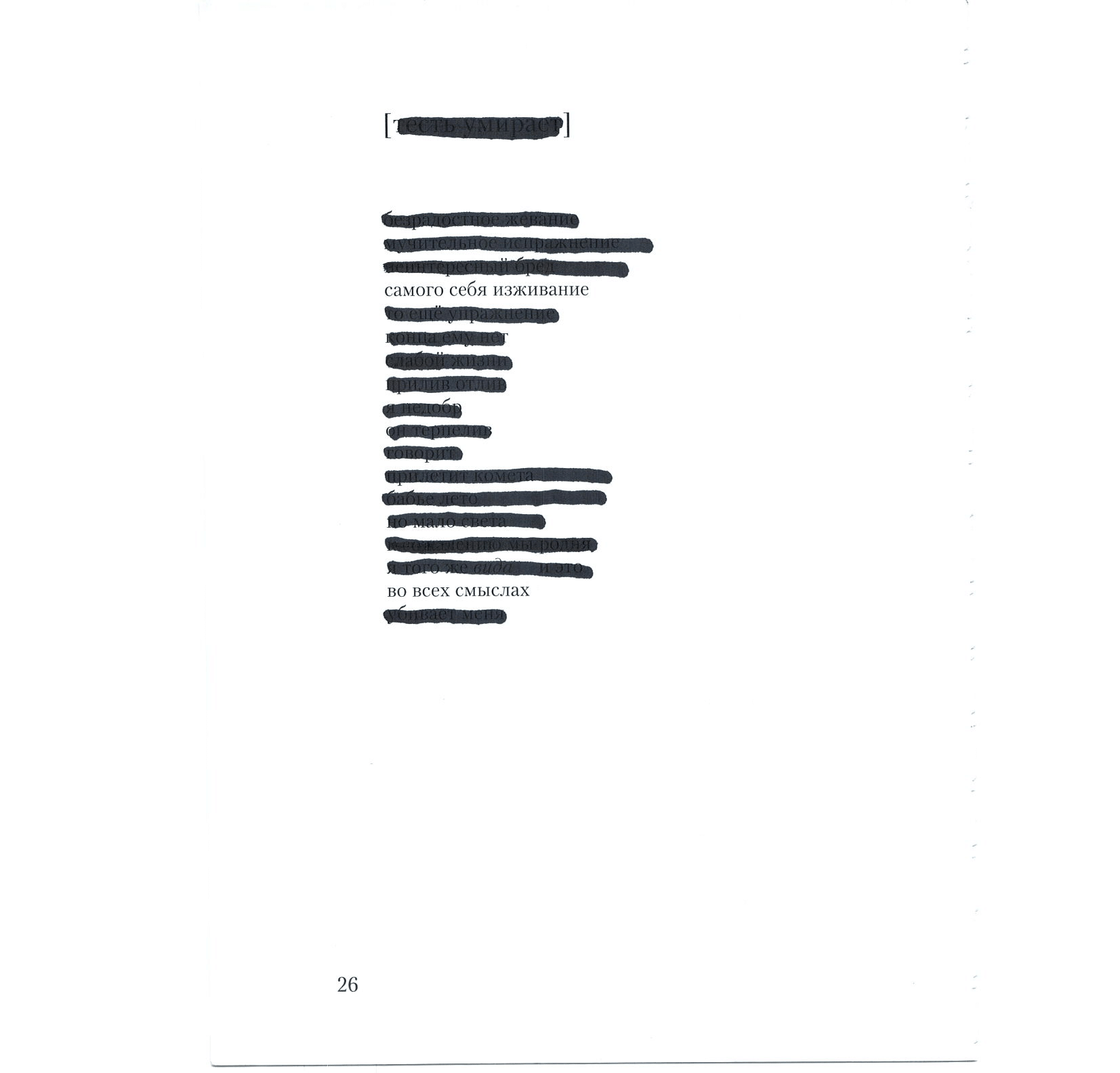
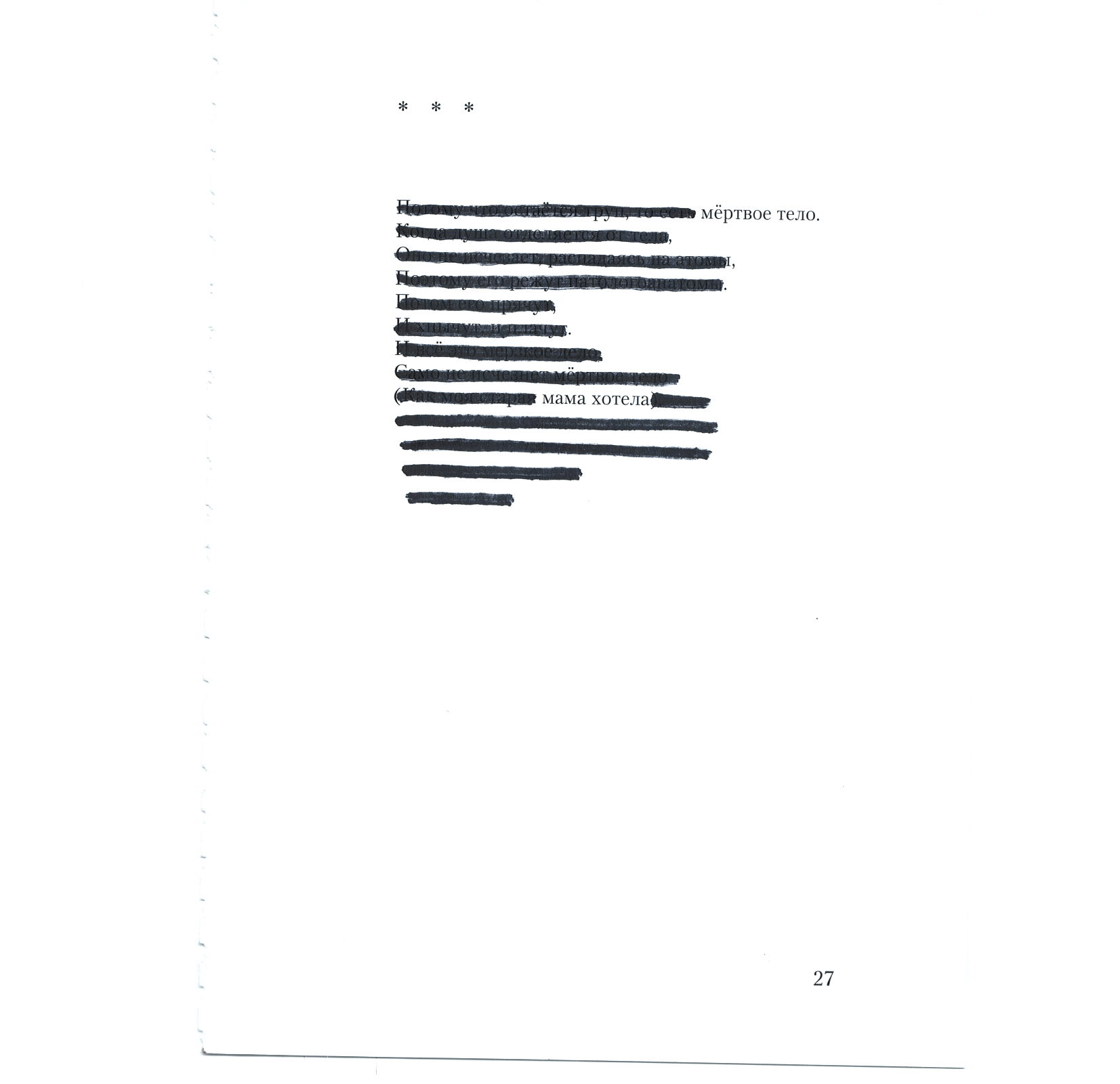
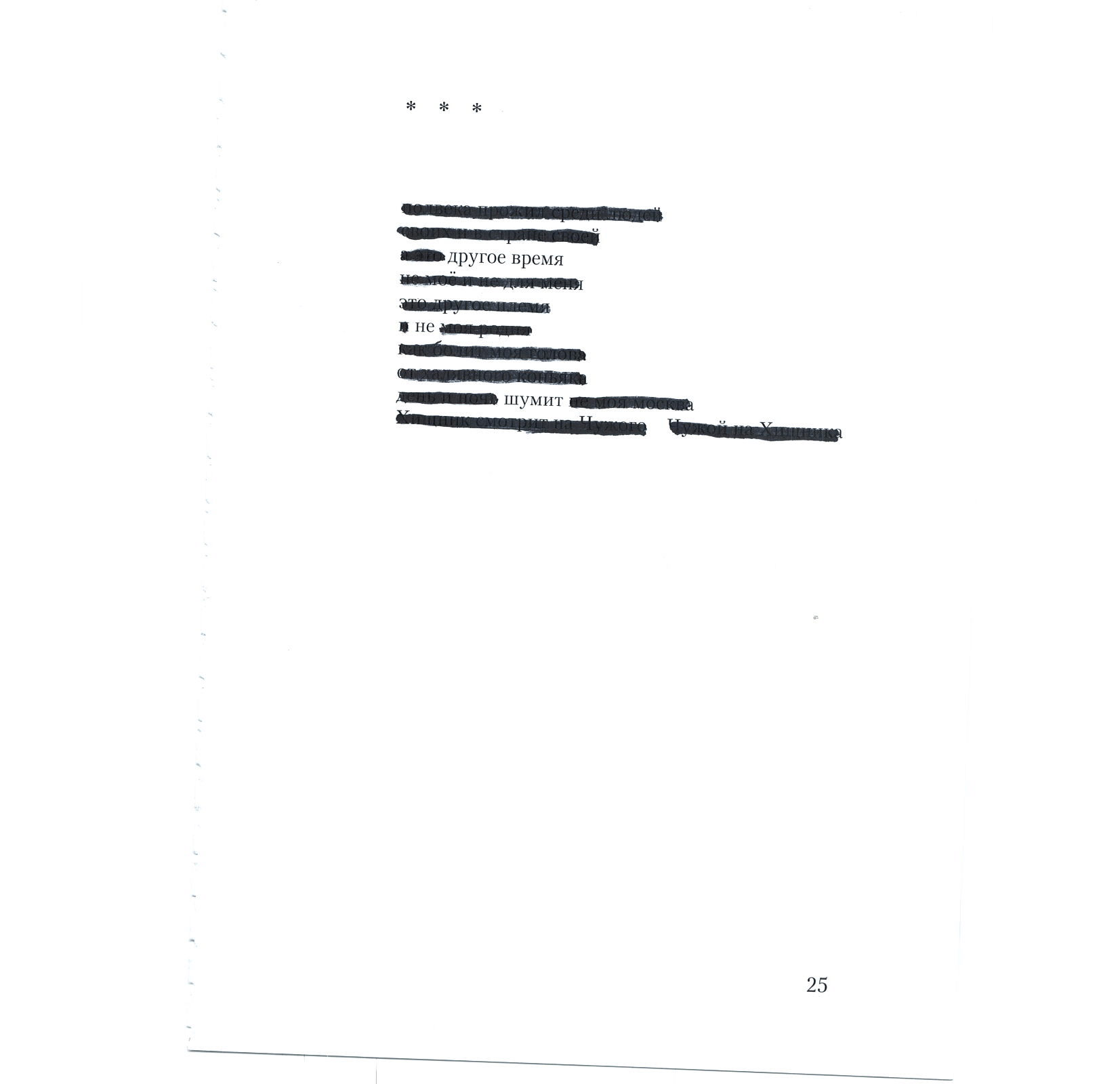
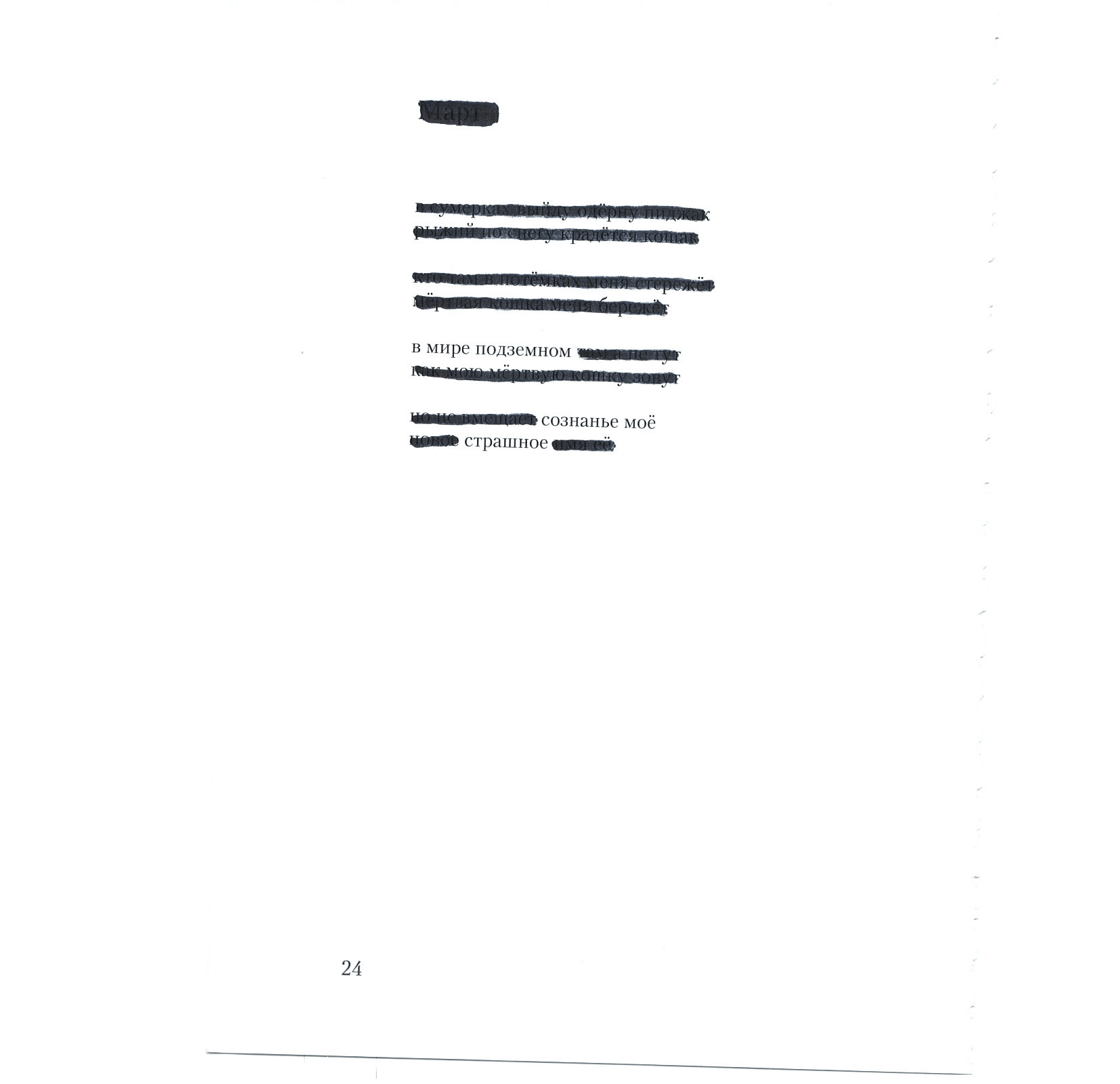
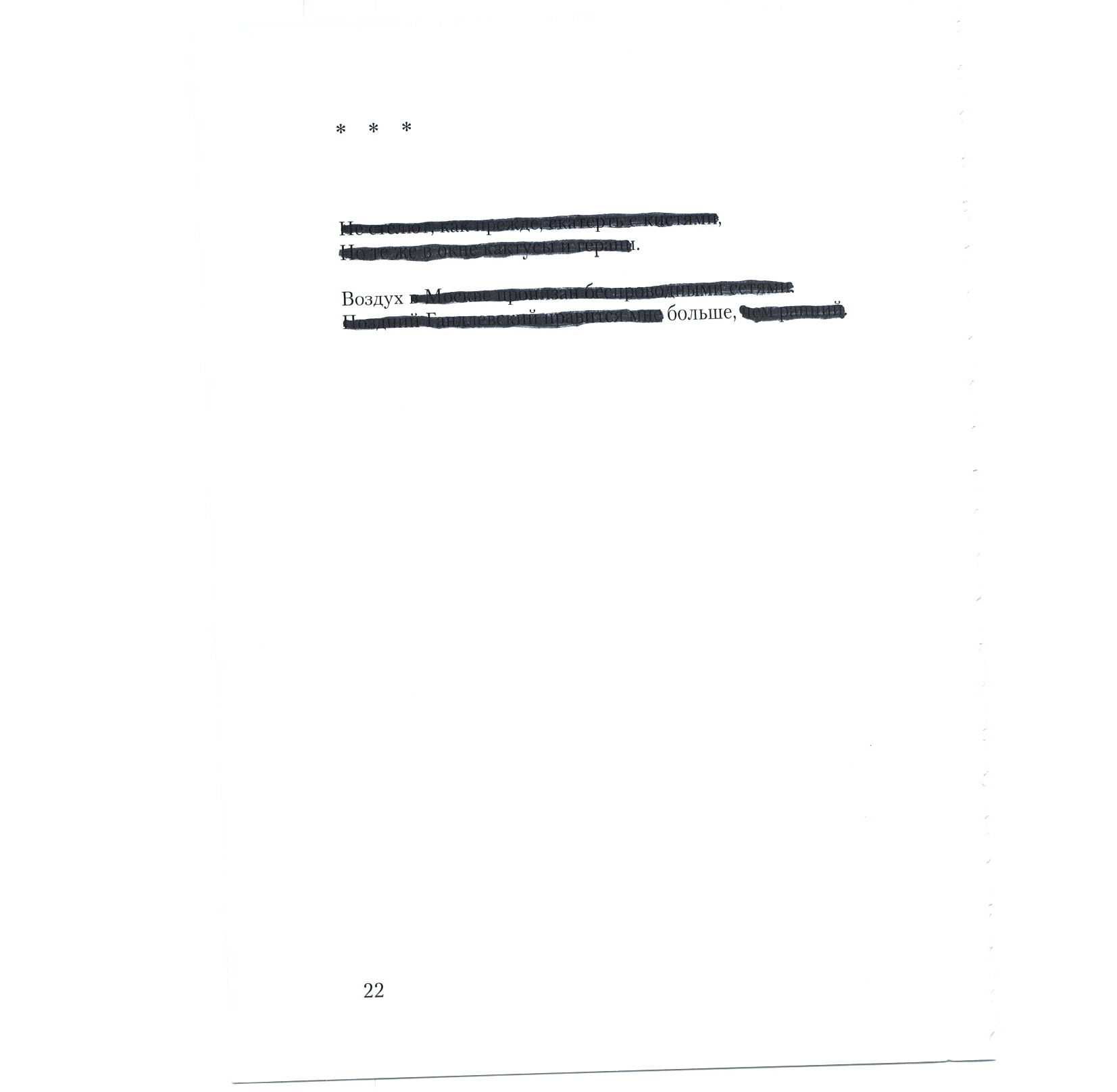
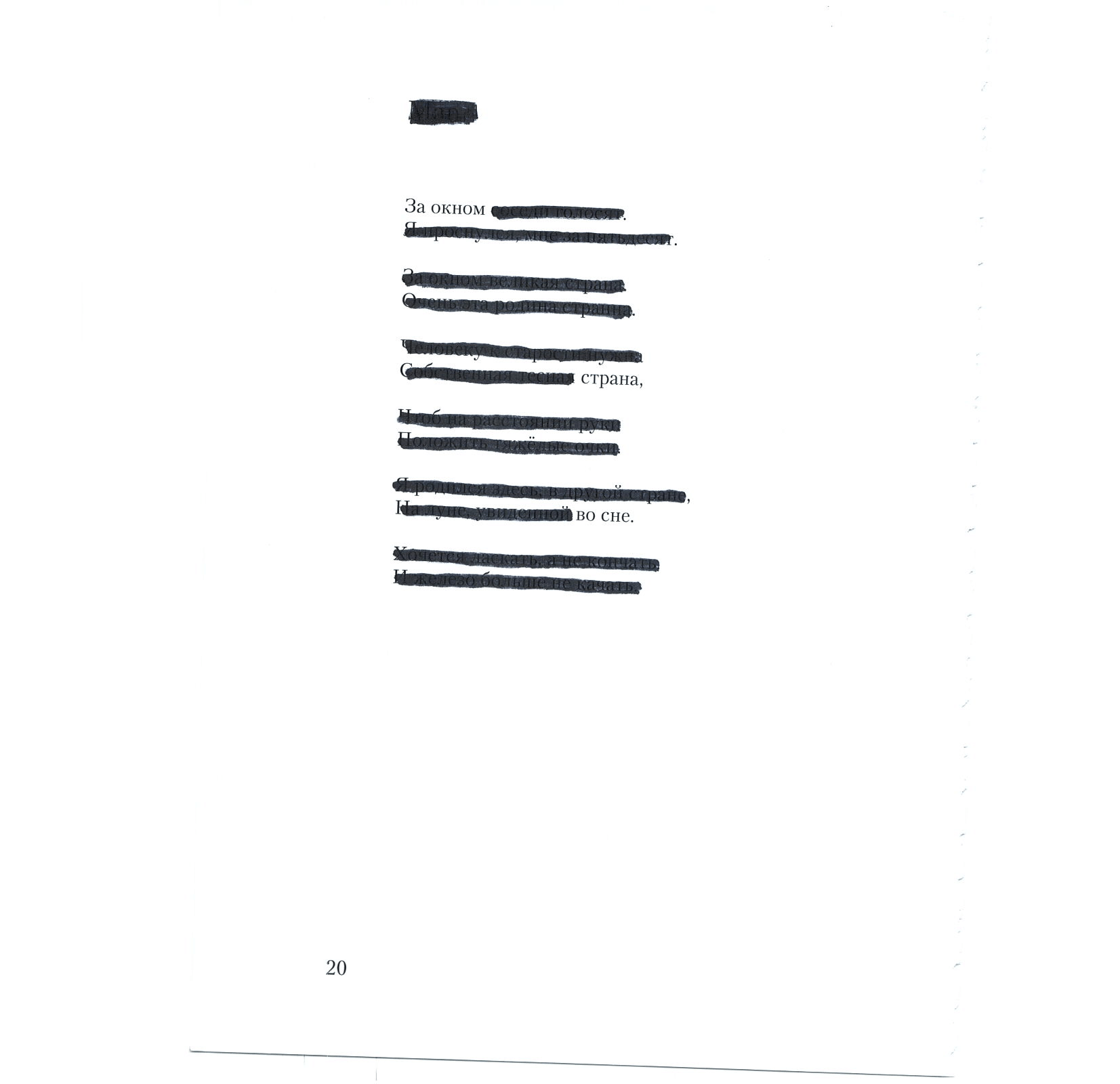
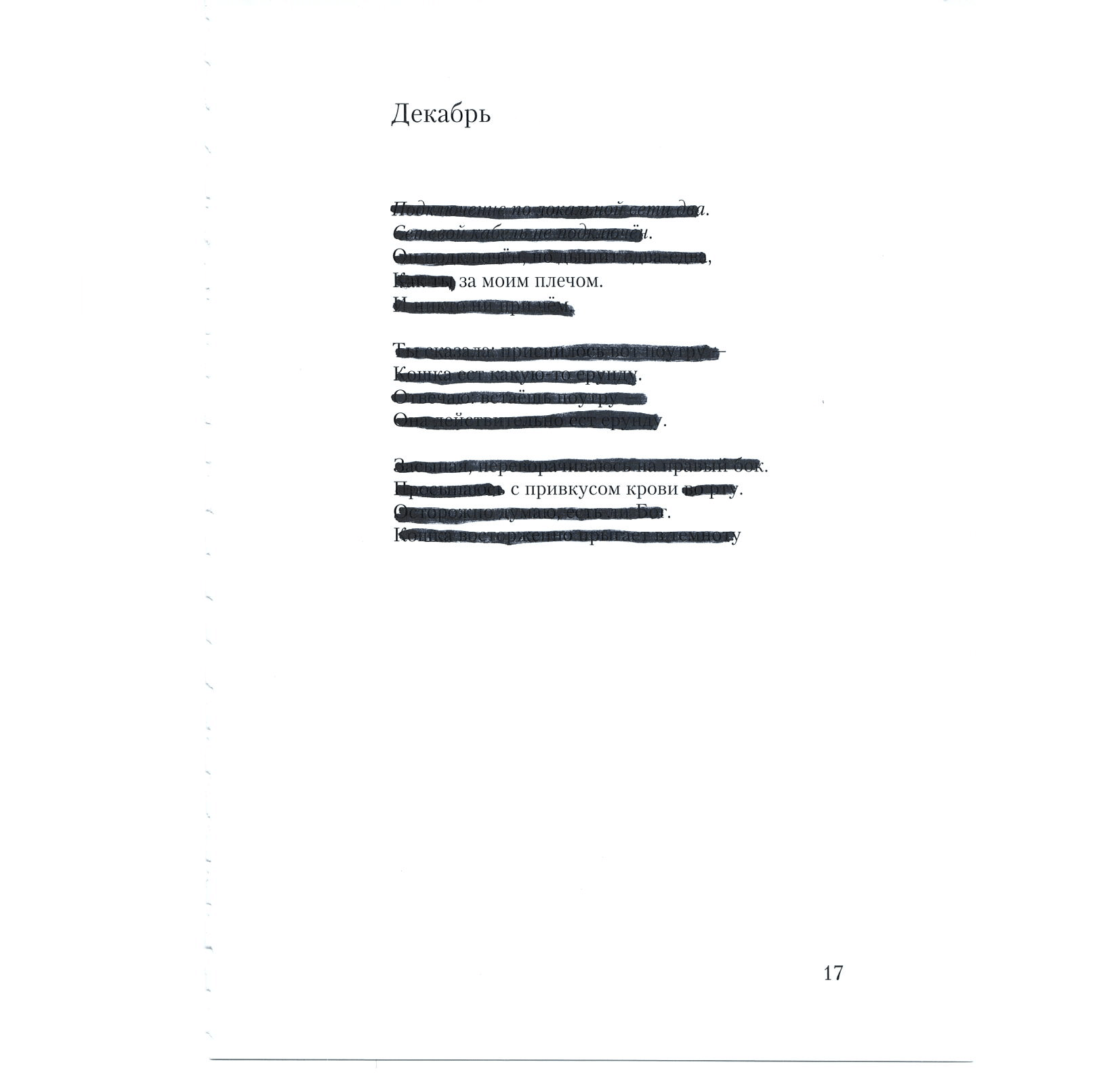
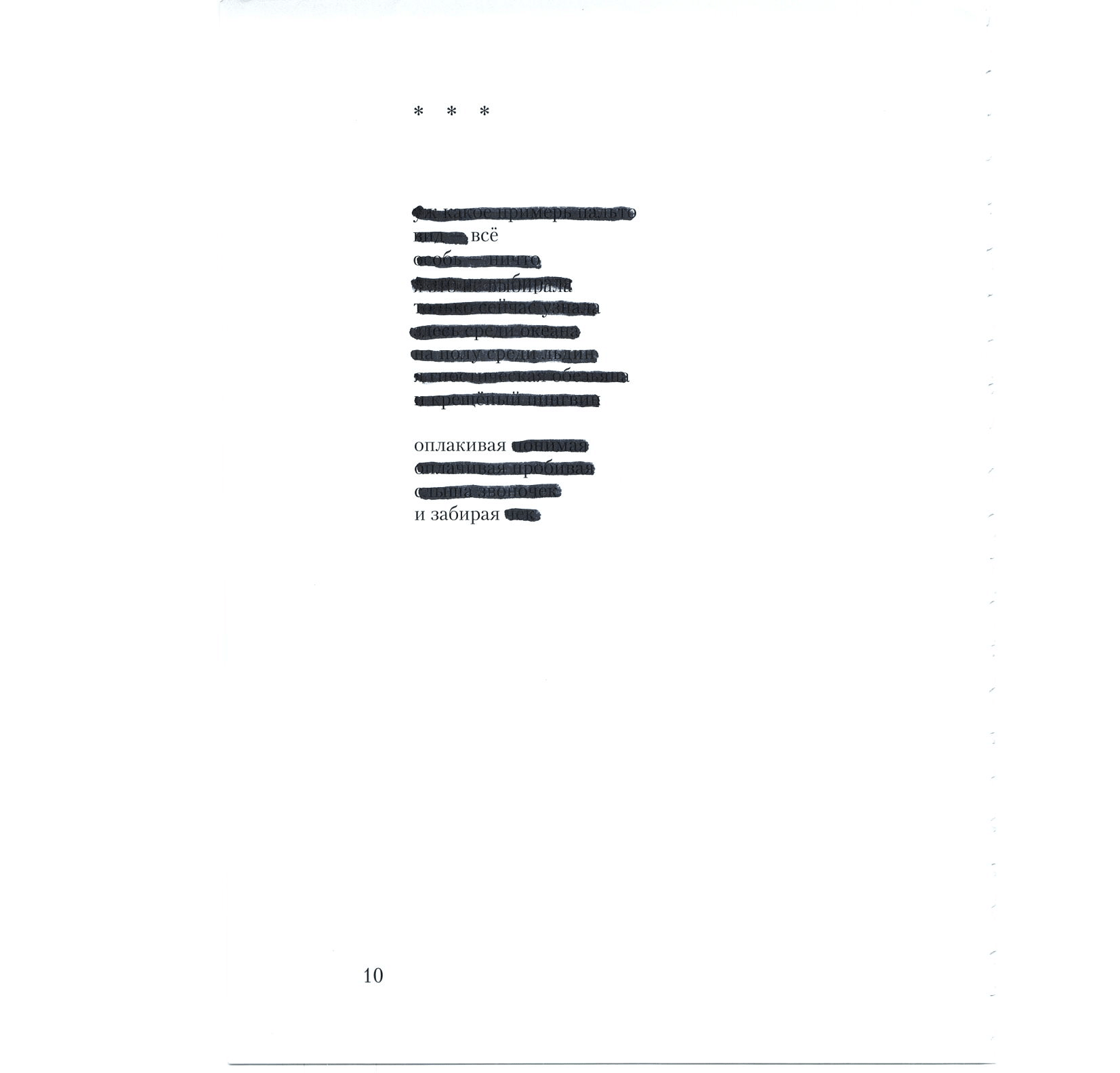
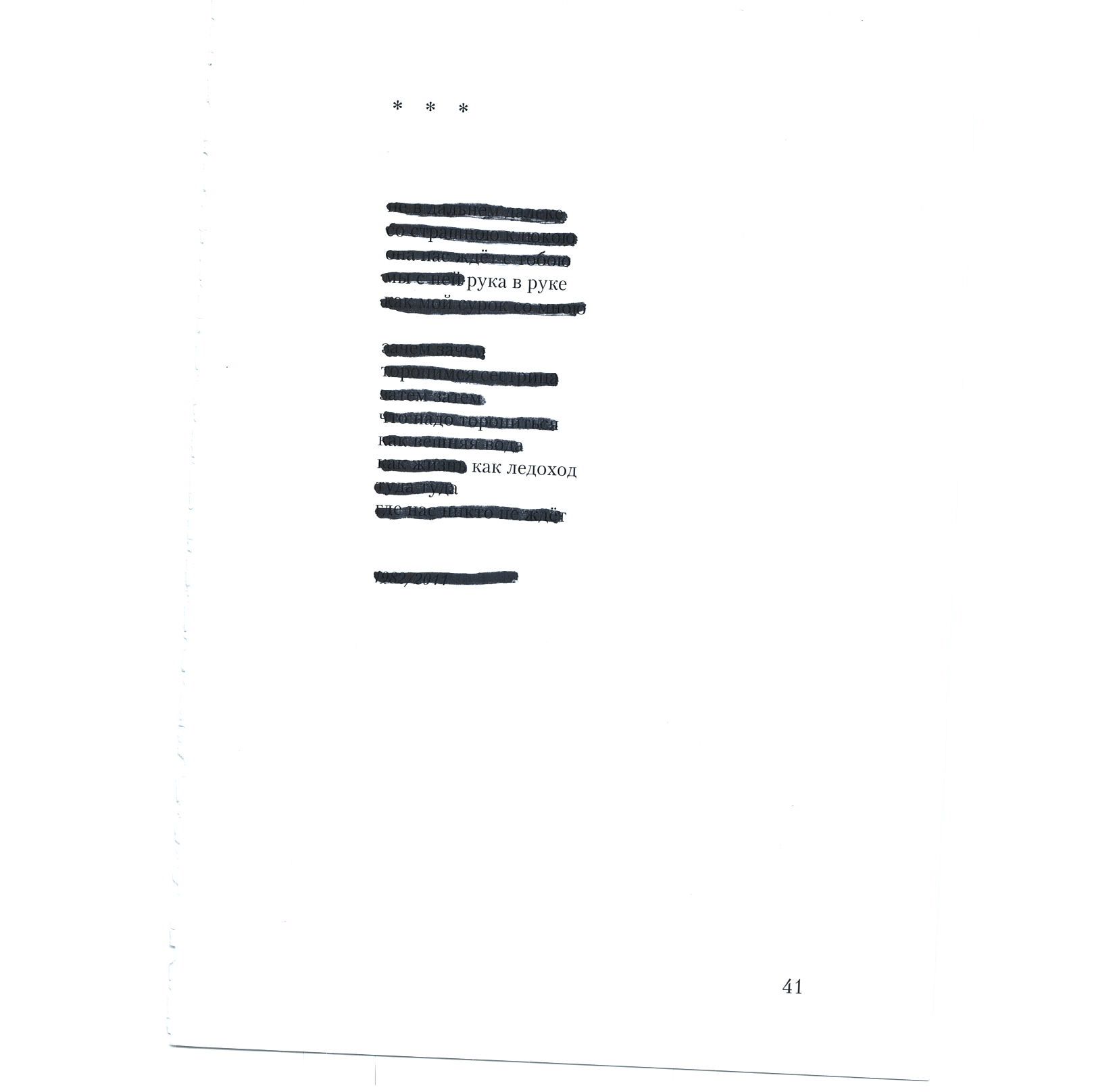
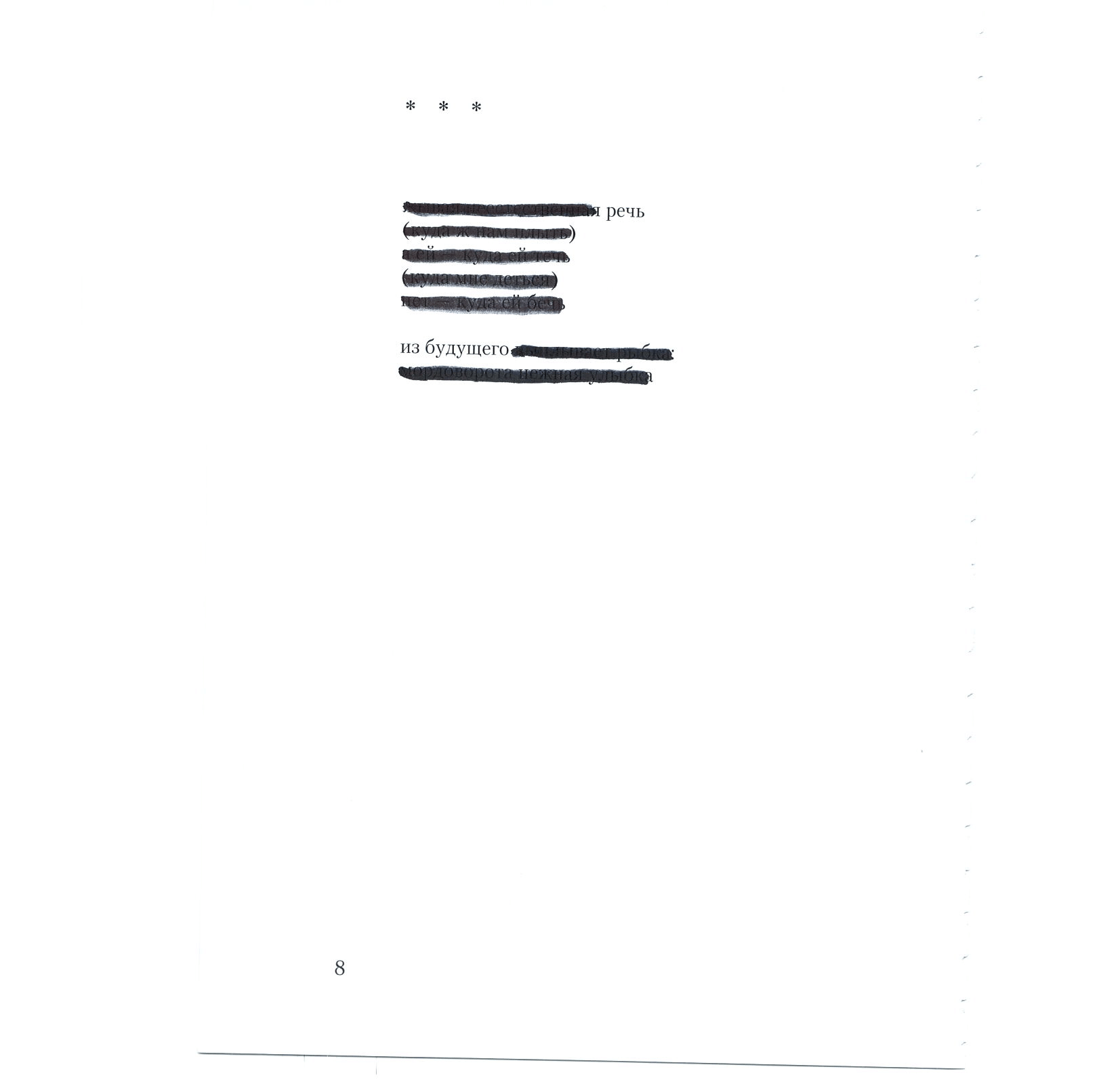
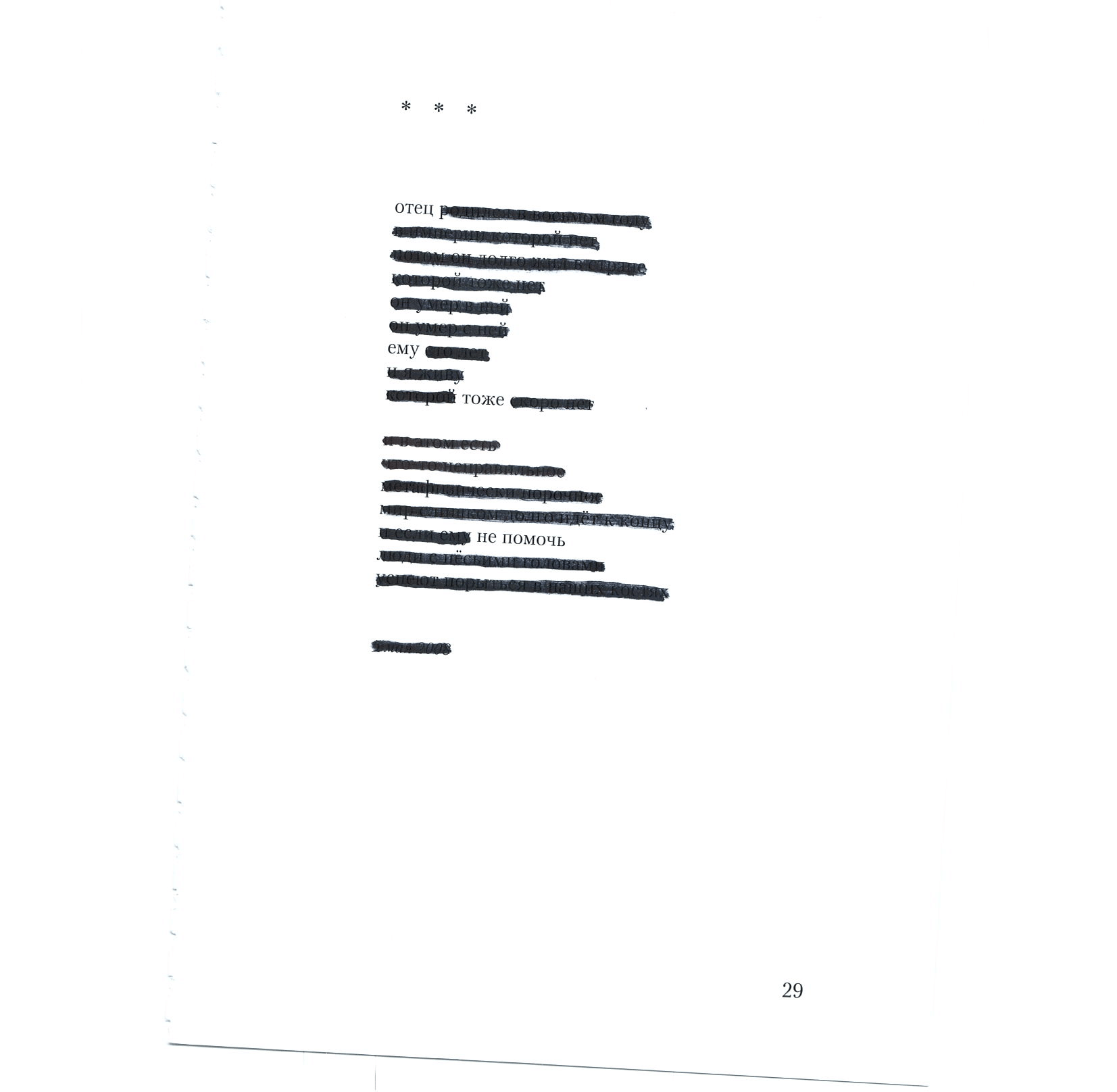
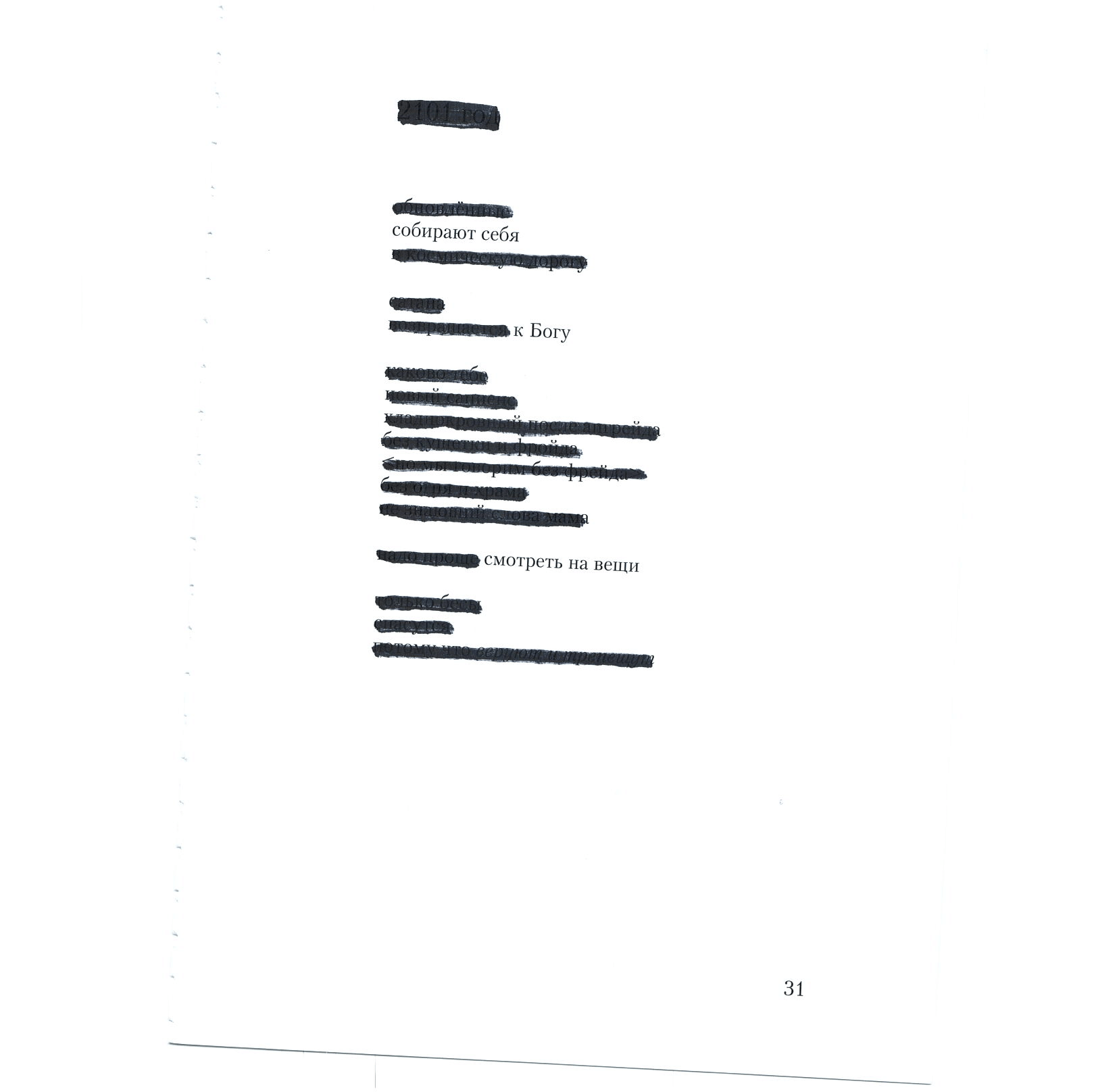
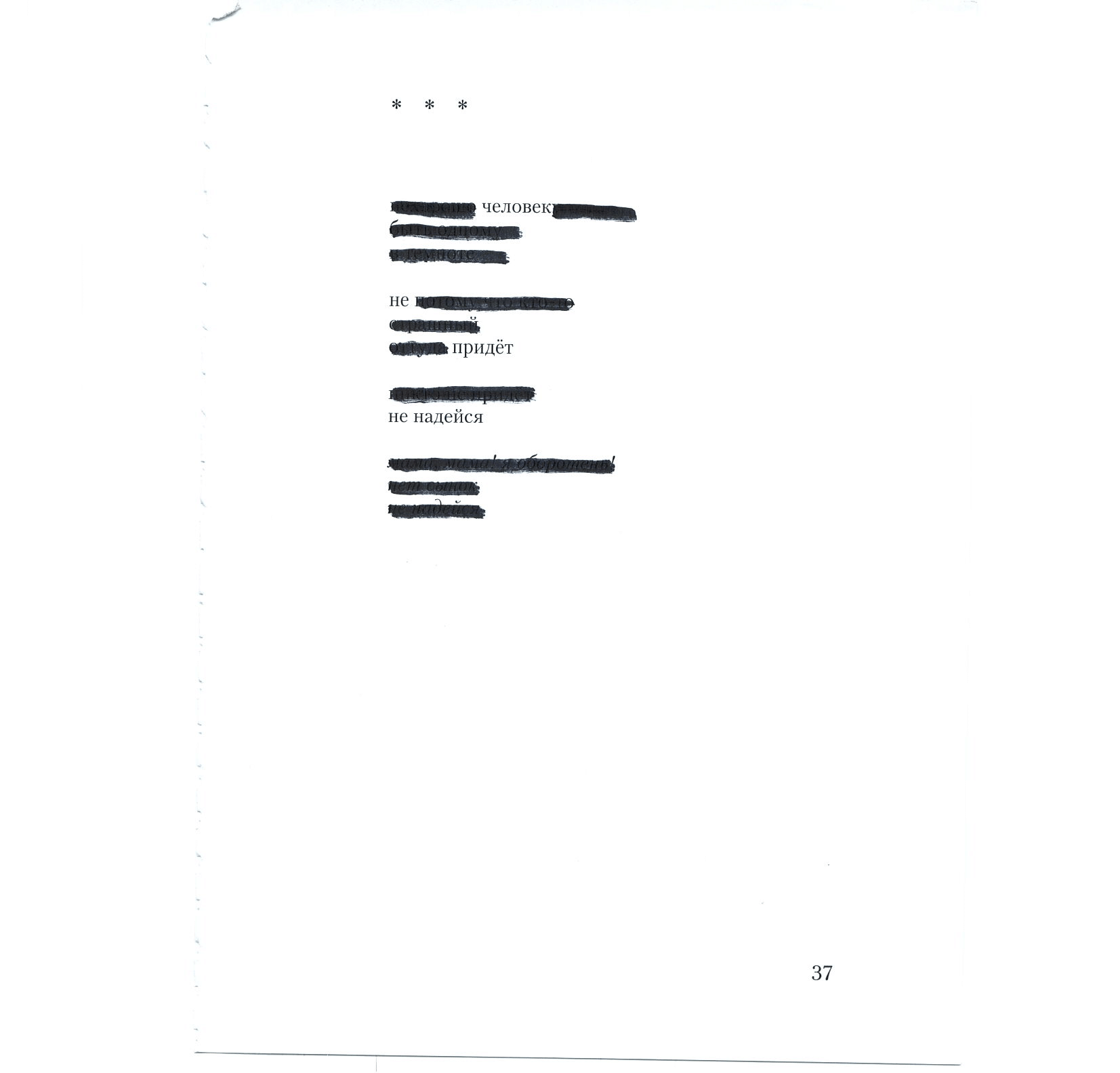
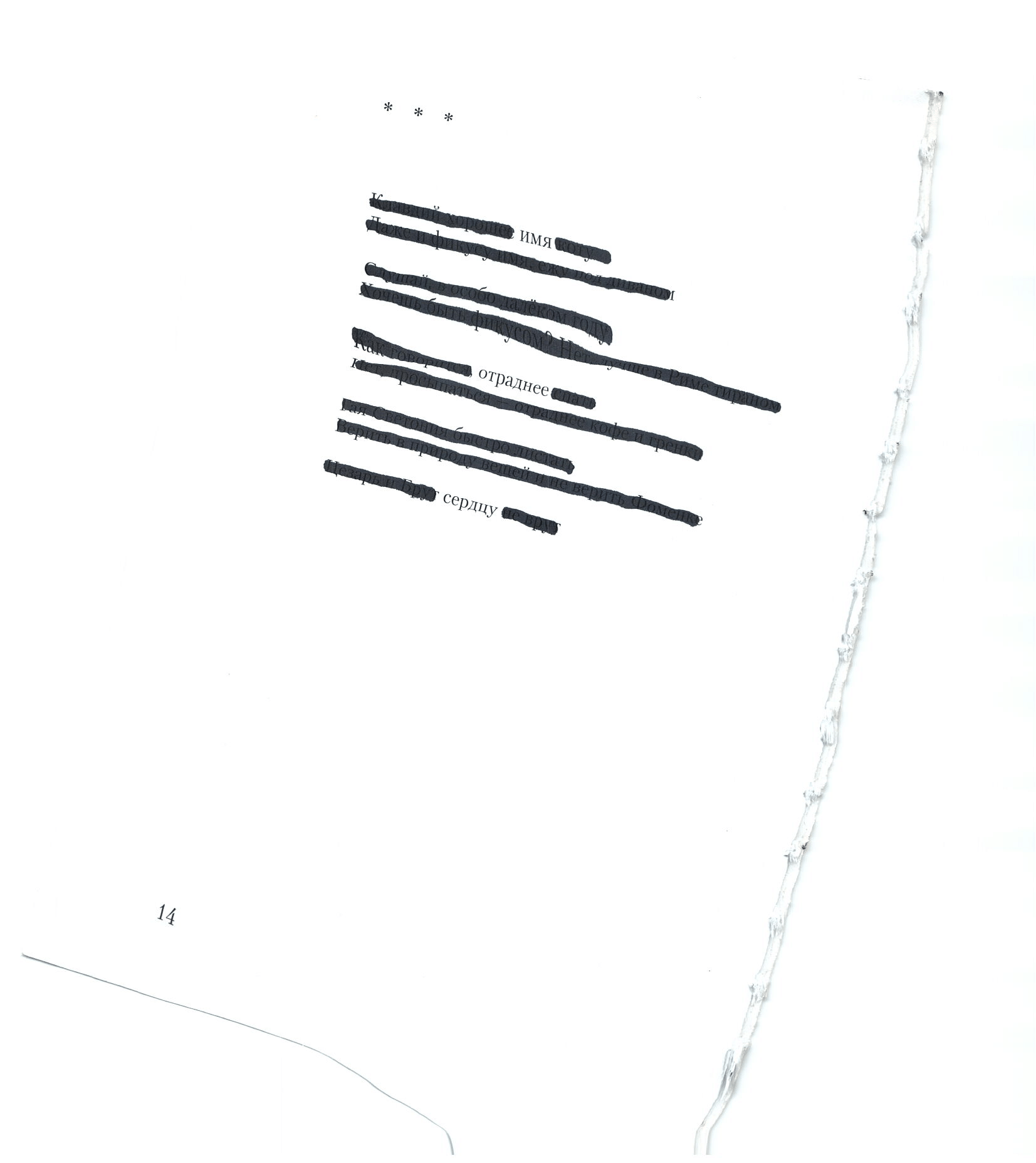
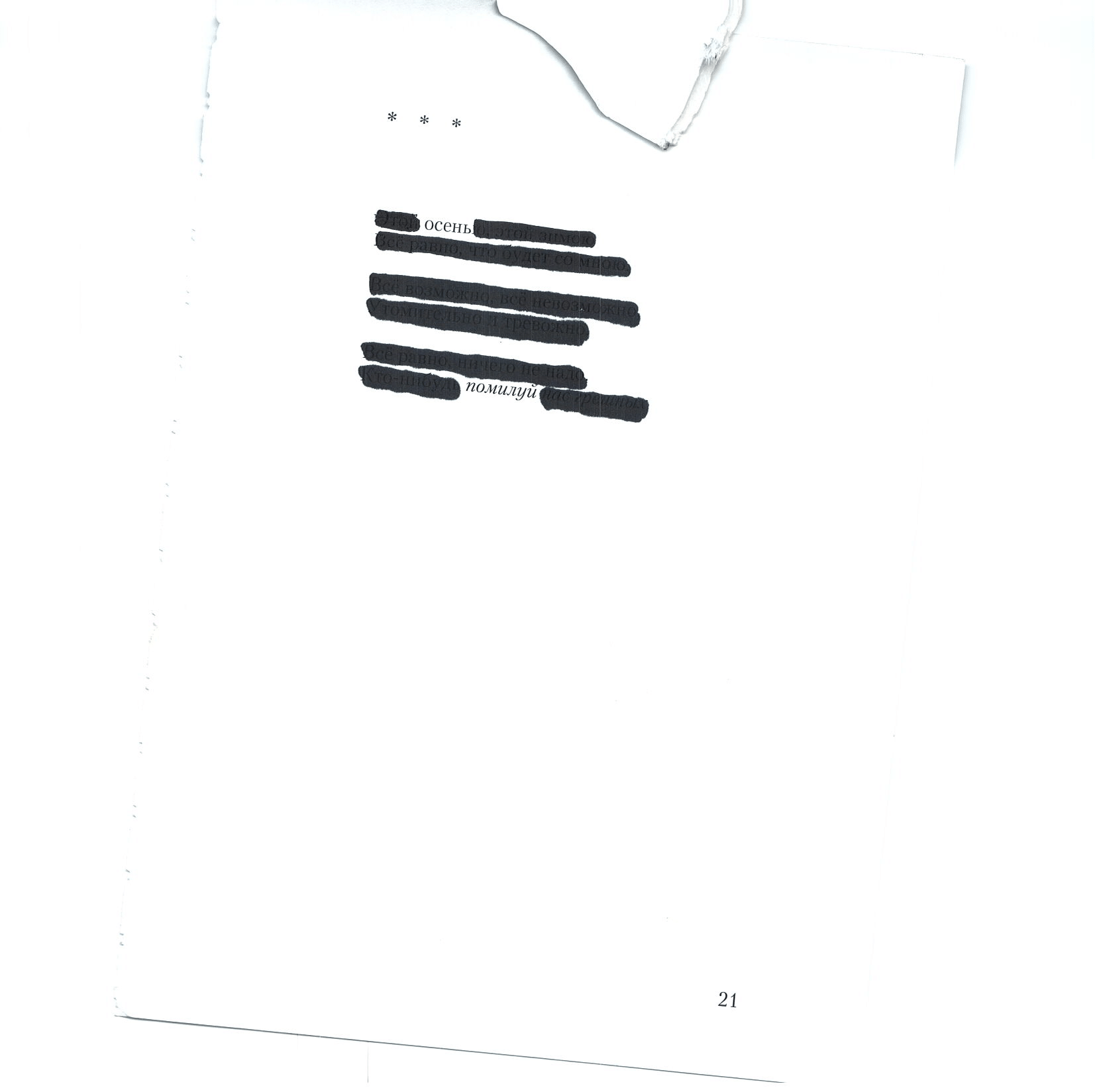
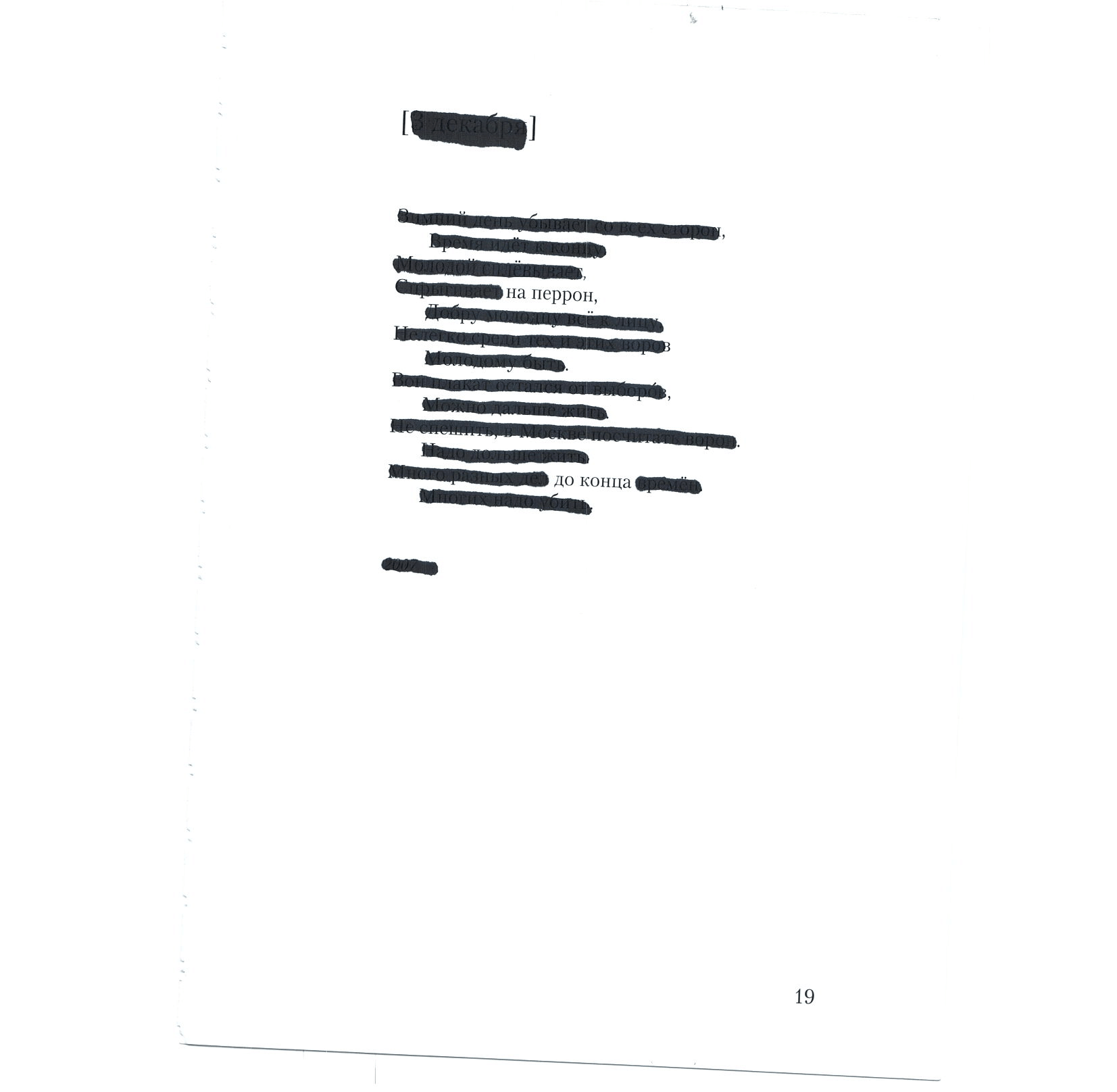

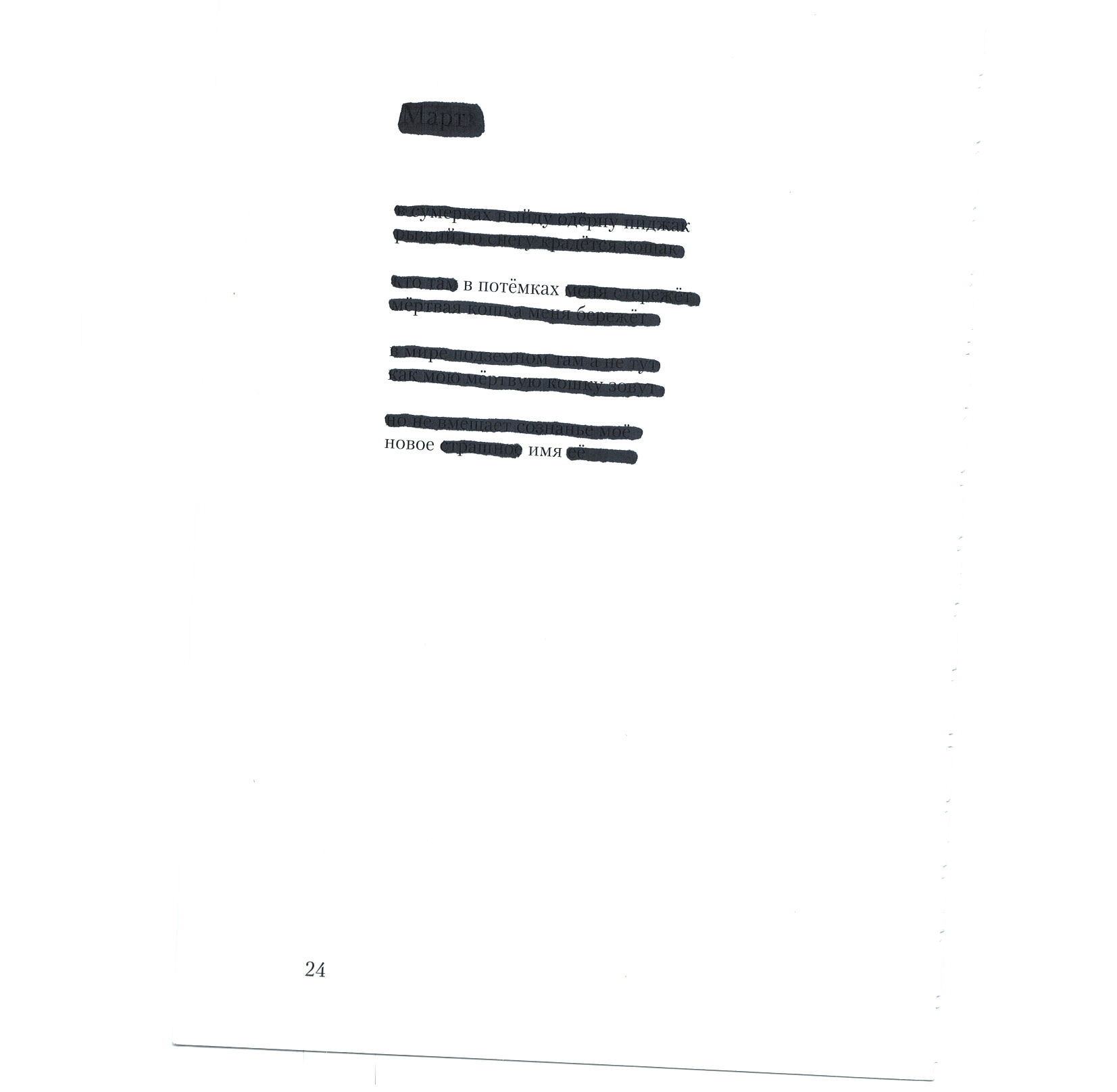
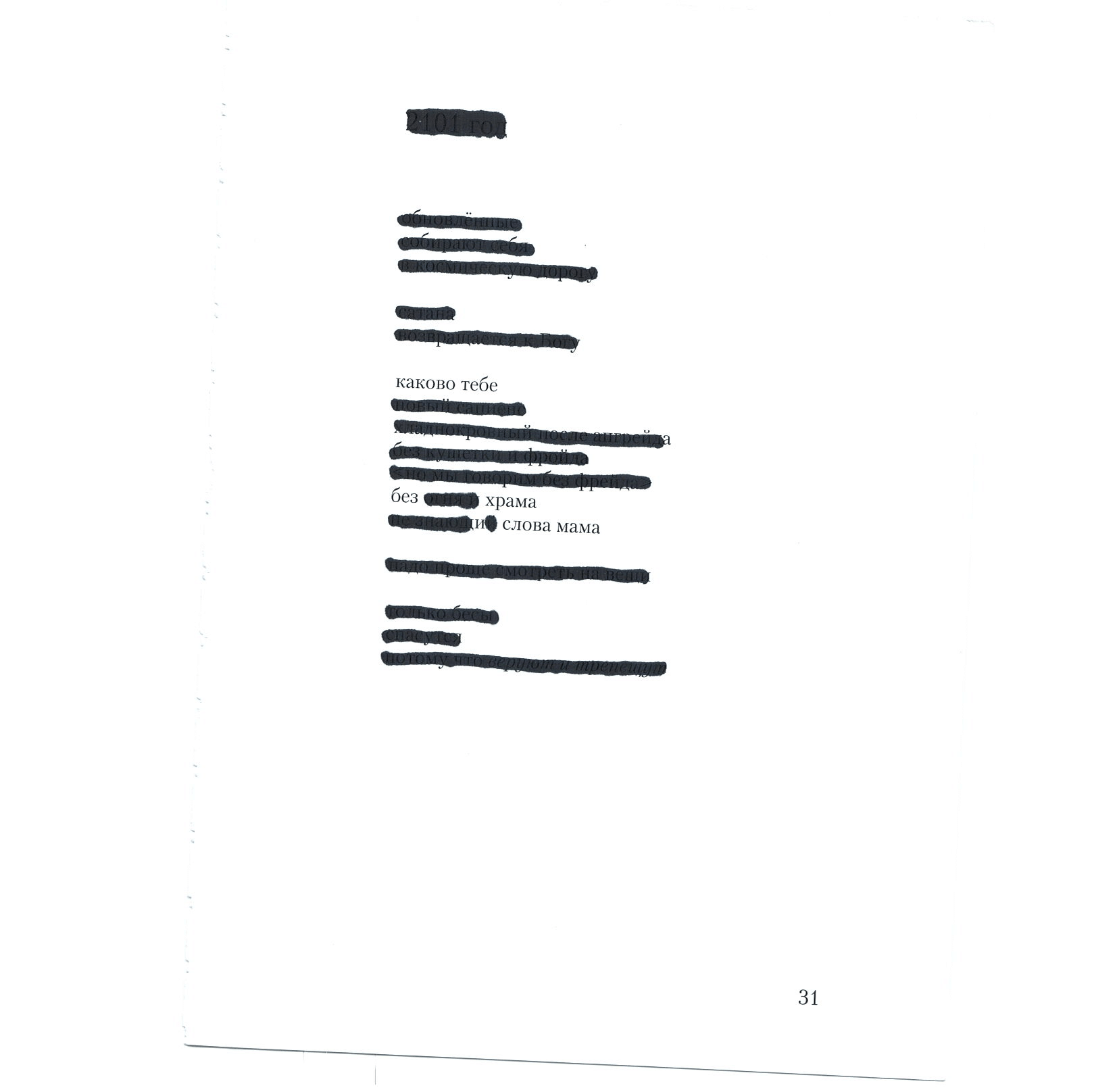
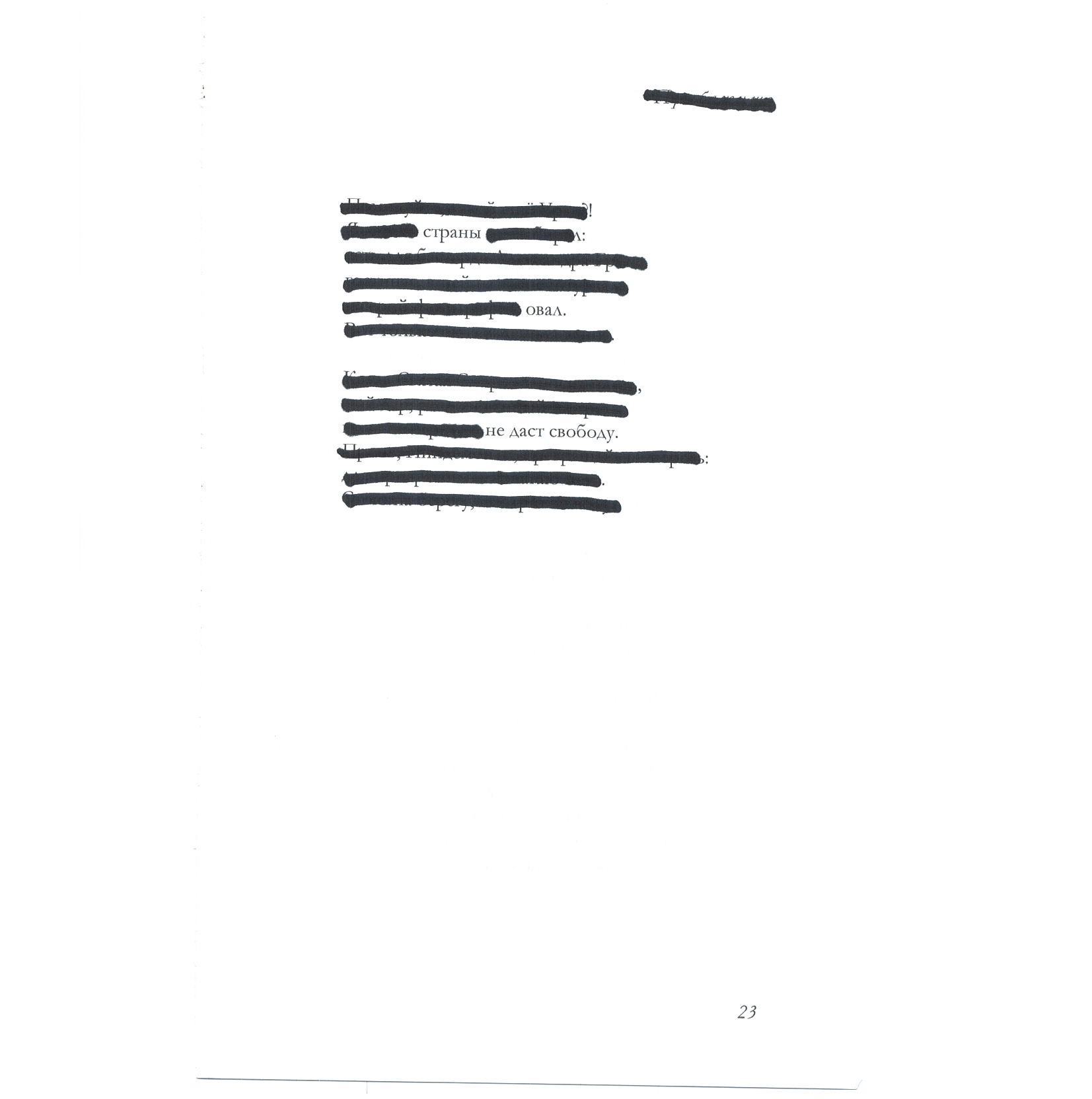
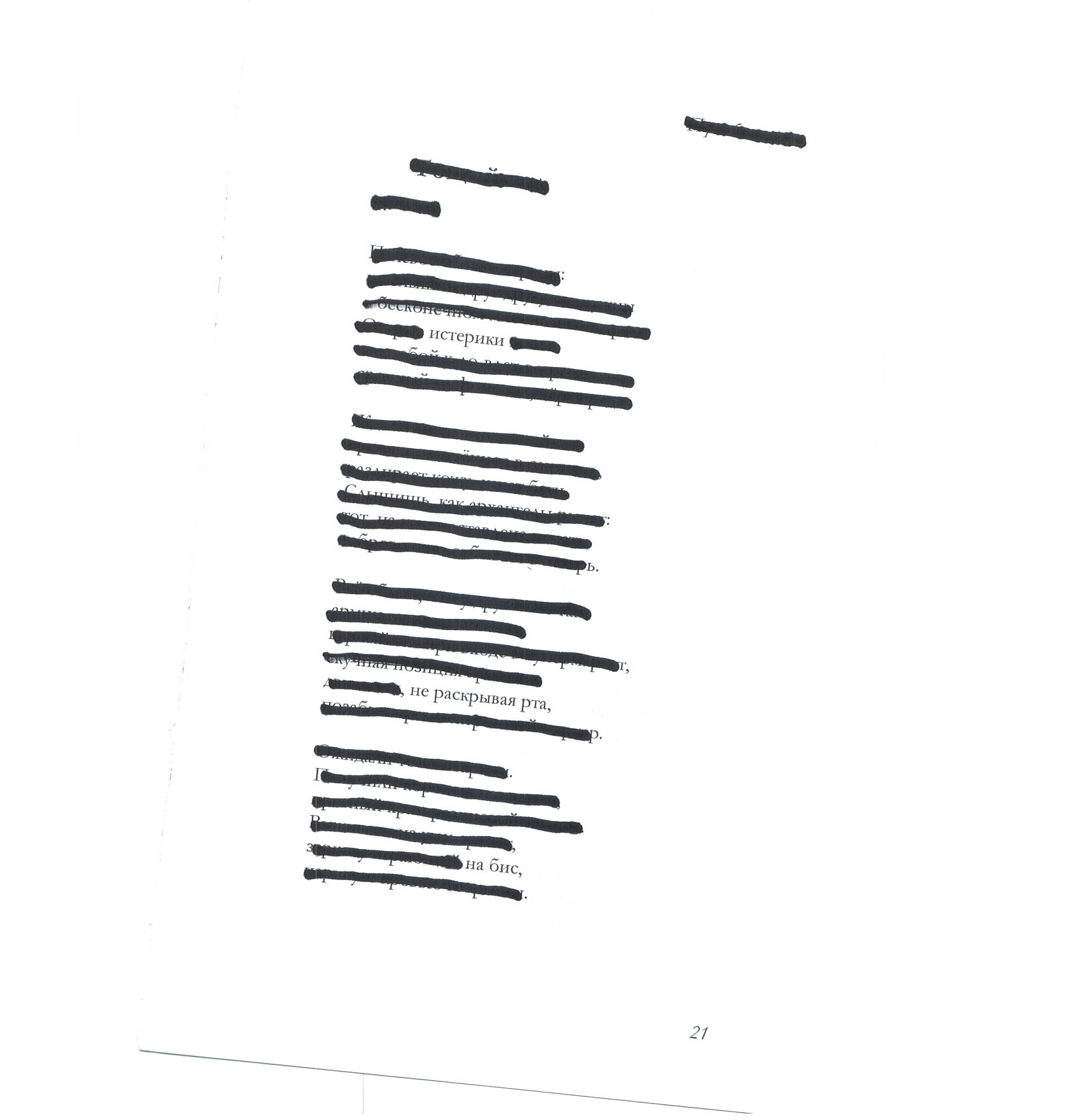
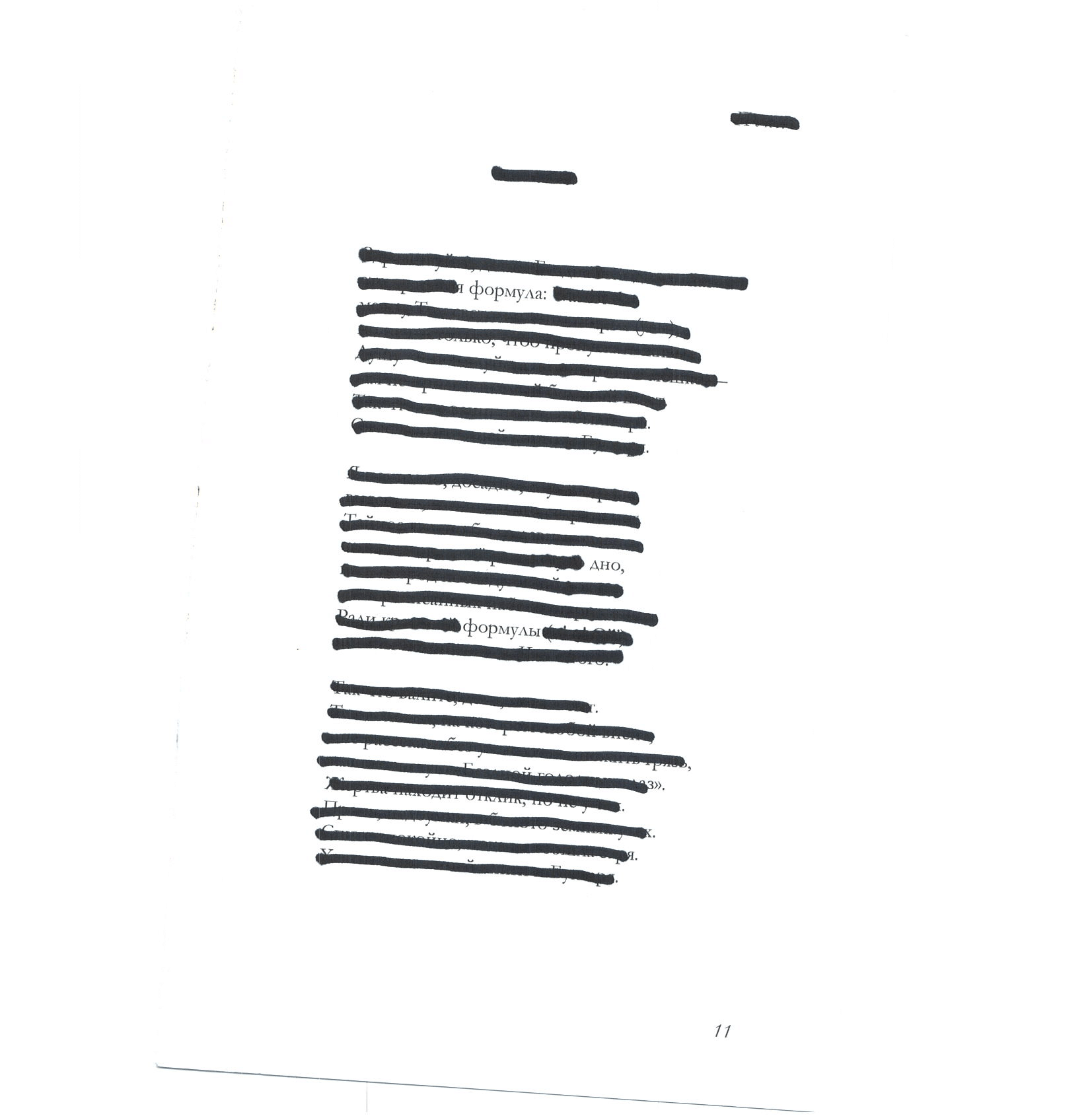
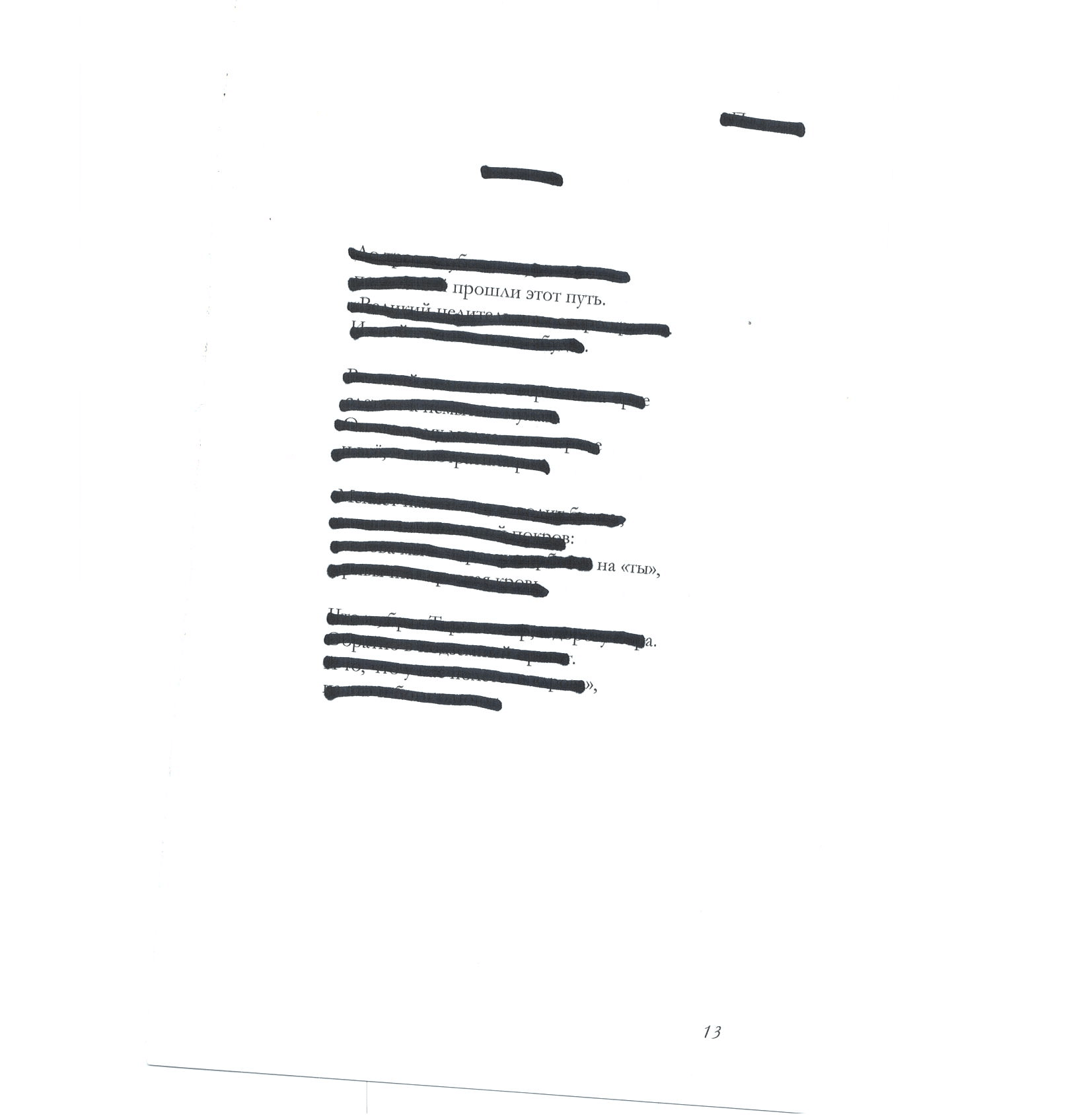
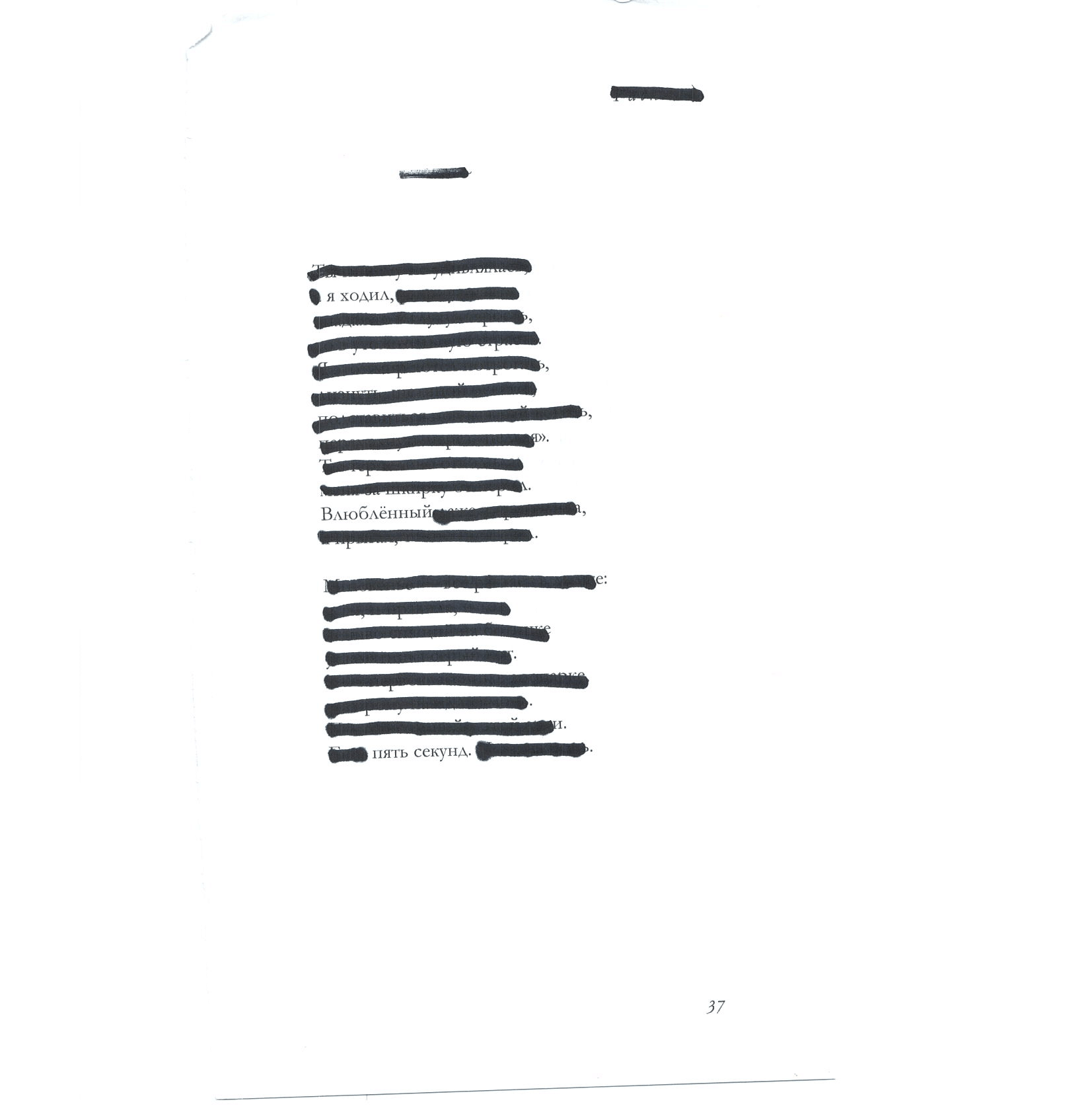
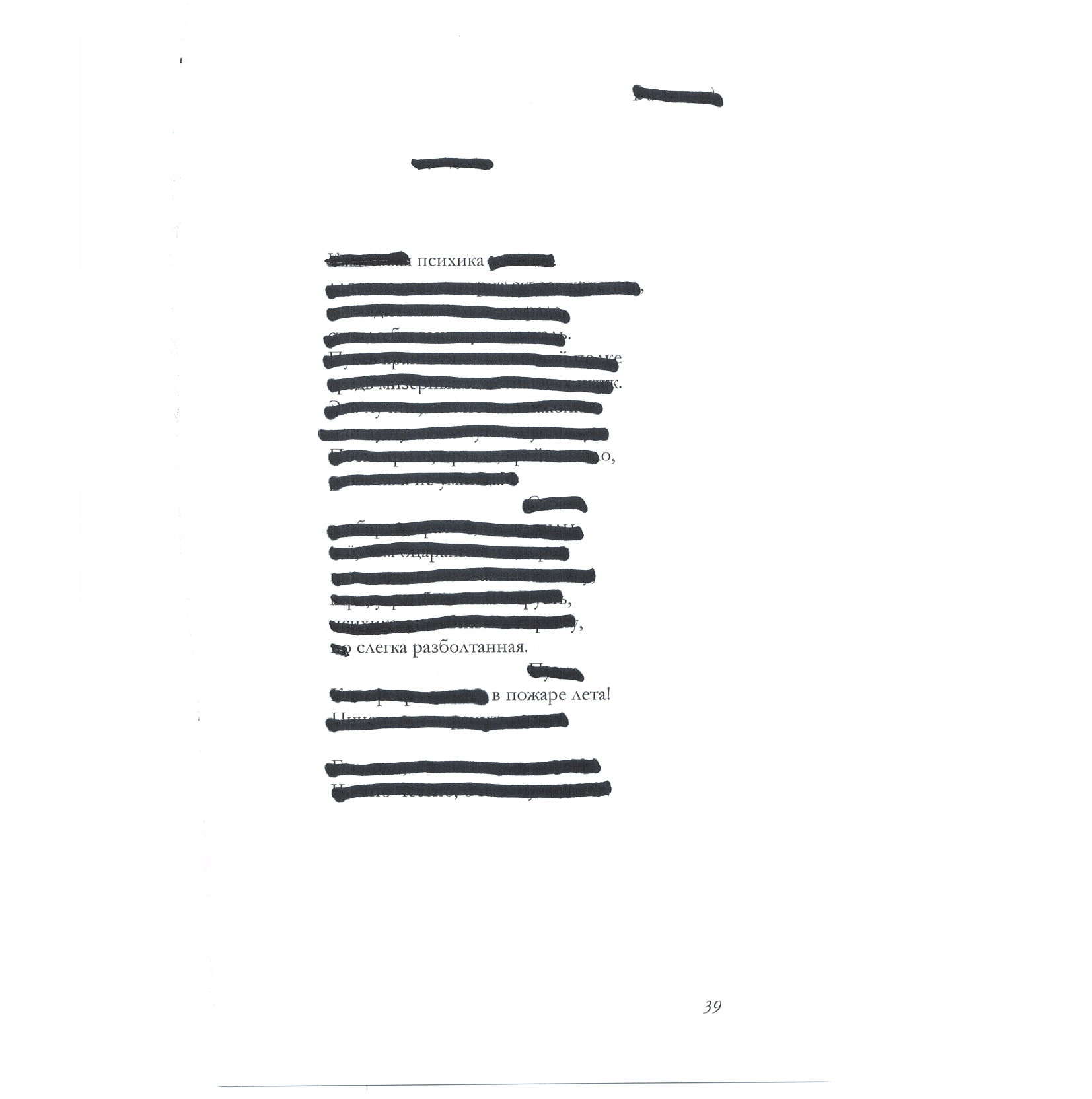
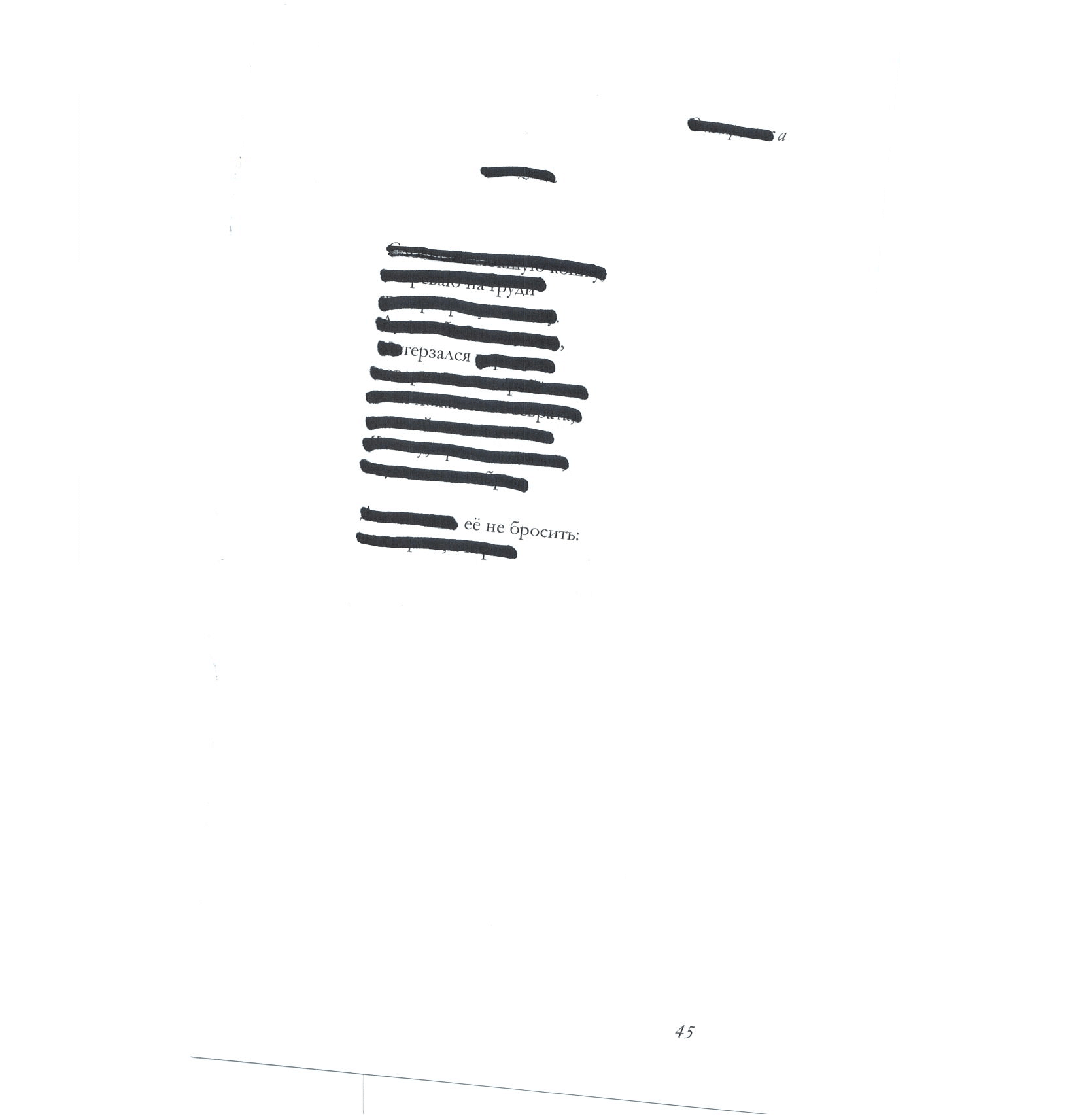
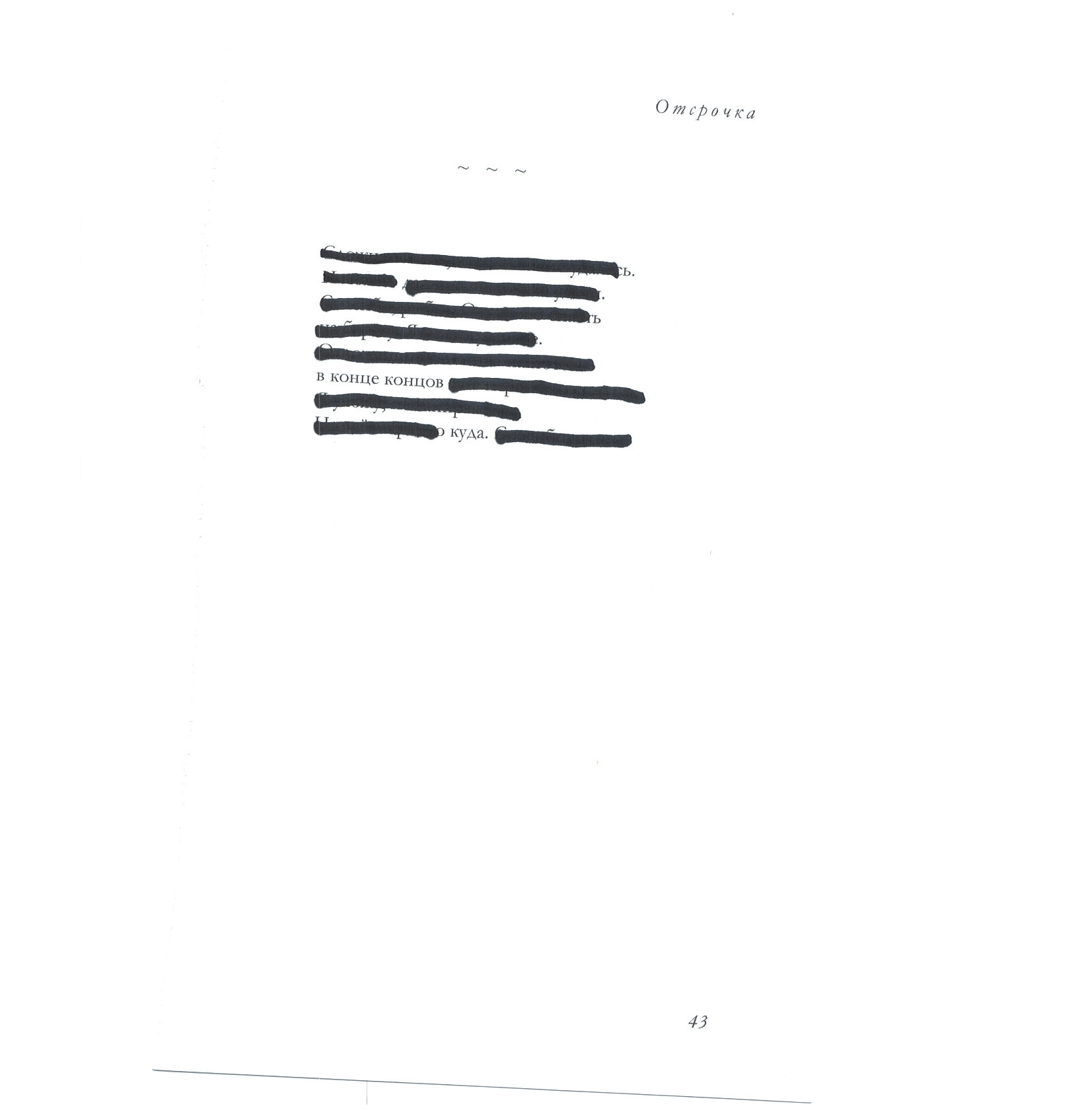
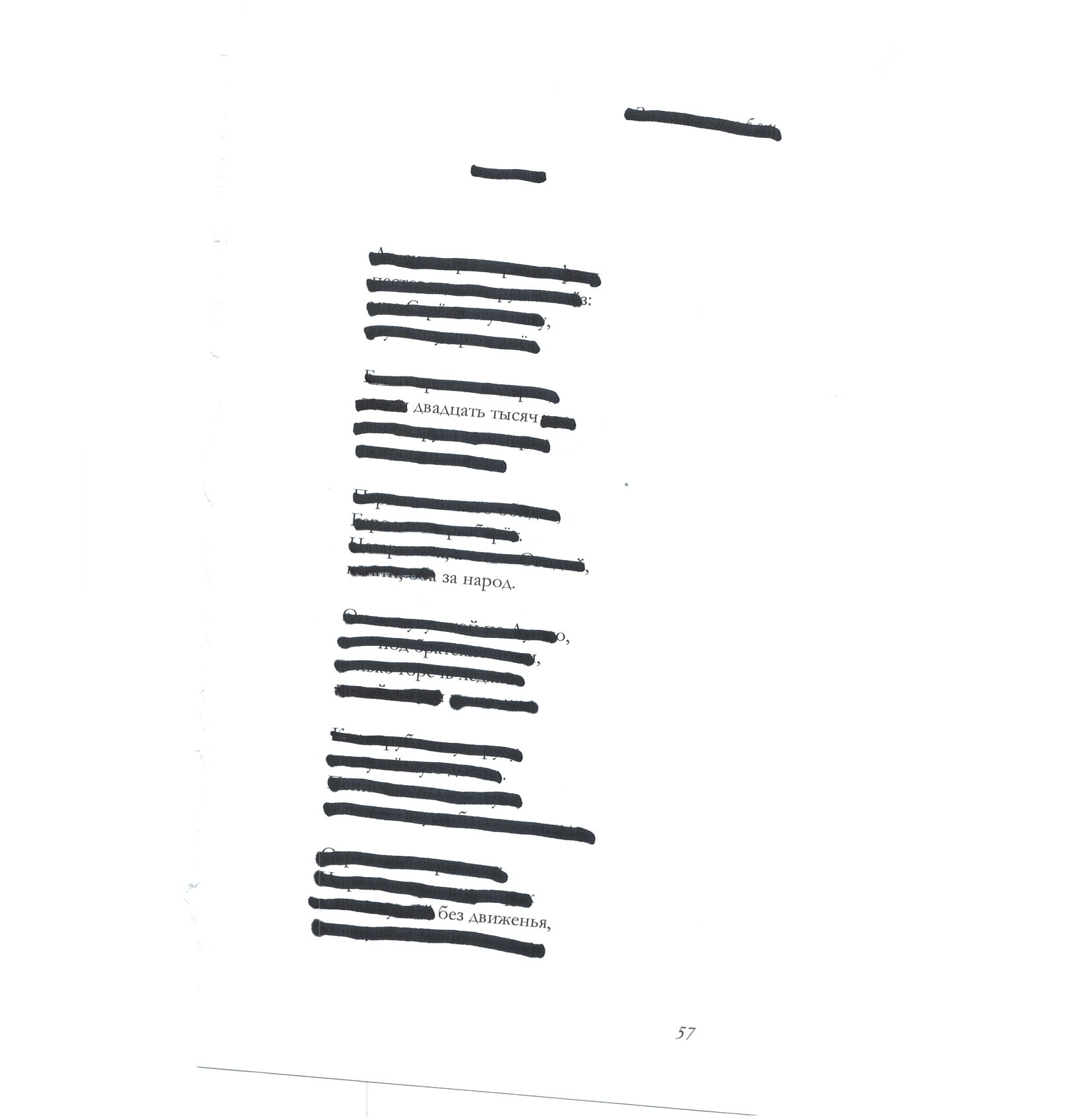
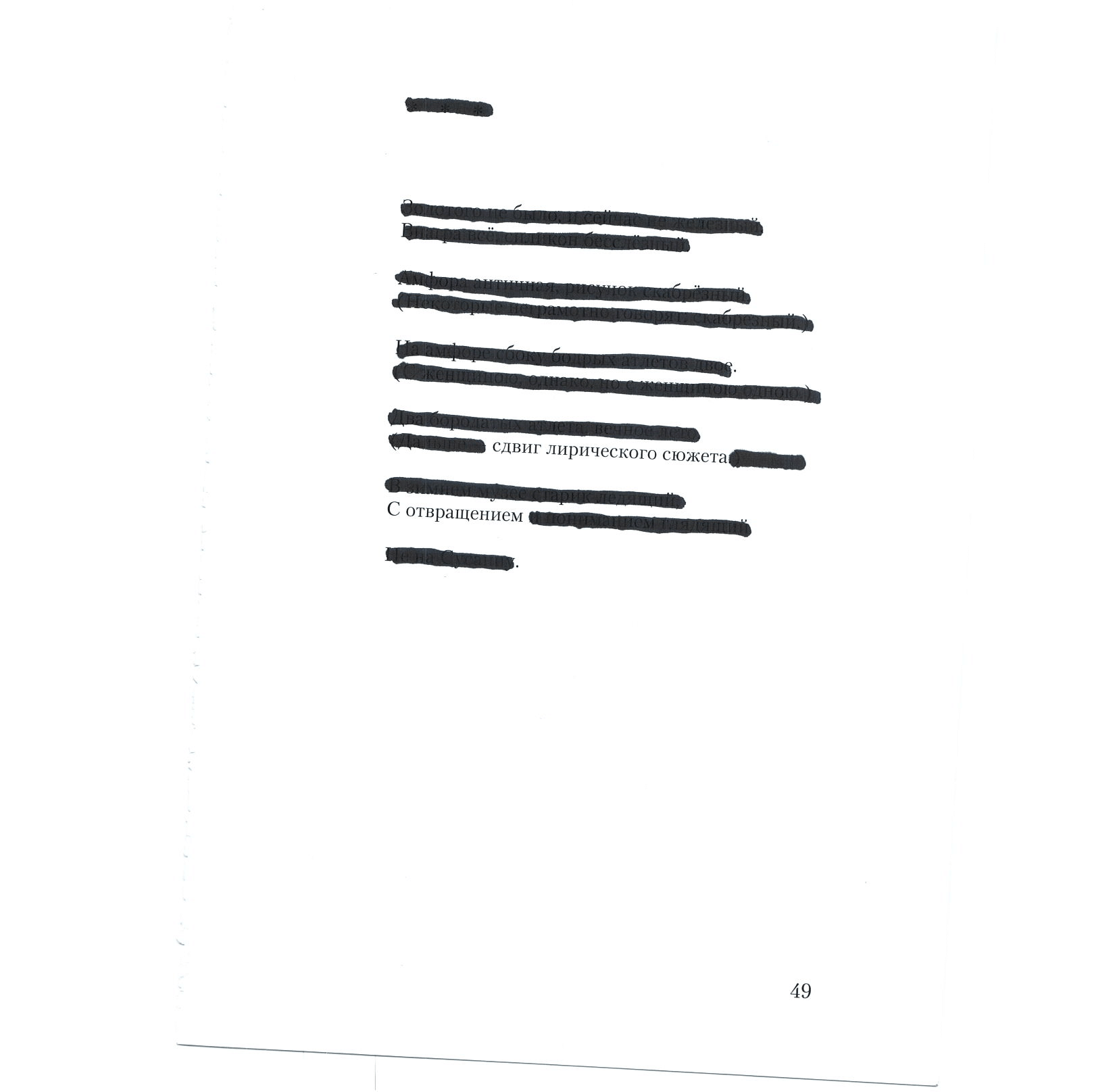
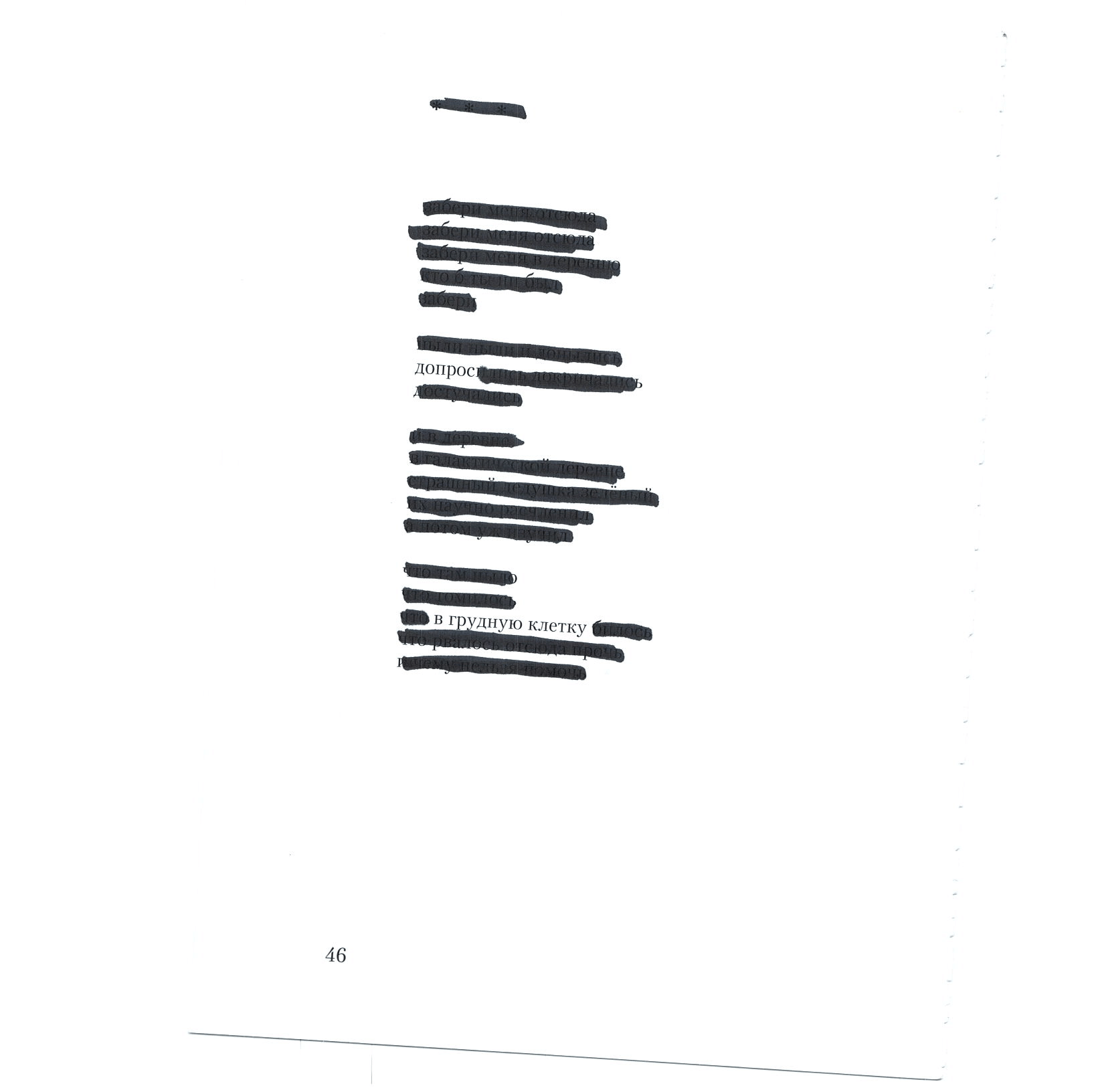
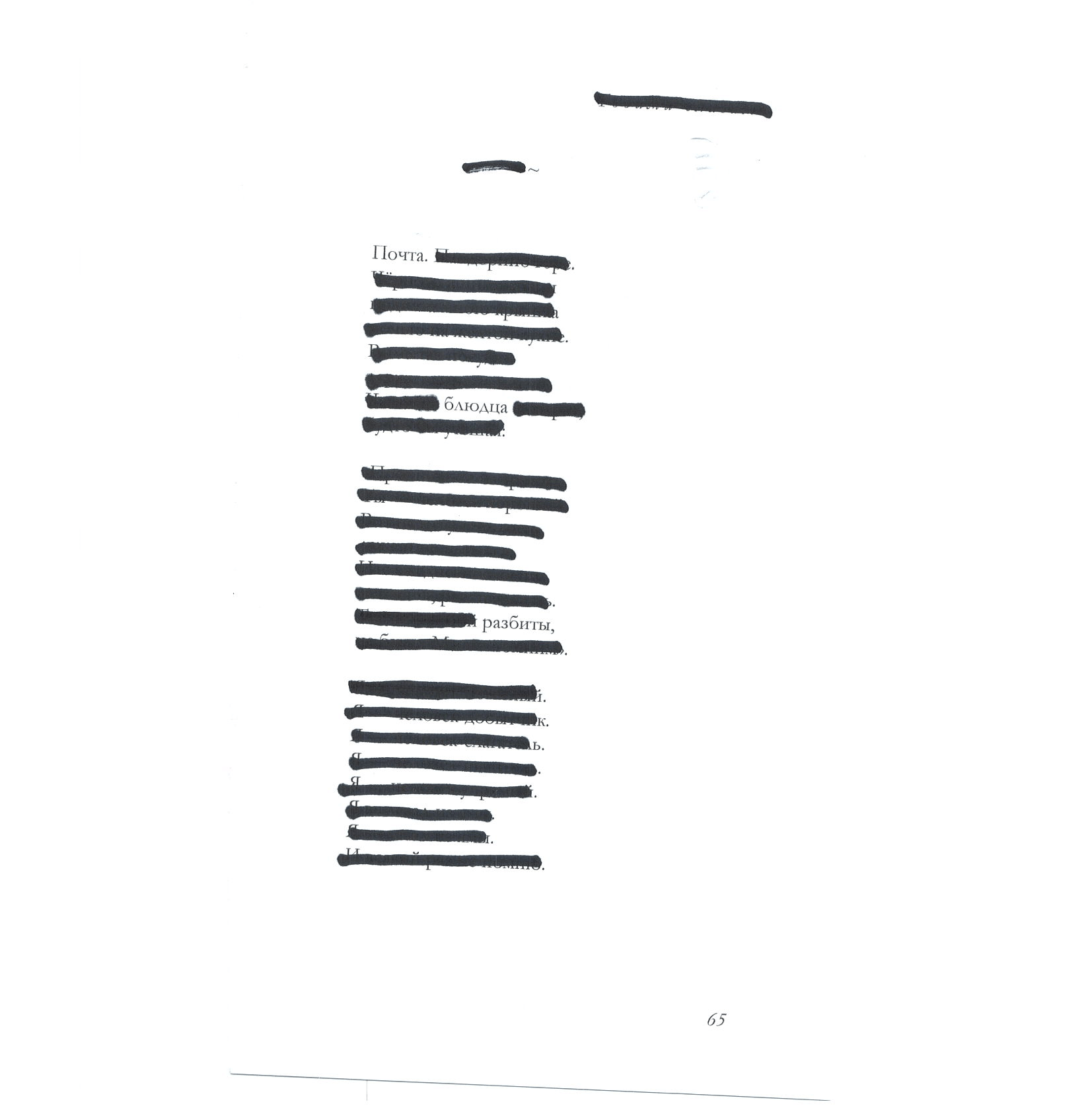
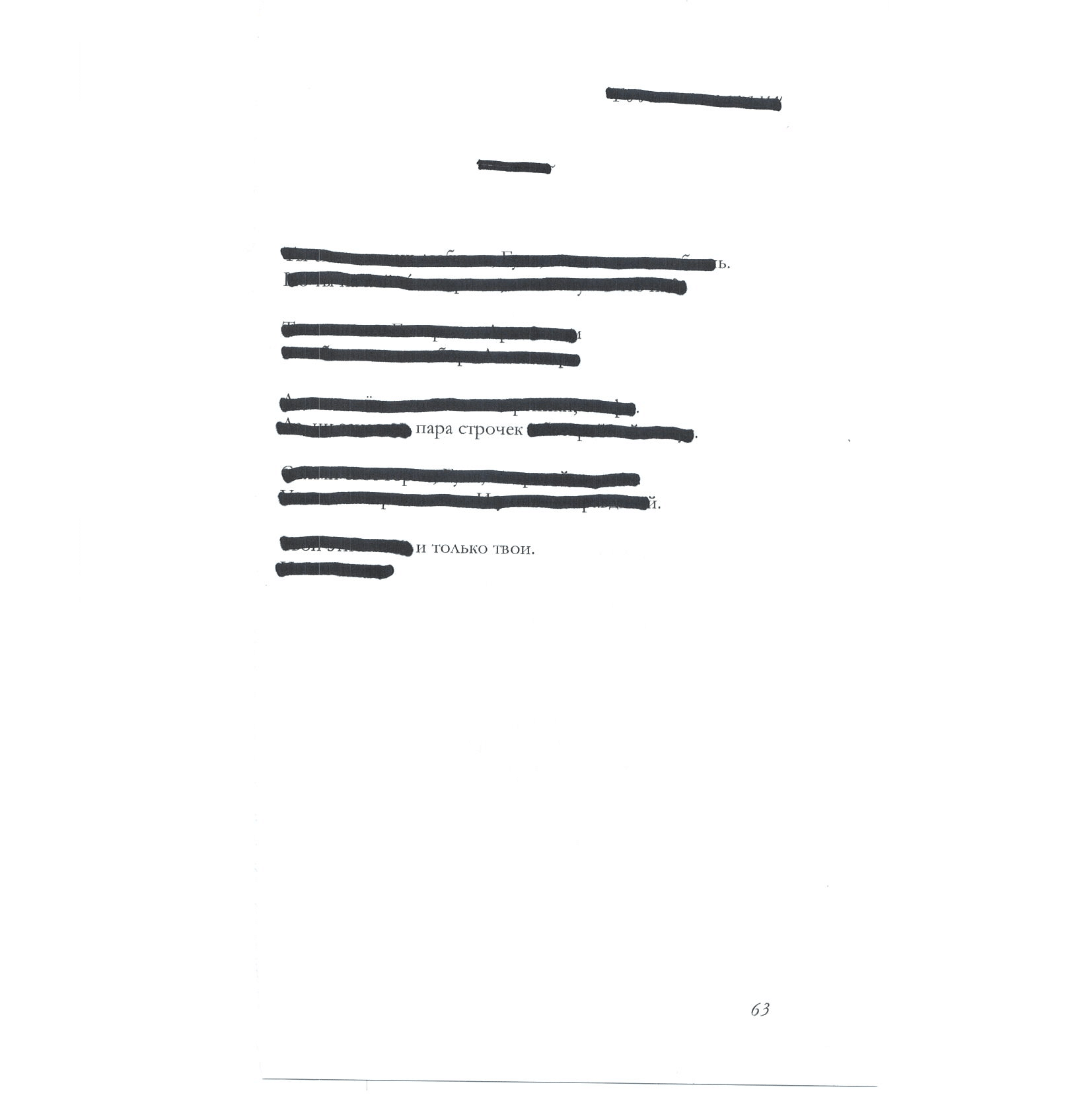
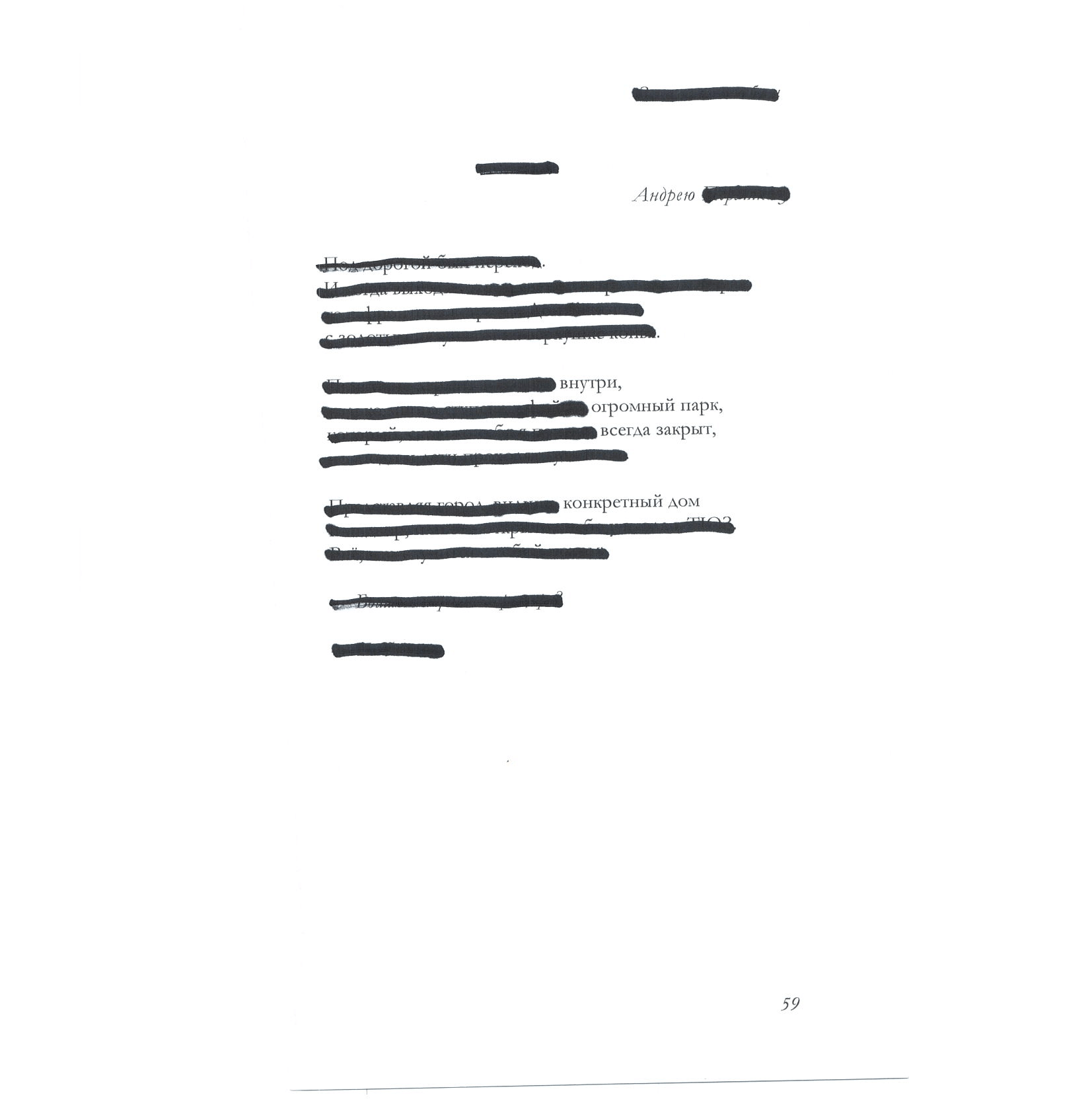
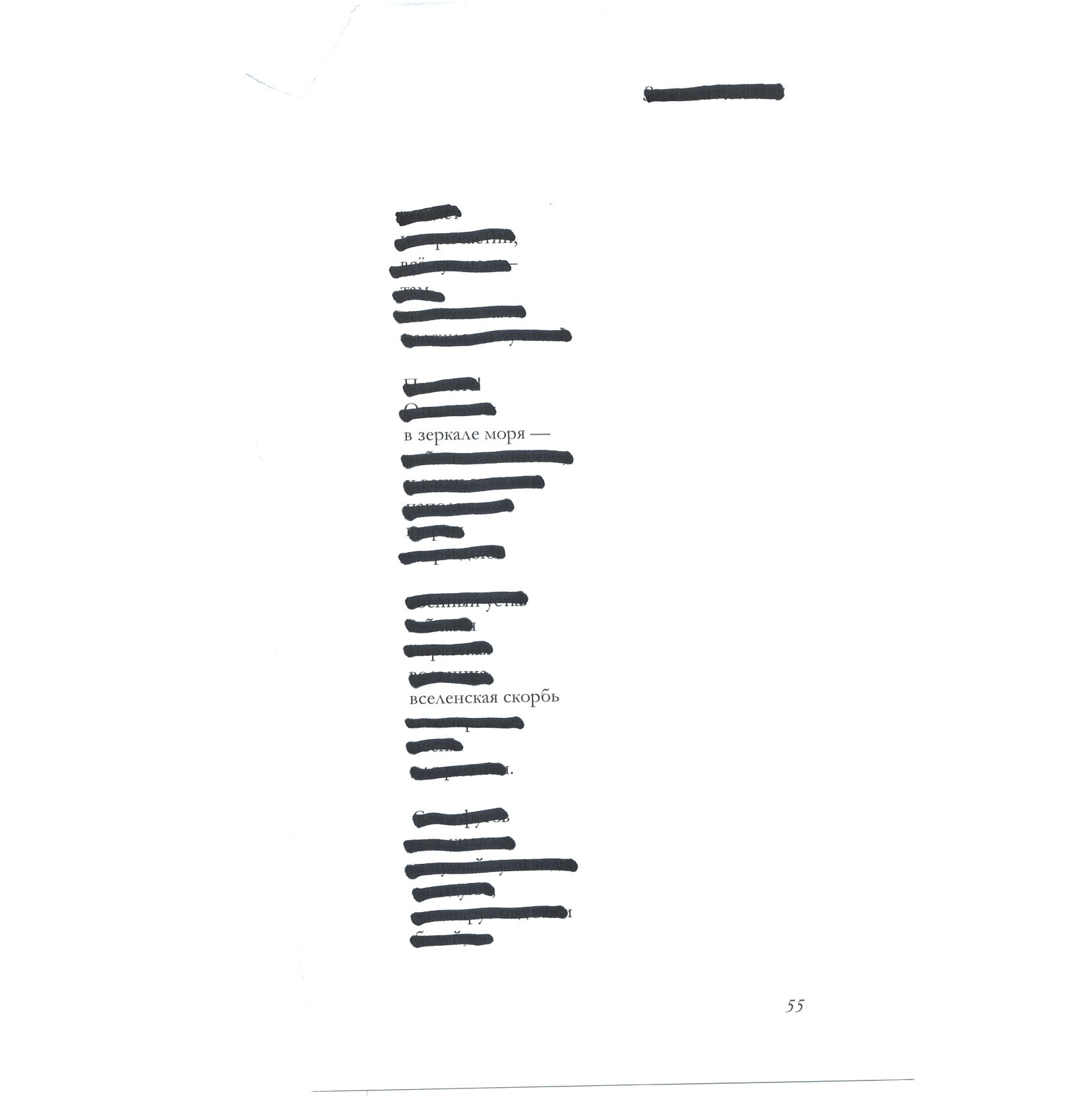
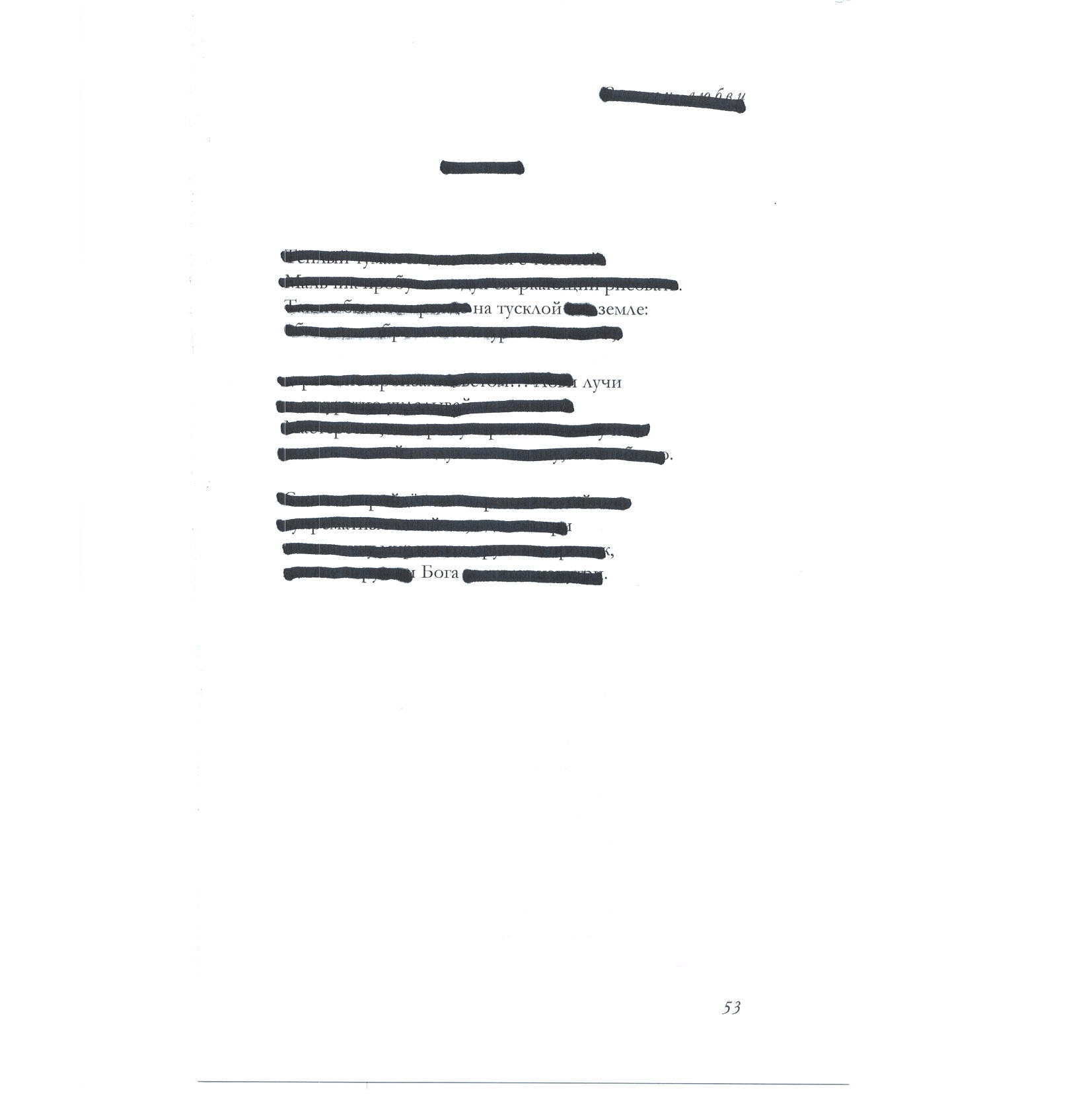
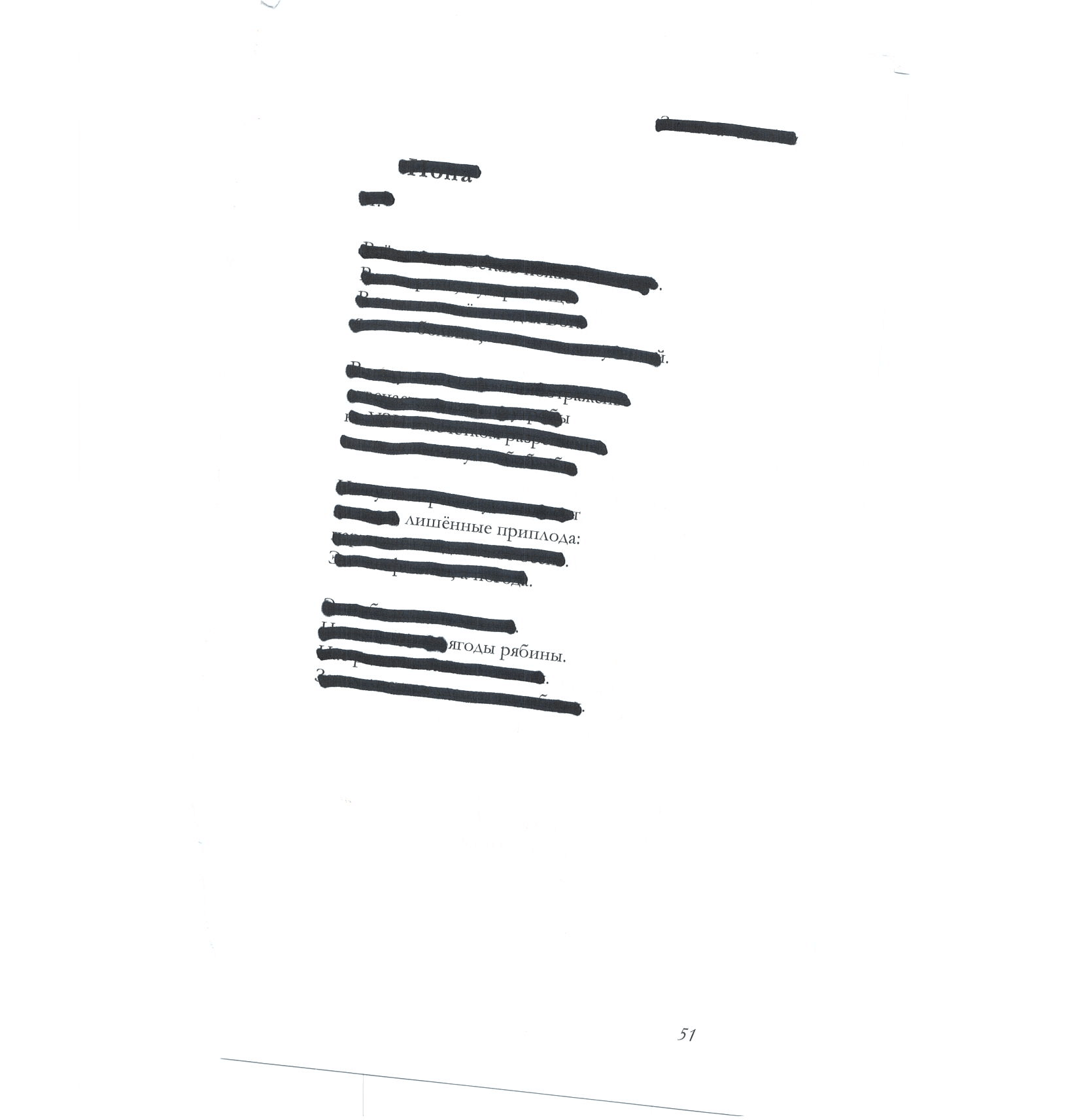
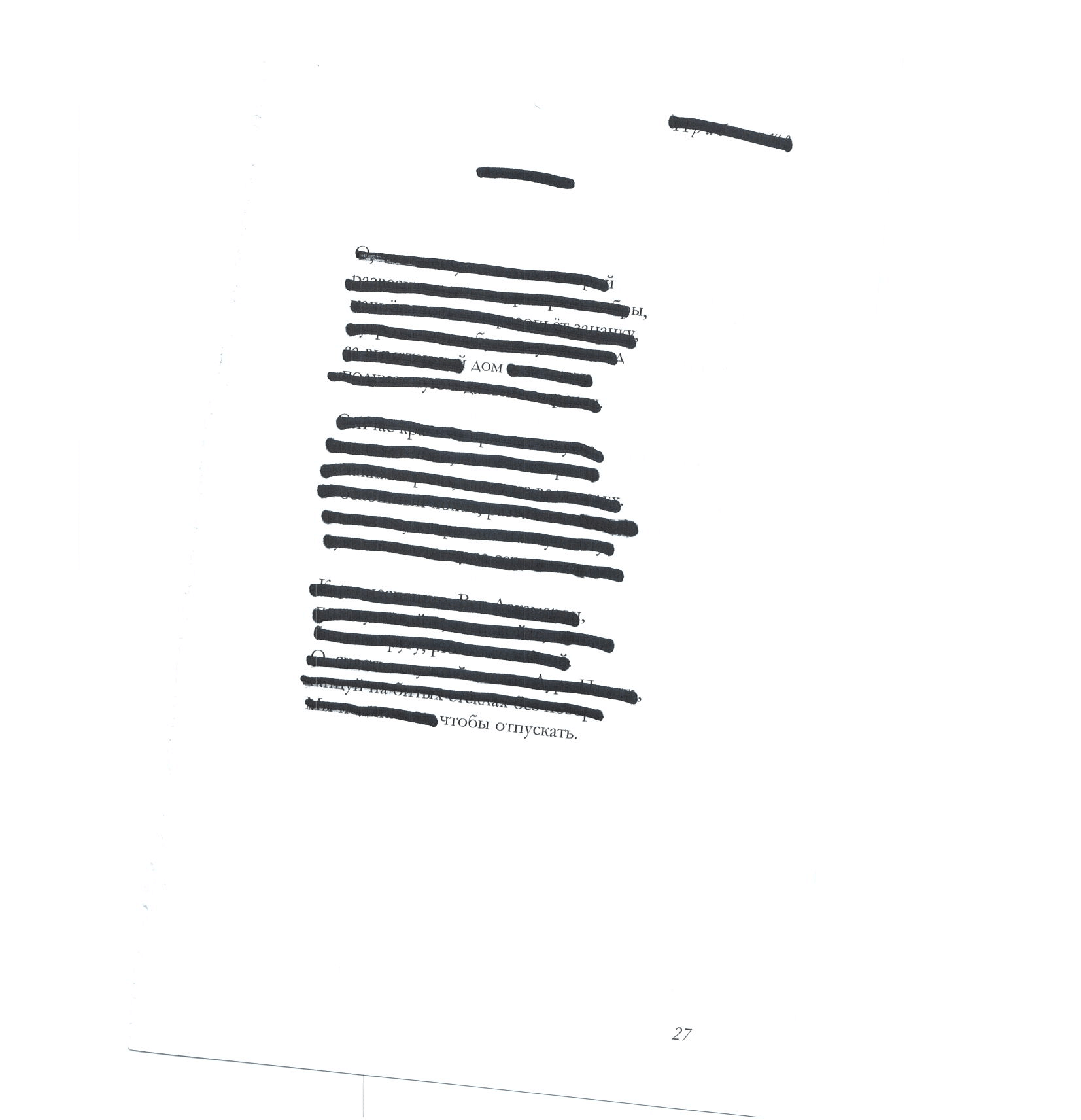
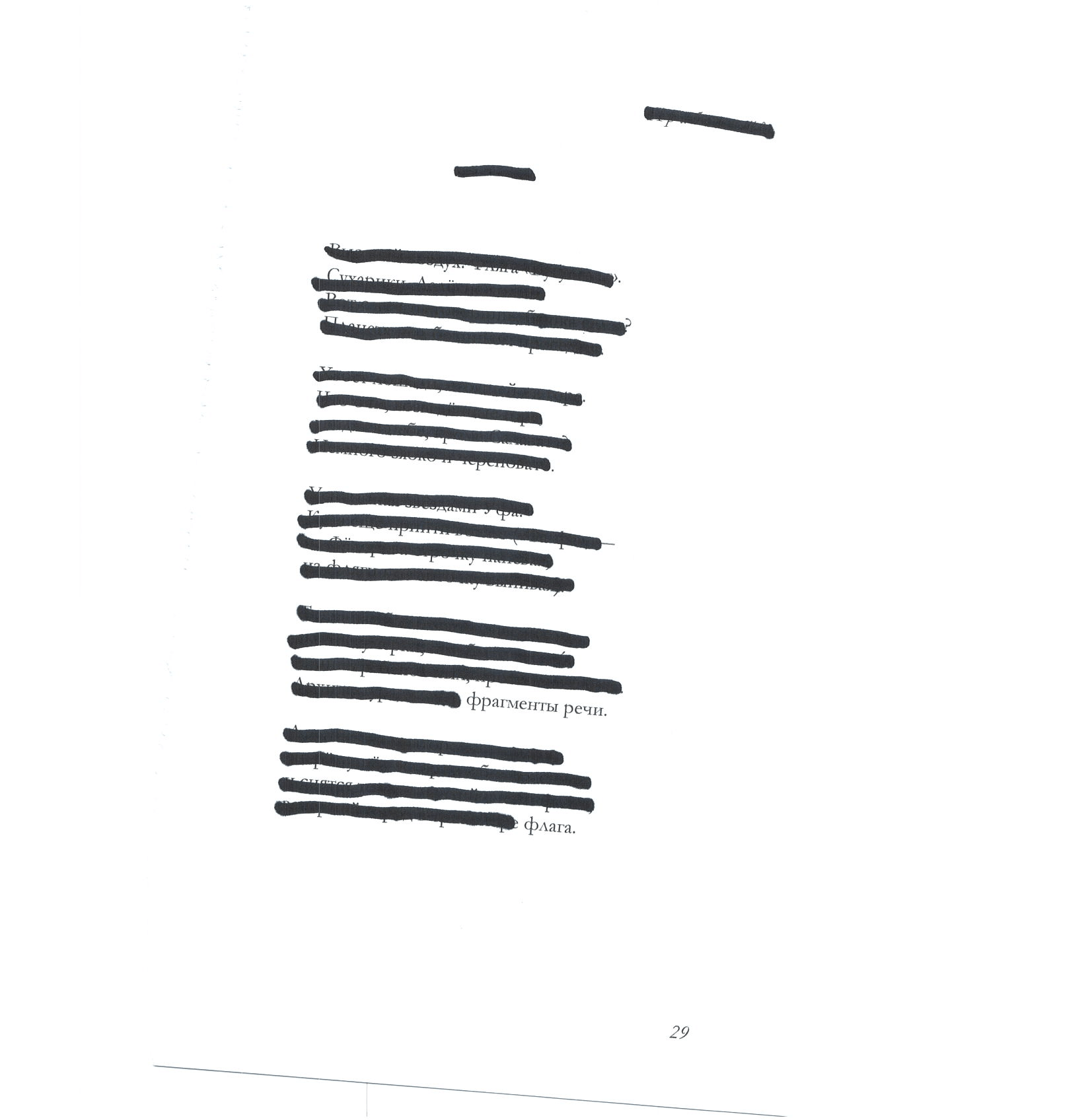
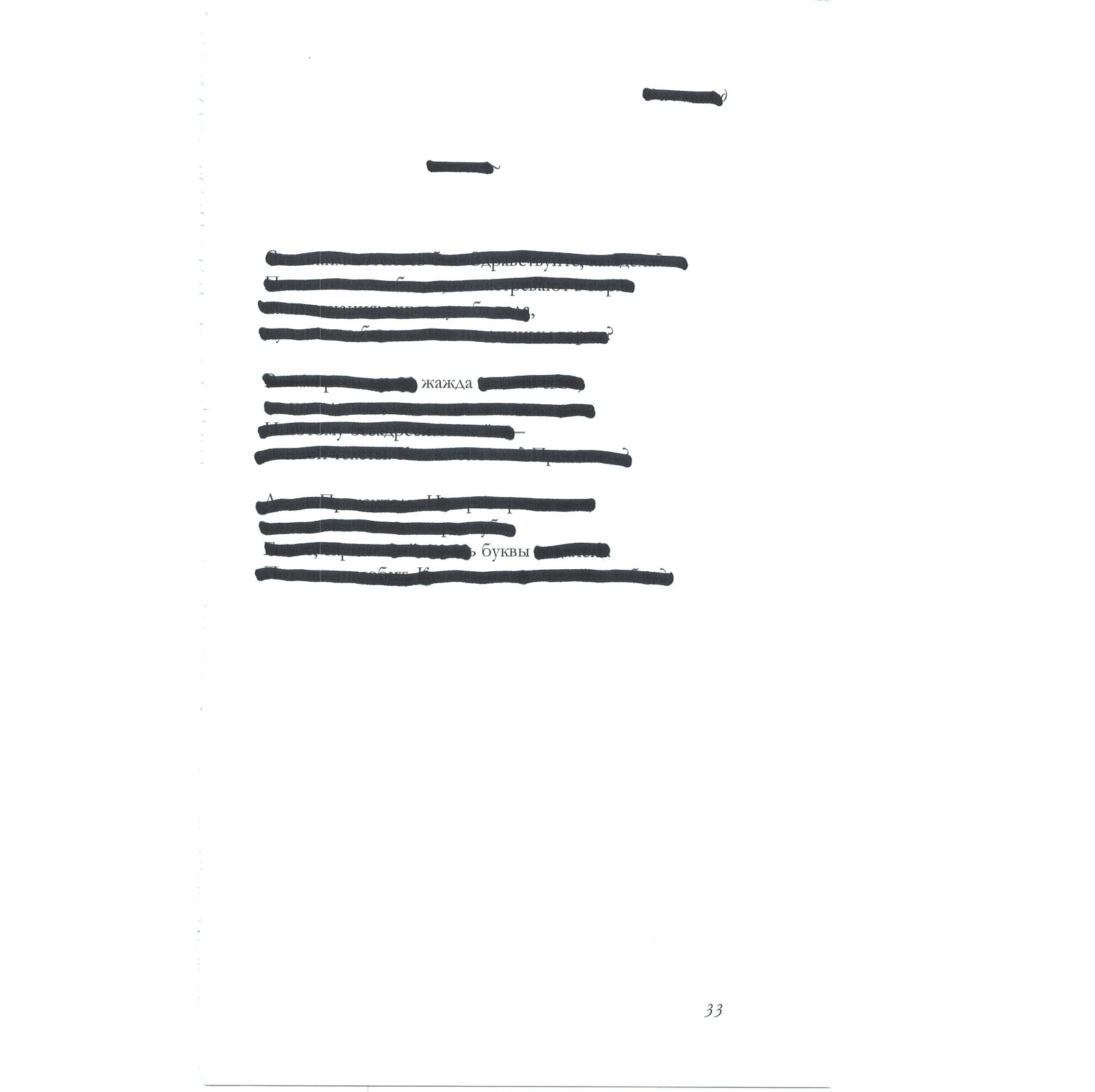
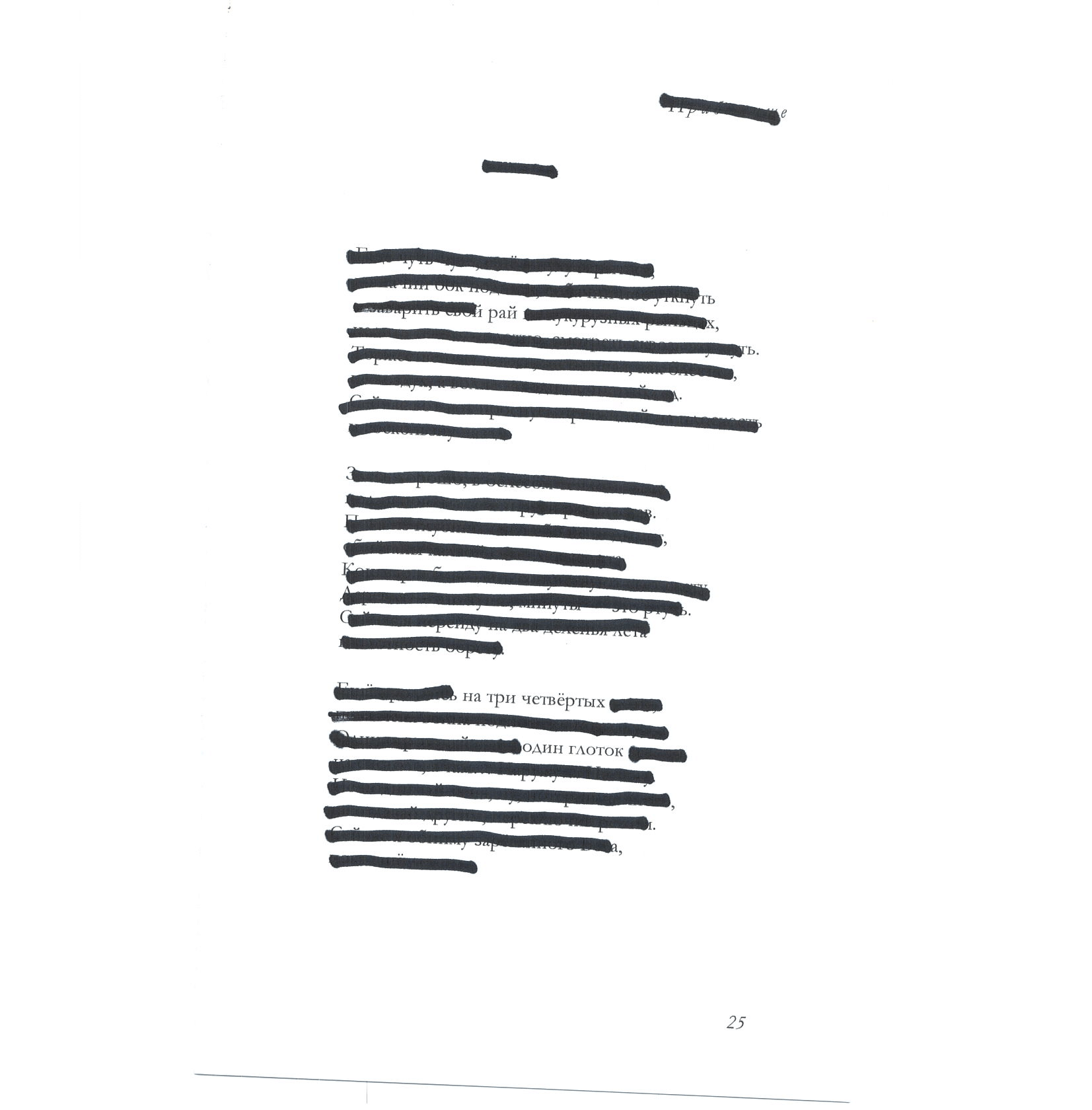
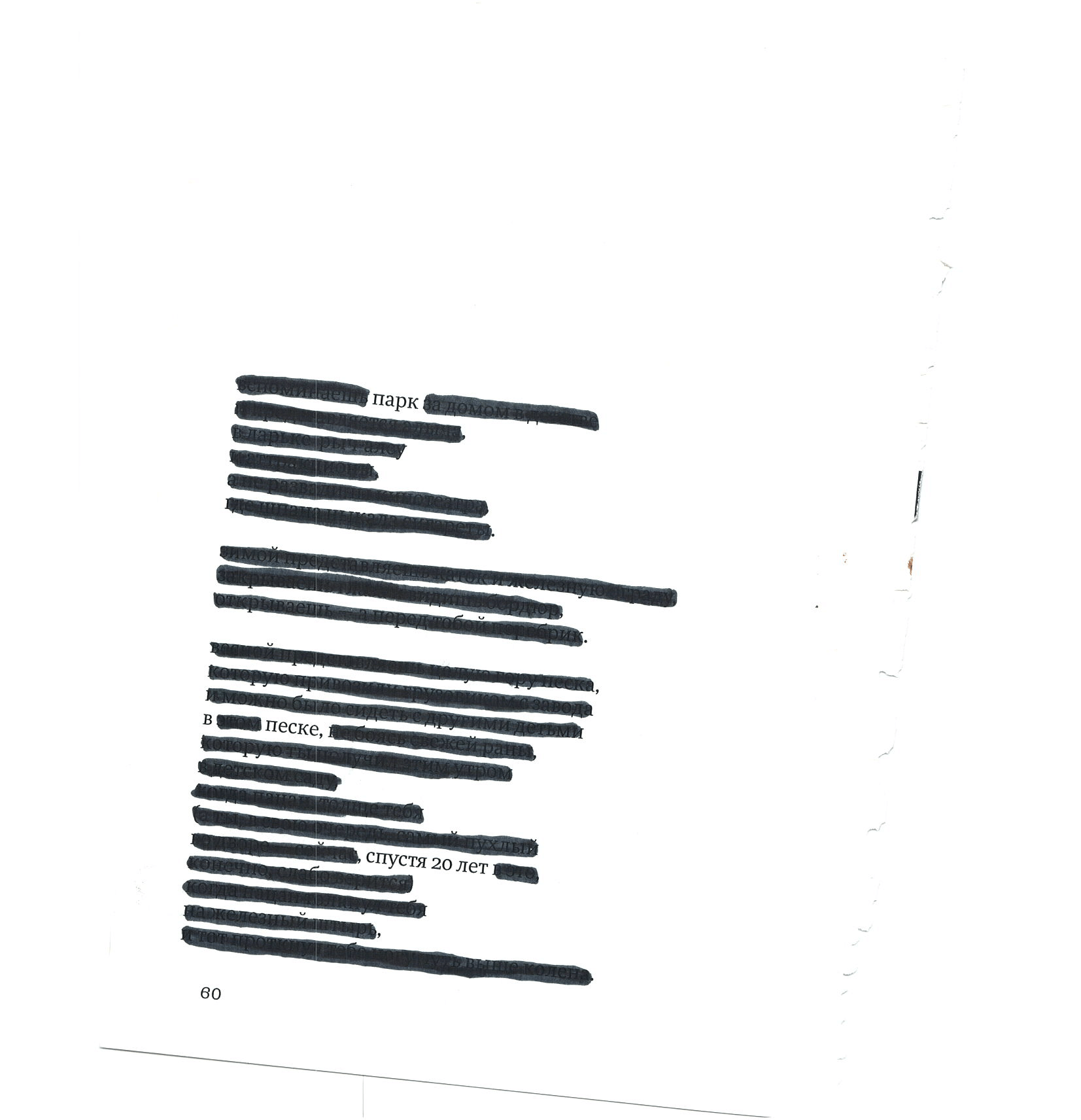
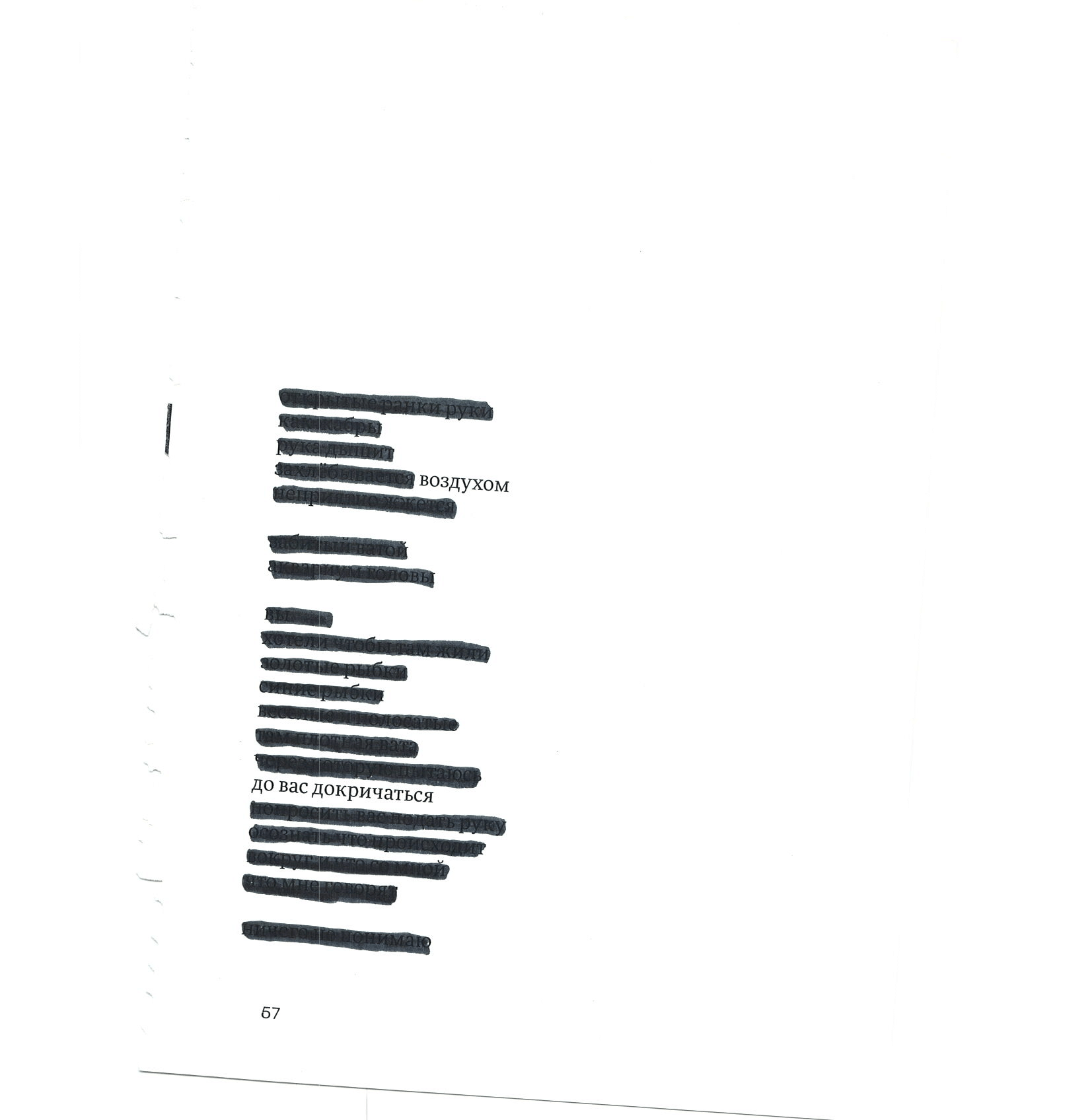
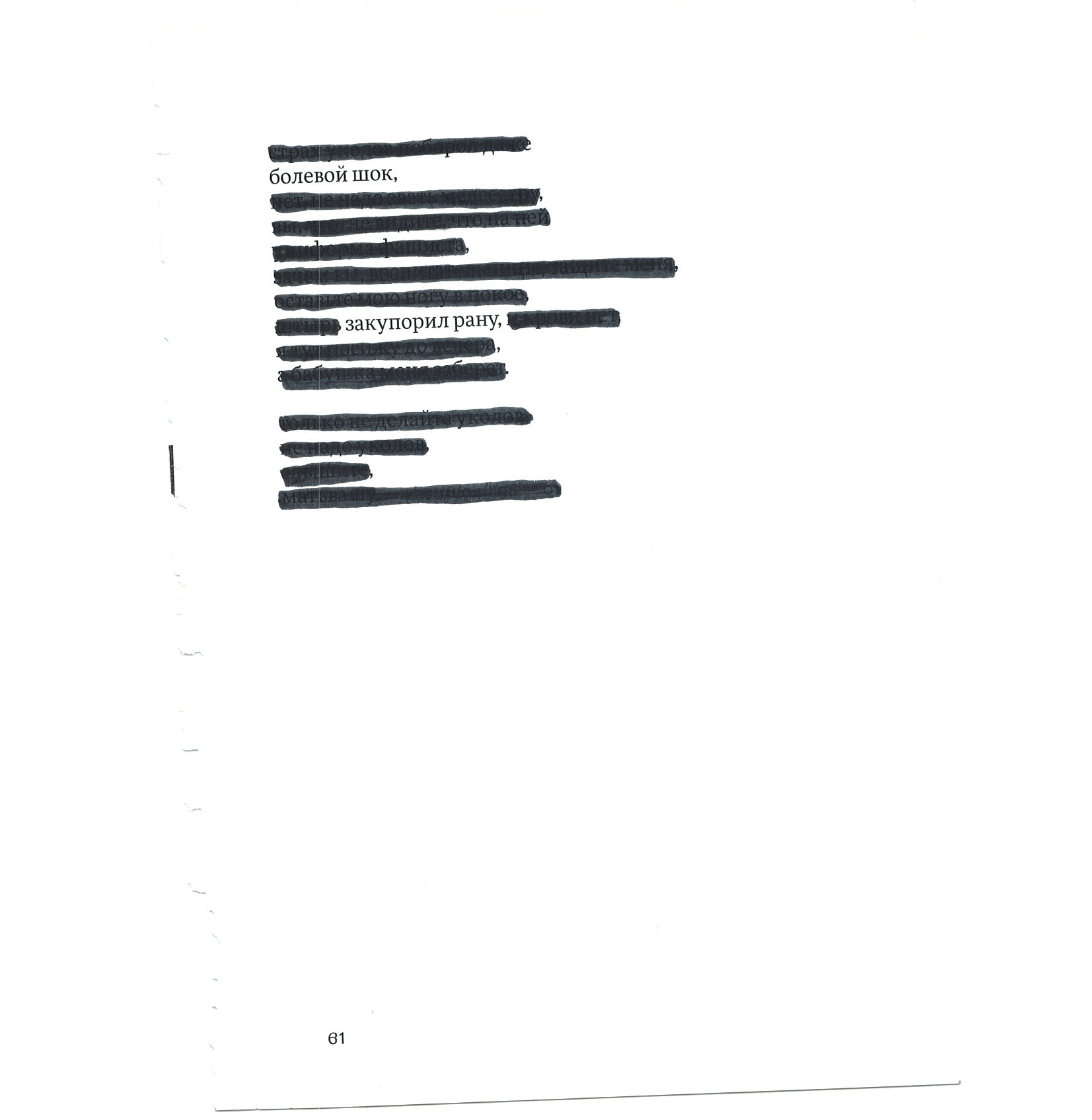
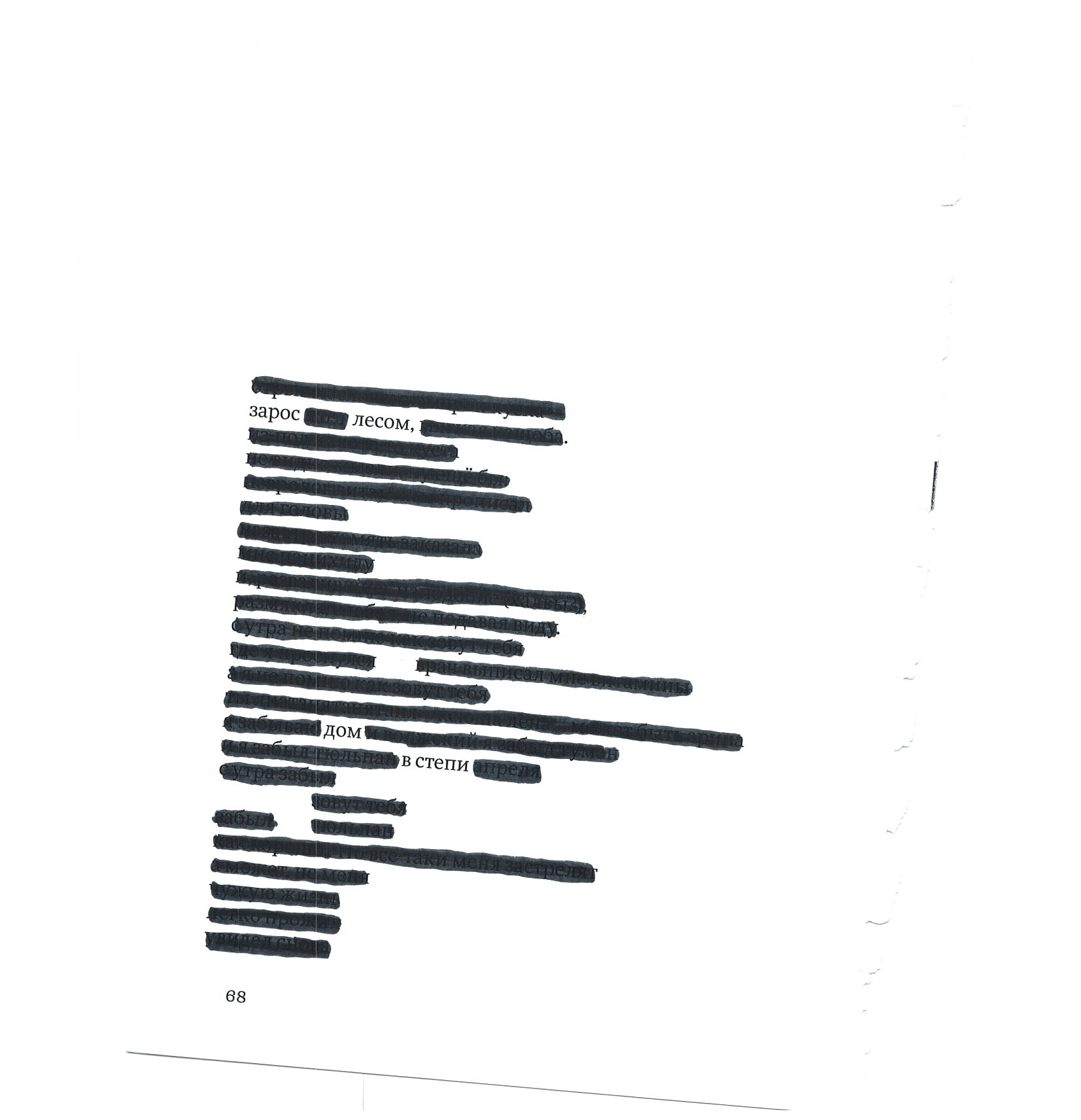
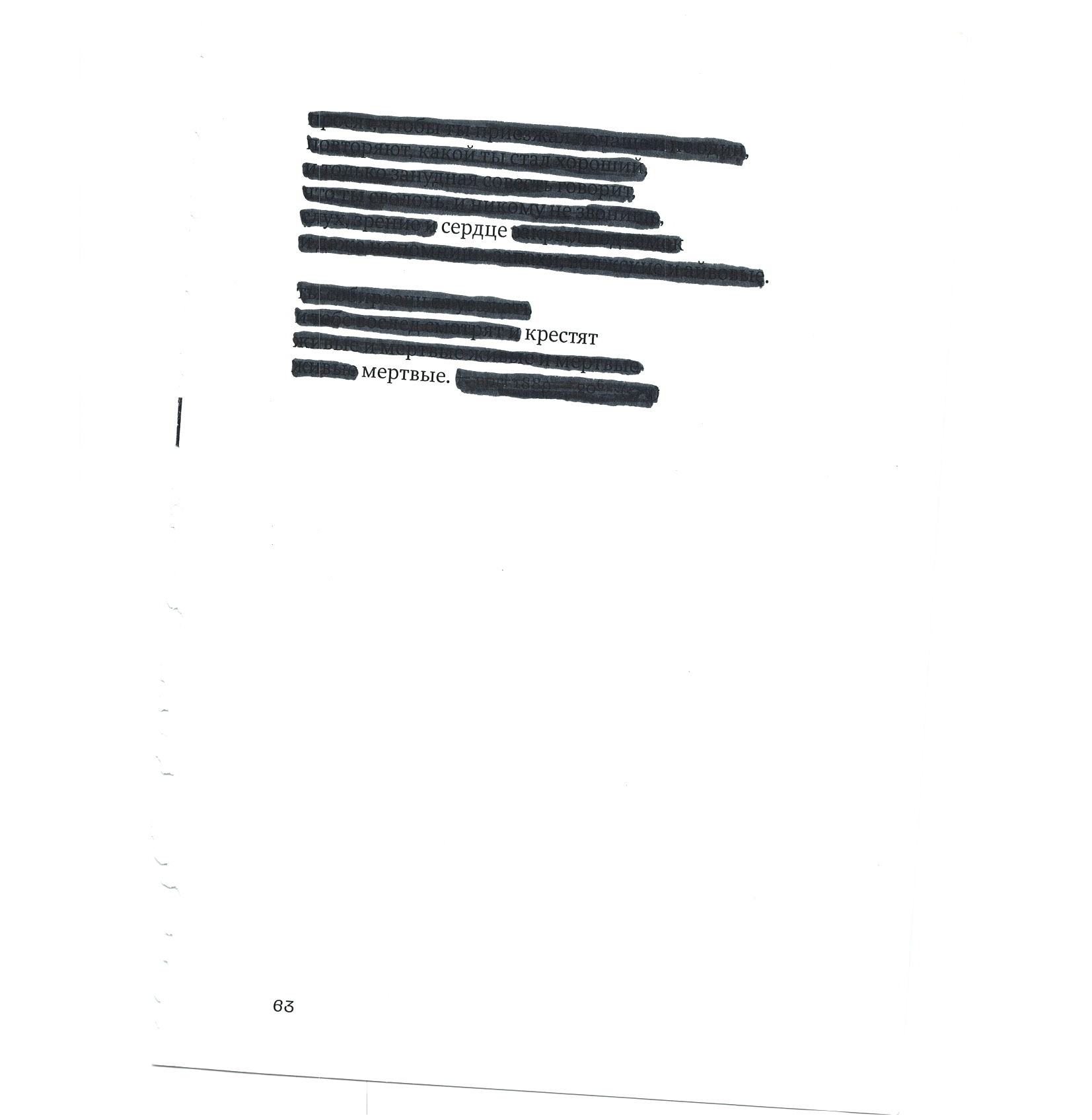
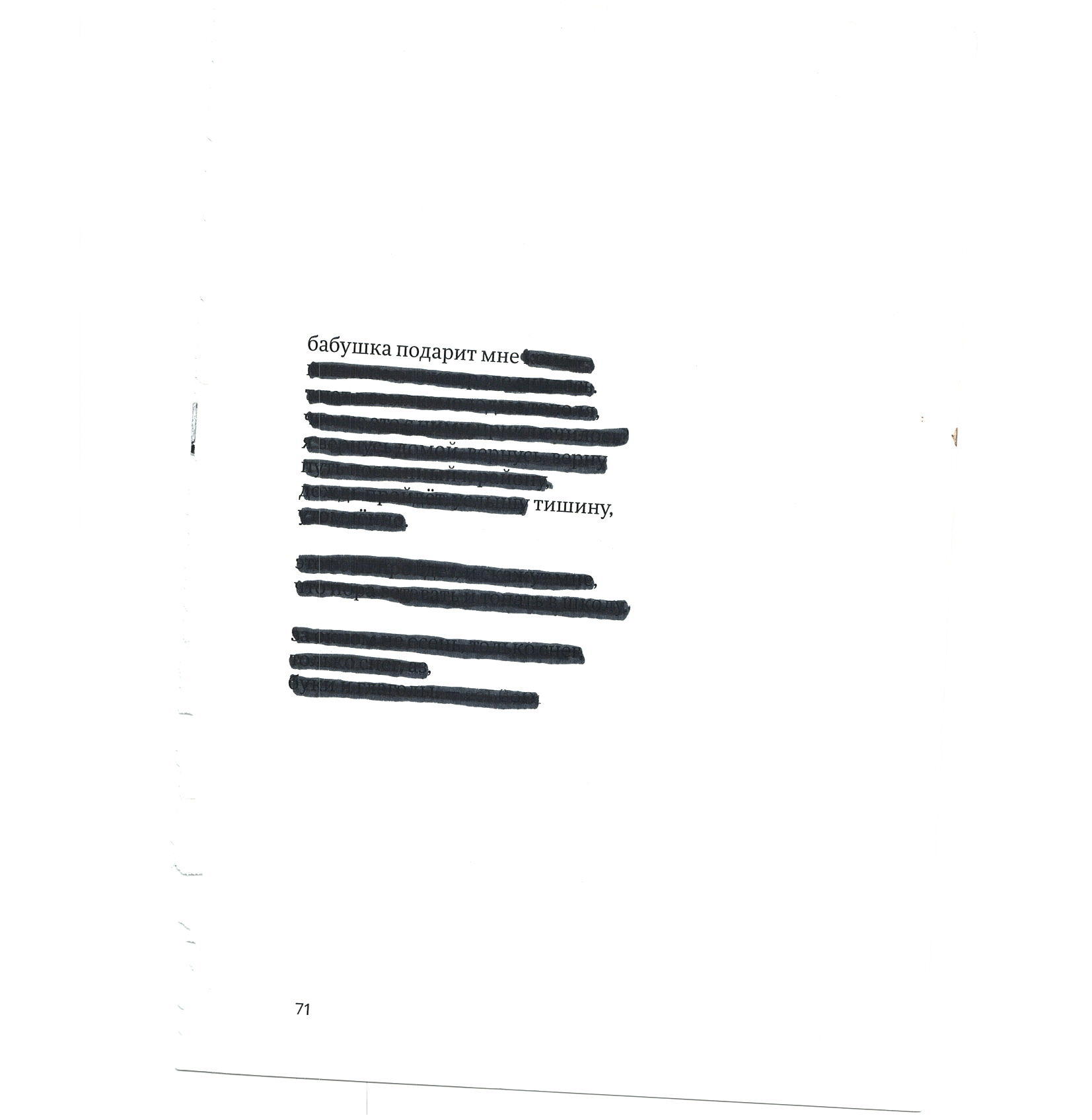
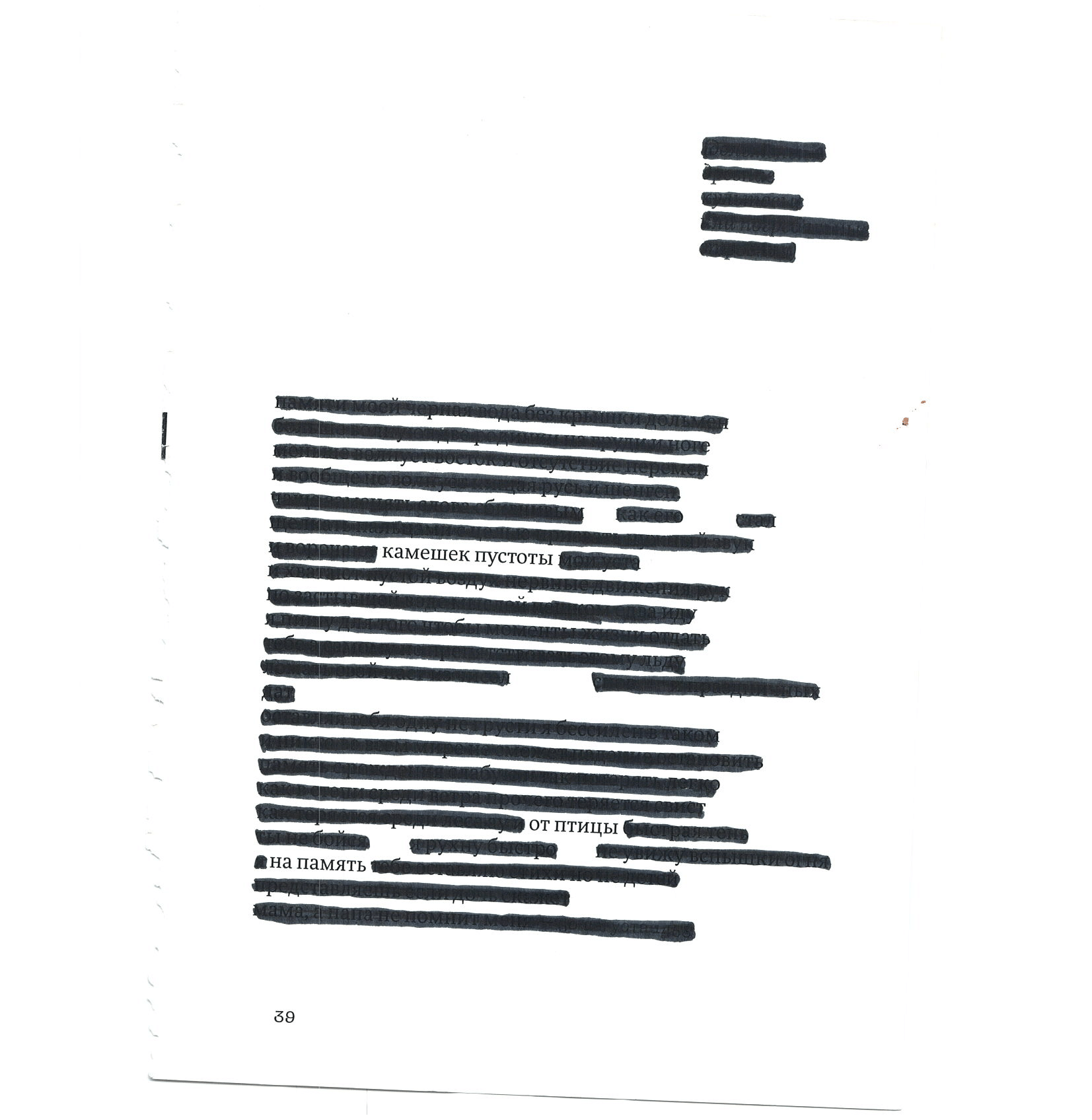
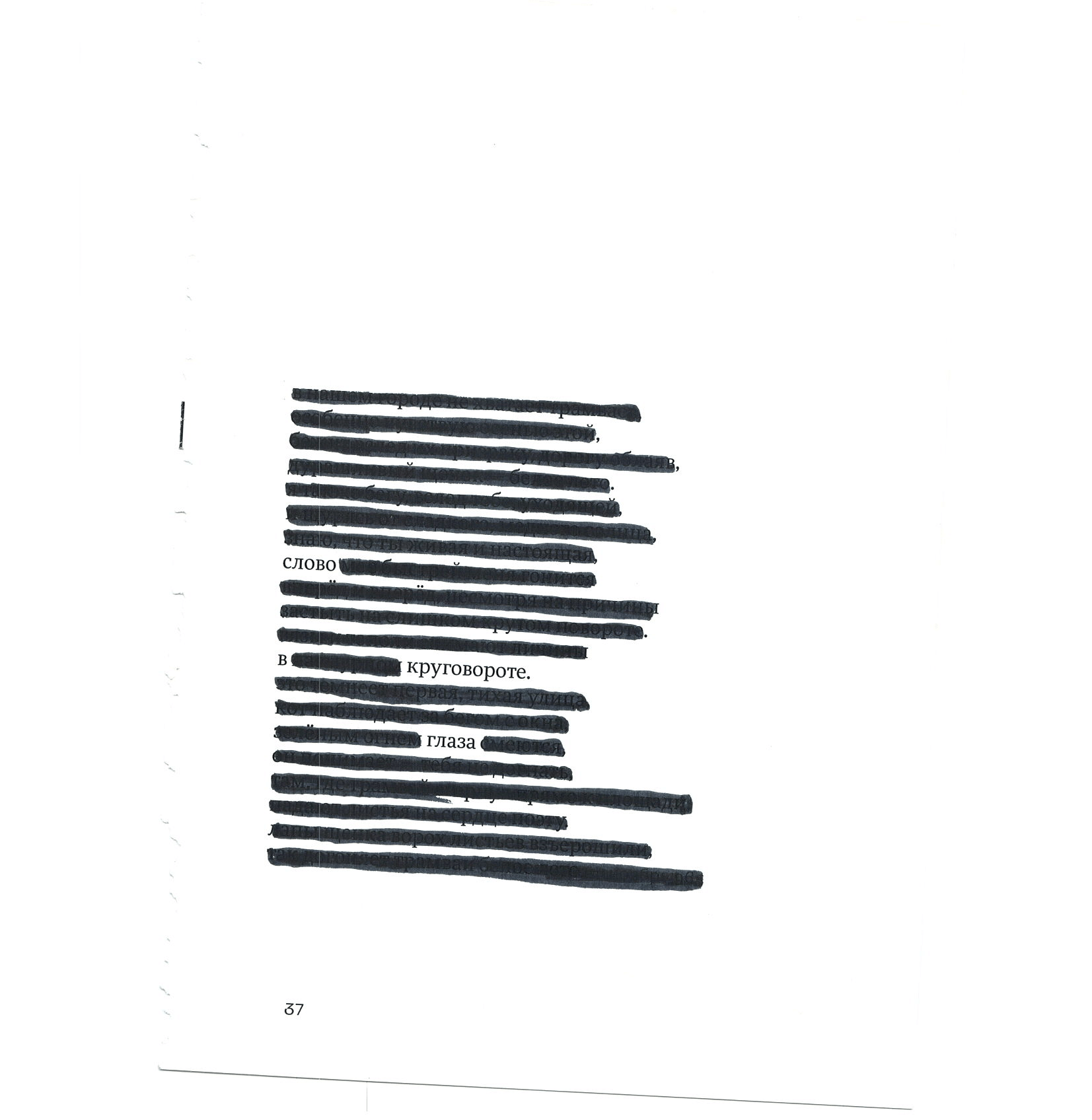
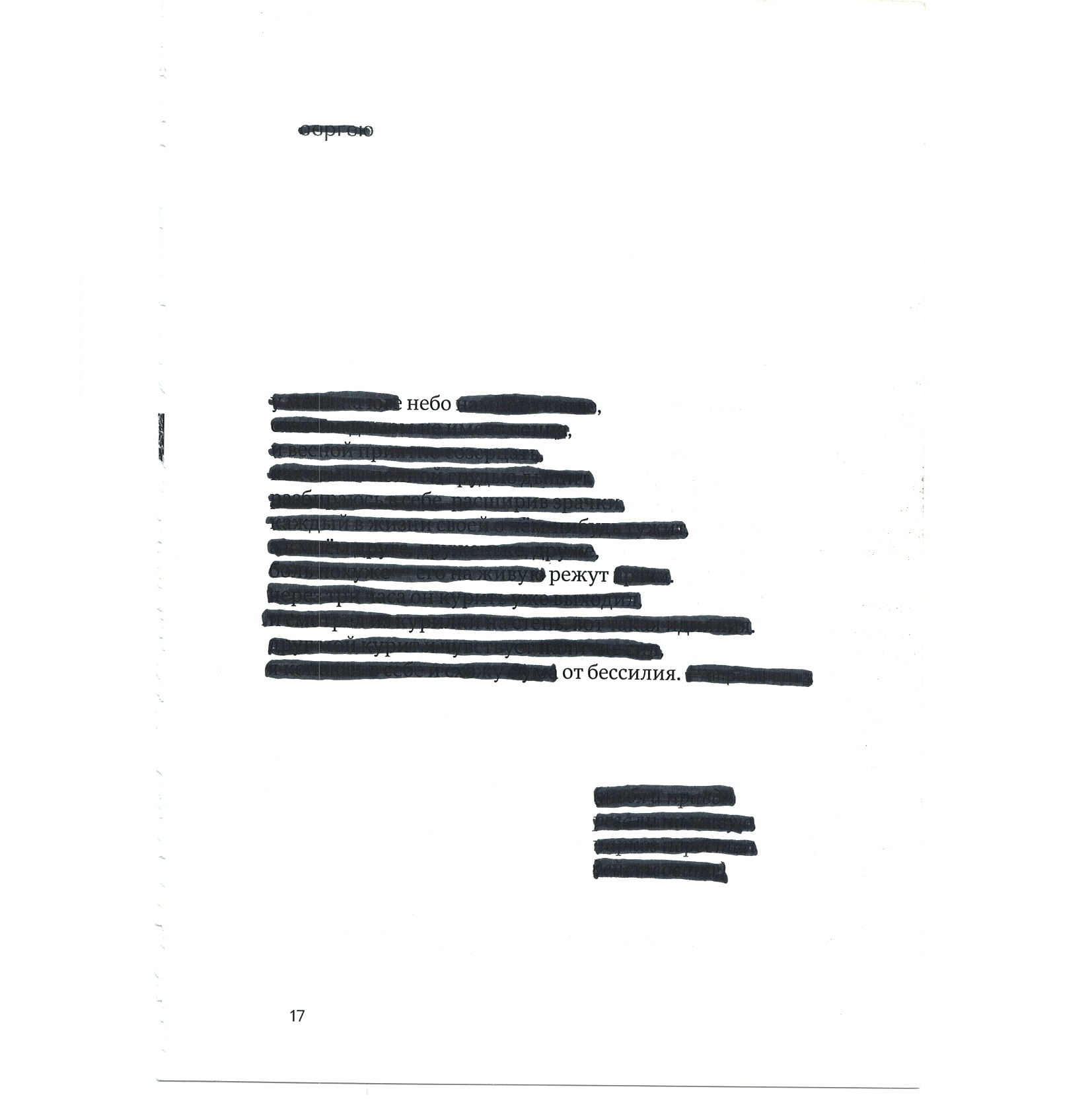
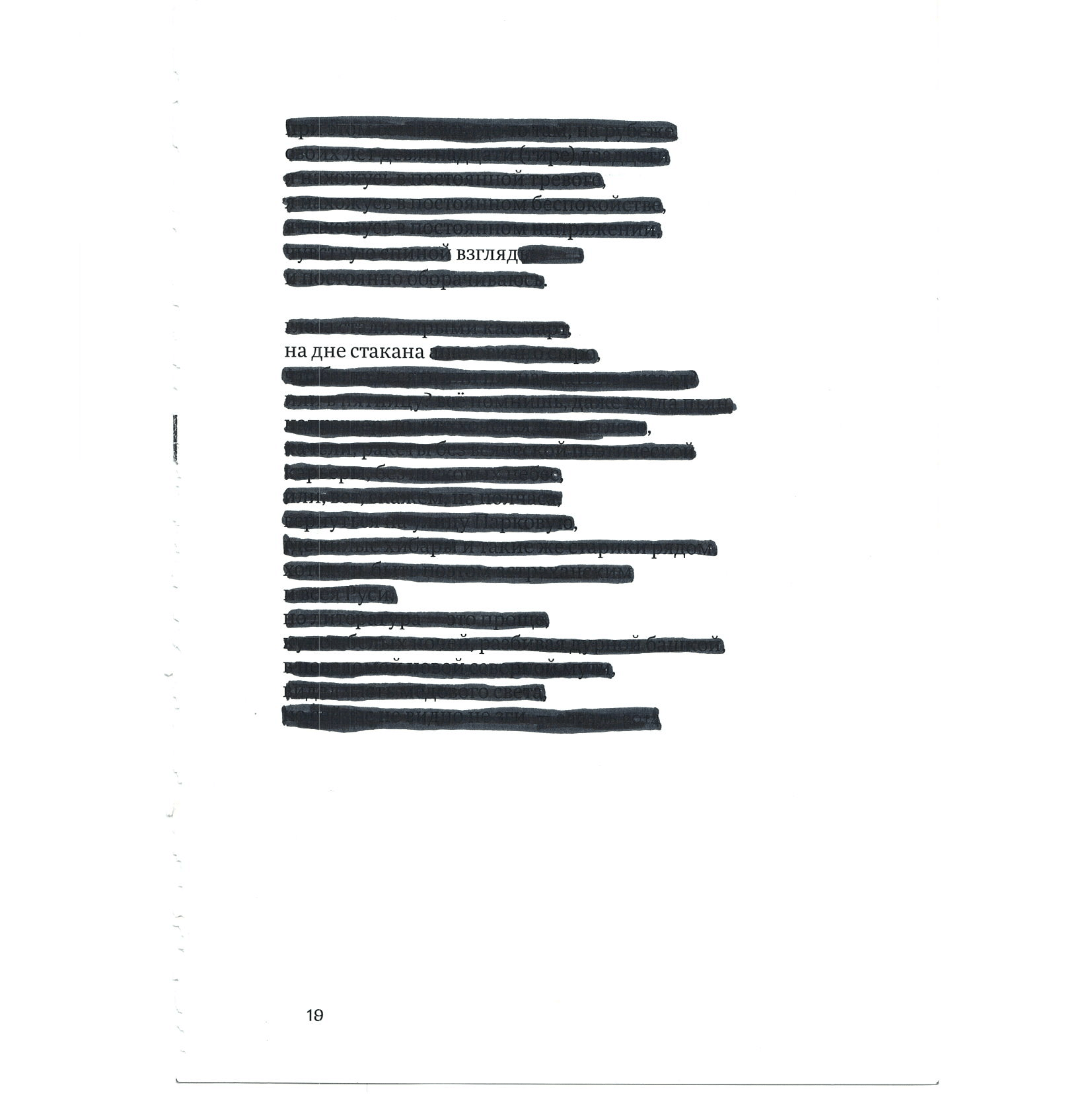
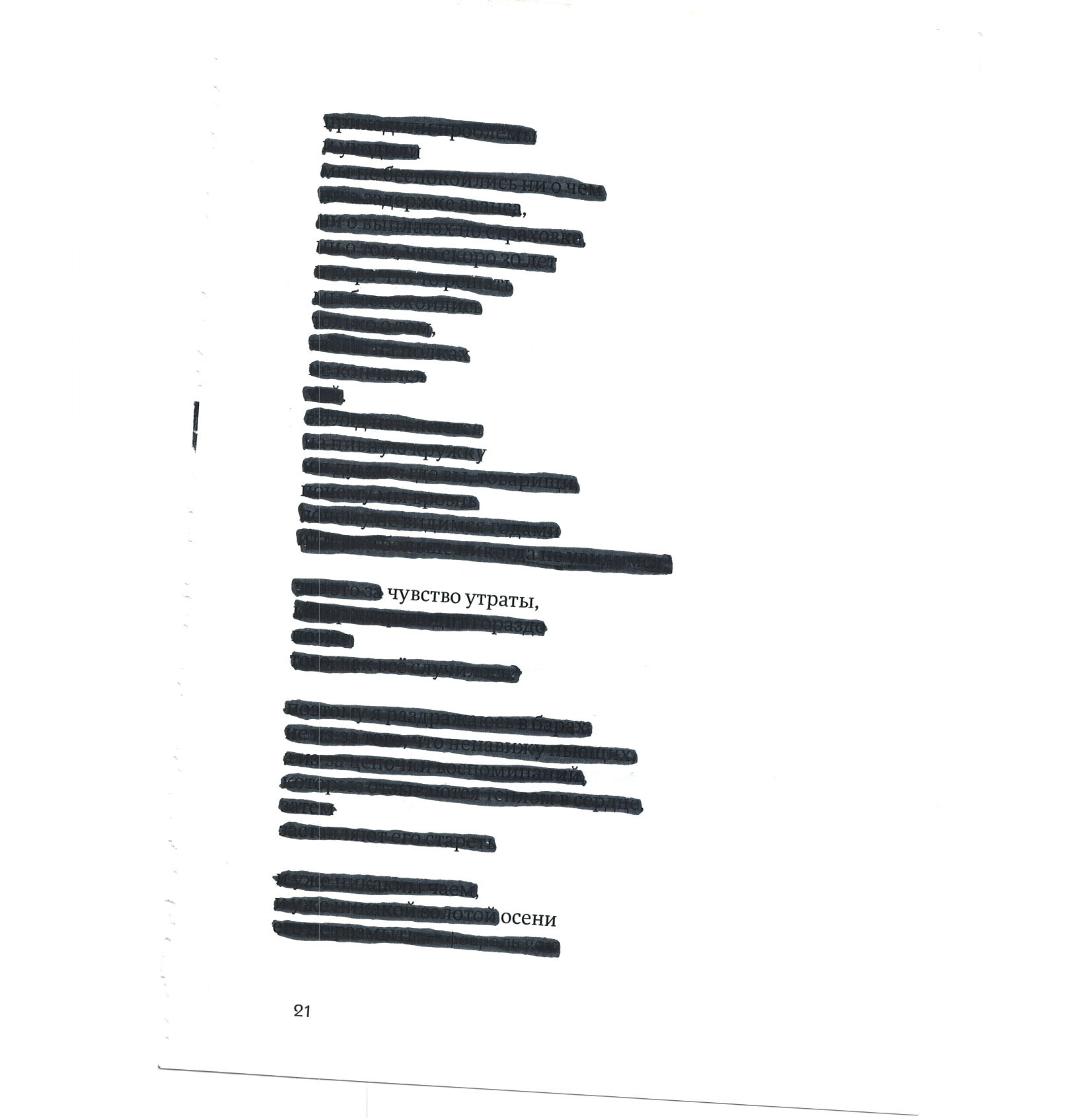
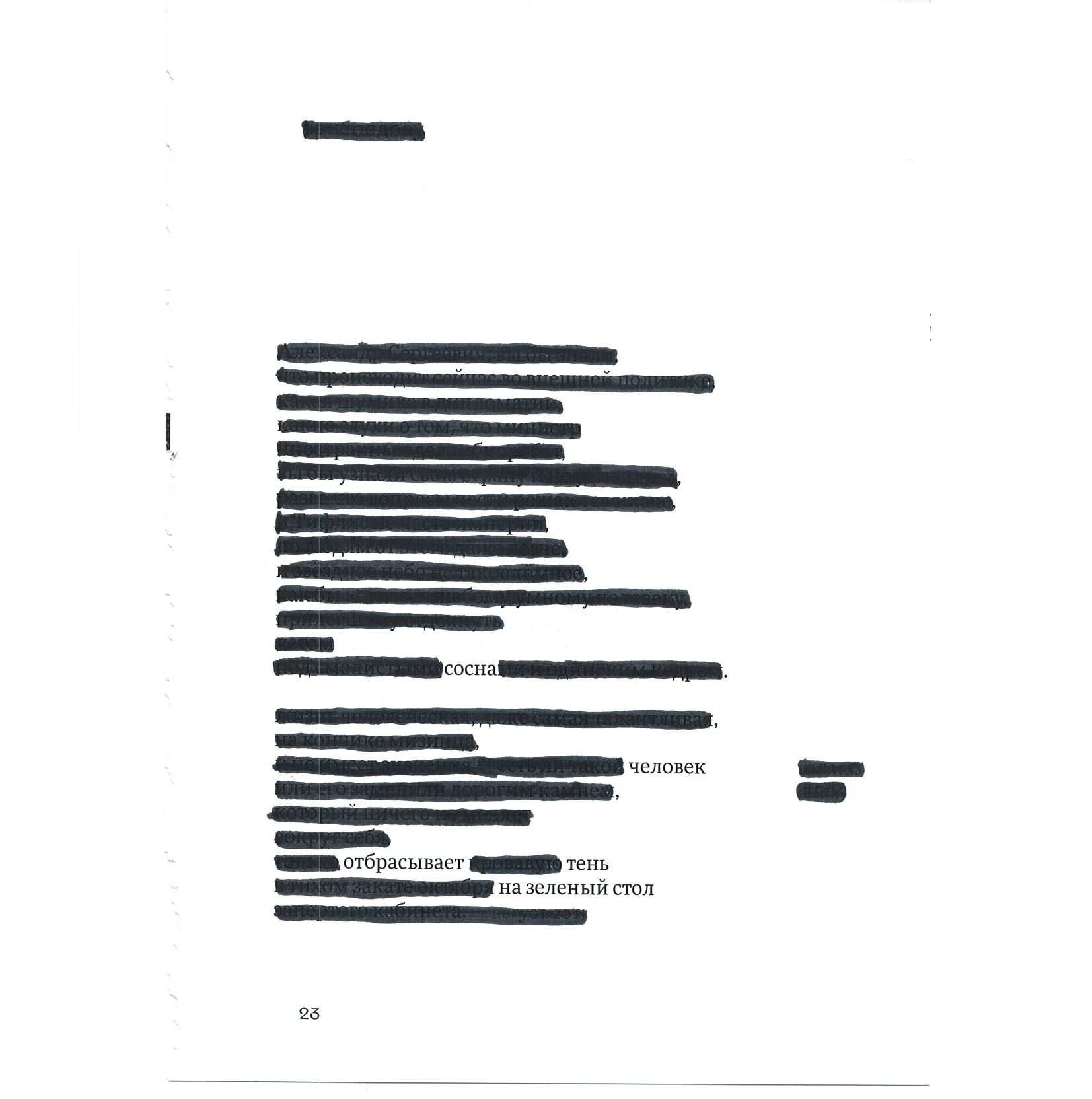
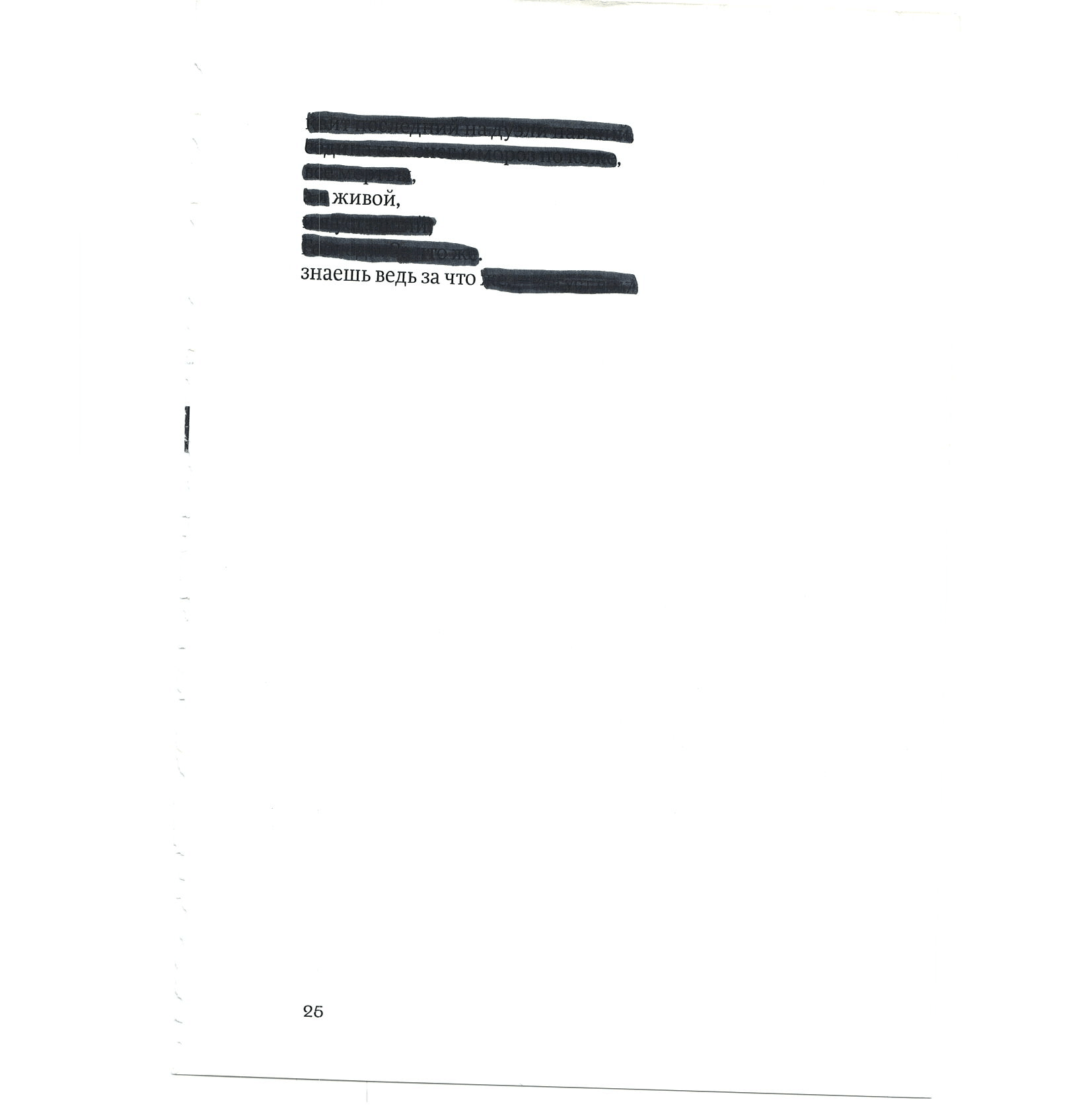
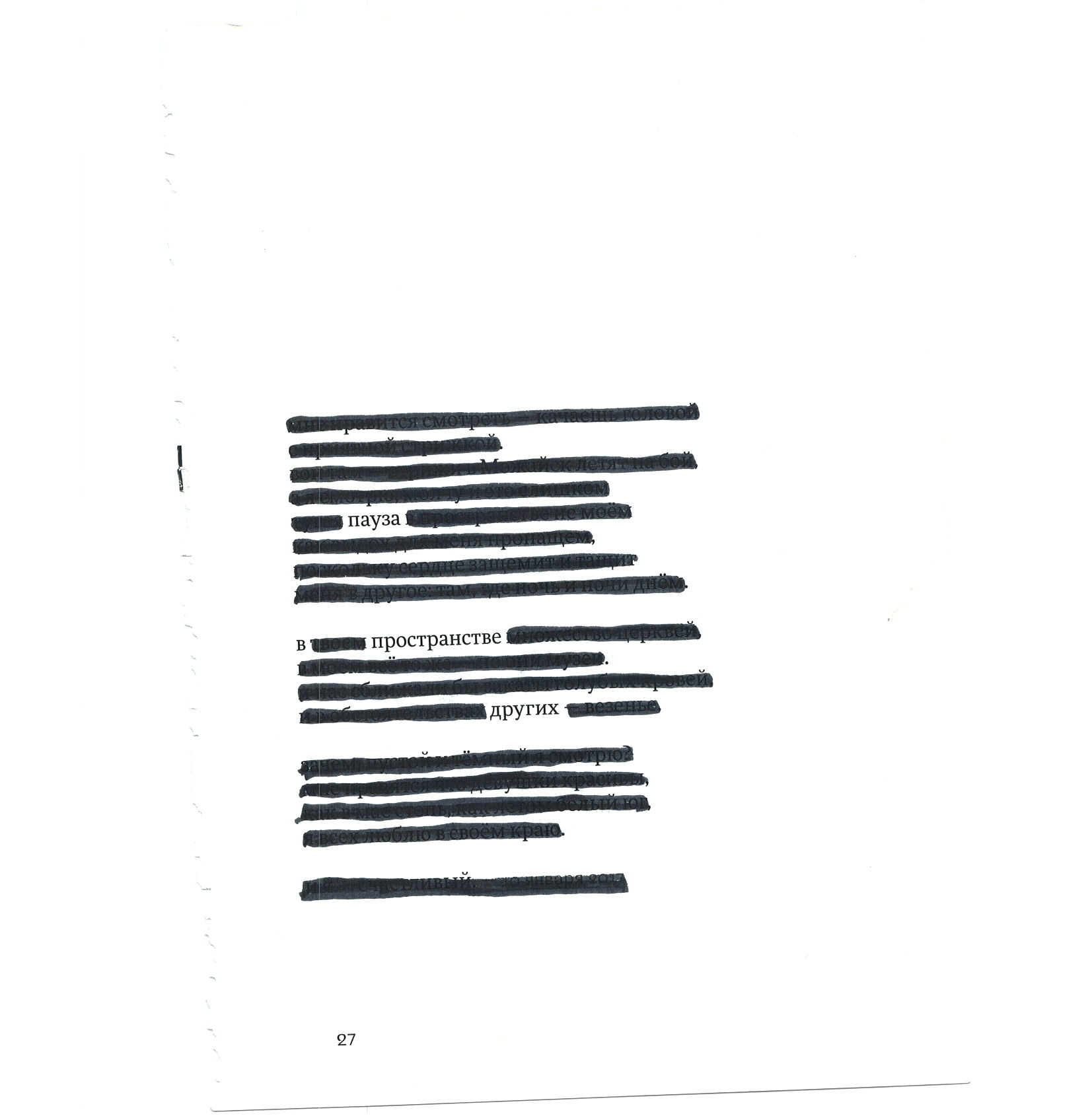
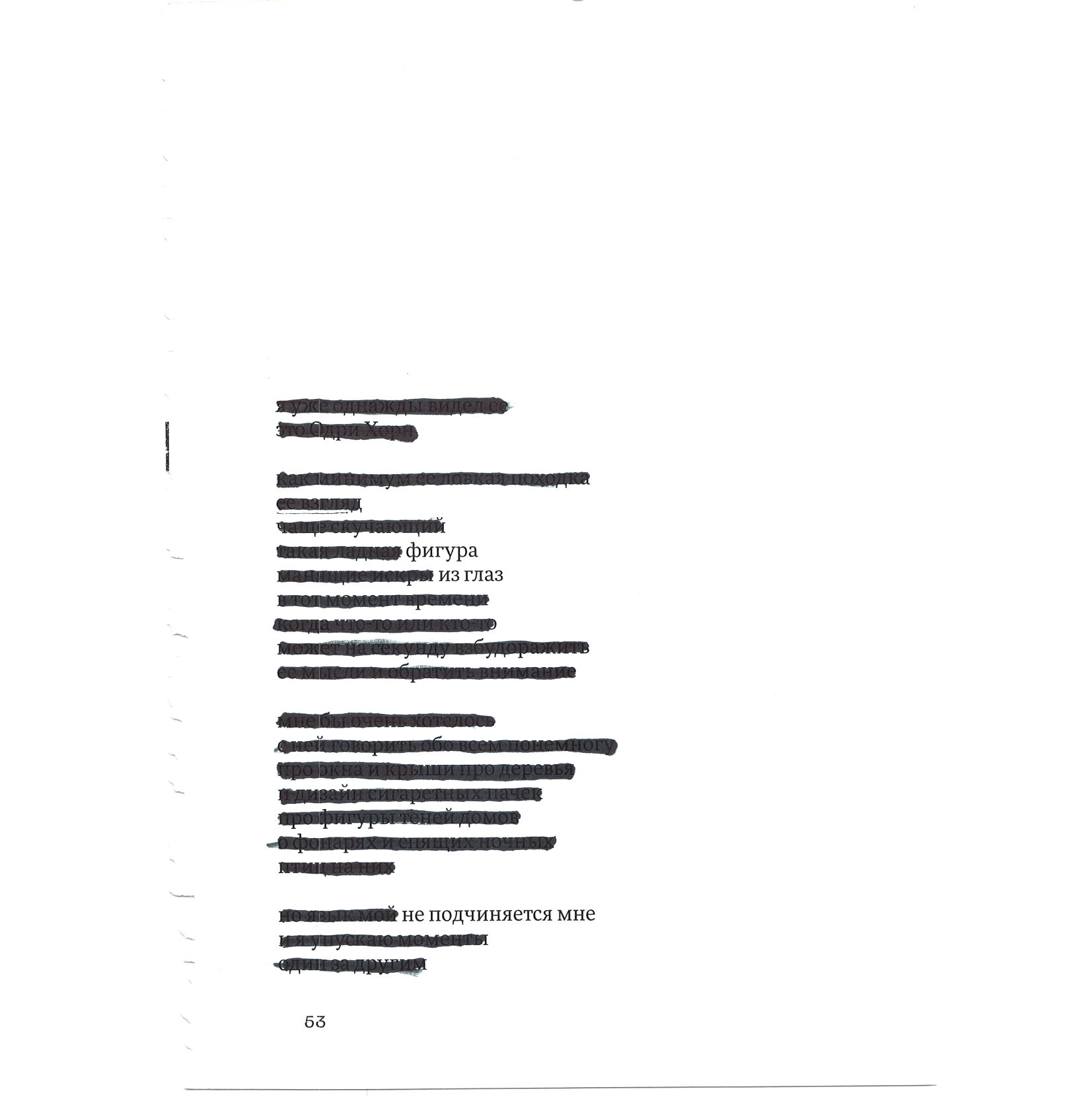
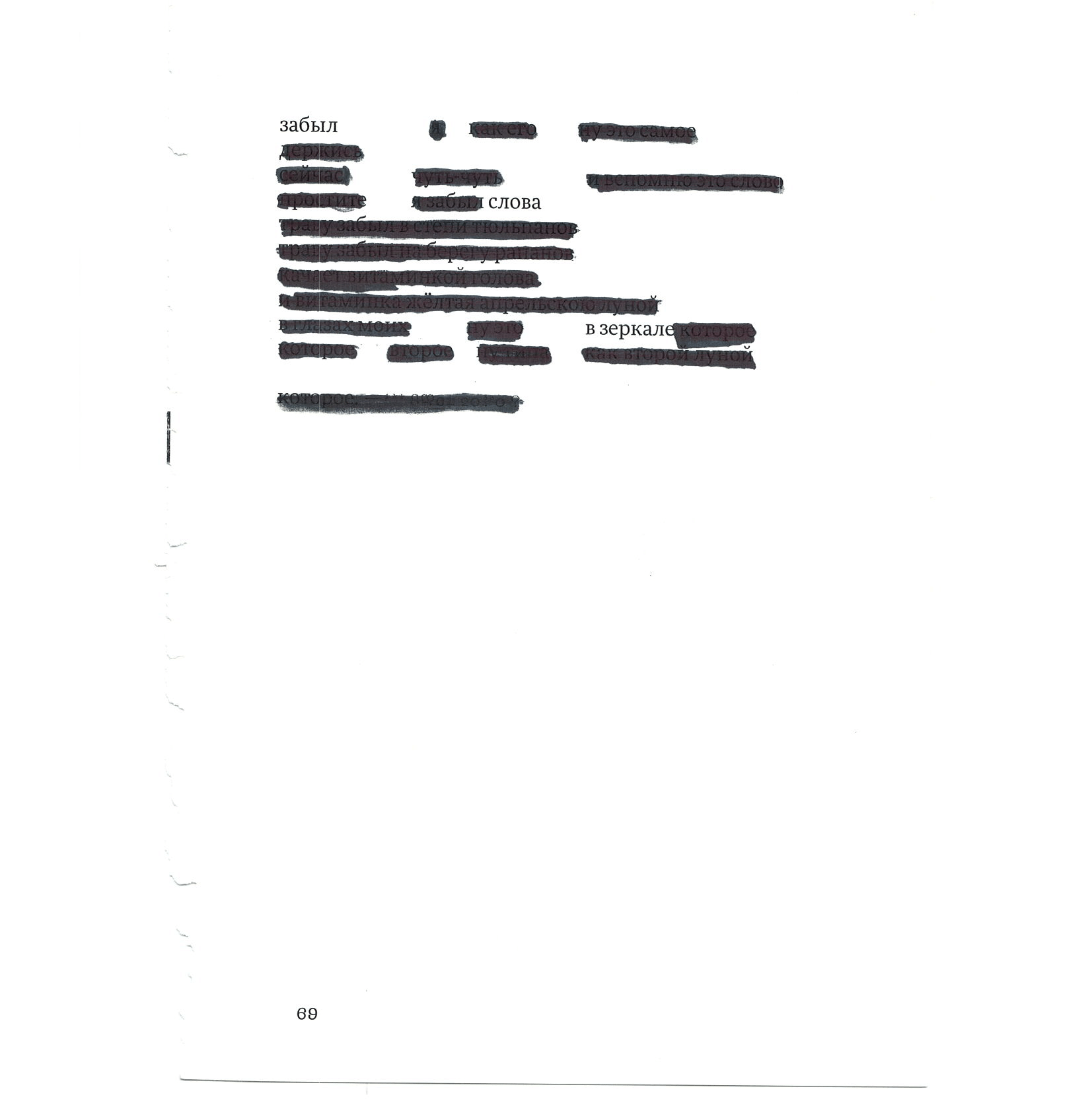
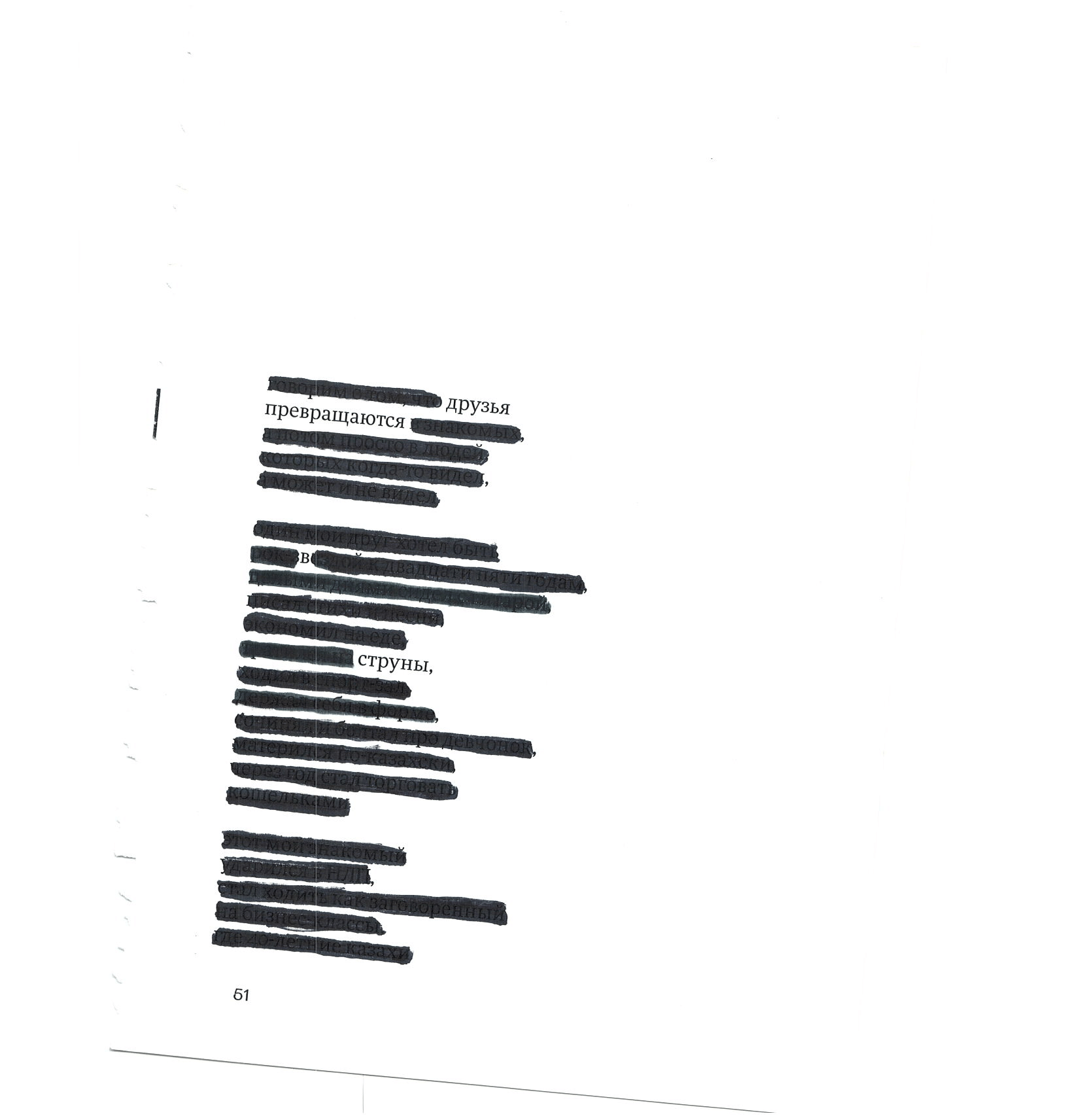
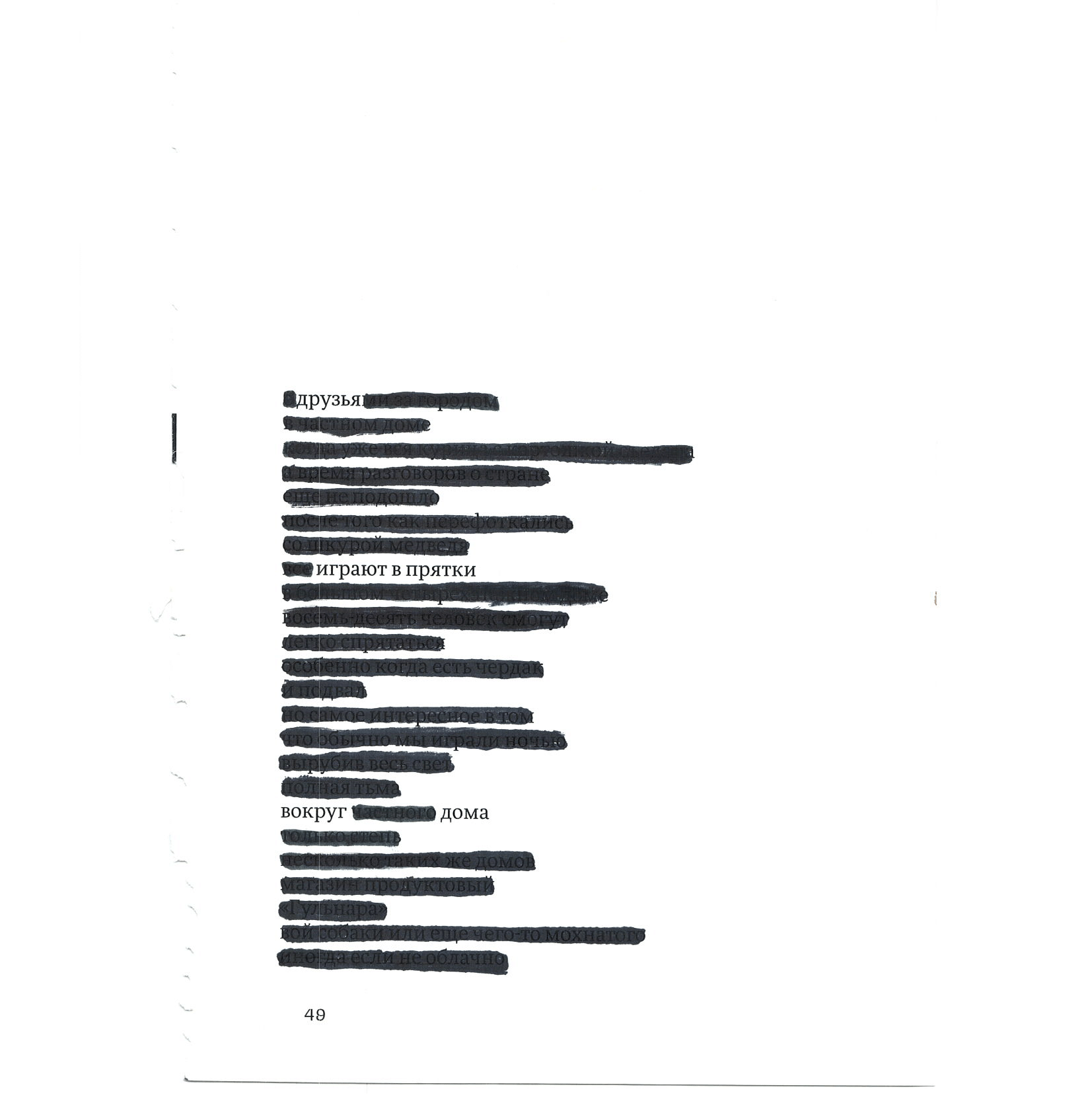
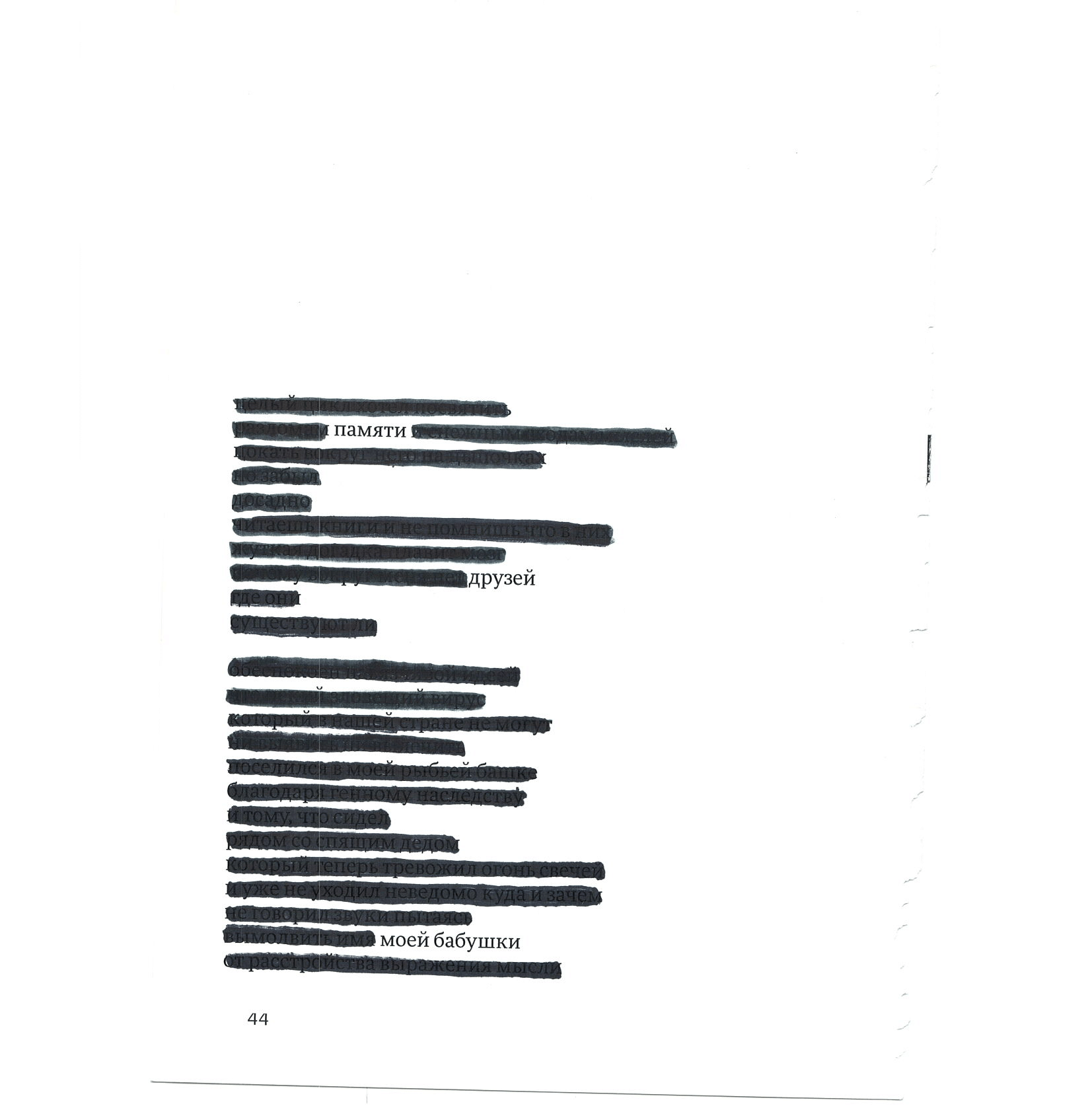
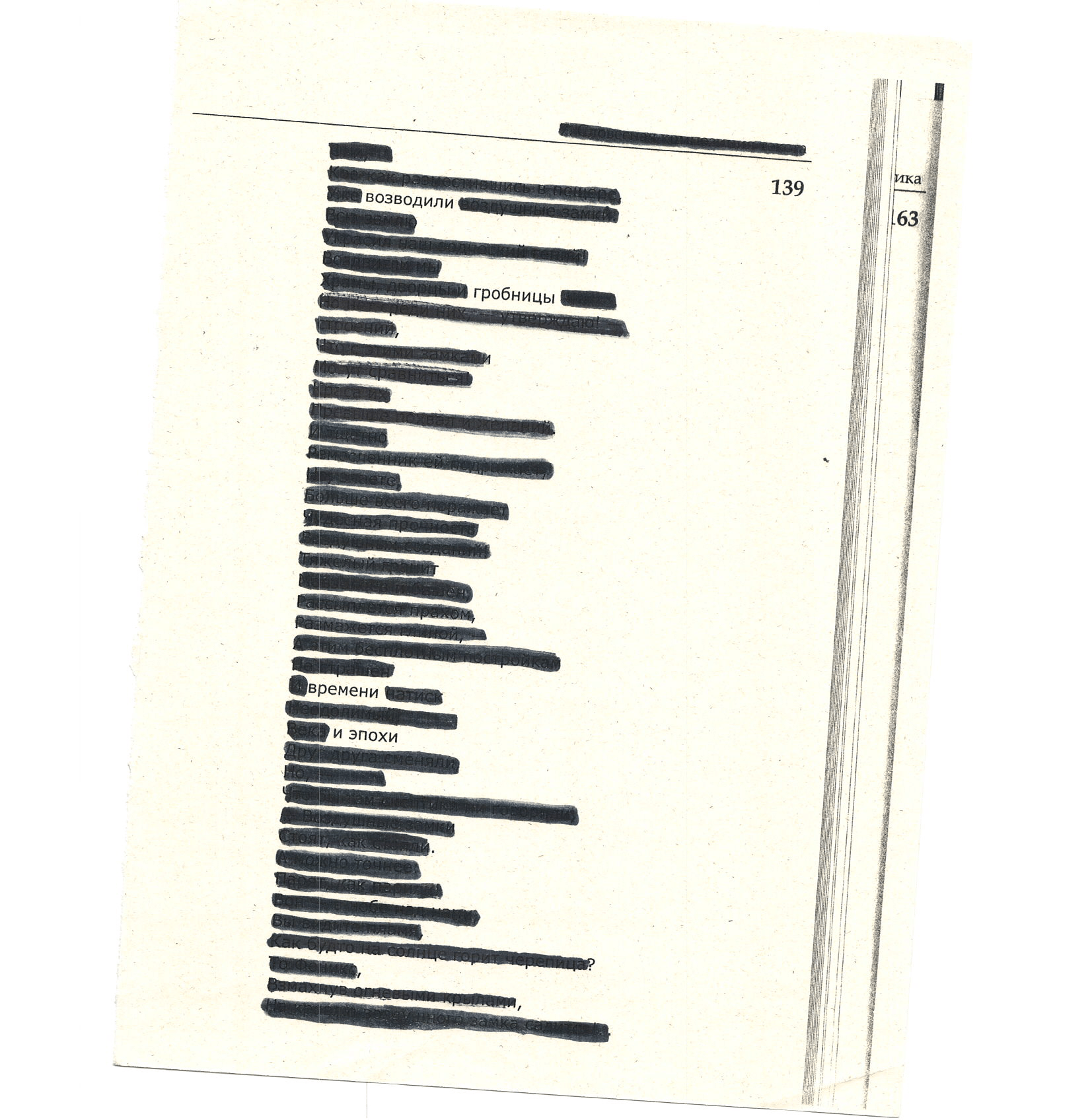
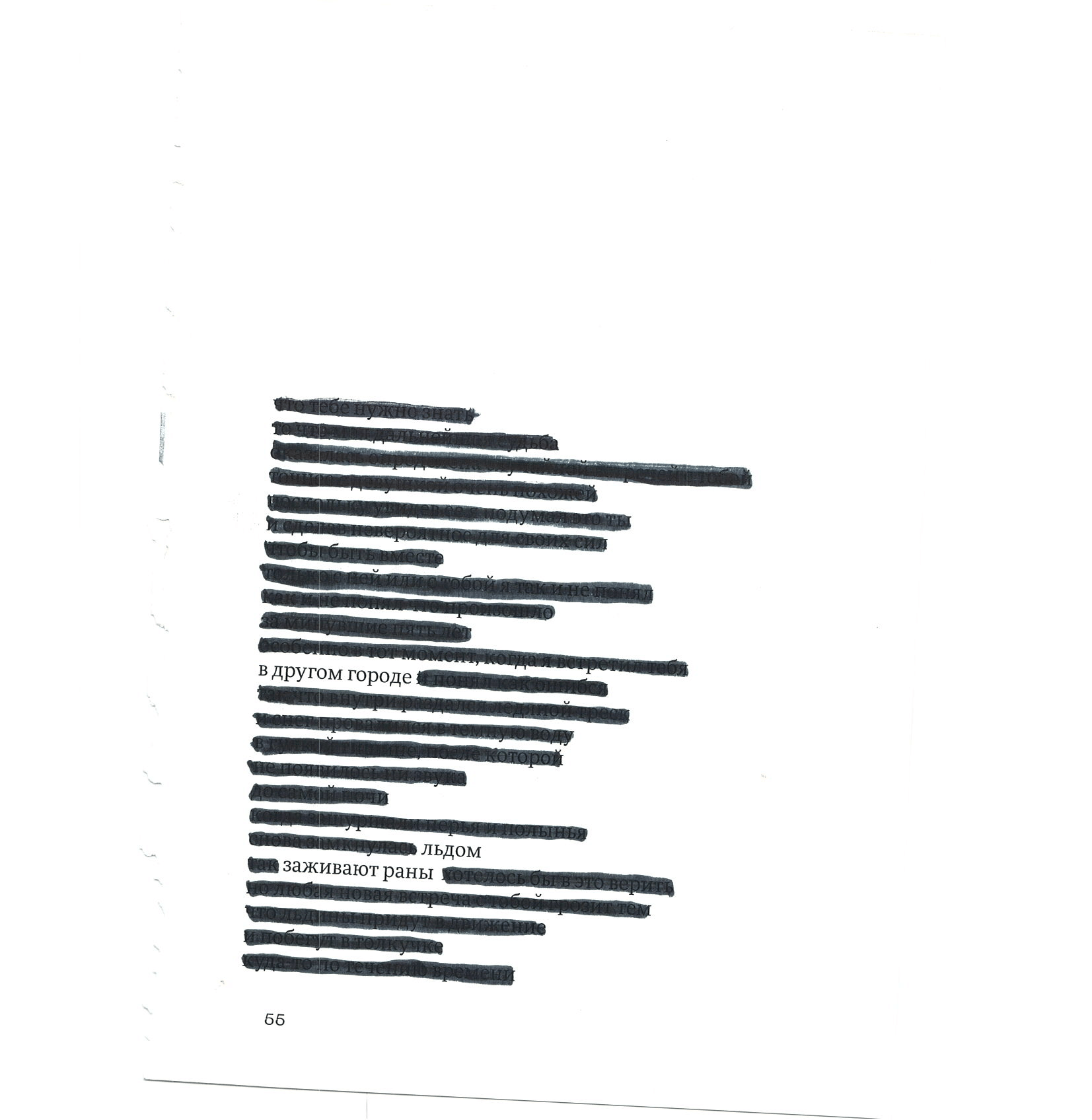
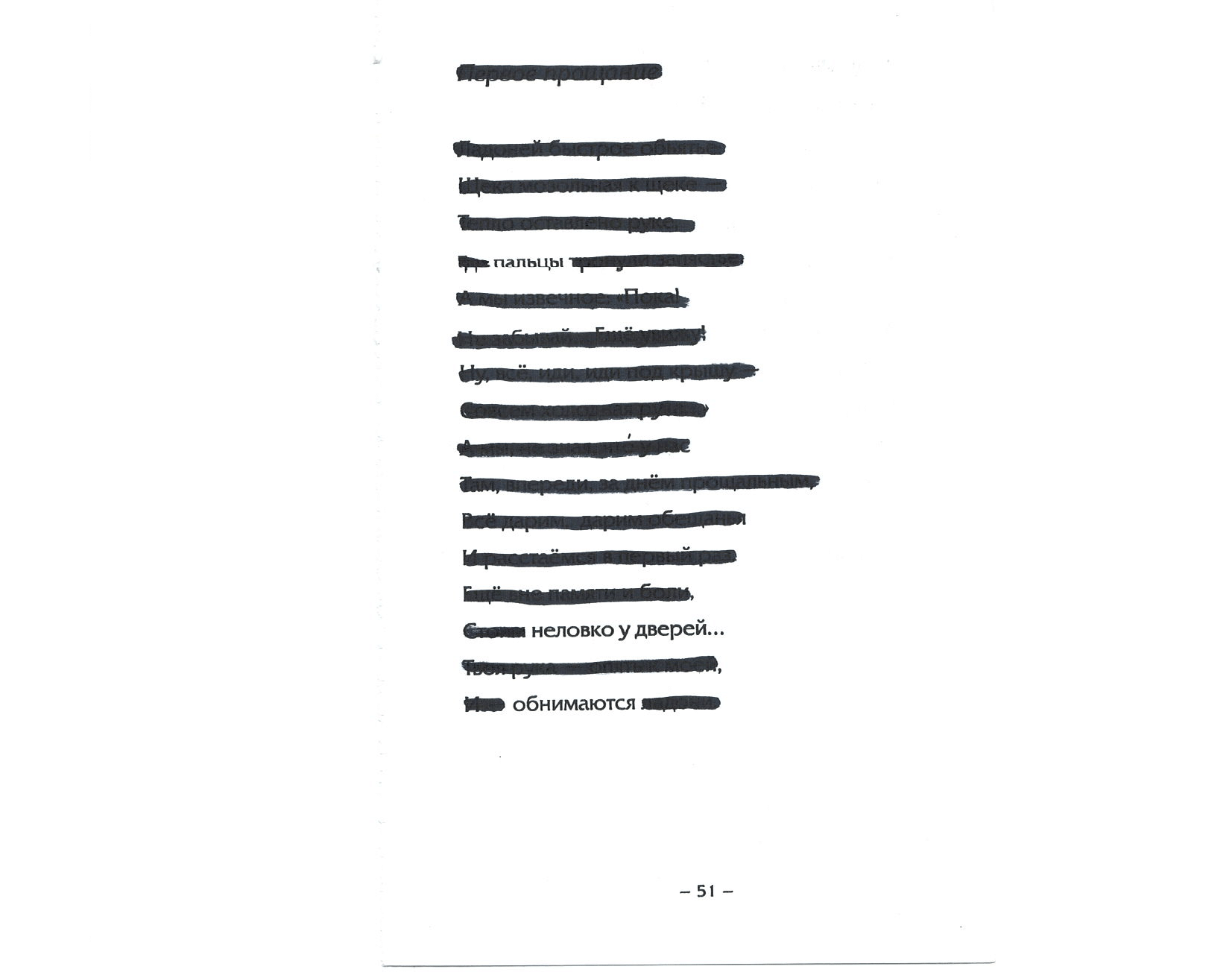
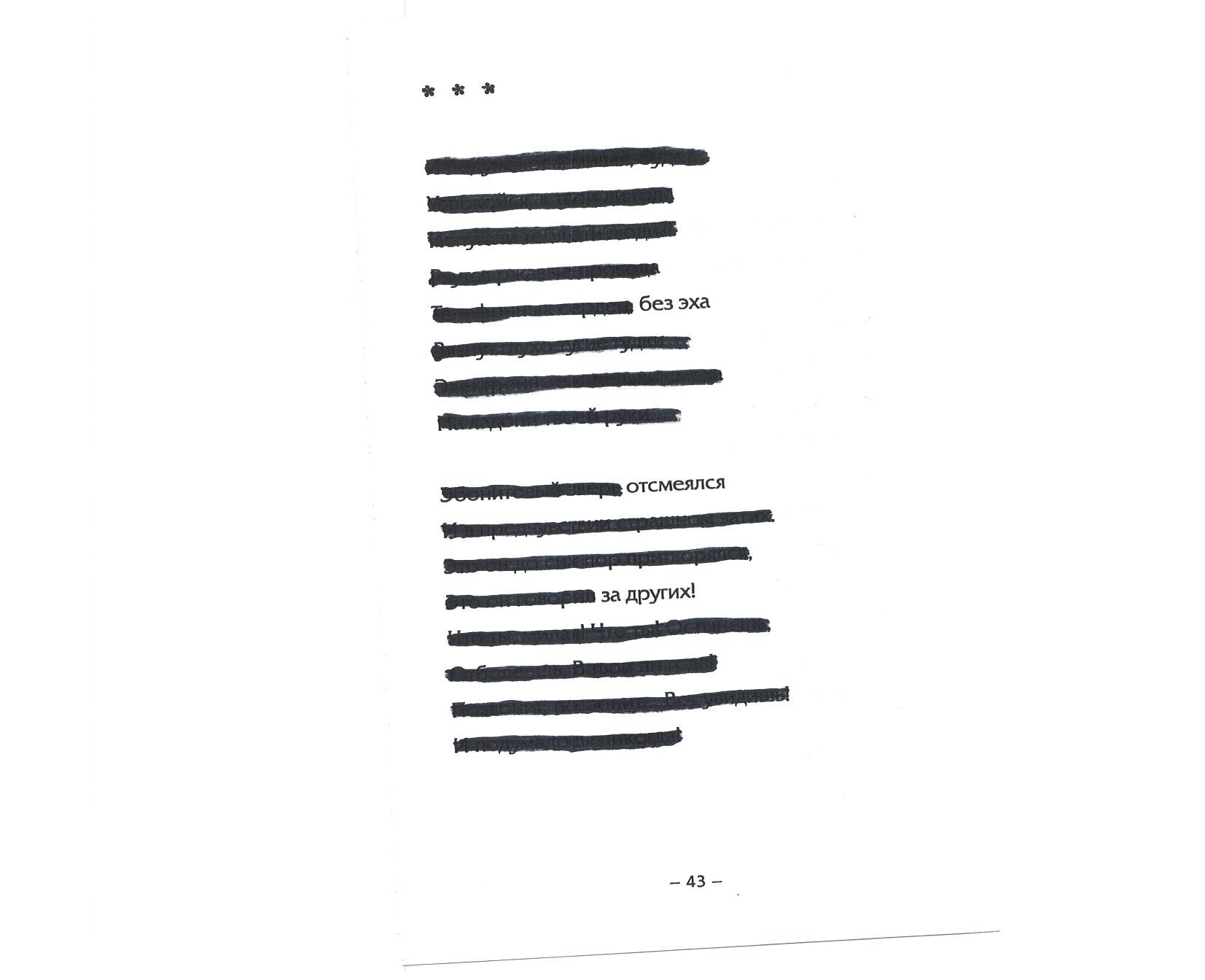
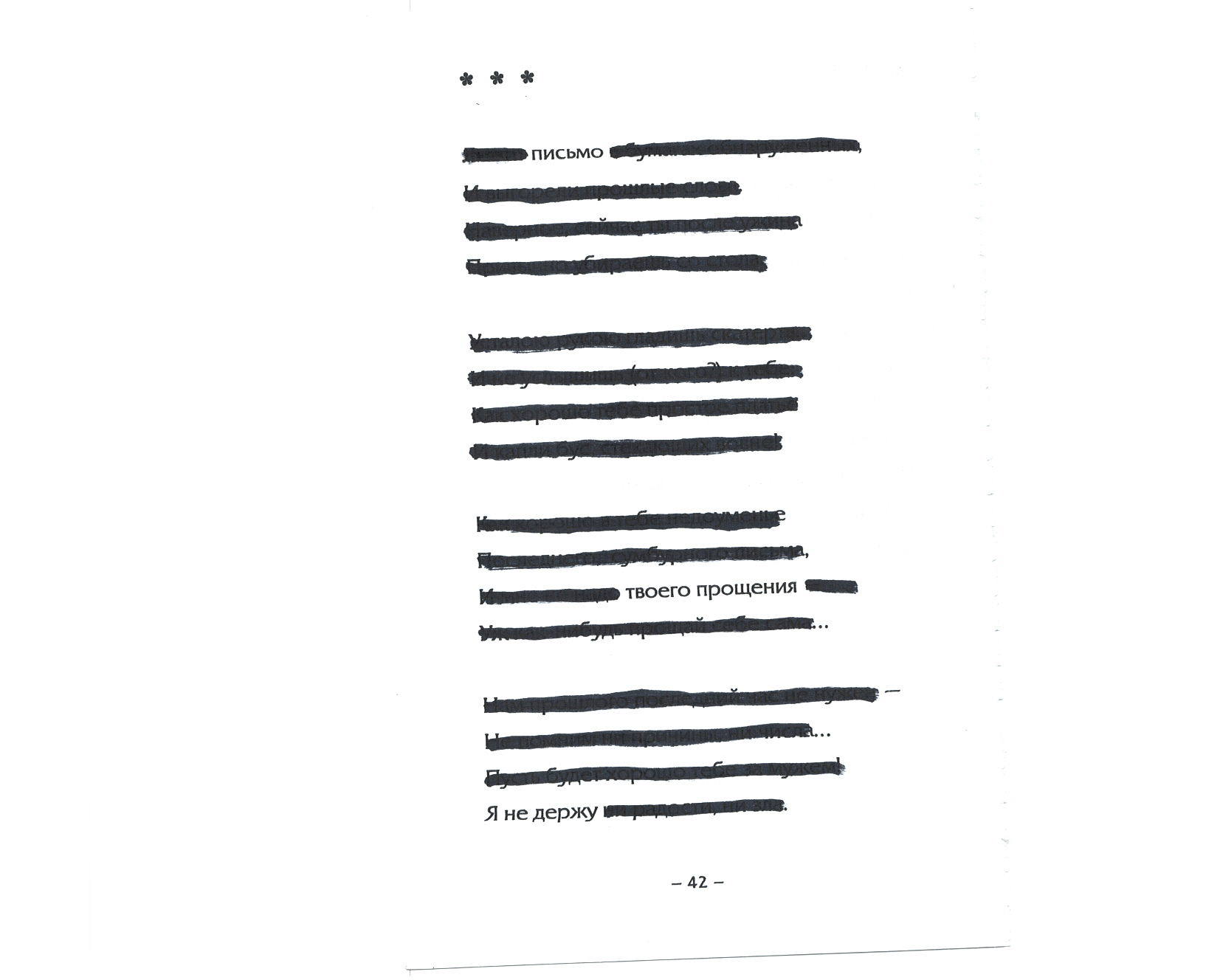
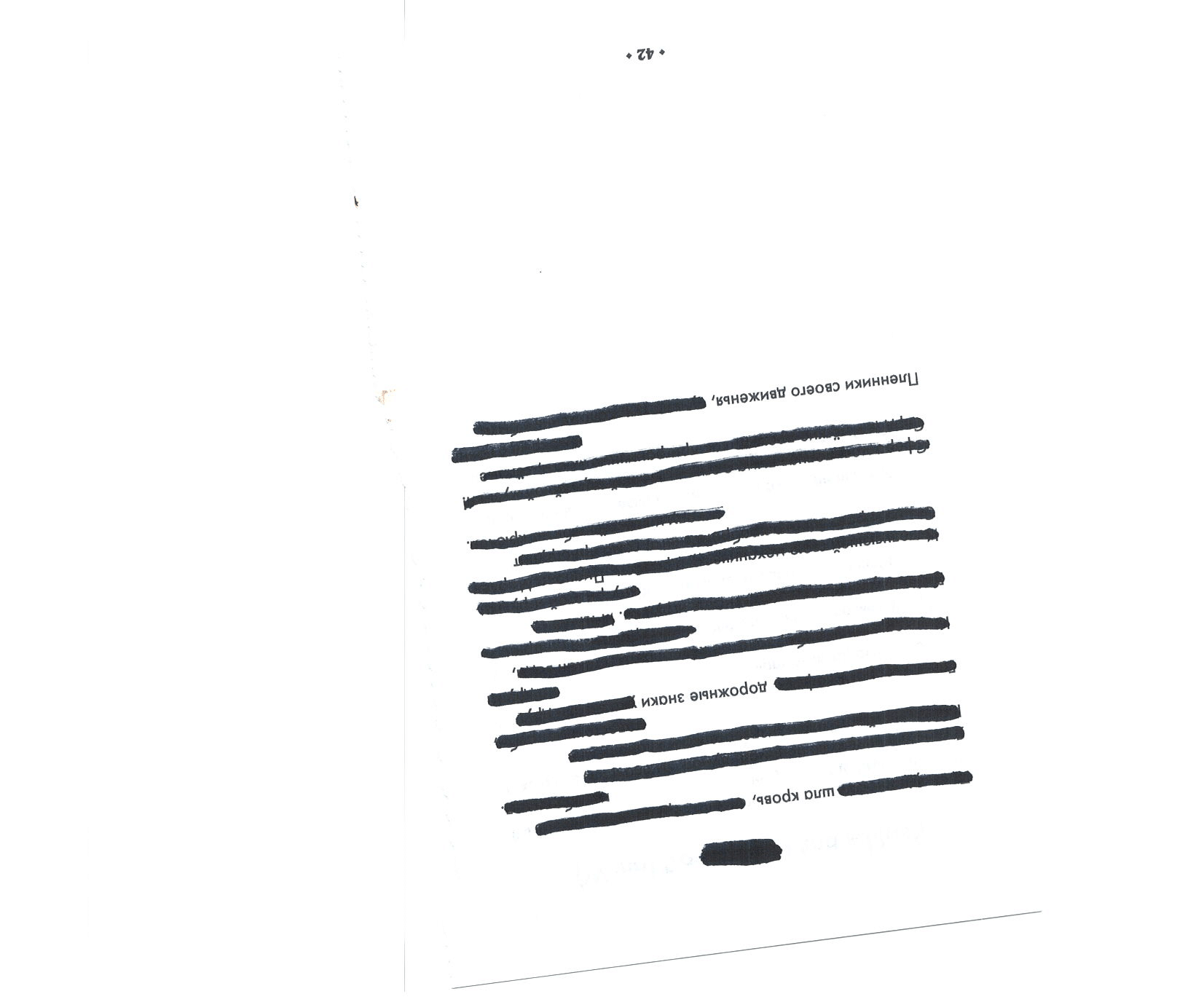

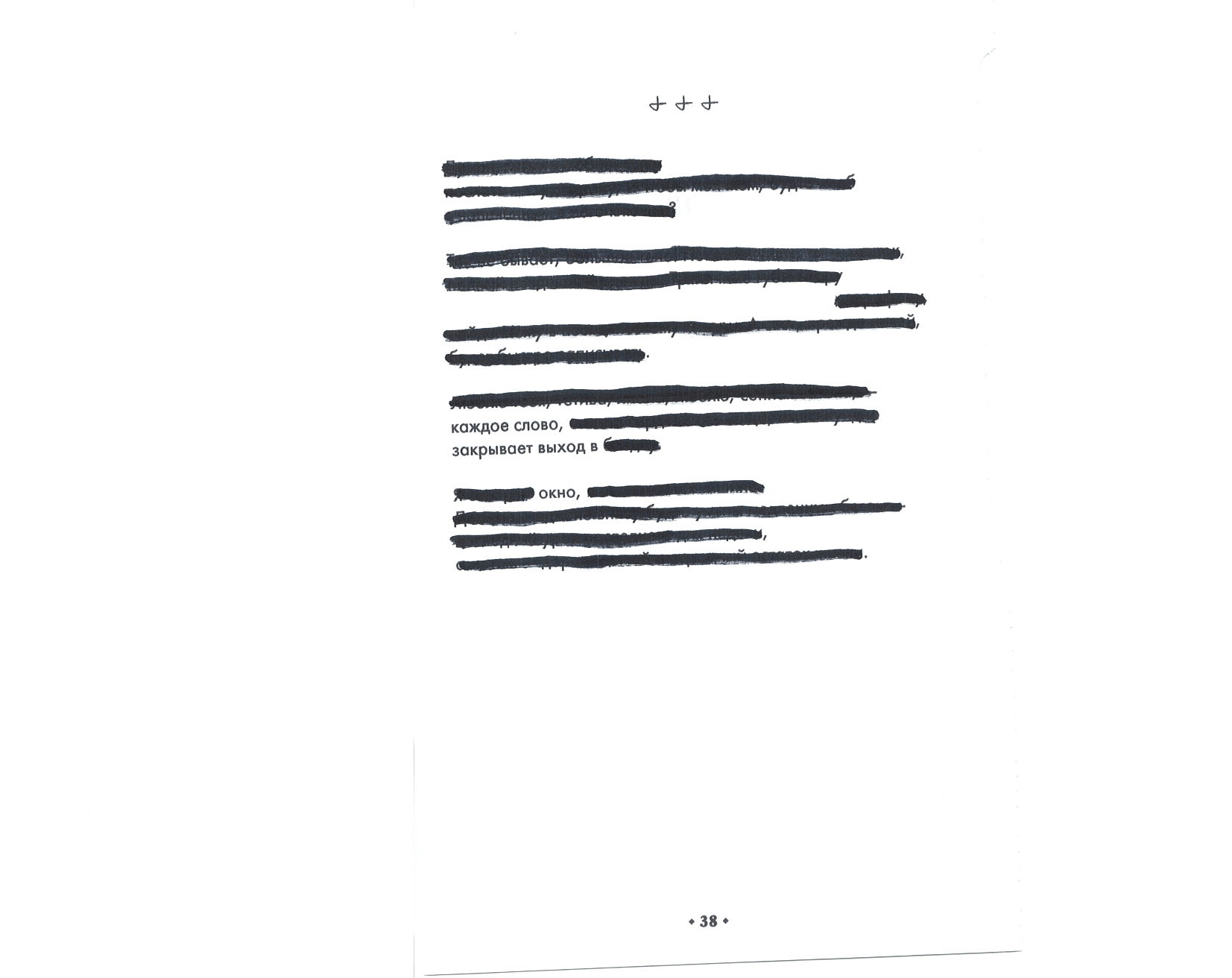
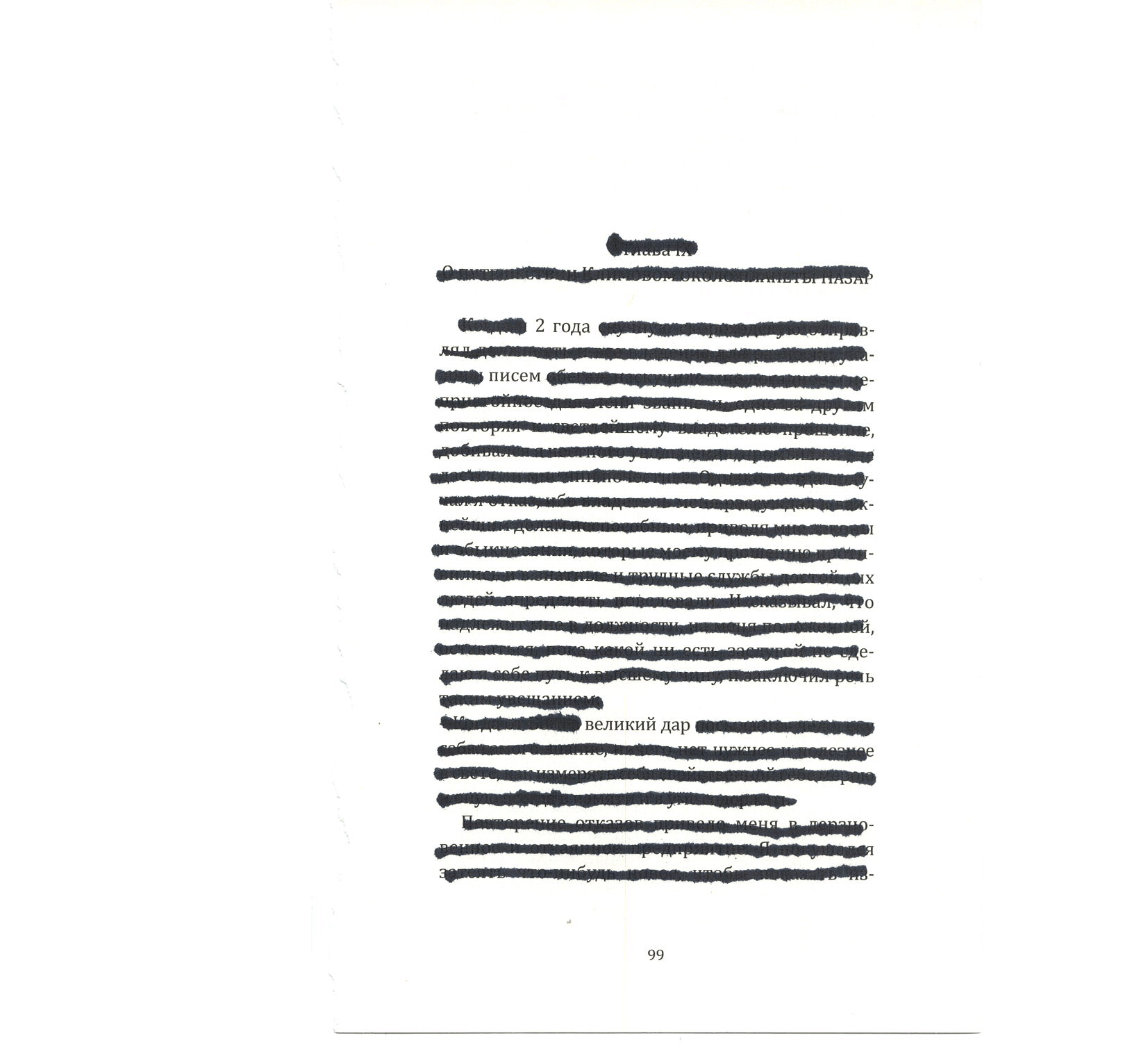
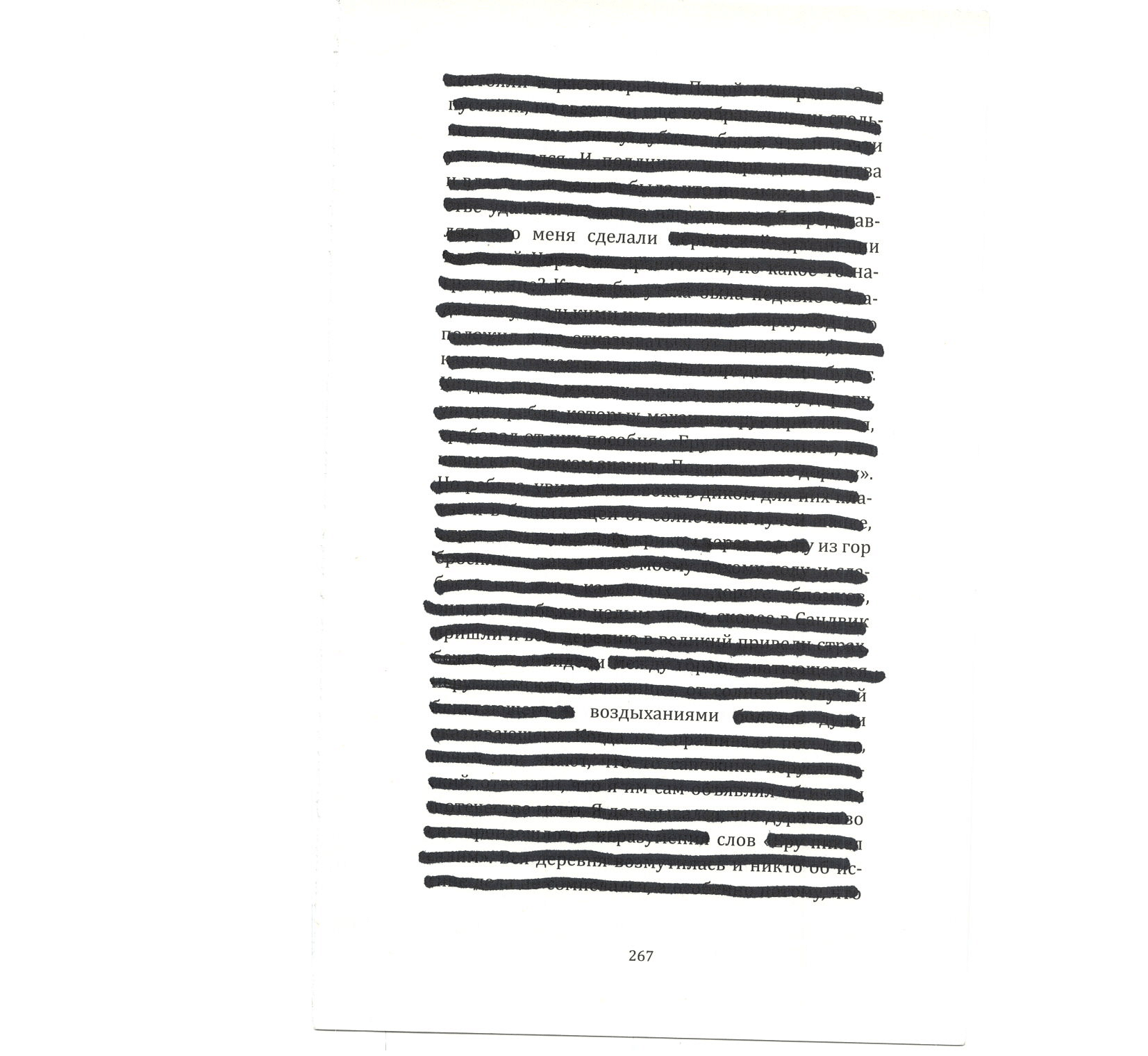
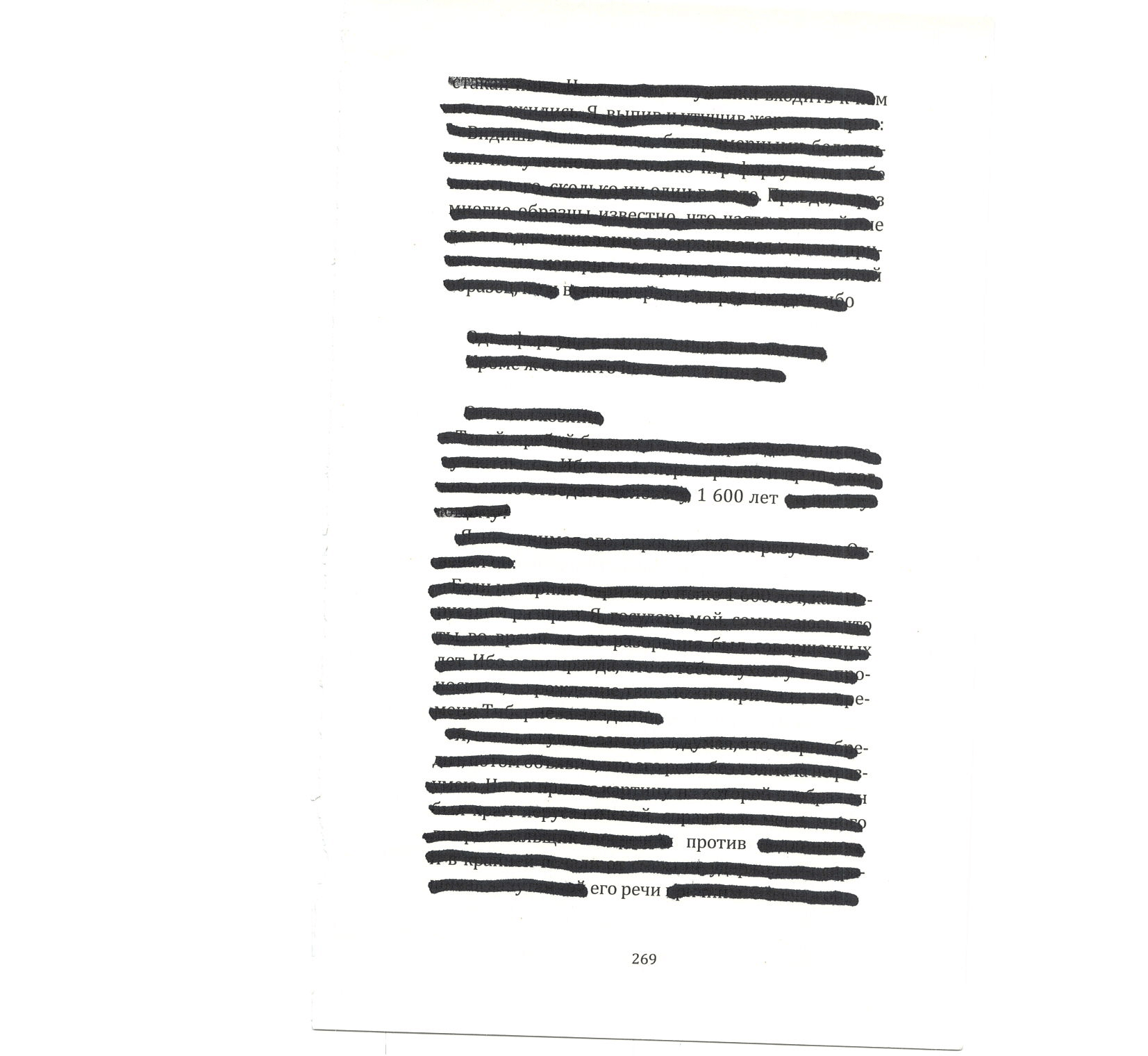
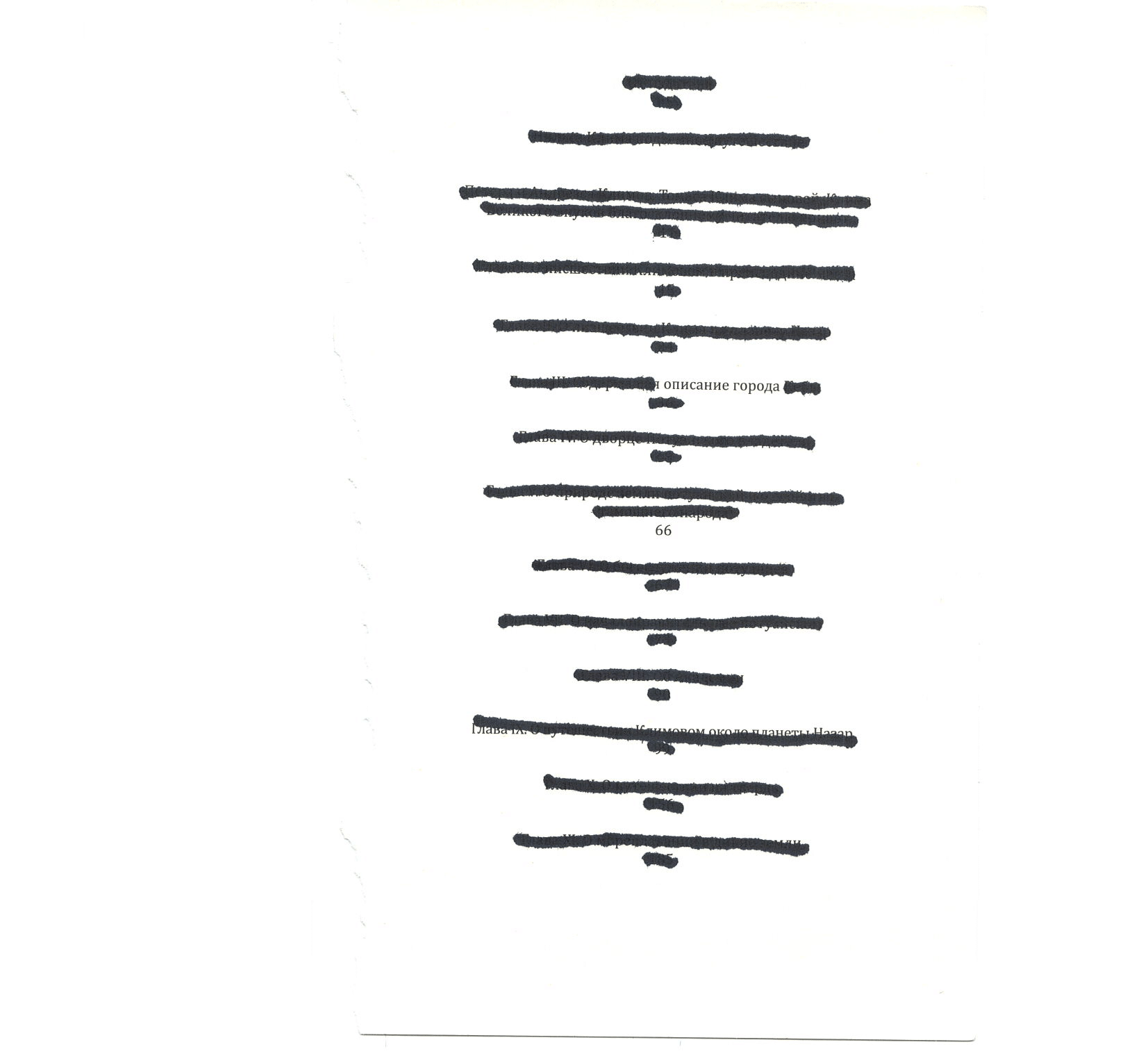
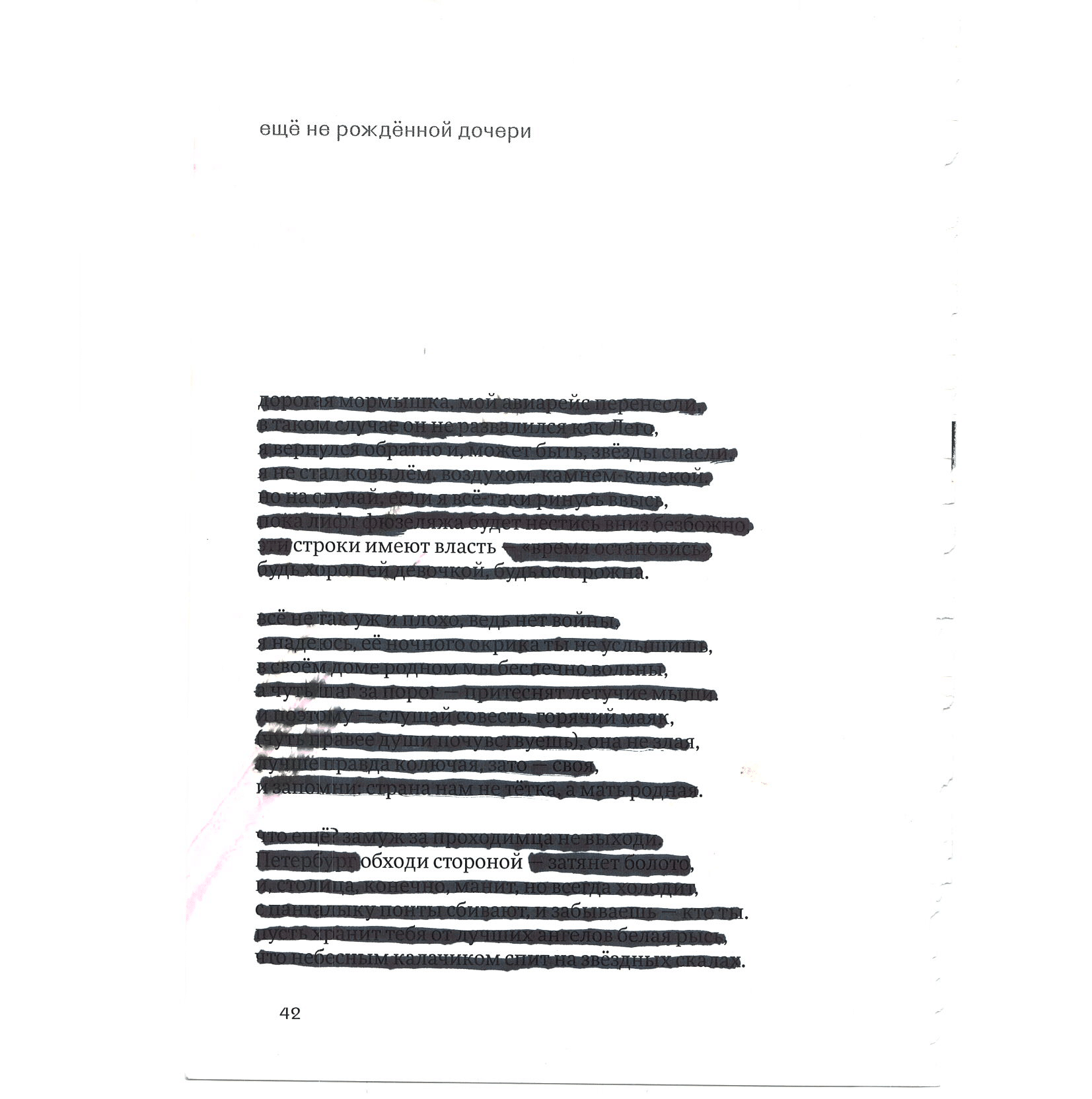
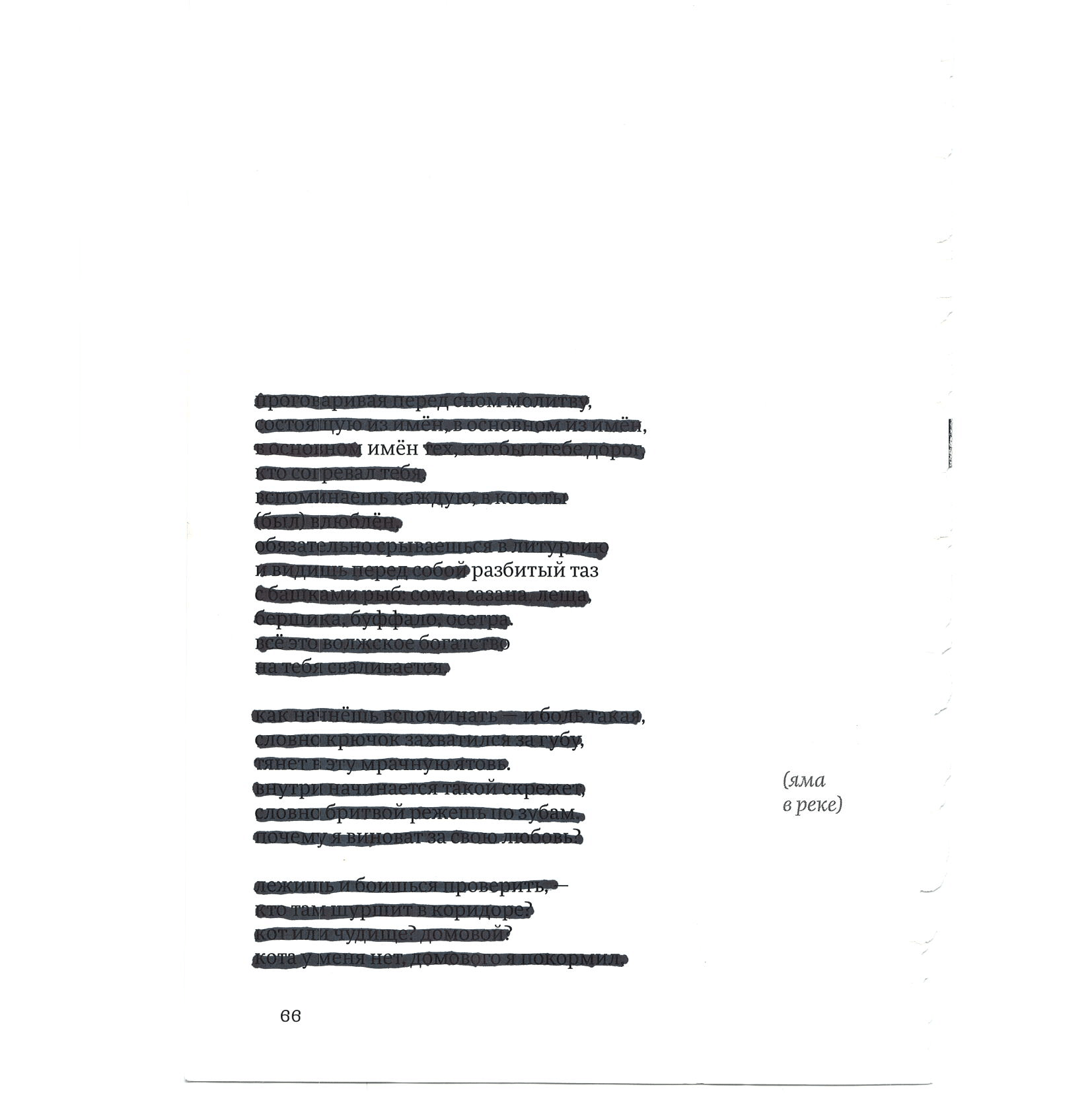
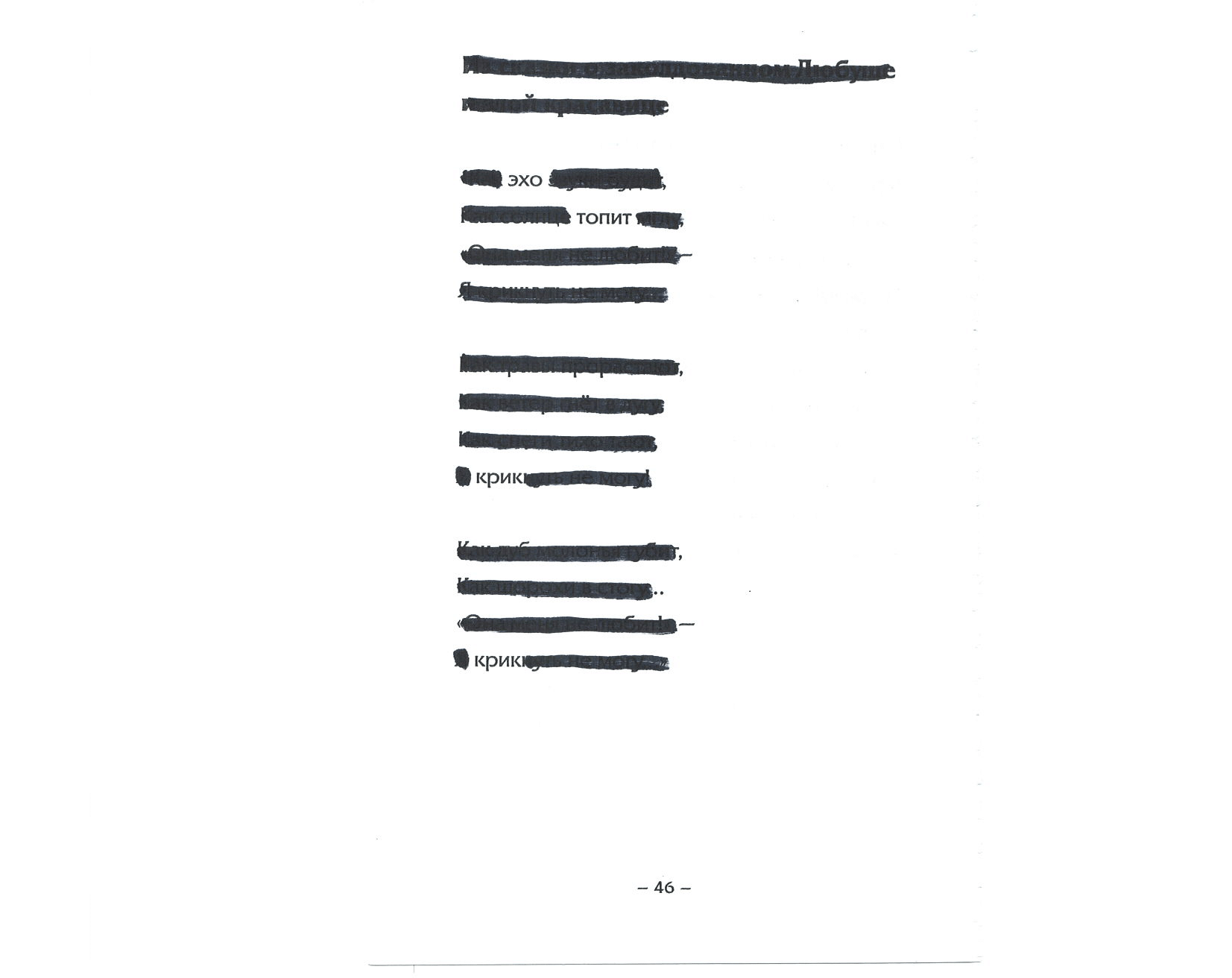
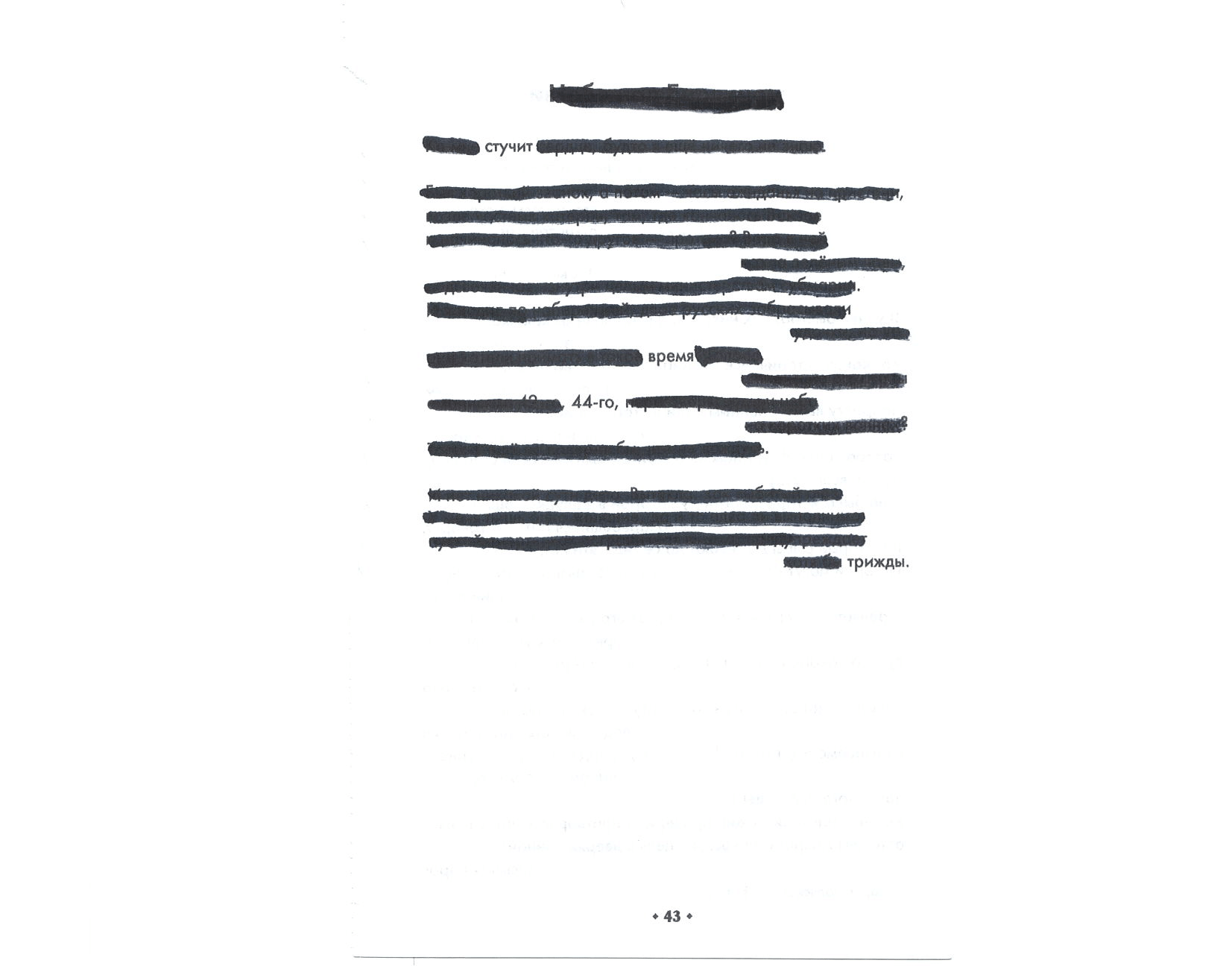
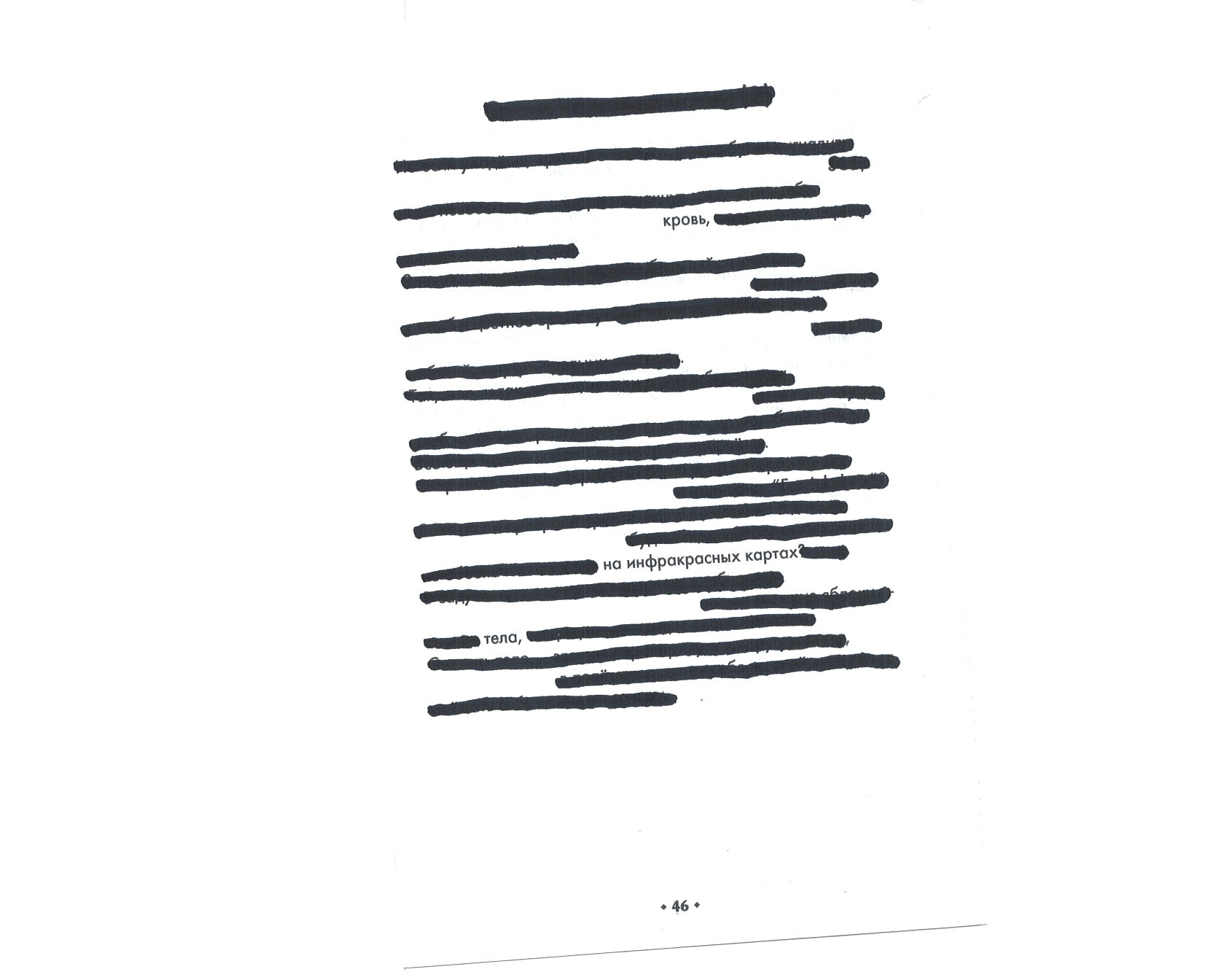
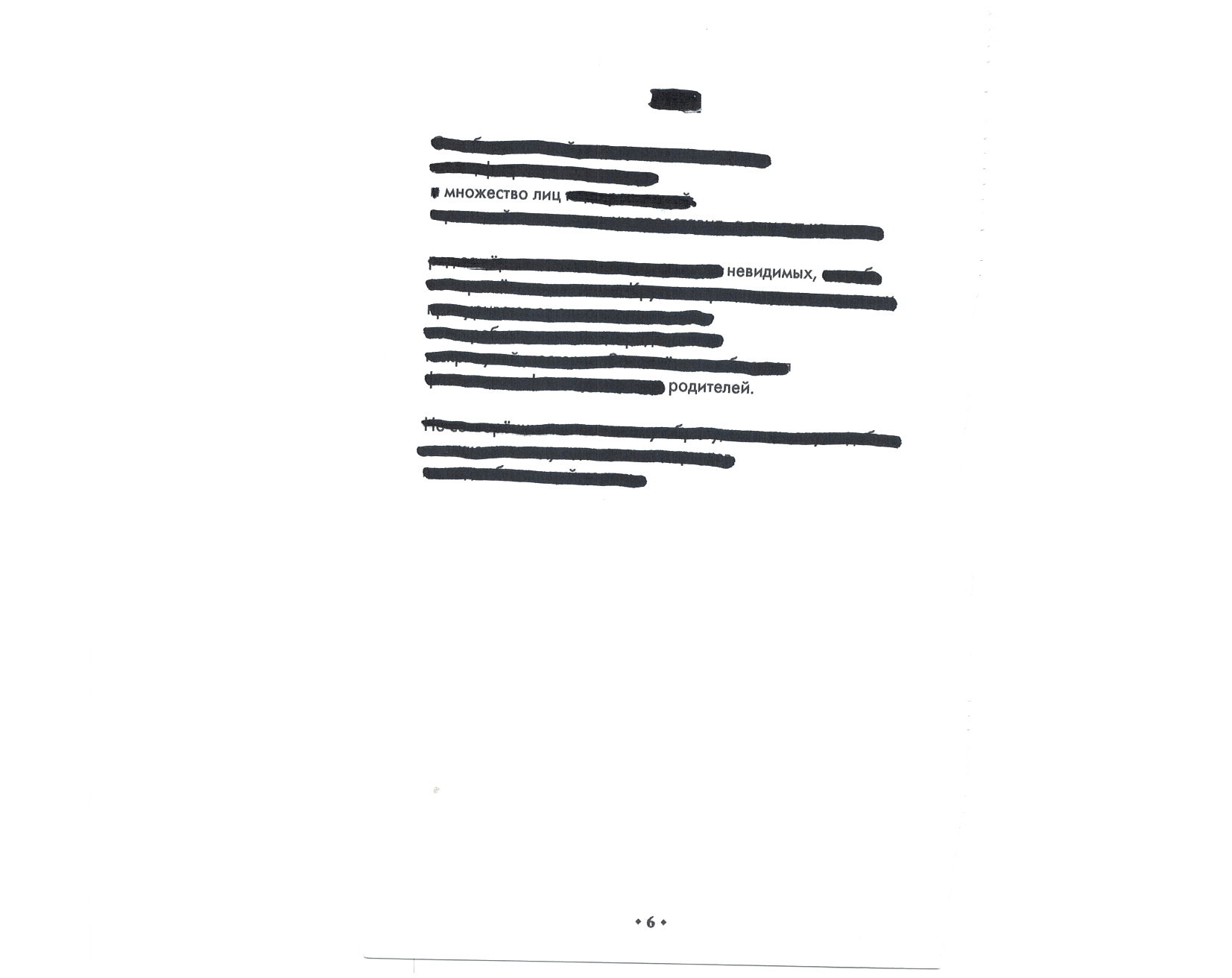
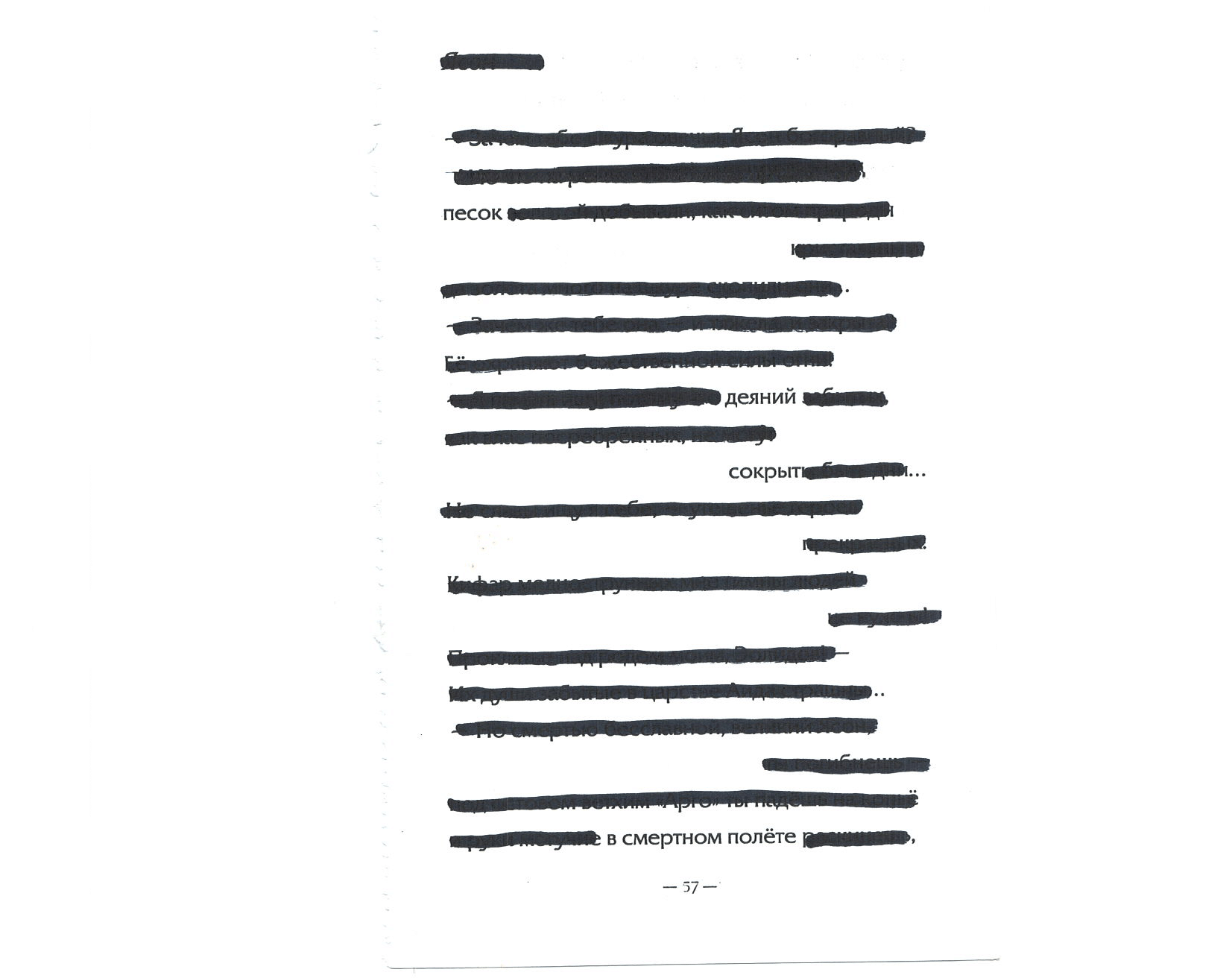
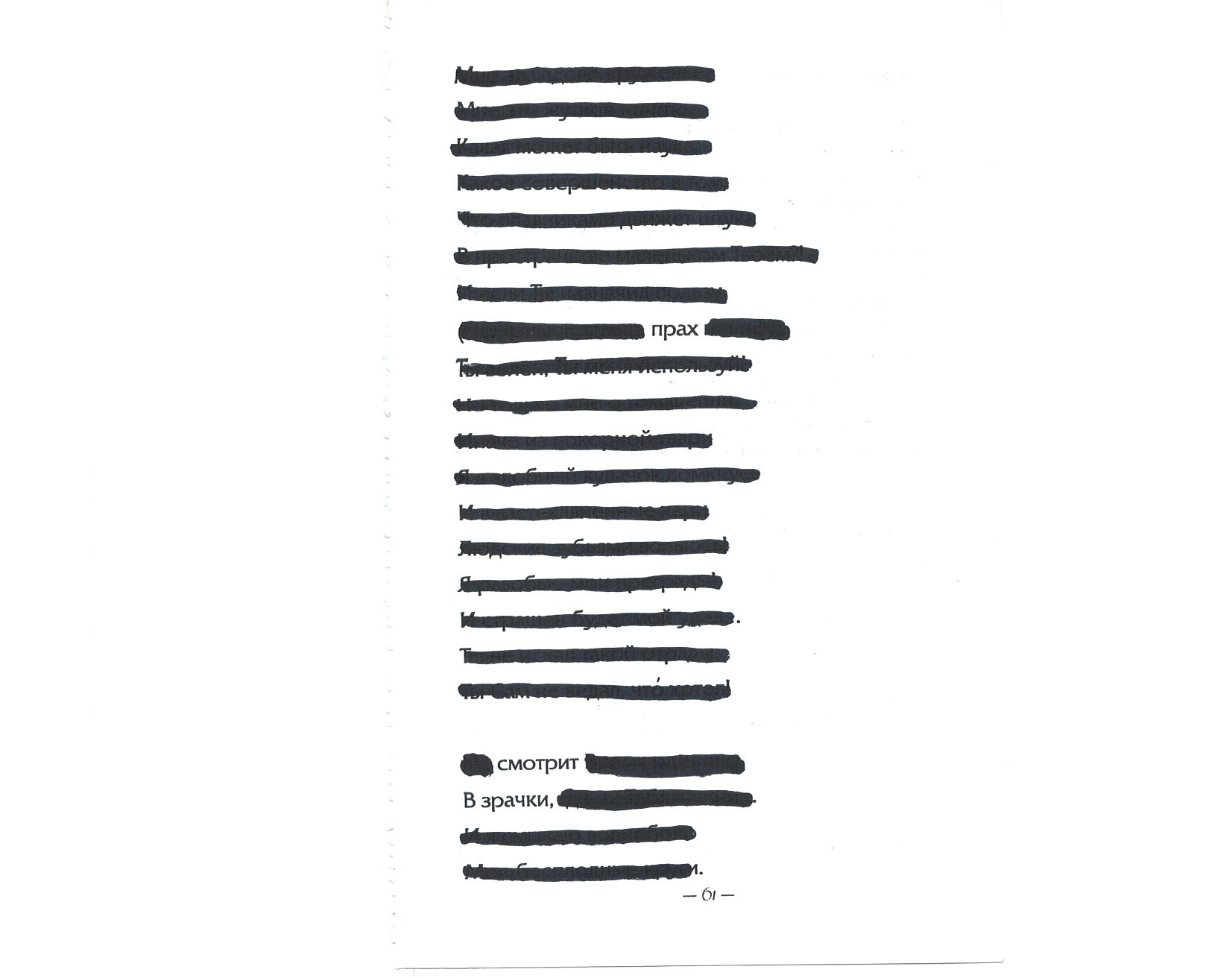
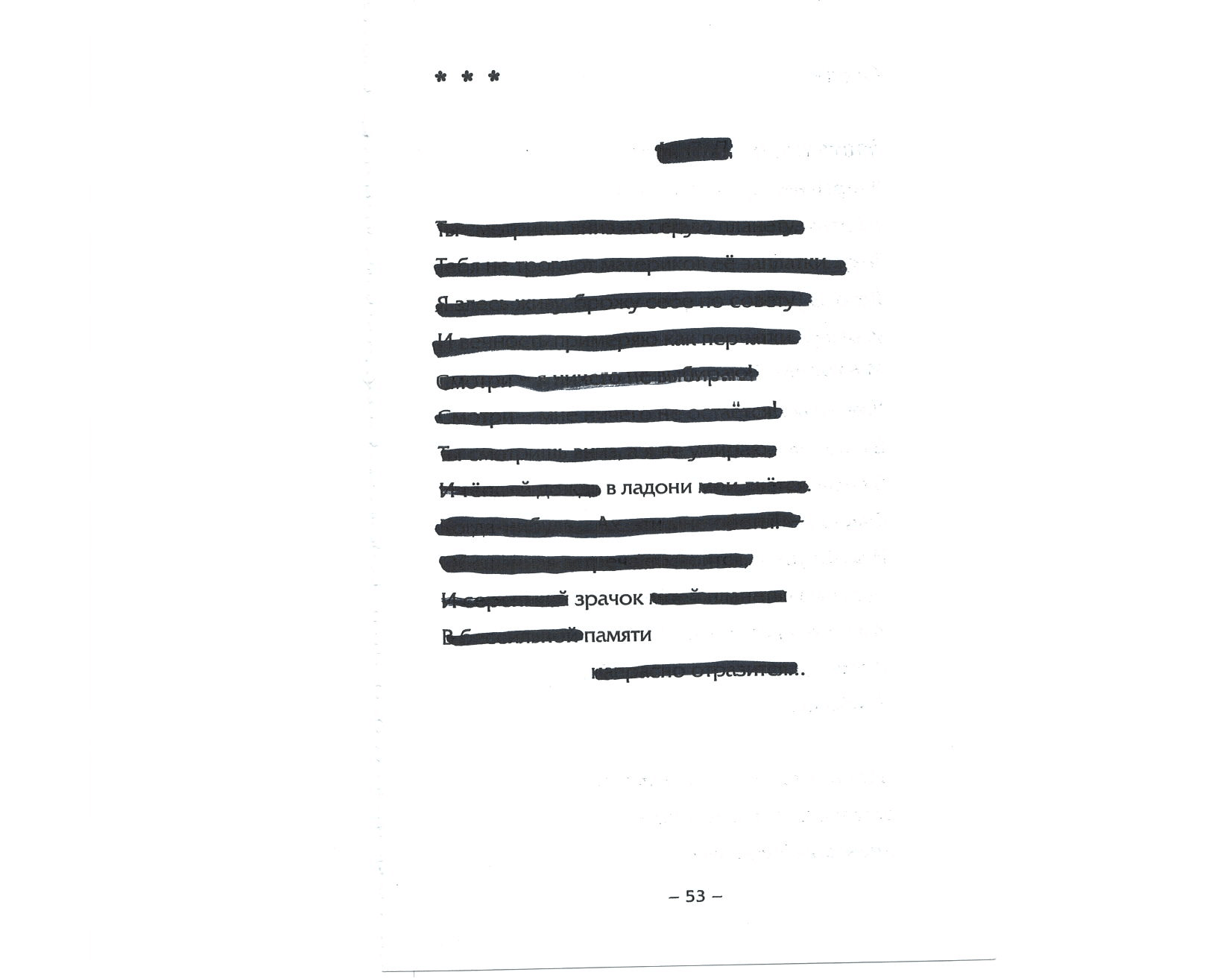
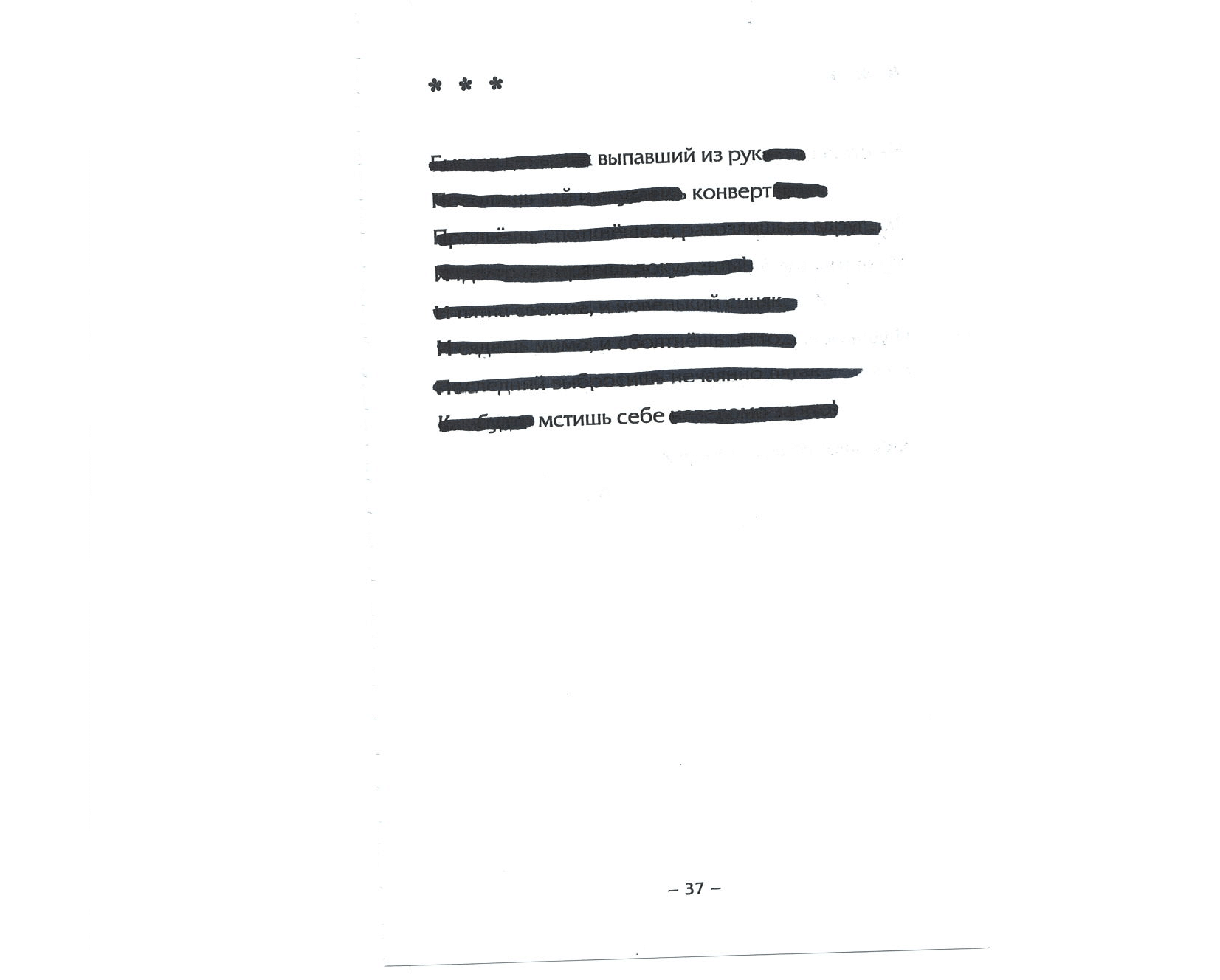
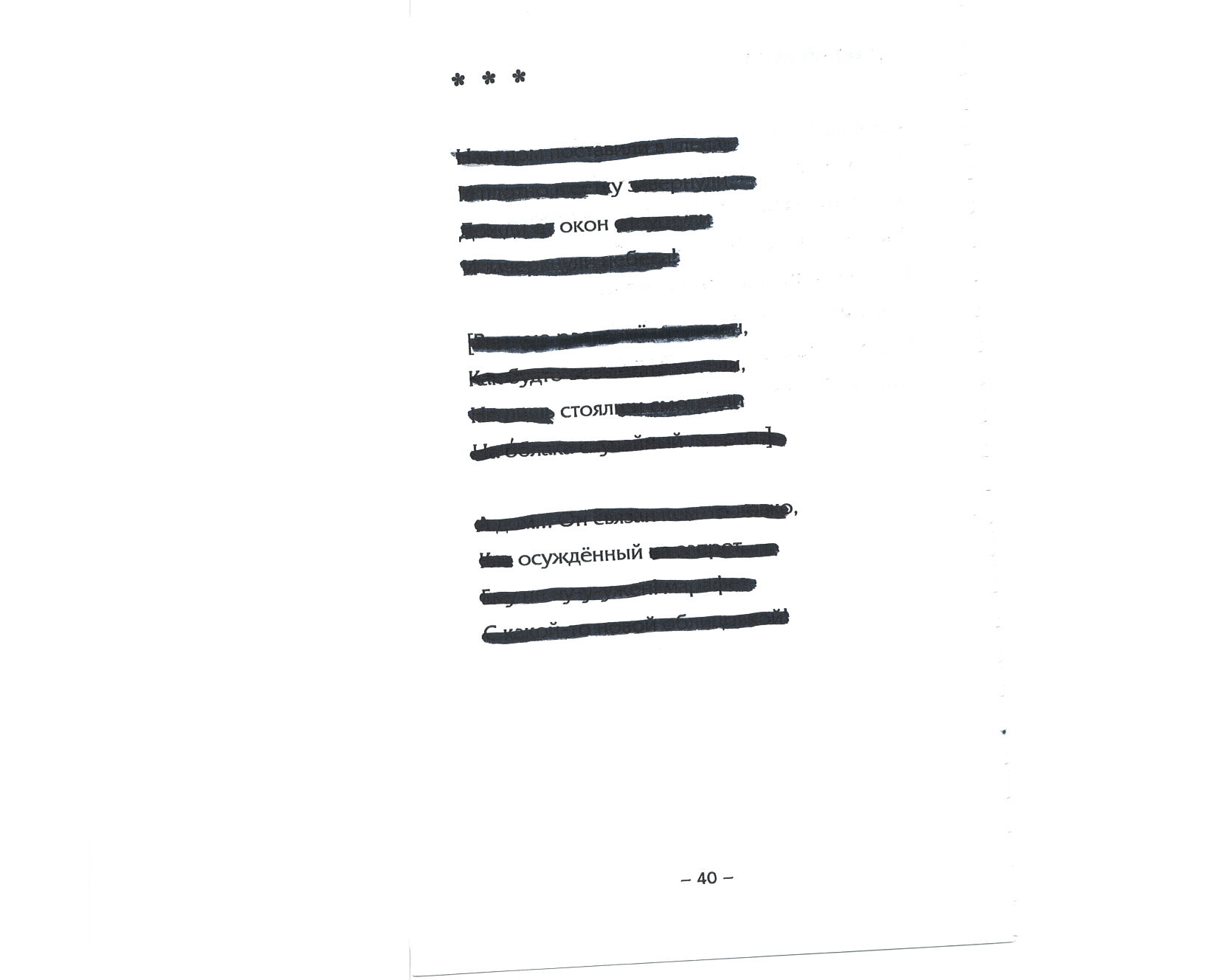
Четыре блэкаута
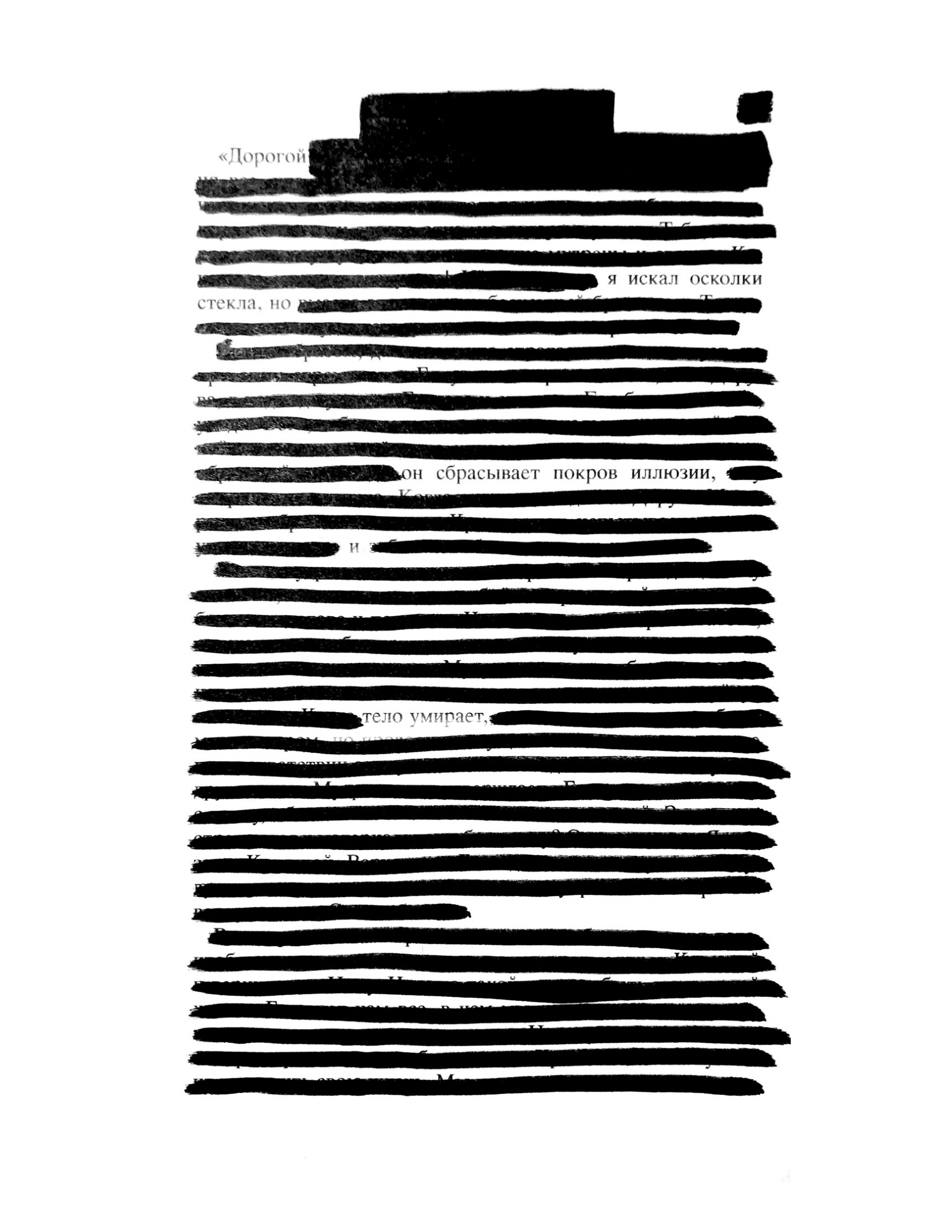
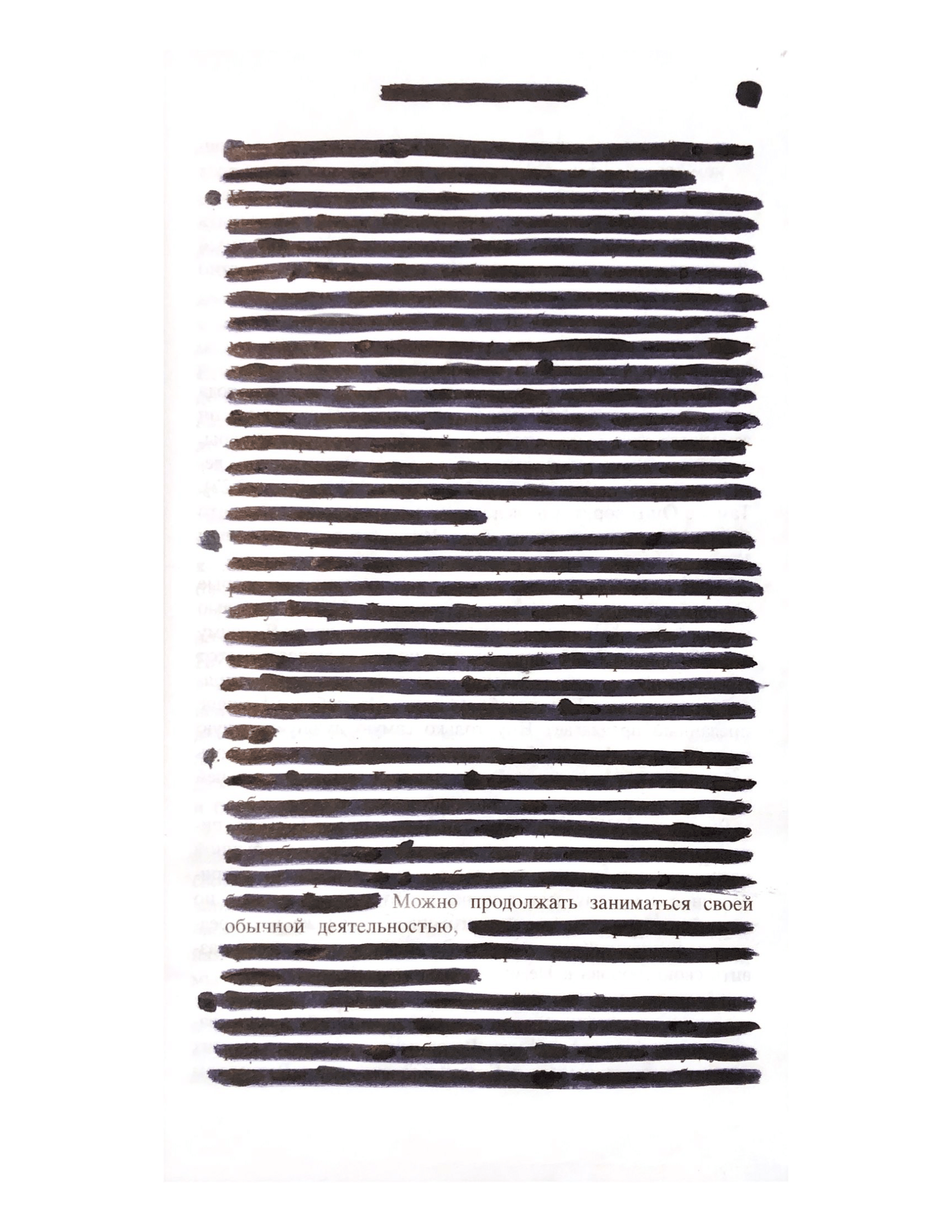
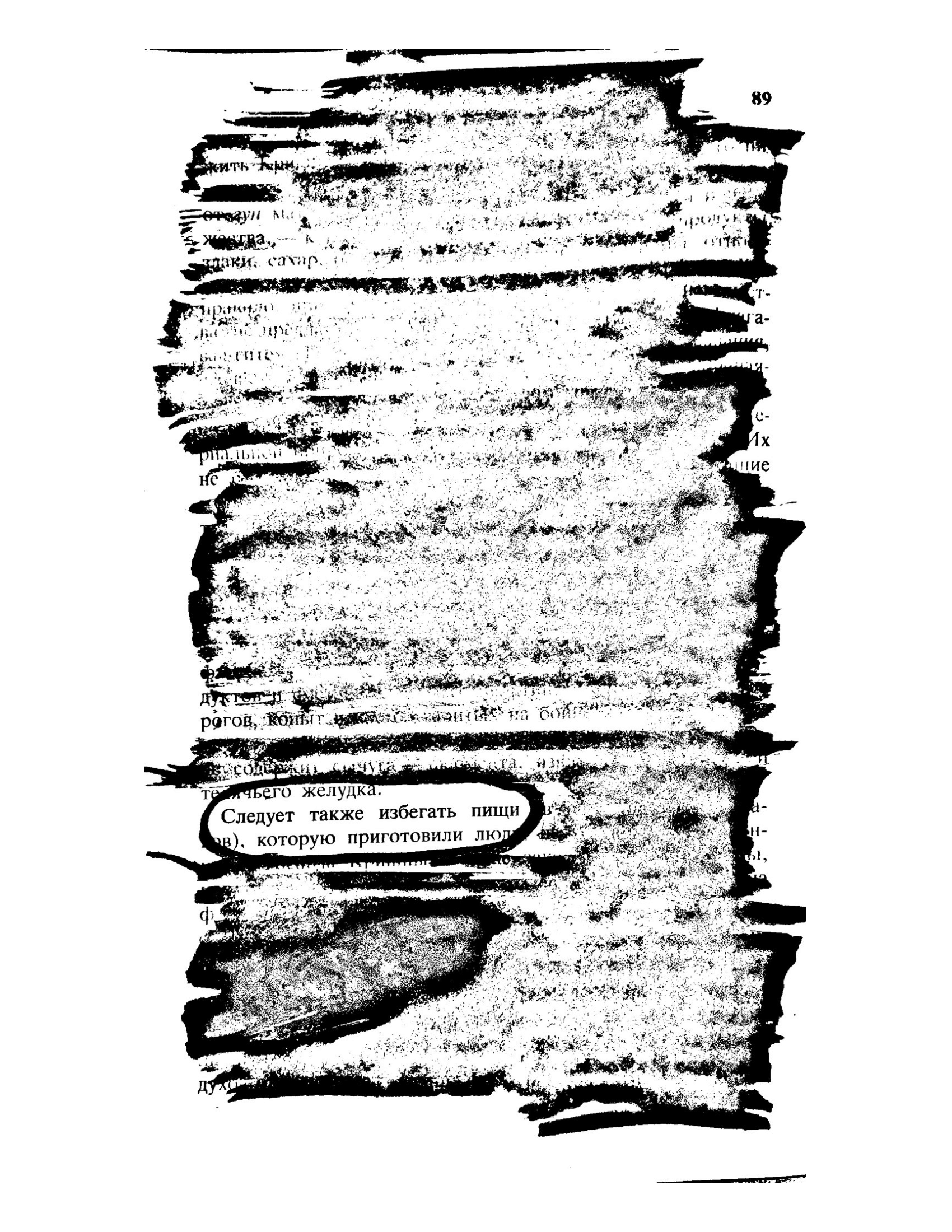

~500 блэкаутов
Серия-диптих Анны Лебедевой и Ульяны Мор (~500 блэкаутов & ~500 блэкаутов) посвящена пространству и действию как таковому: любая случайность, помноженная на осознанное восприятие, даёт нечто третье. Так, «чтение» обратной стороны блэкаута, взятого на просвет, перевернутые страницы, смазанные во время сканирования слова и сами структуры изображения становятся медиумами, дополнительно остраняющими этот вид поэтического эксперимента. В некотором смысле эта серия дигитальна и анти-дигитальна одновременно: сопротивление машине и перекладывание ответственности.
– Михаил Бордуновский, Владимир Кошелев
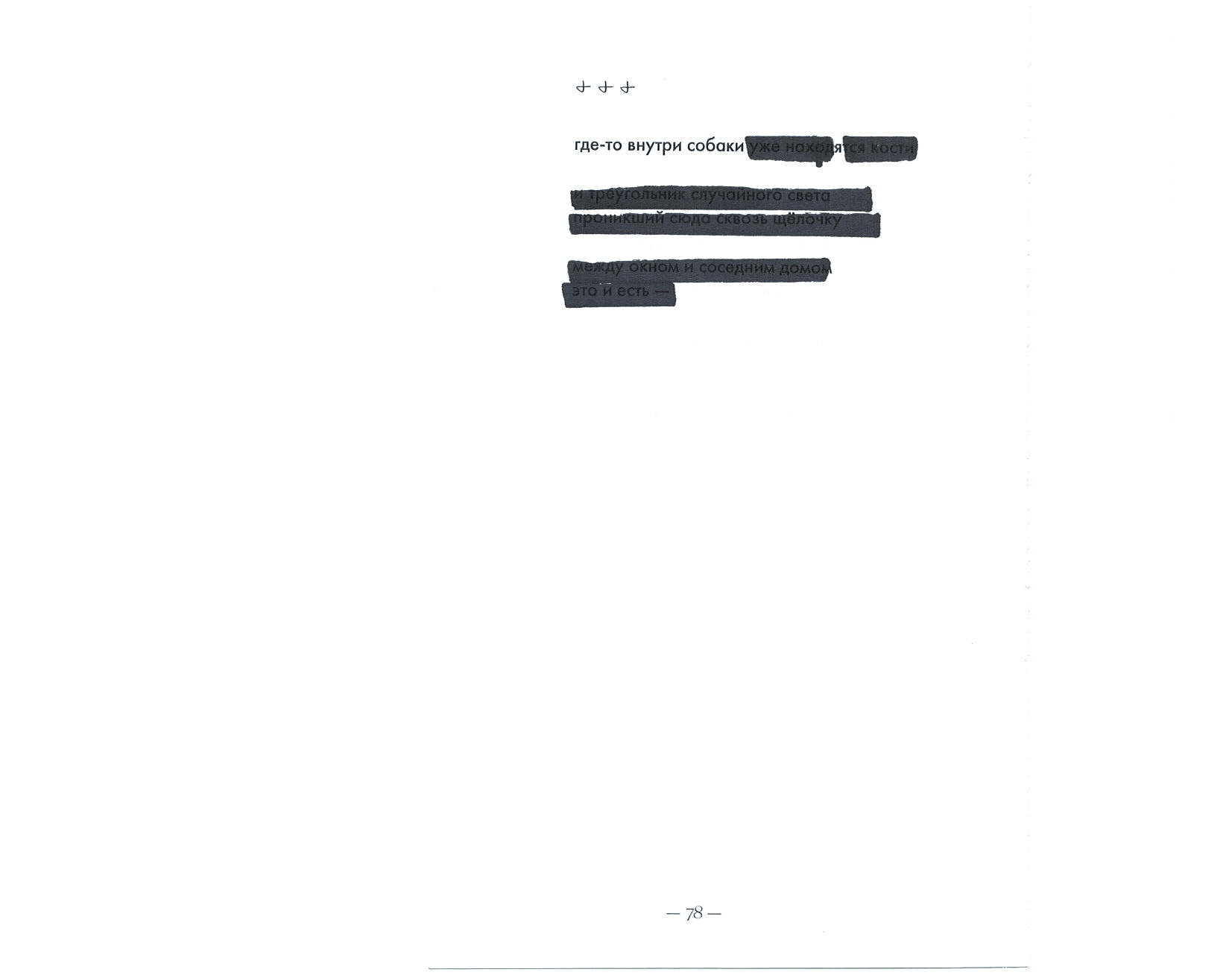
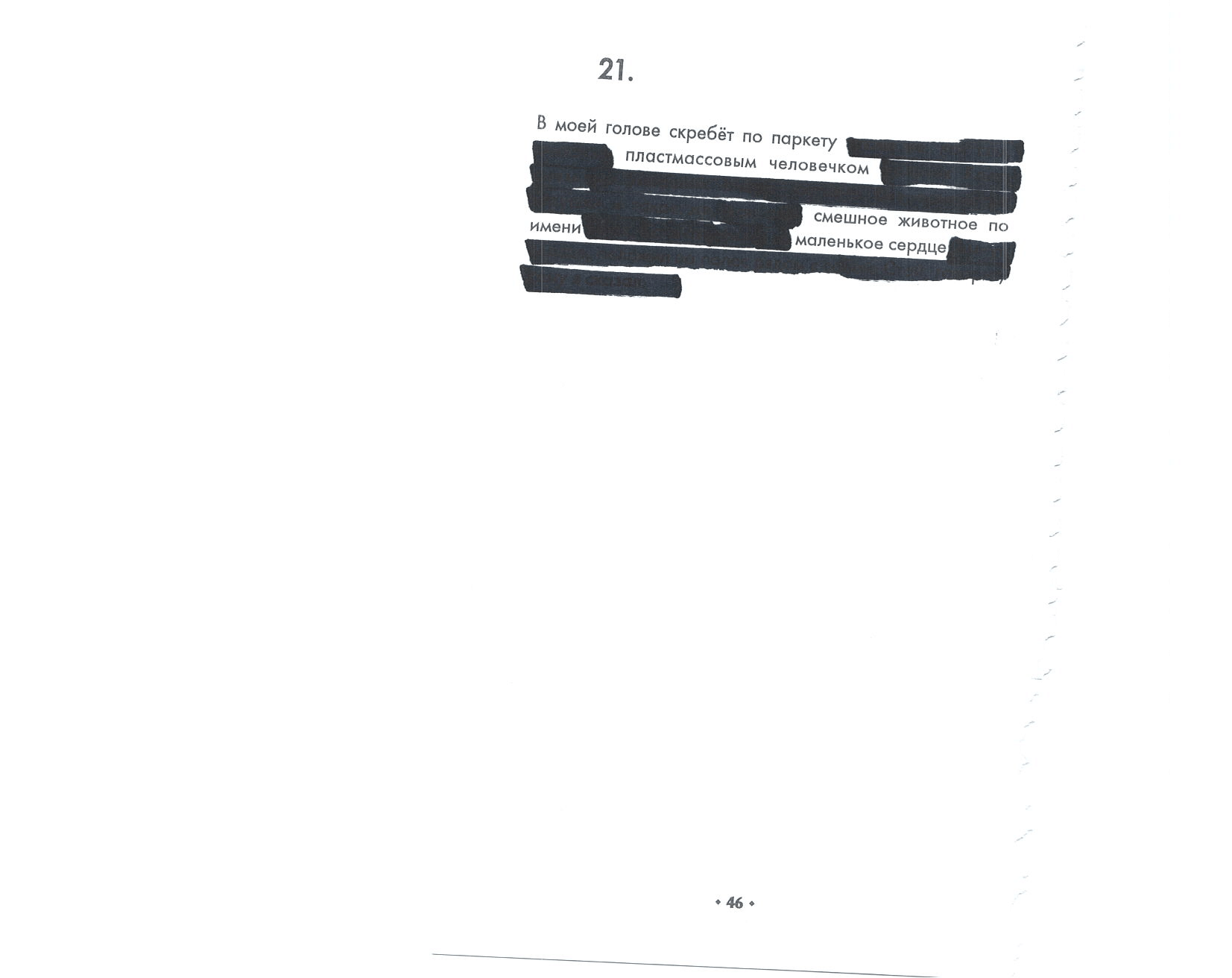
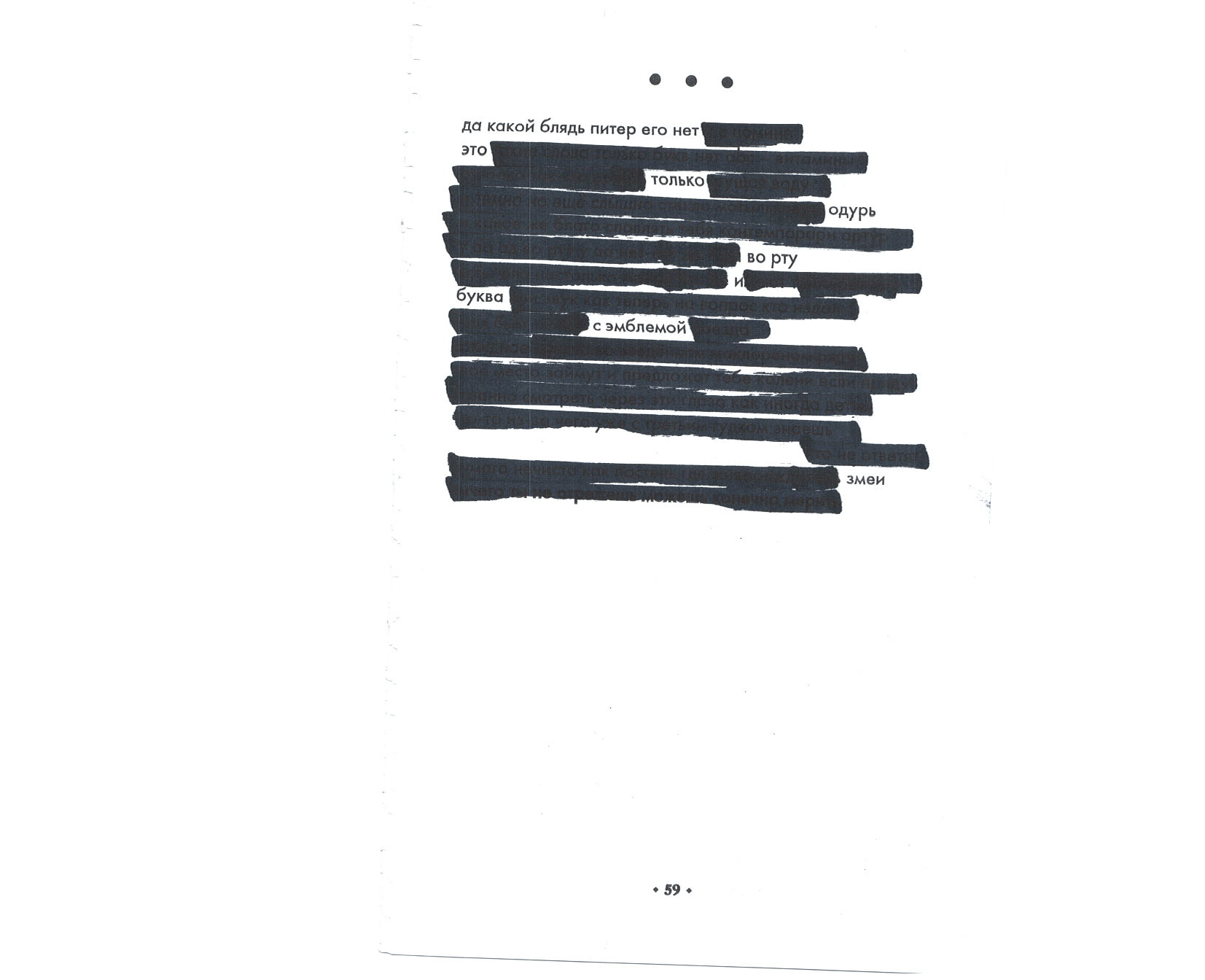
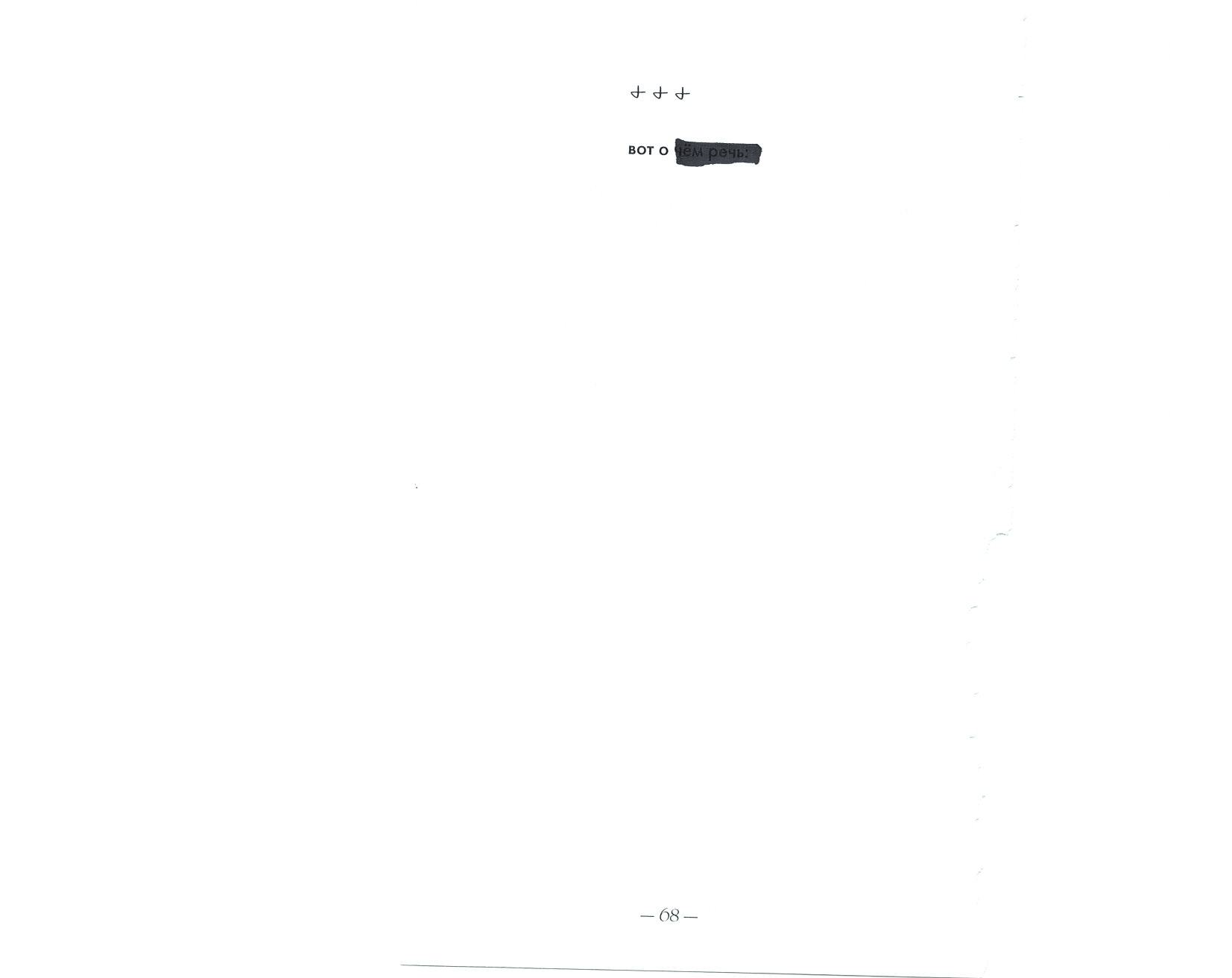
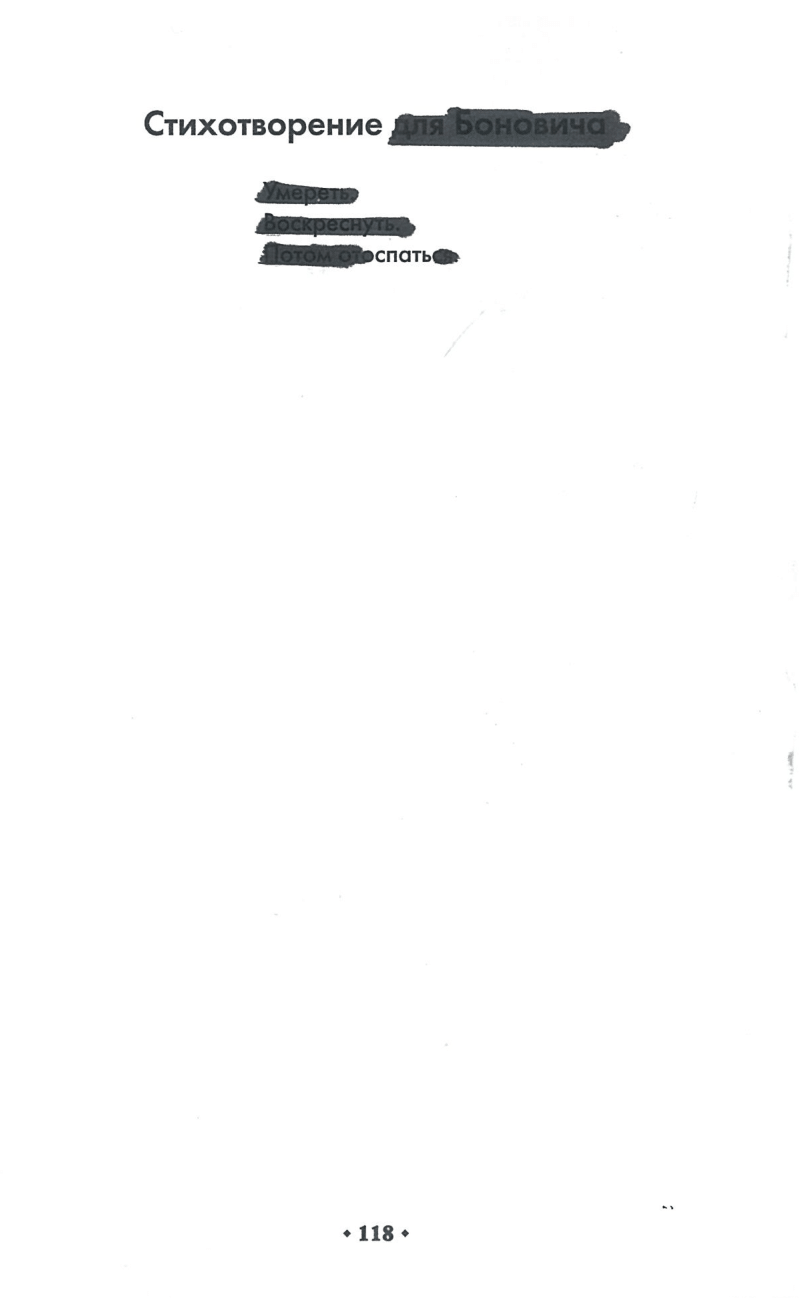
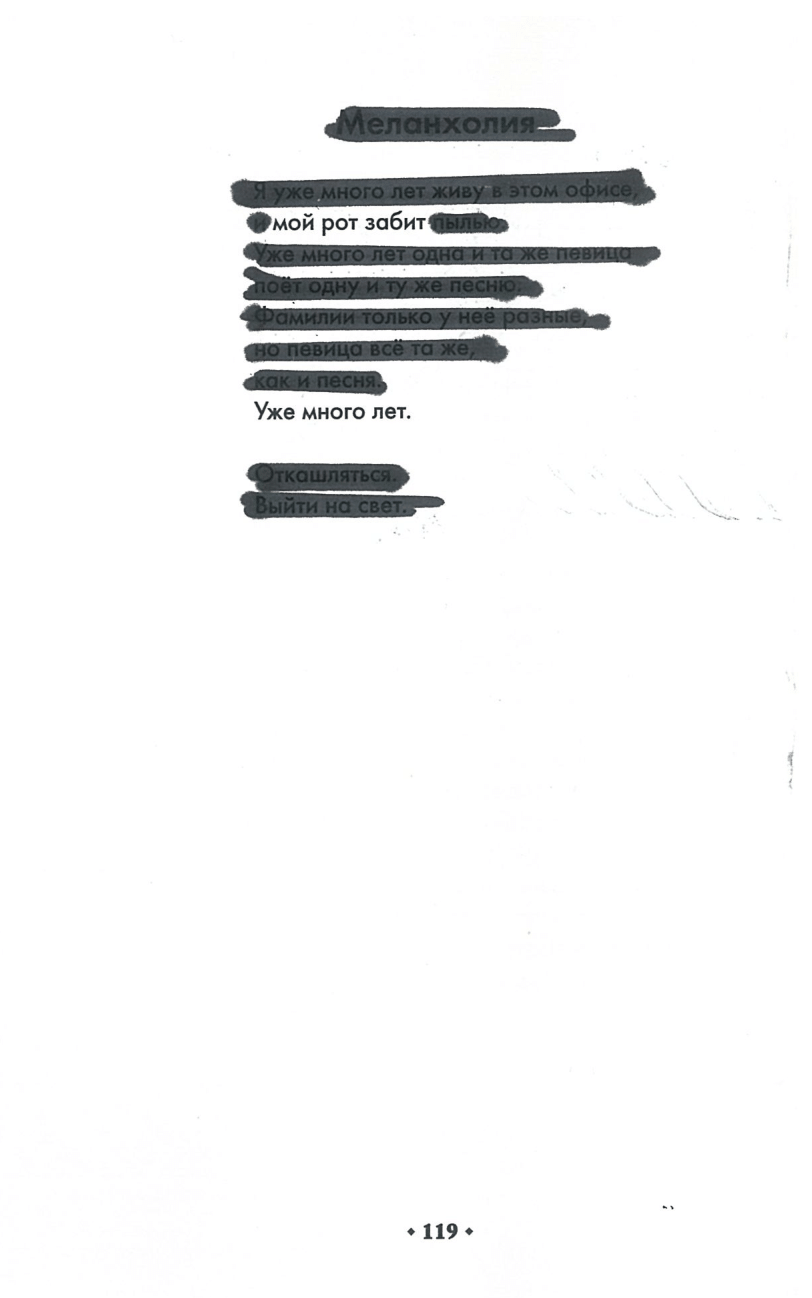
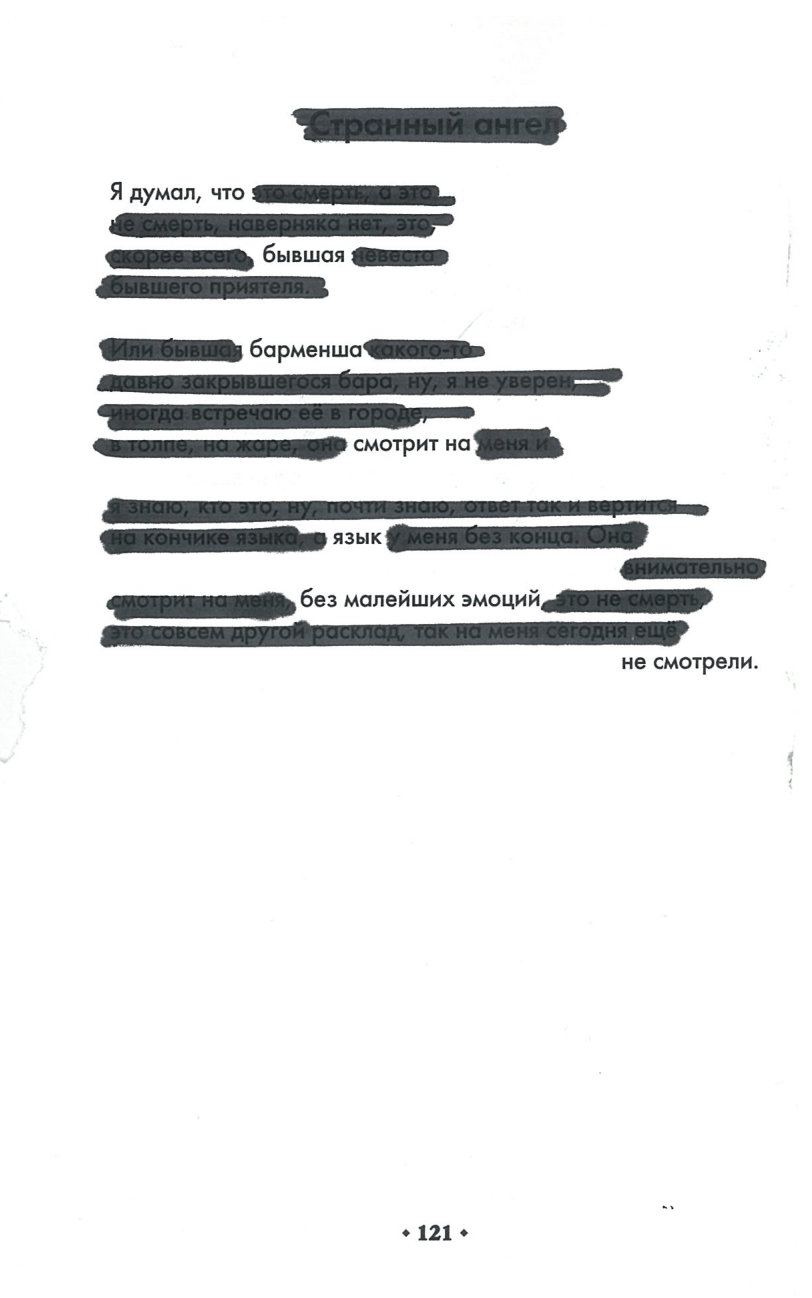
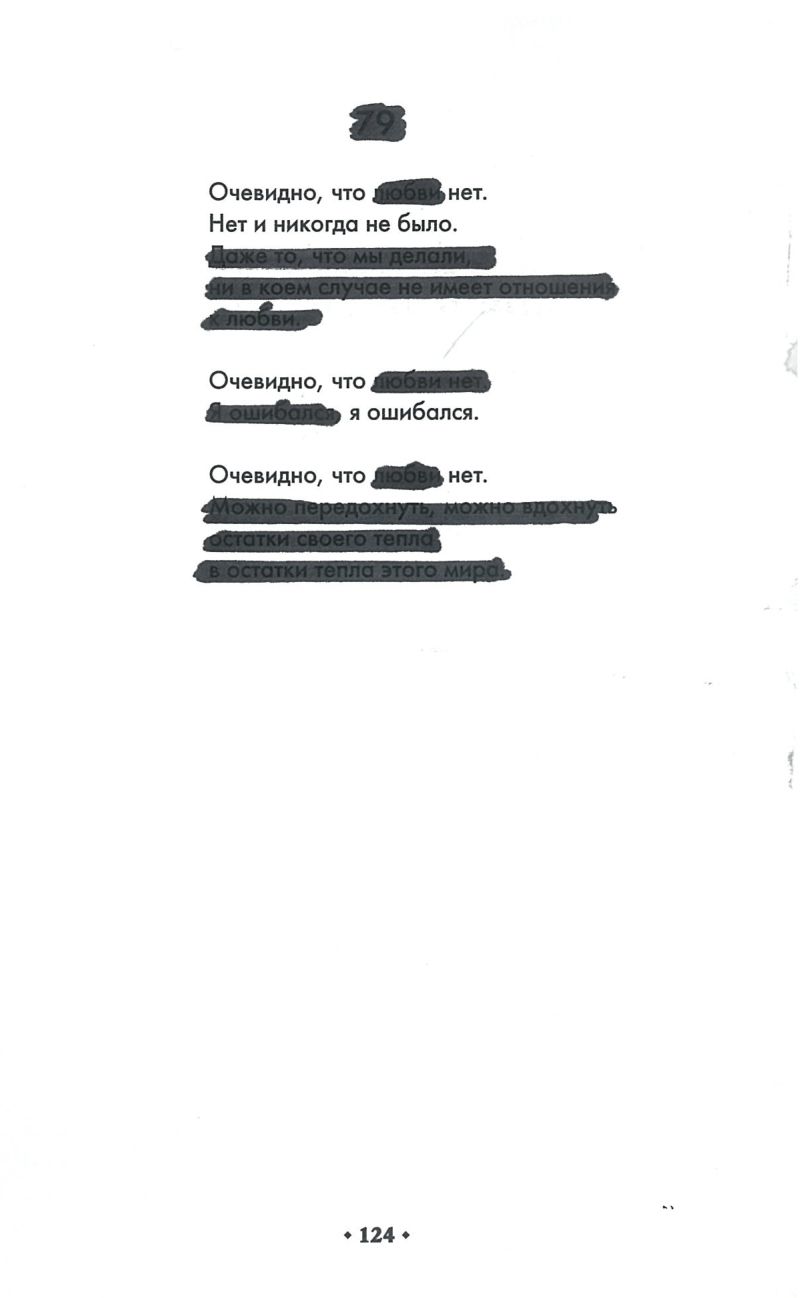
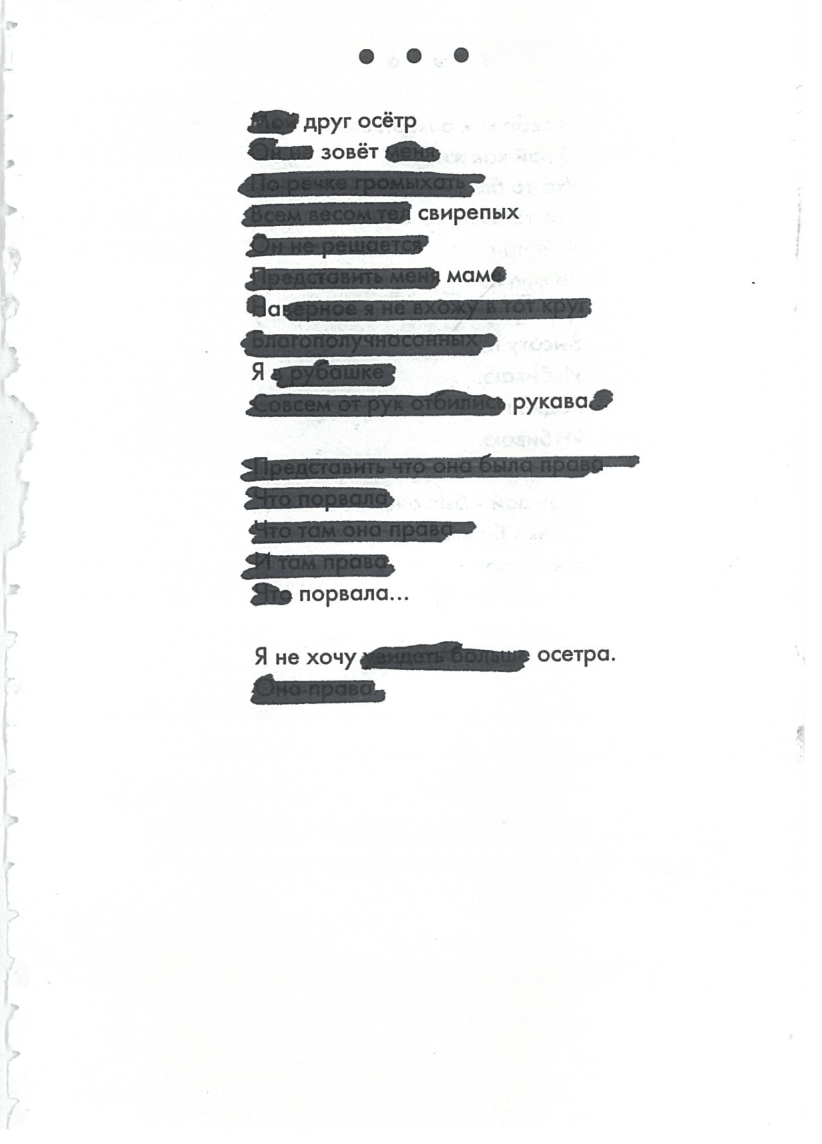
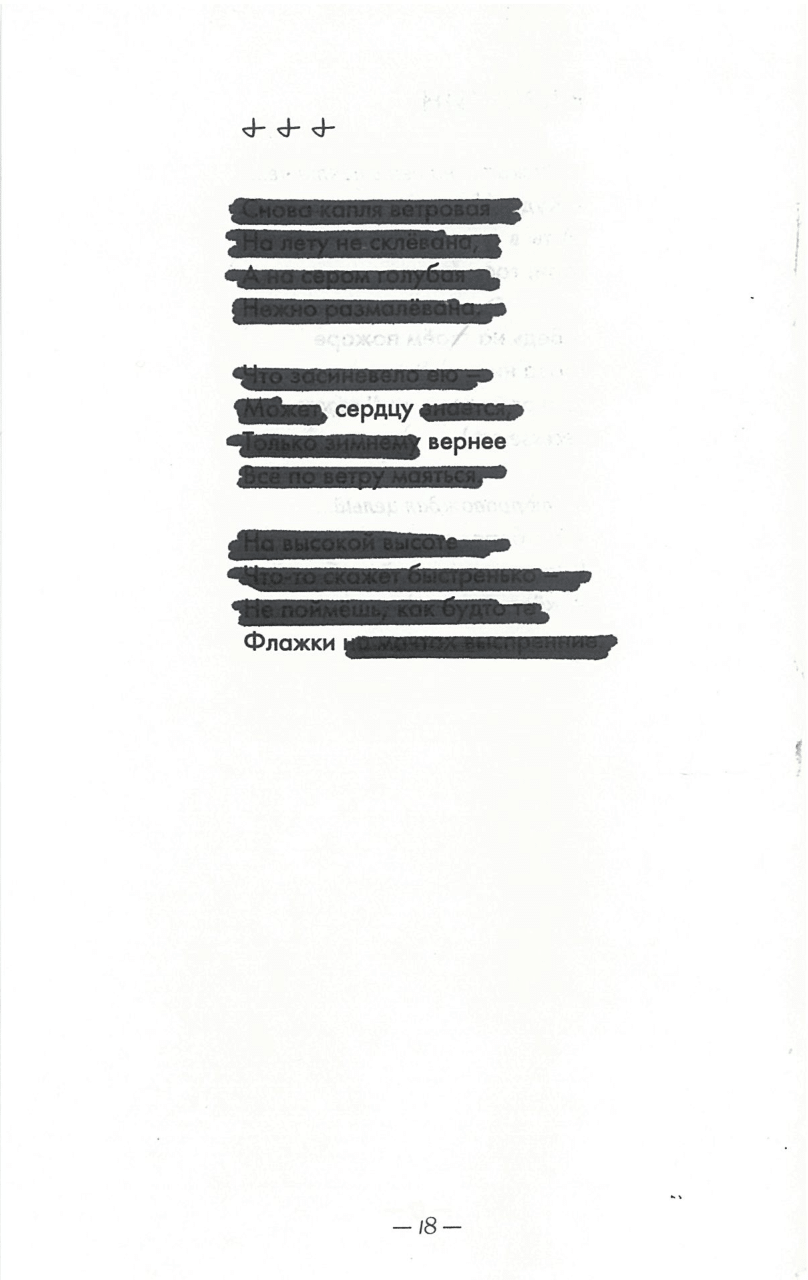
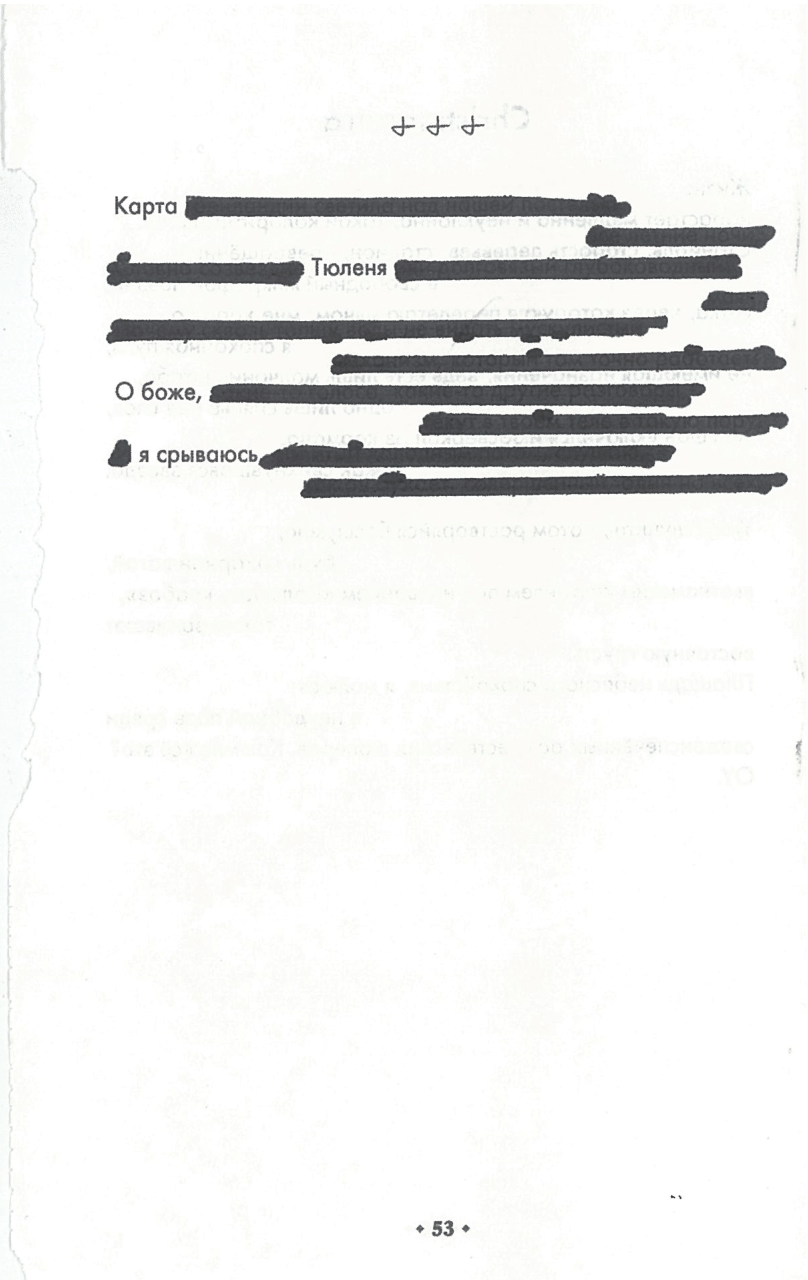
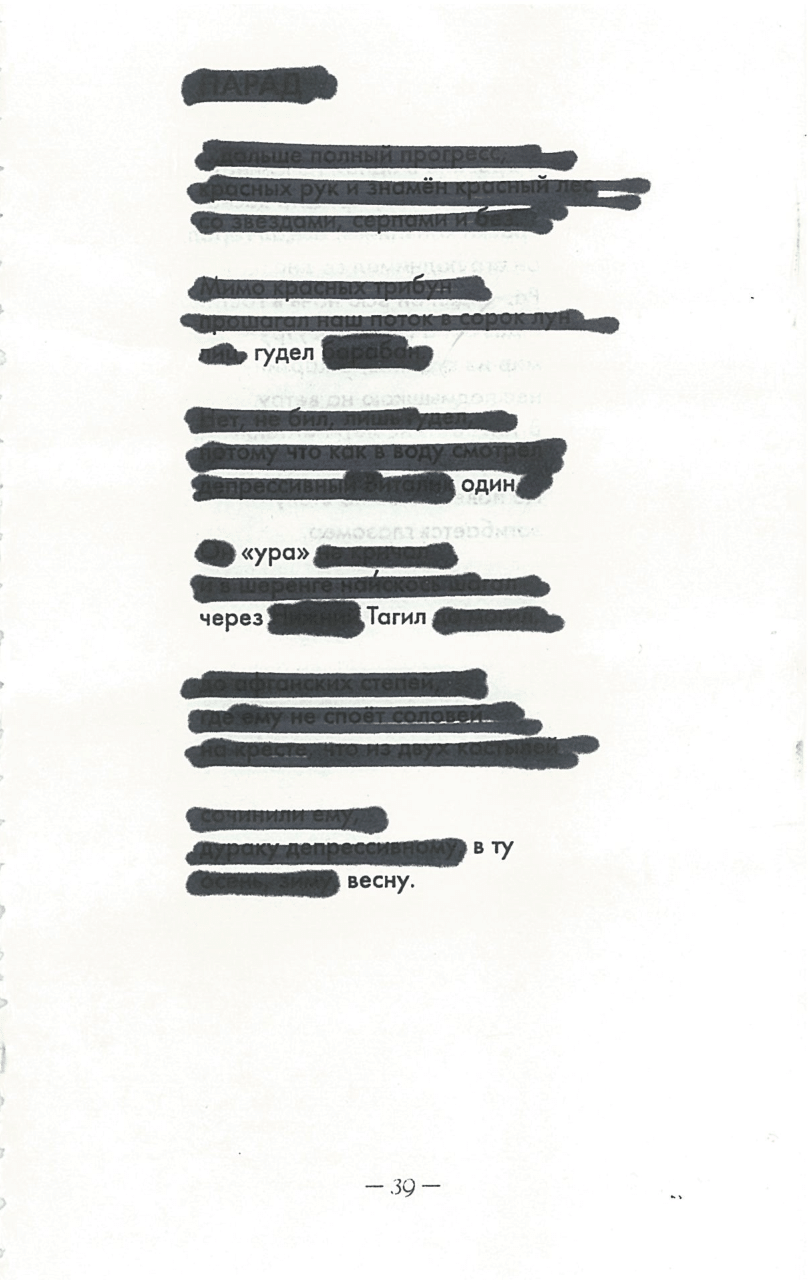
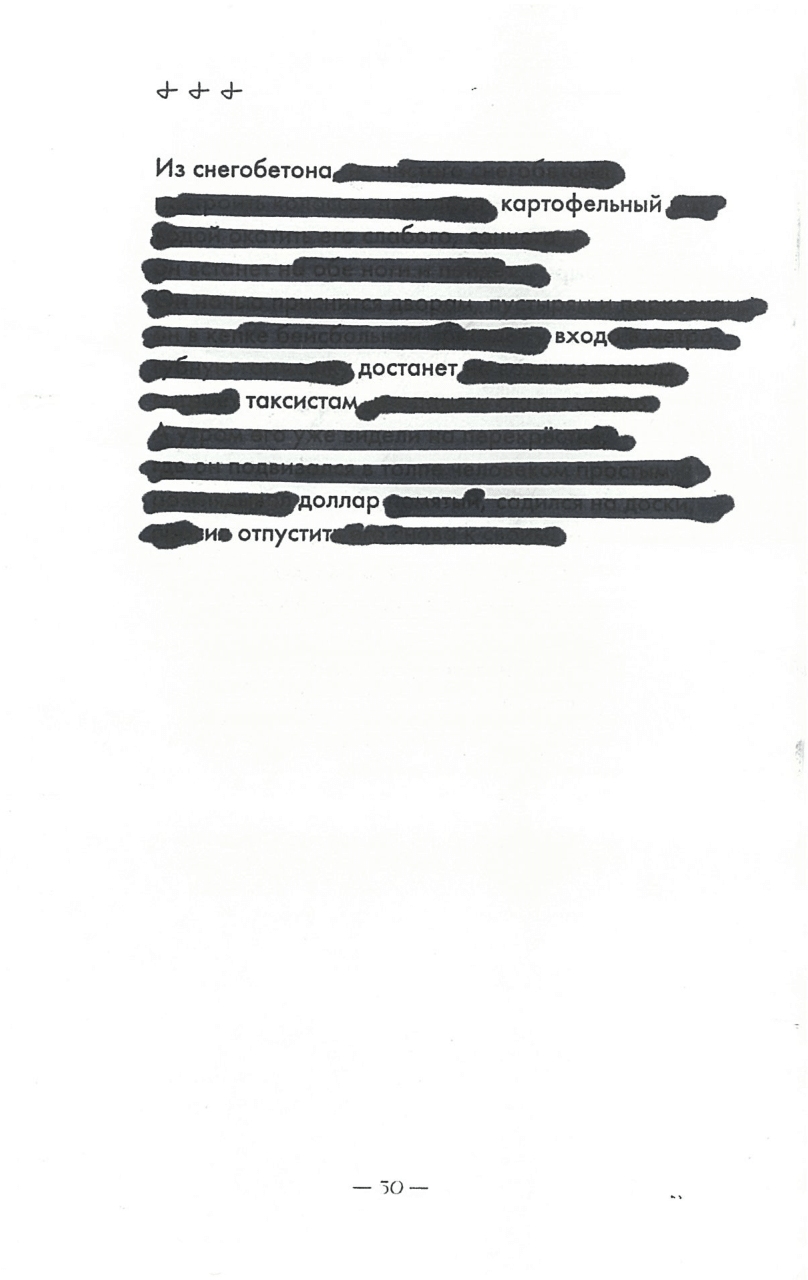
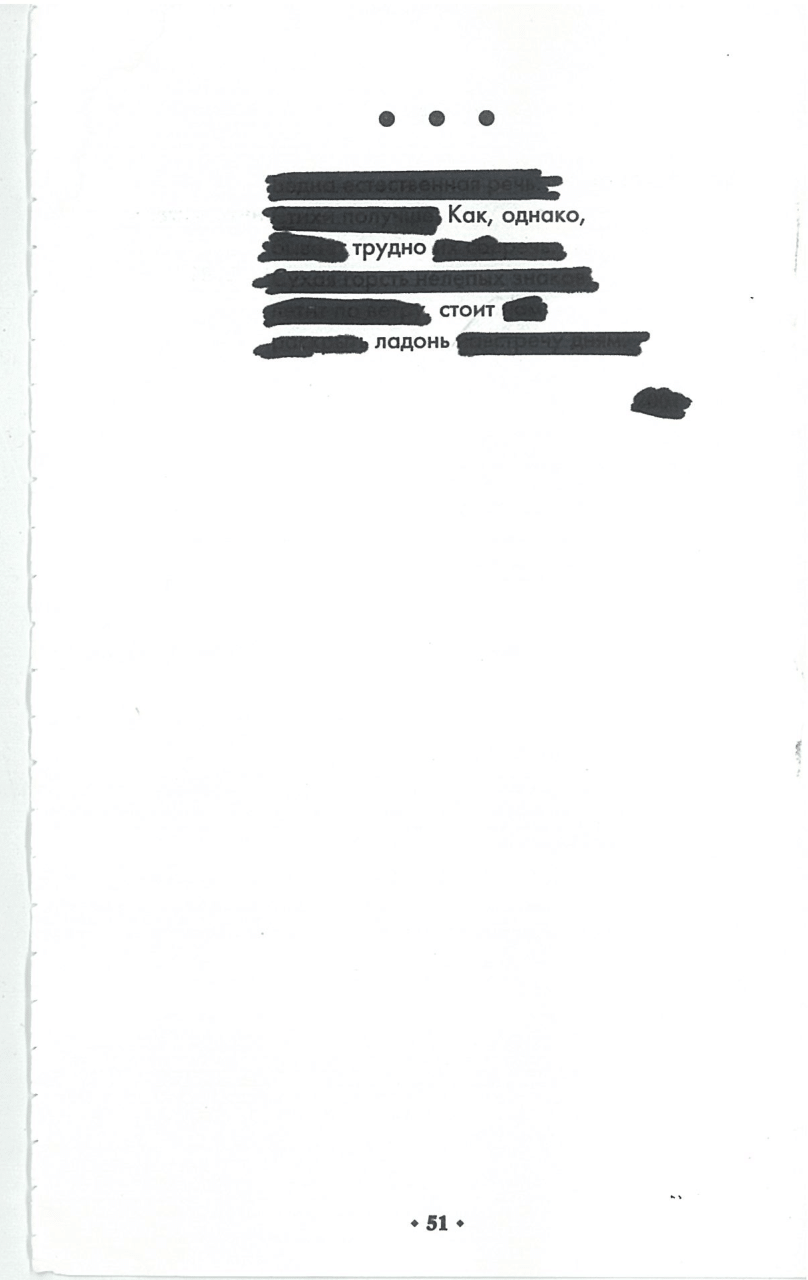
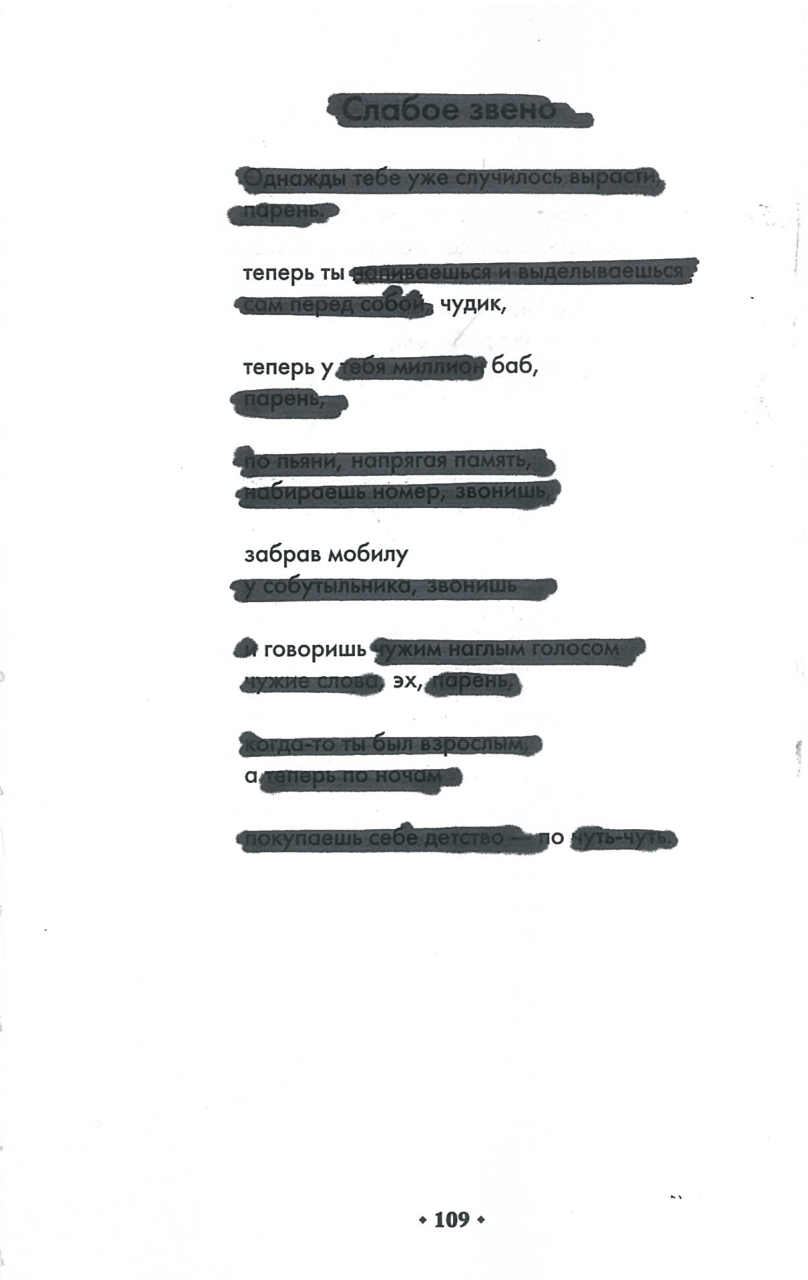
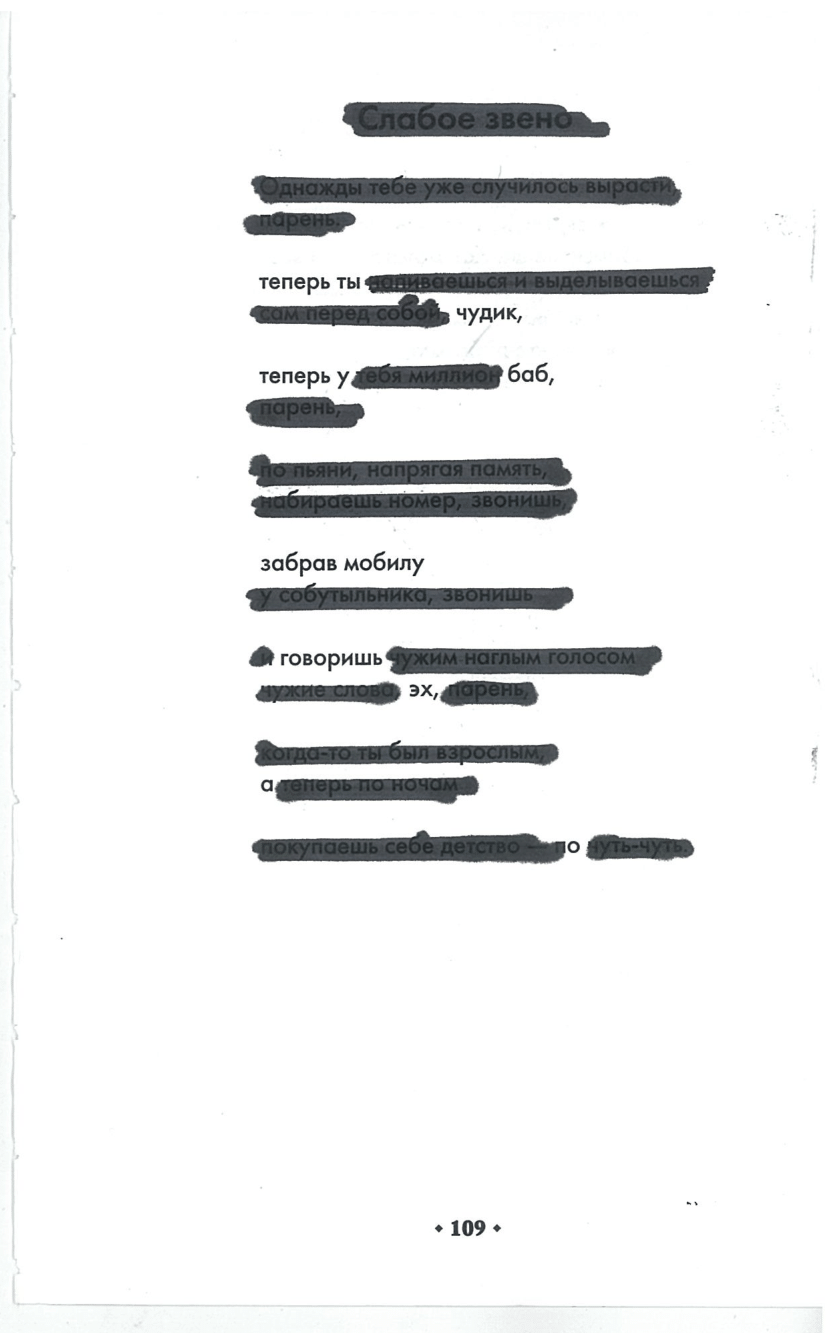
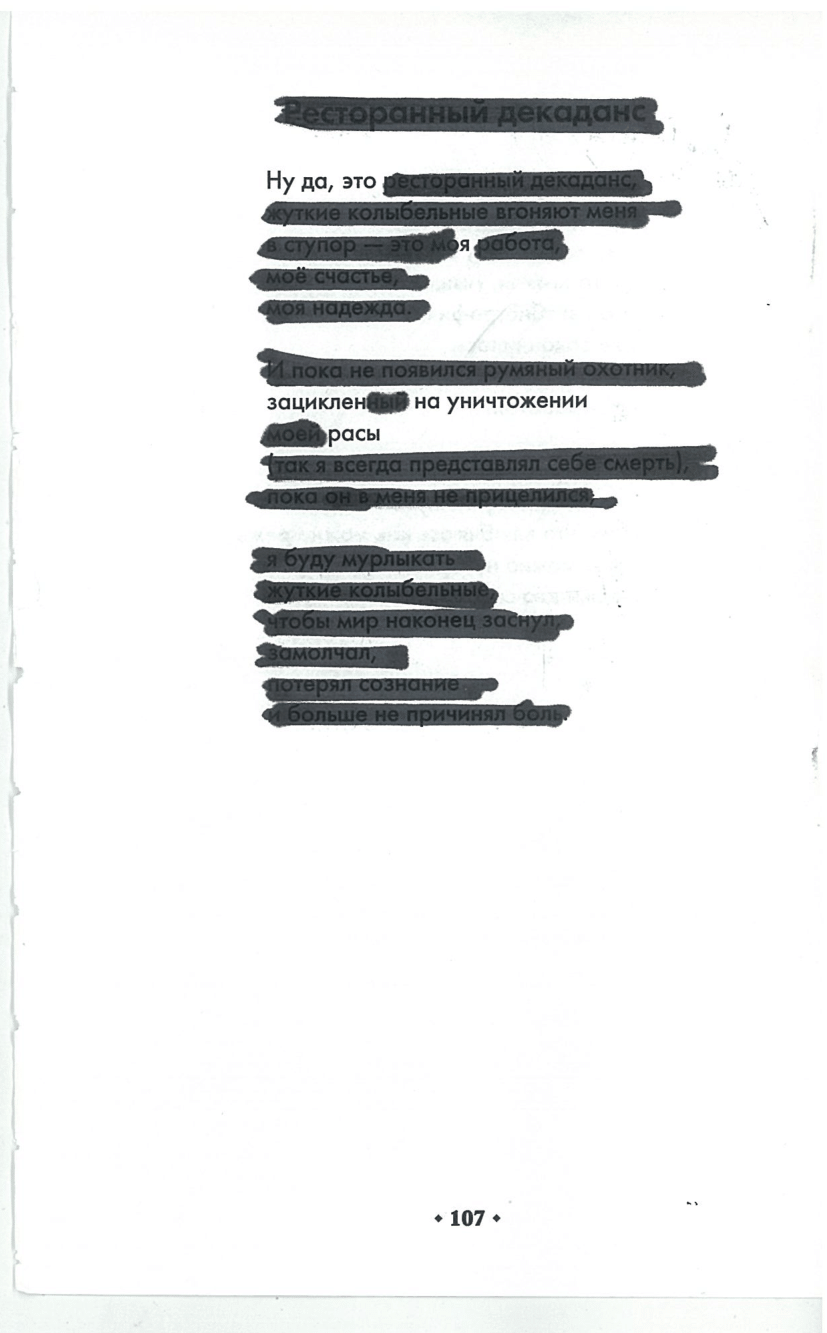
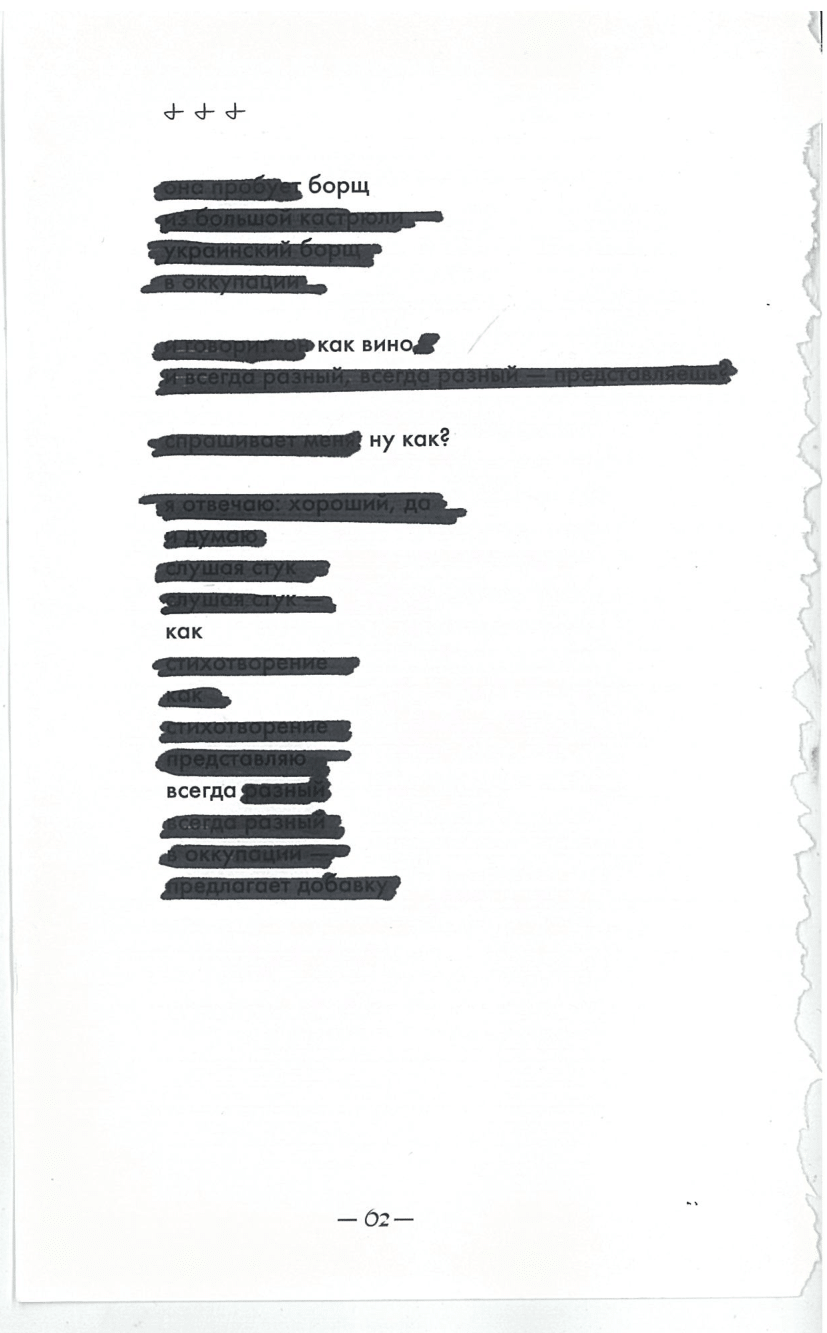
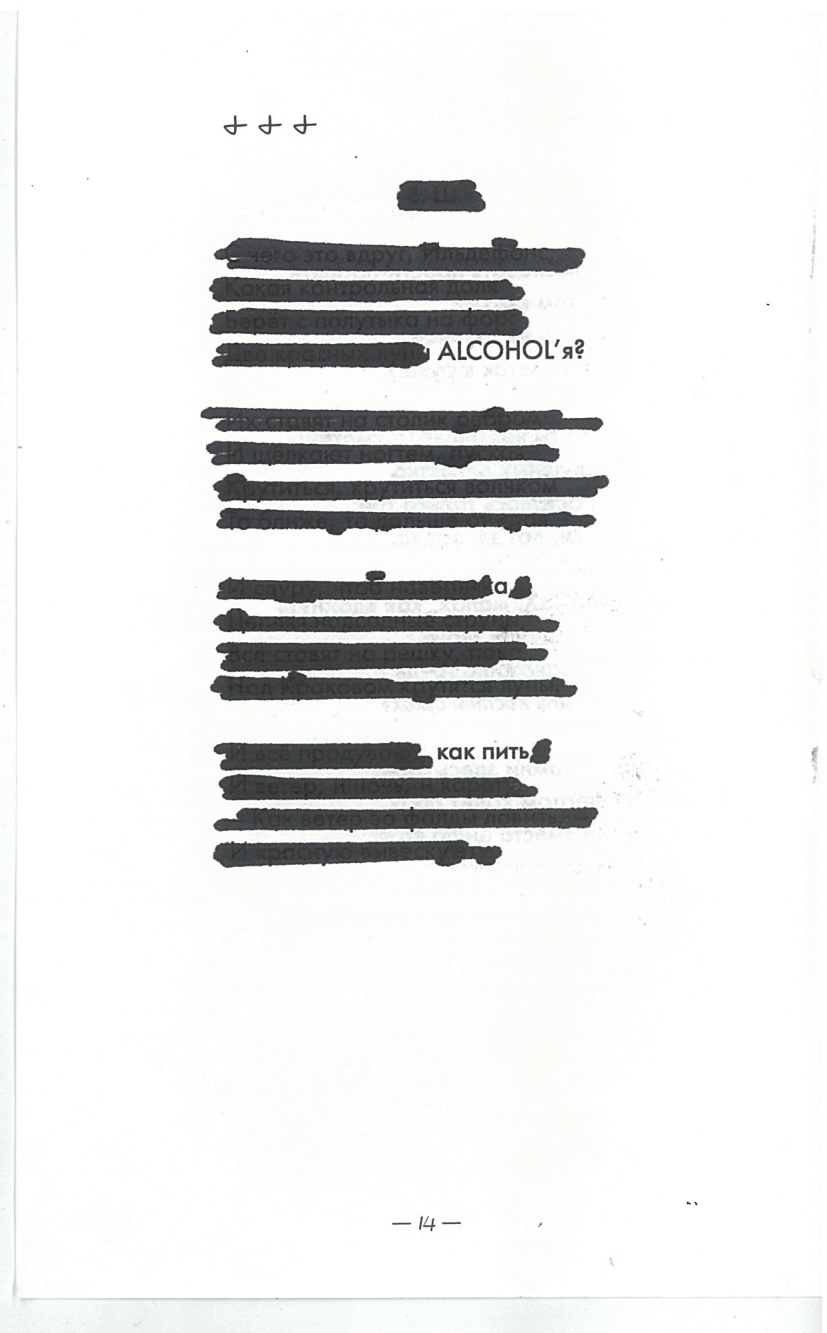
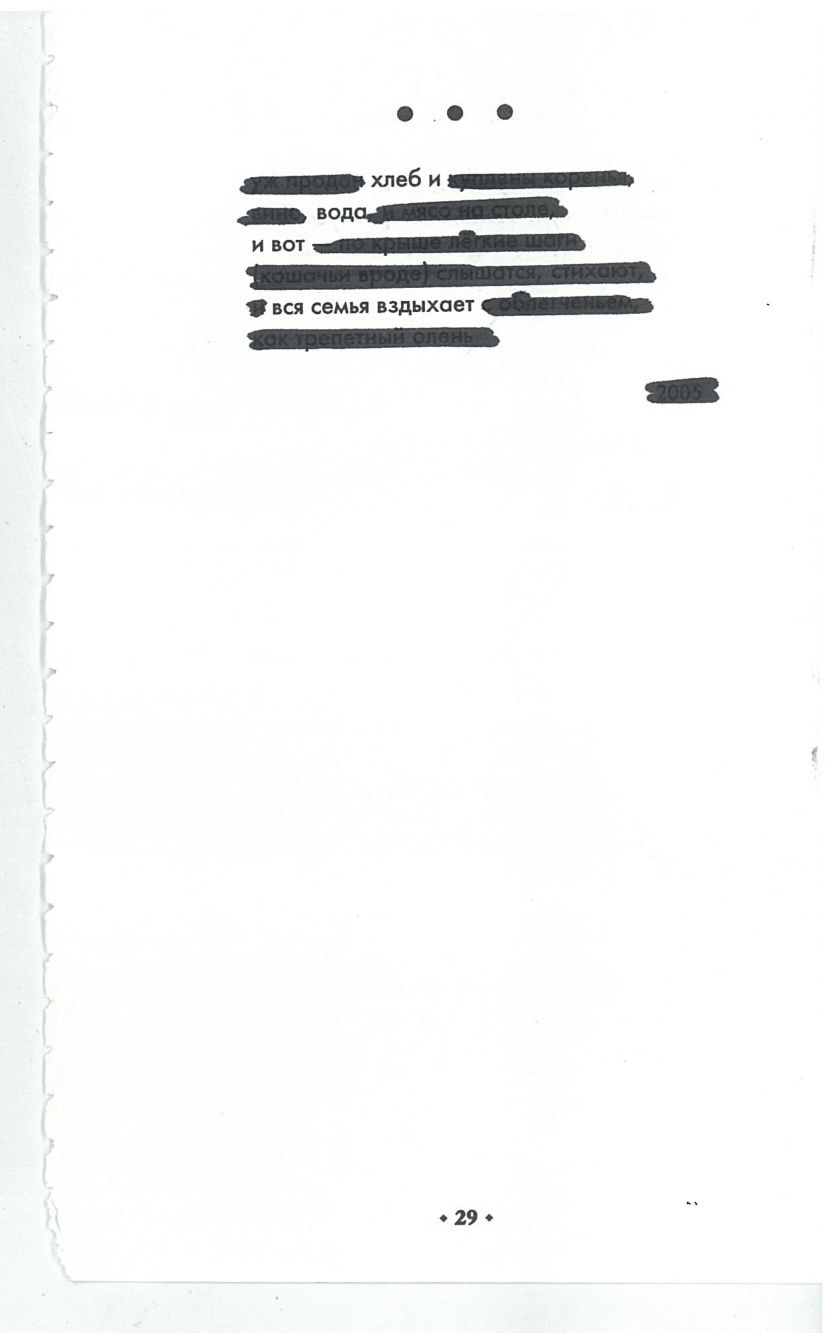
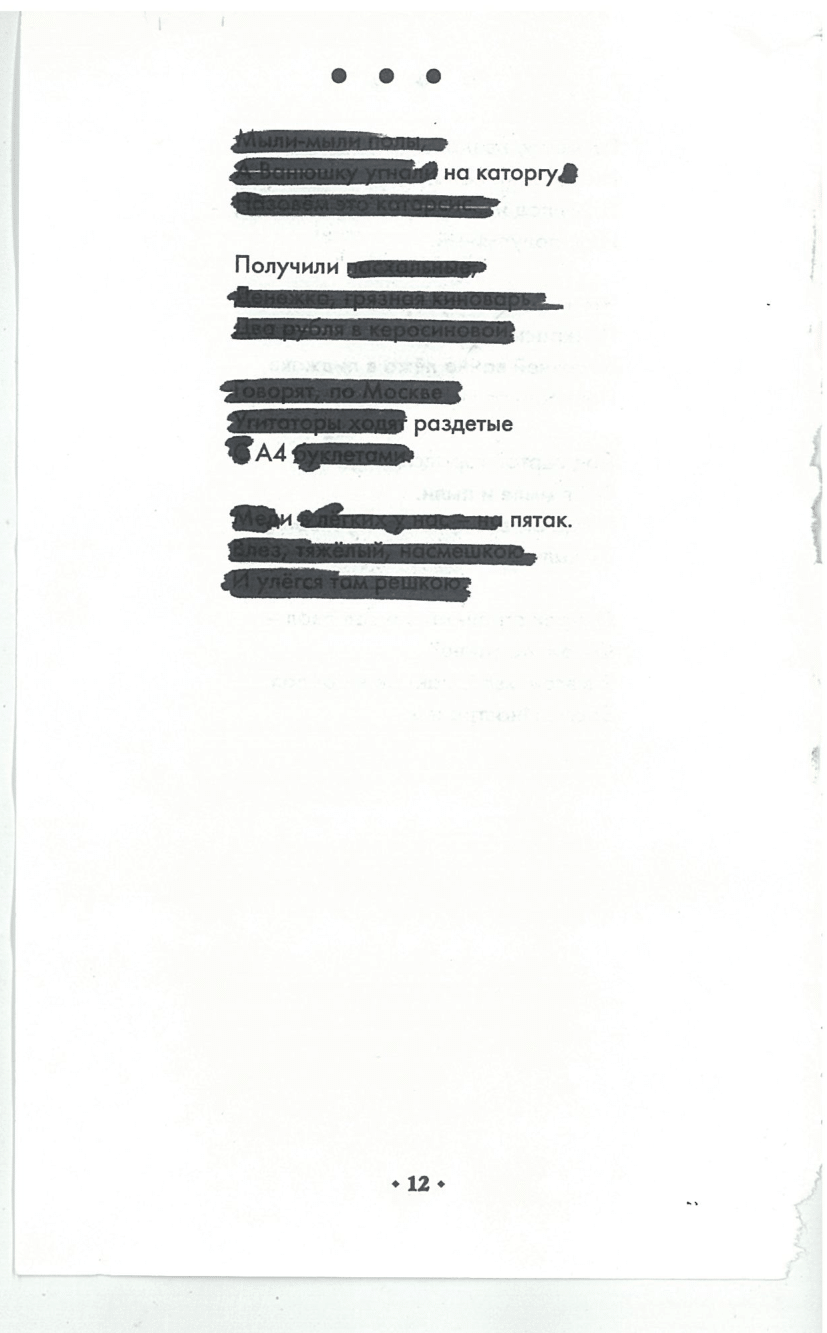
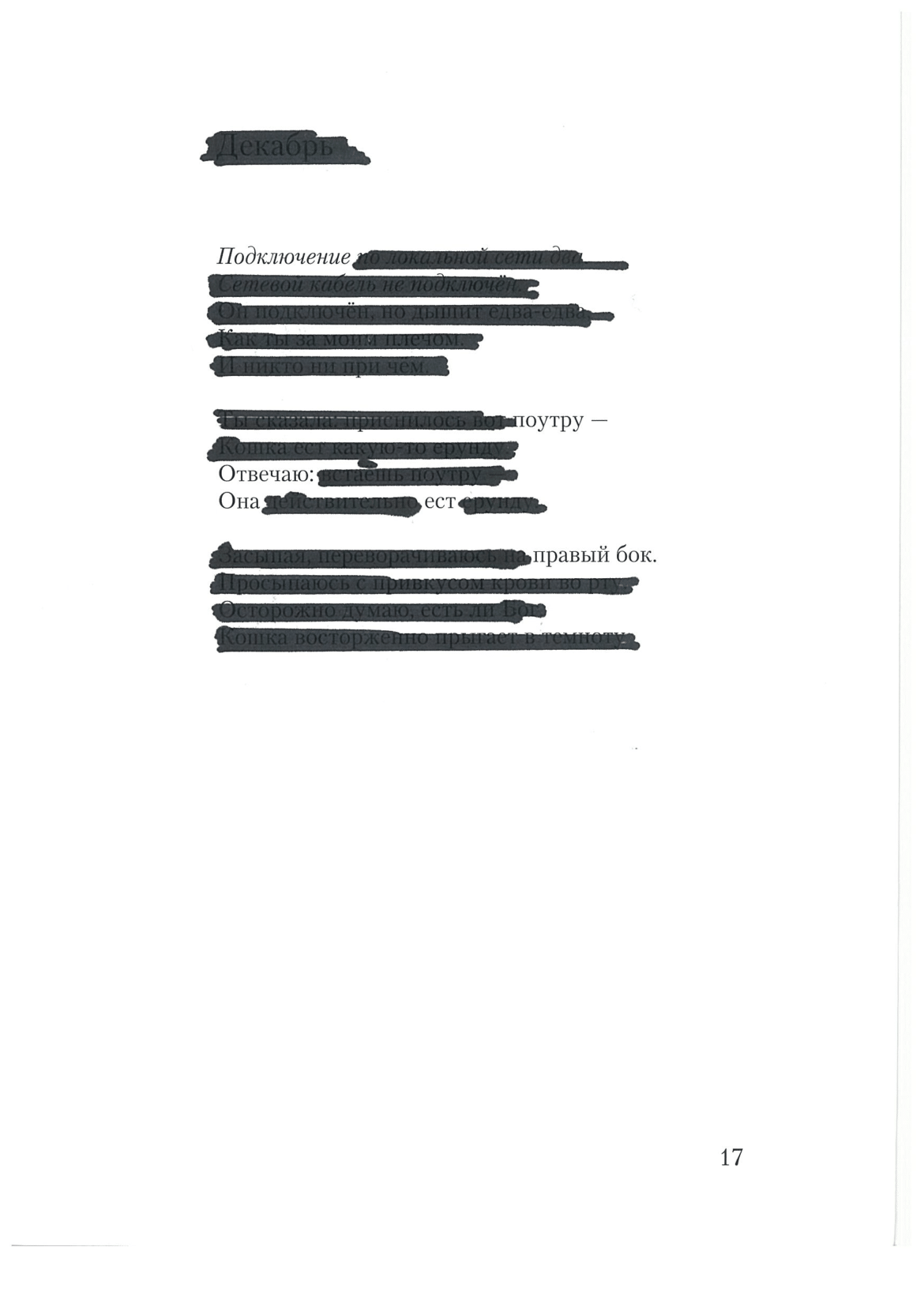
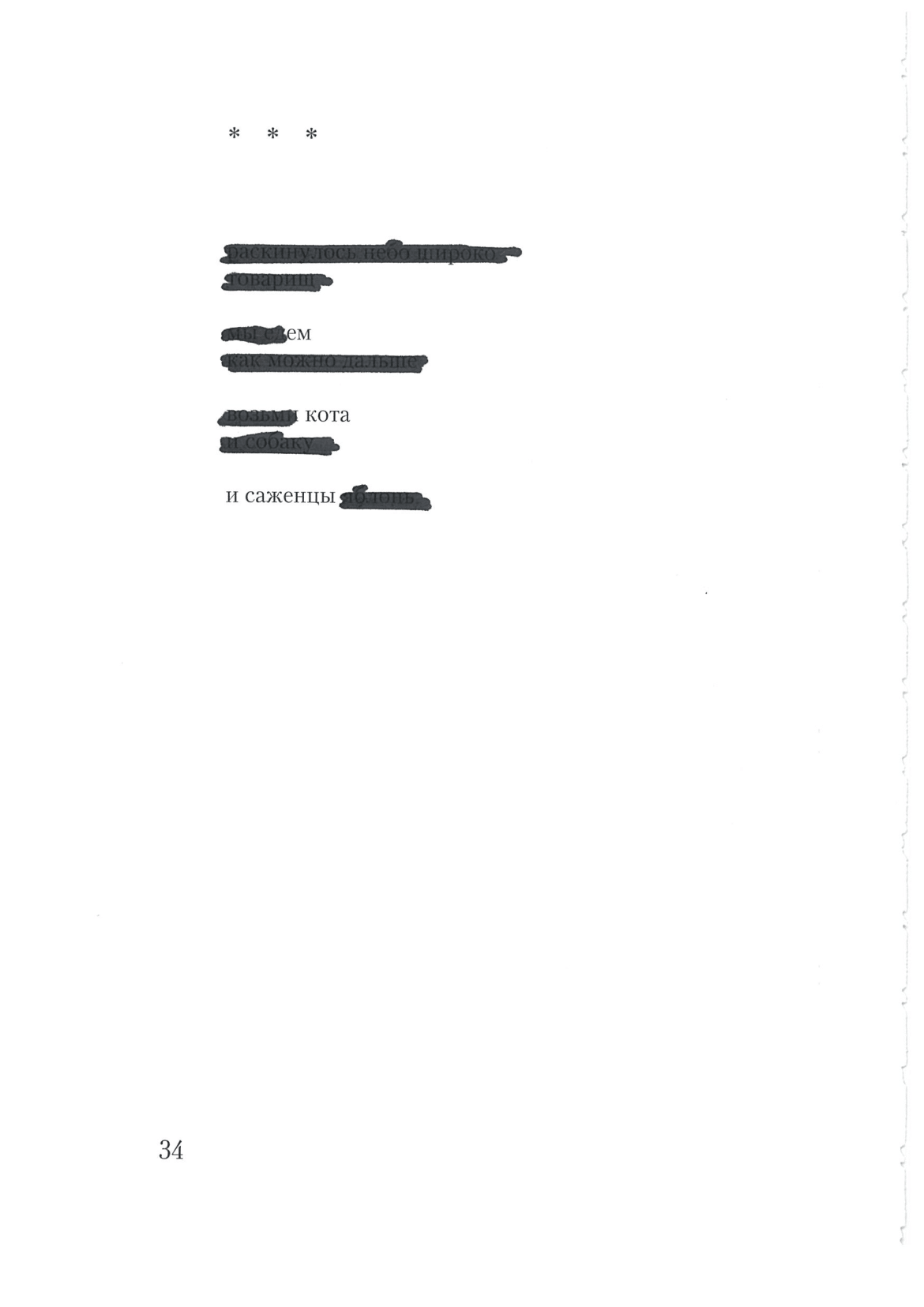
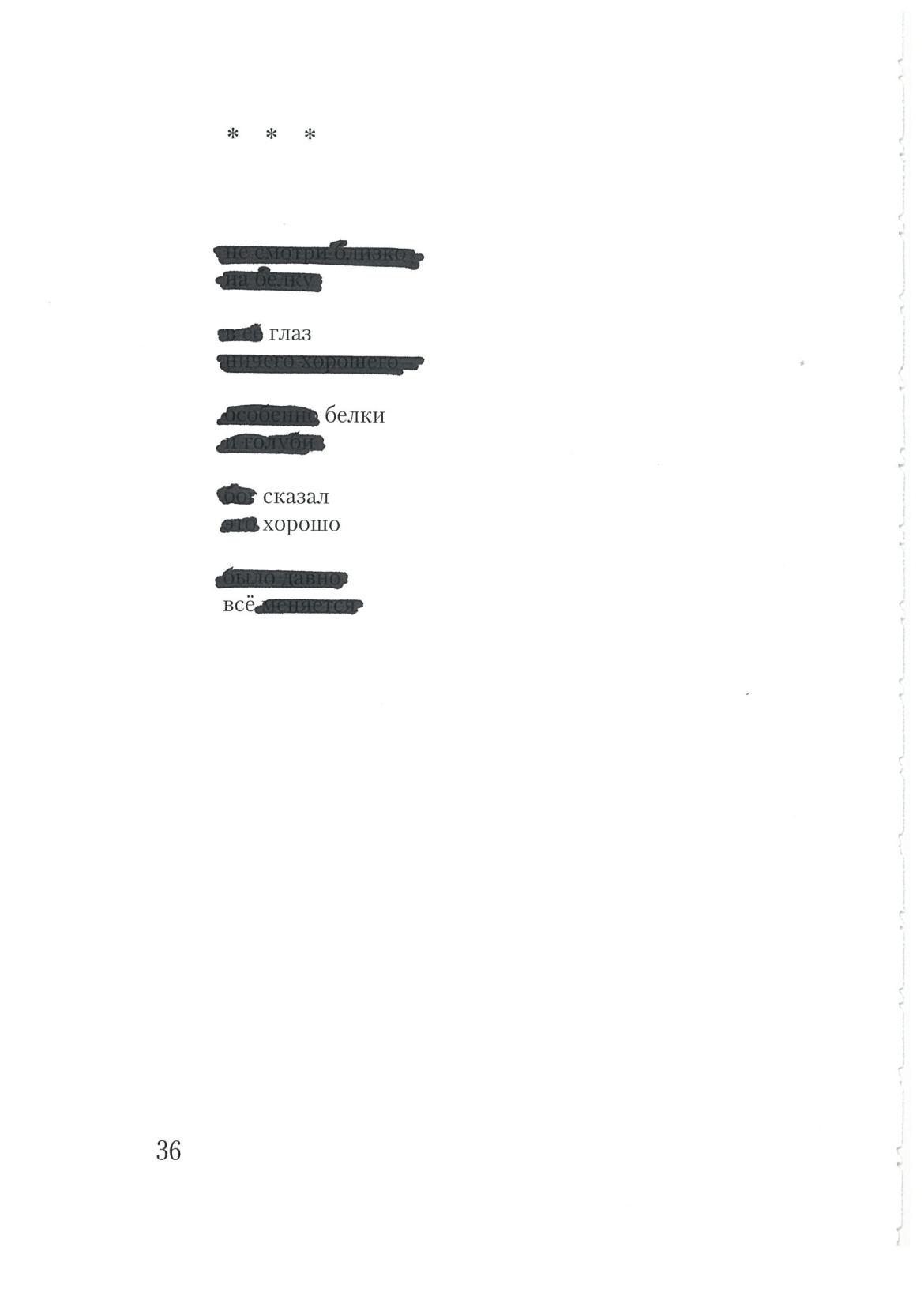
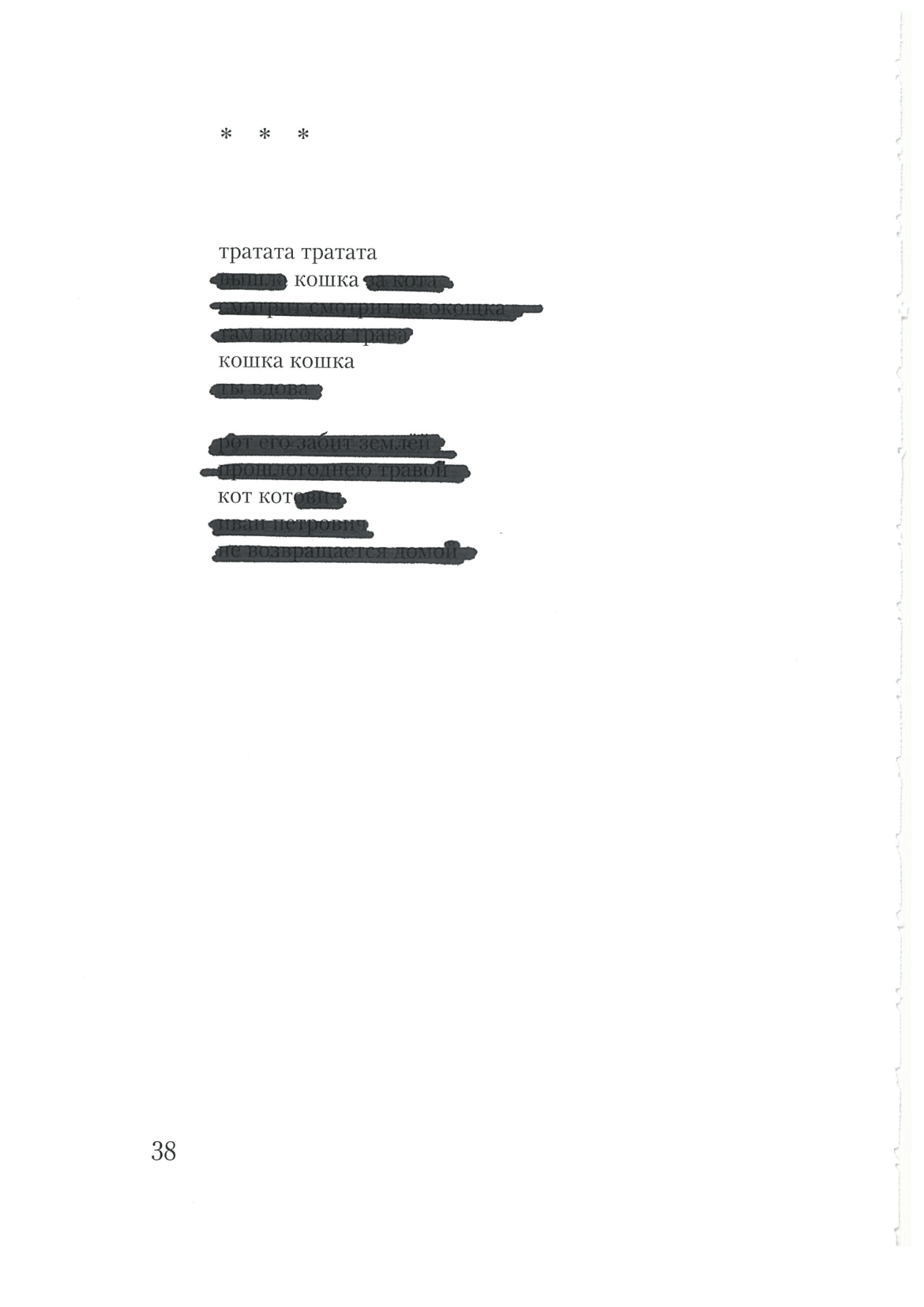
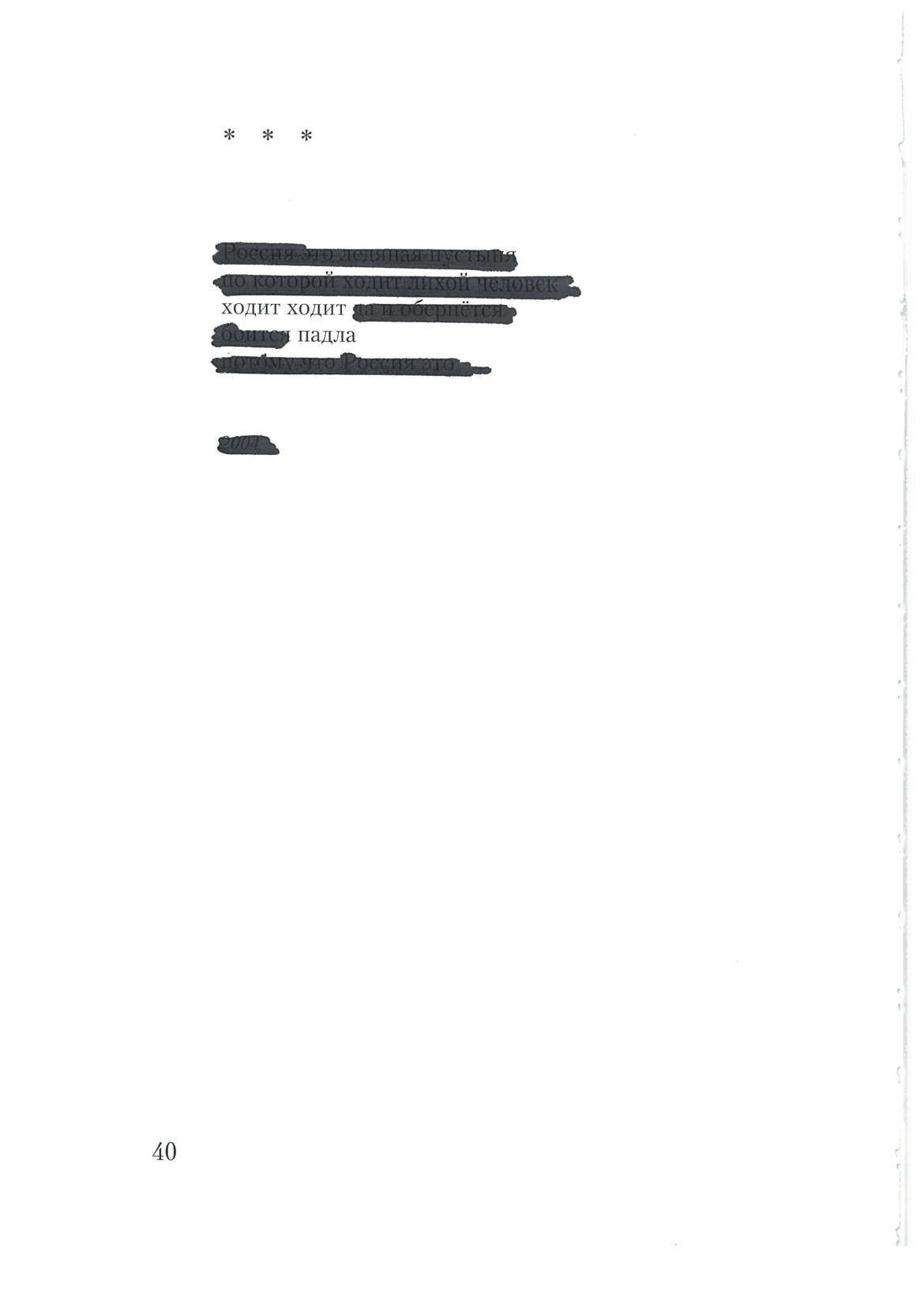
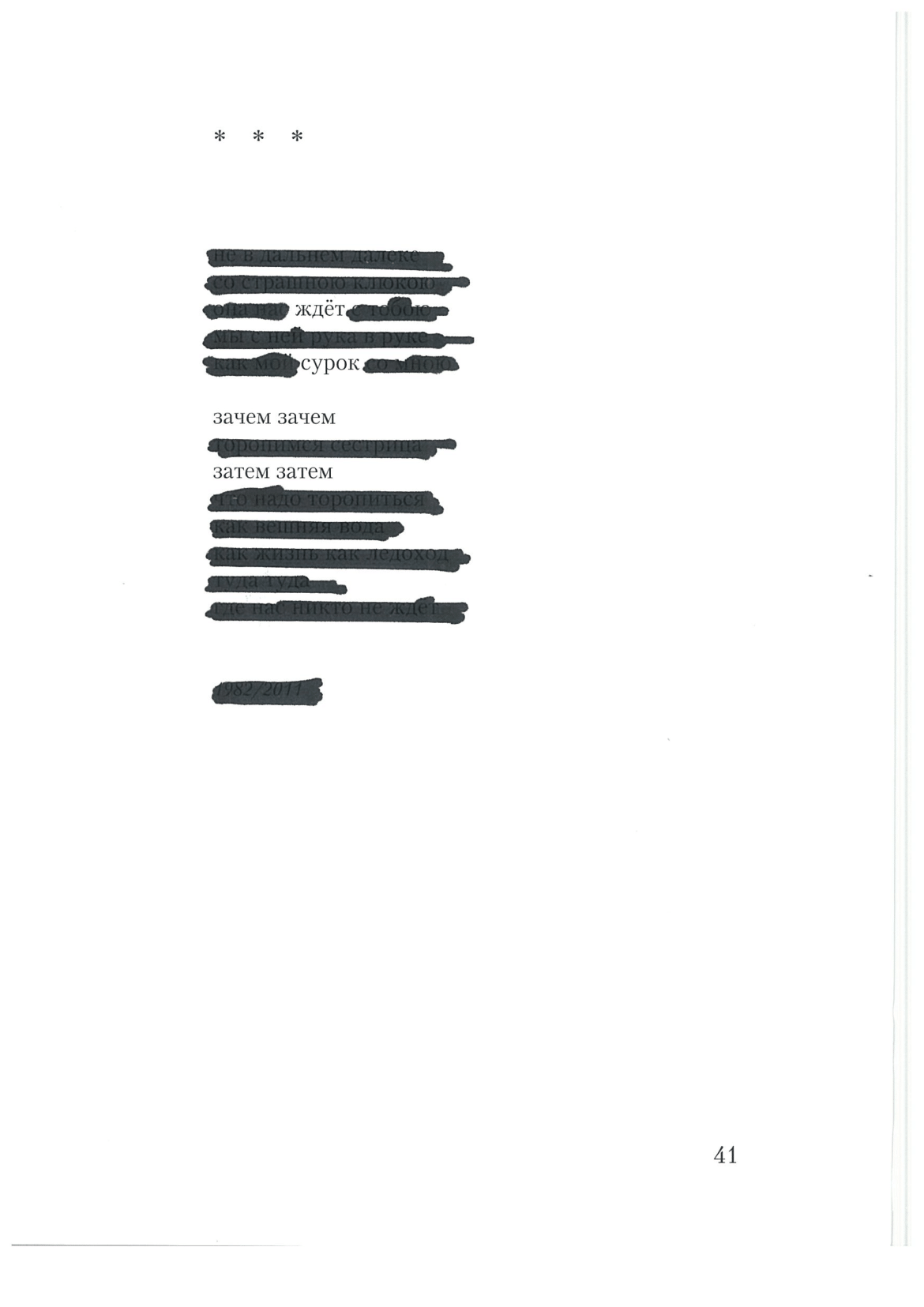
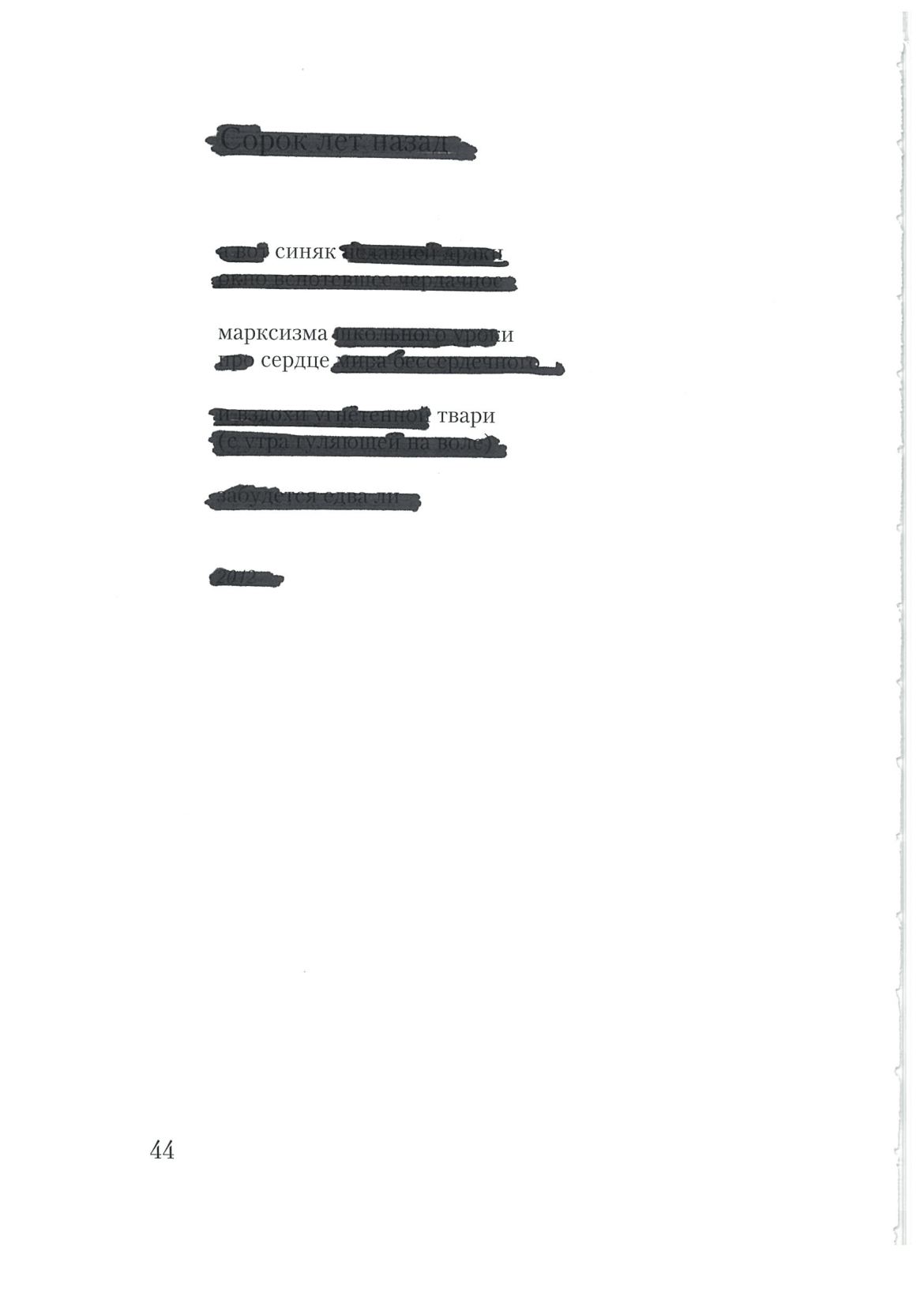
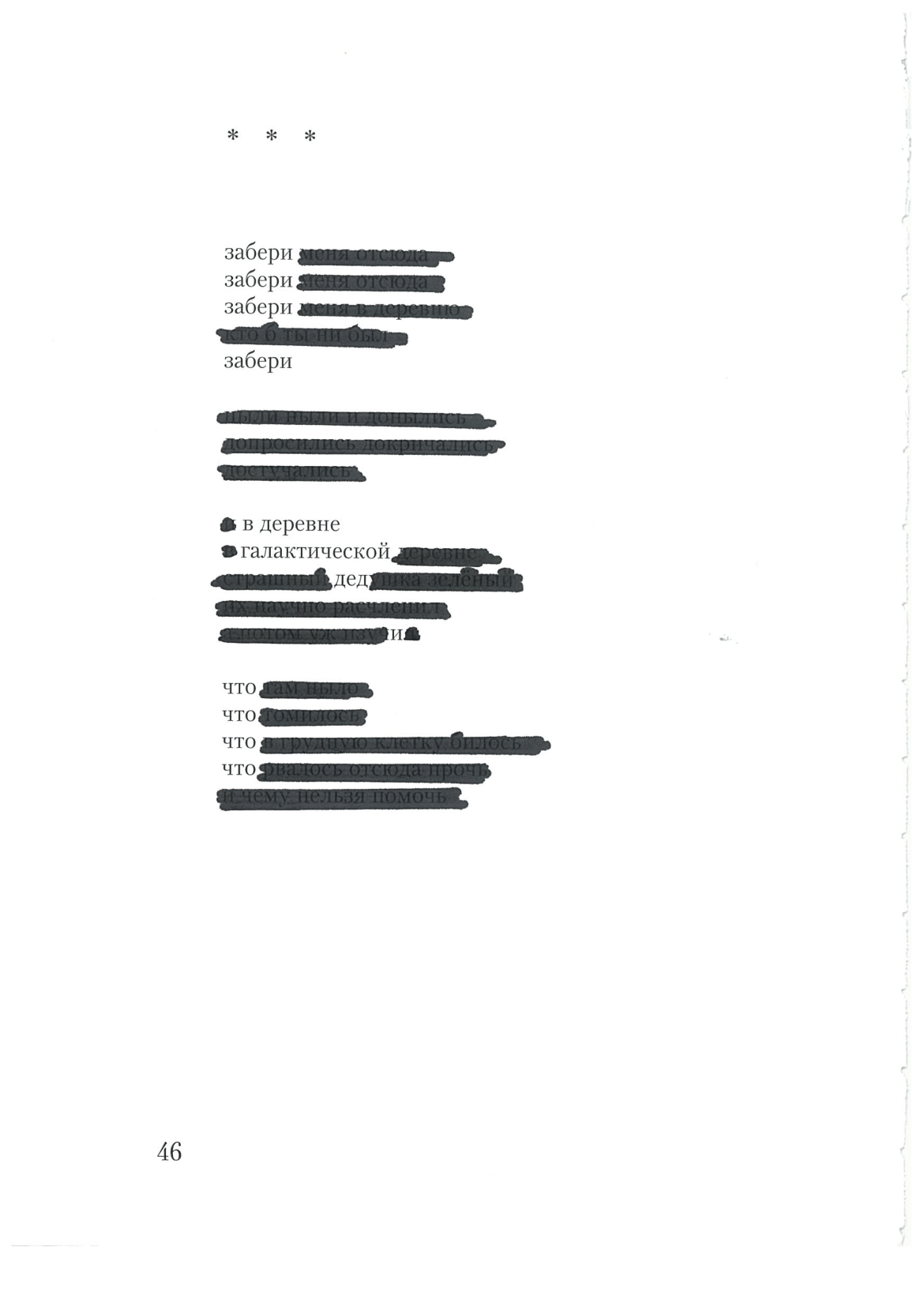
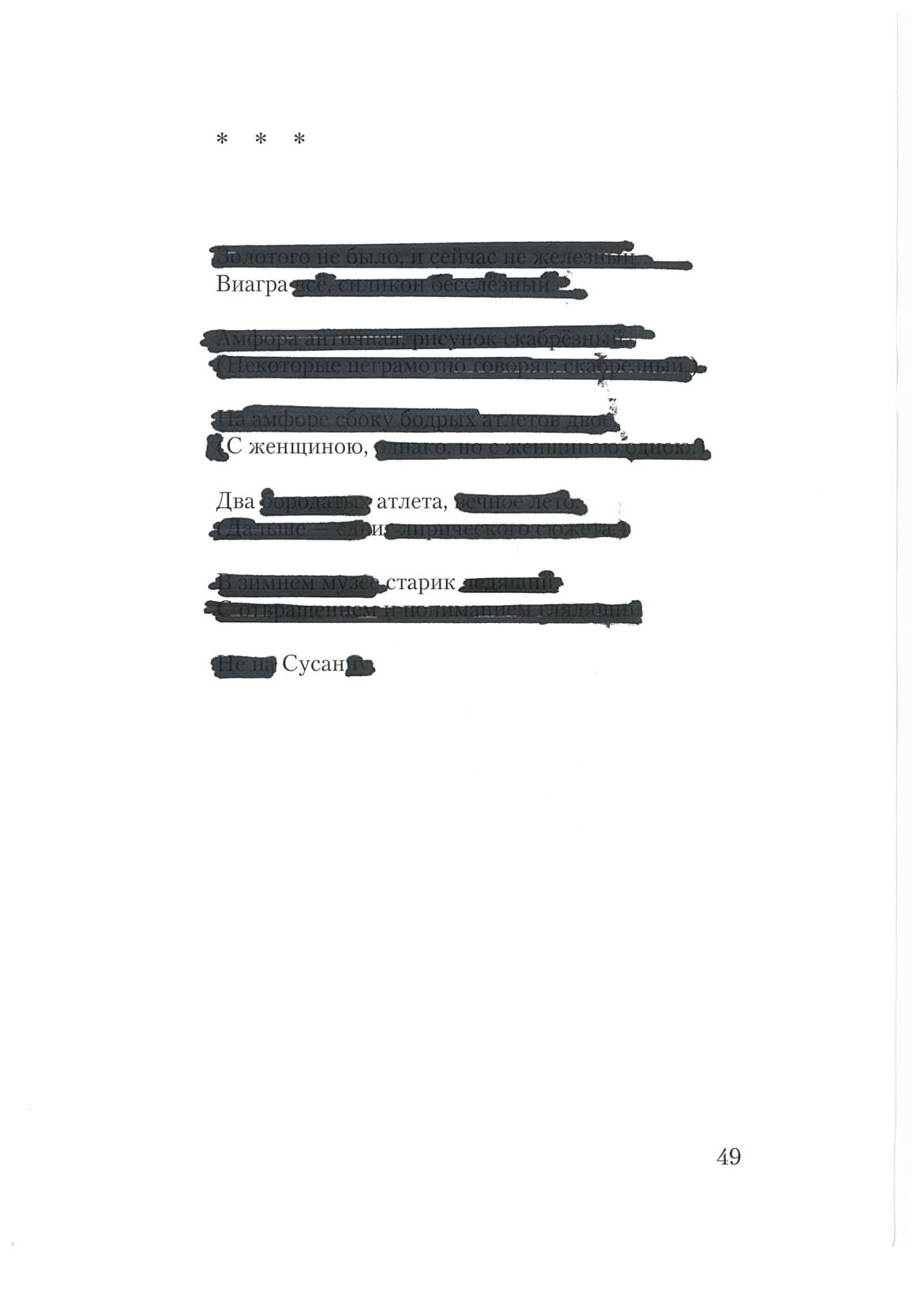
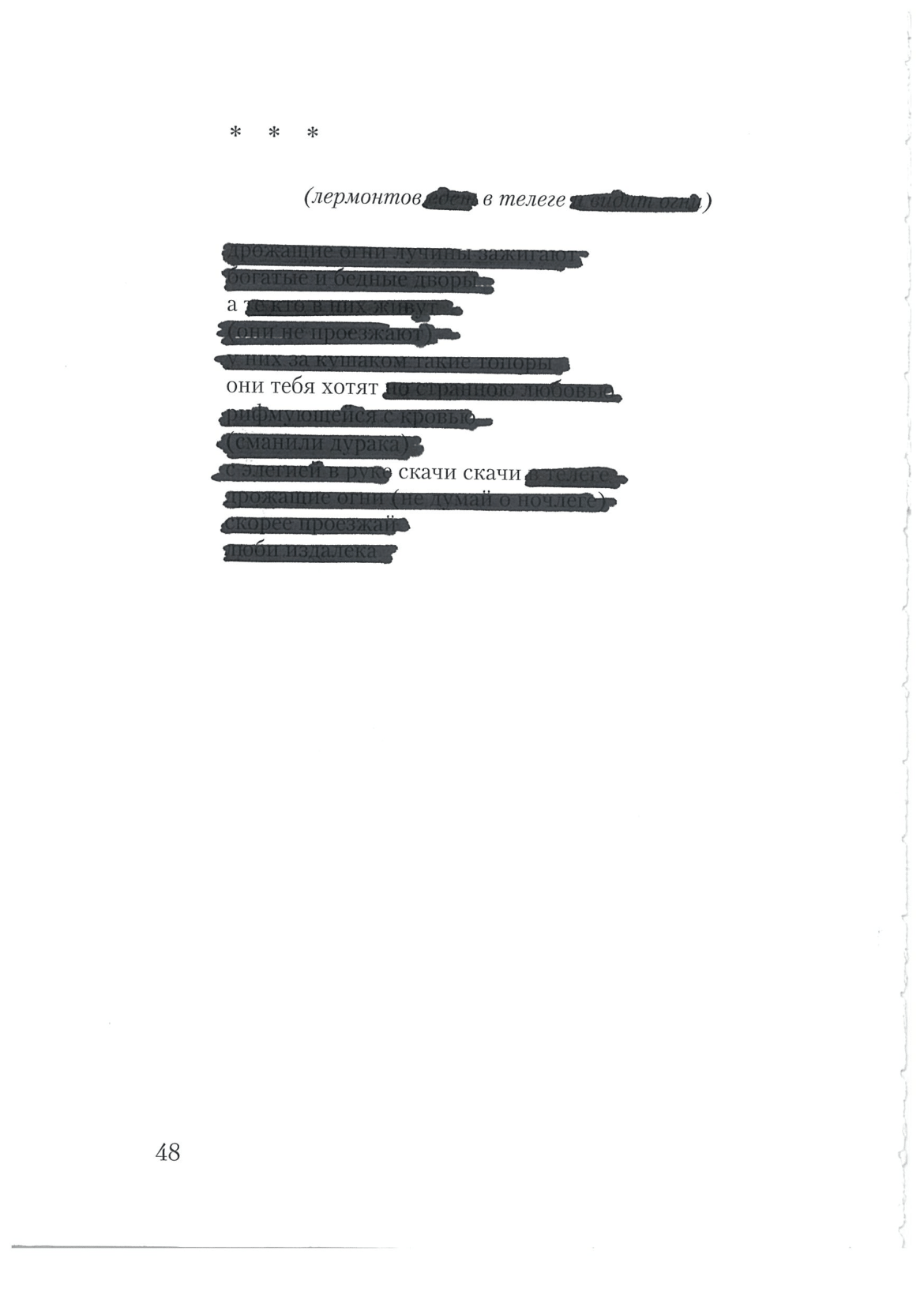
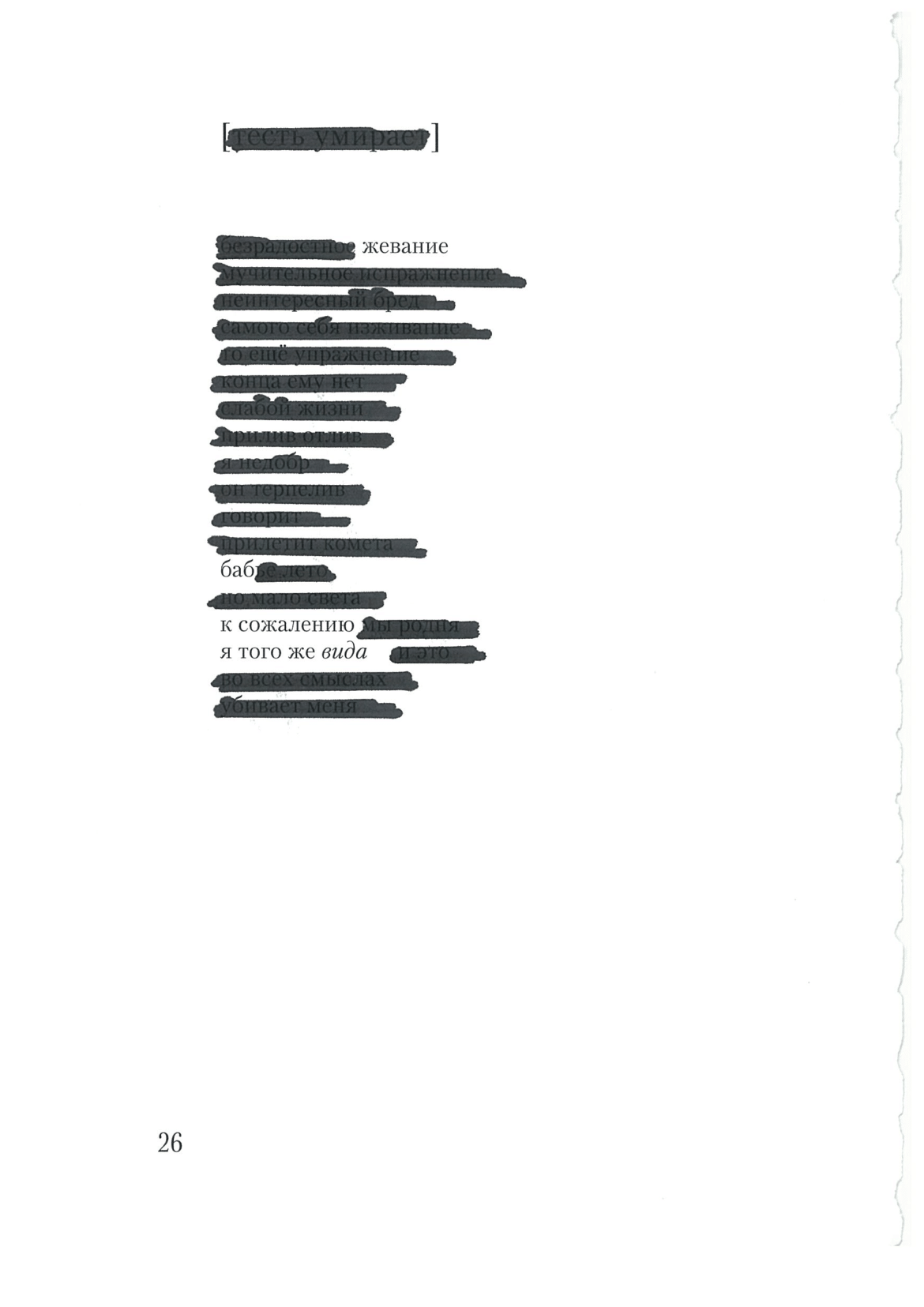
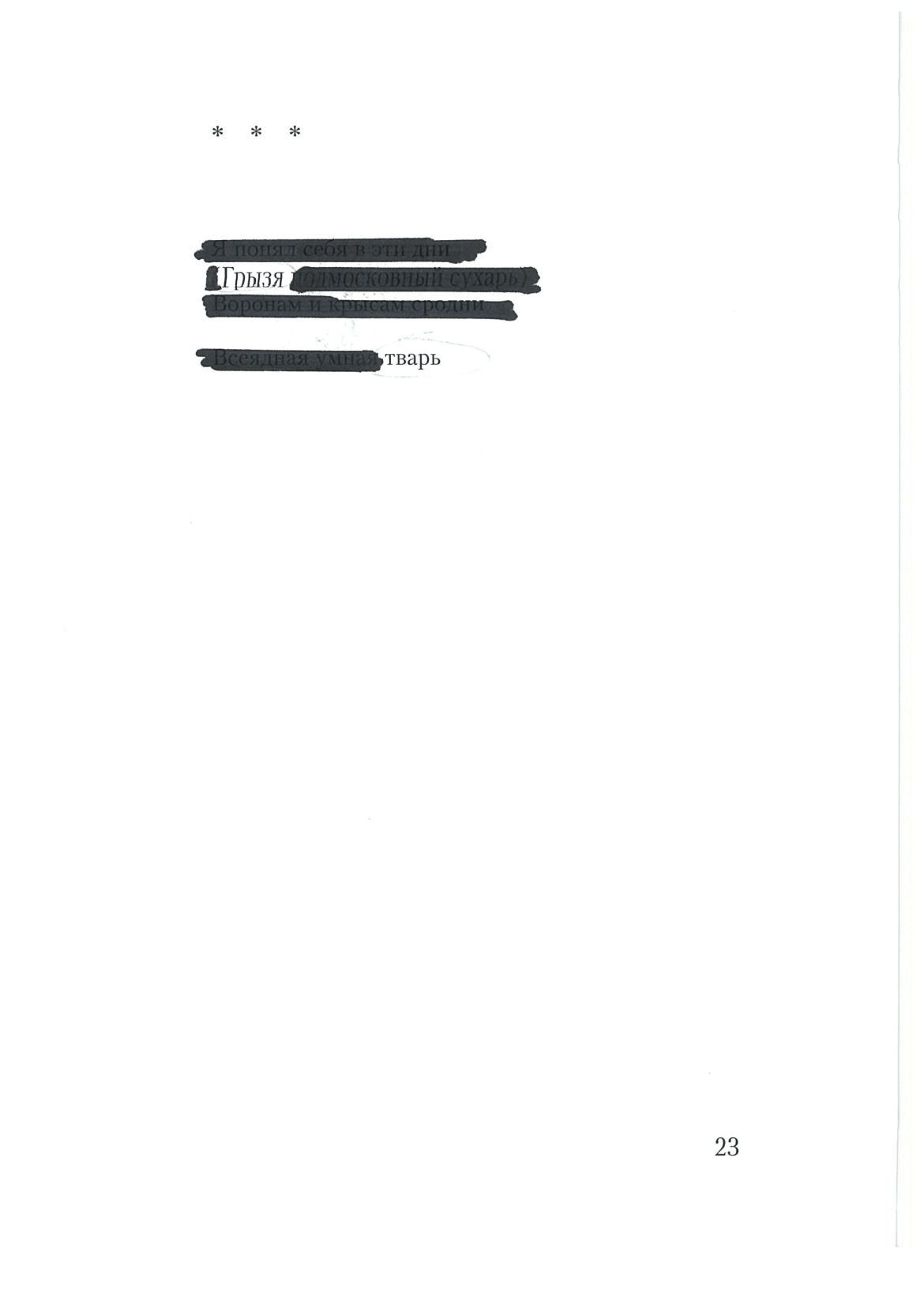
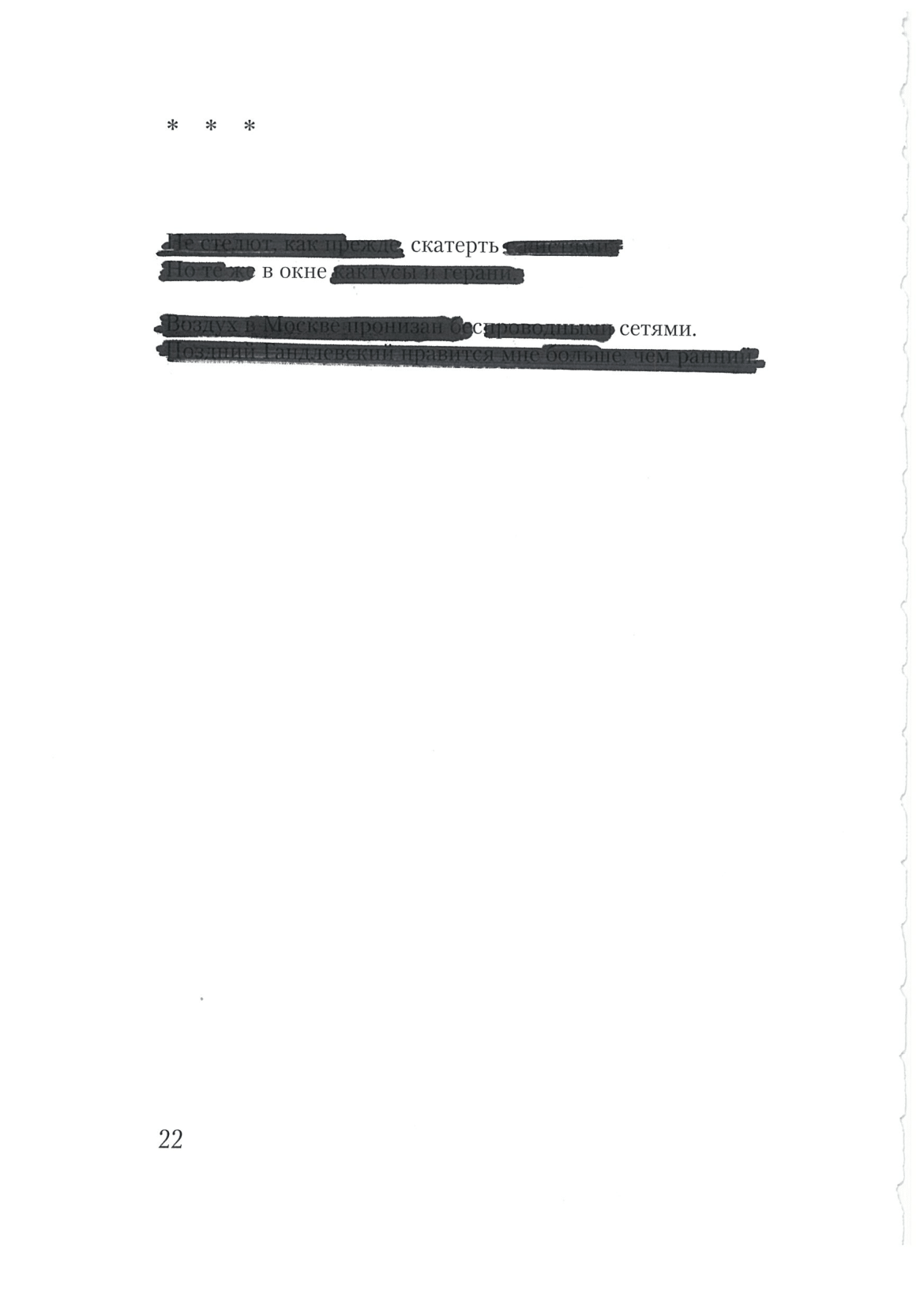
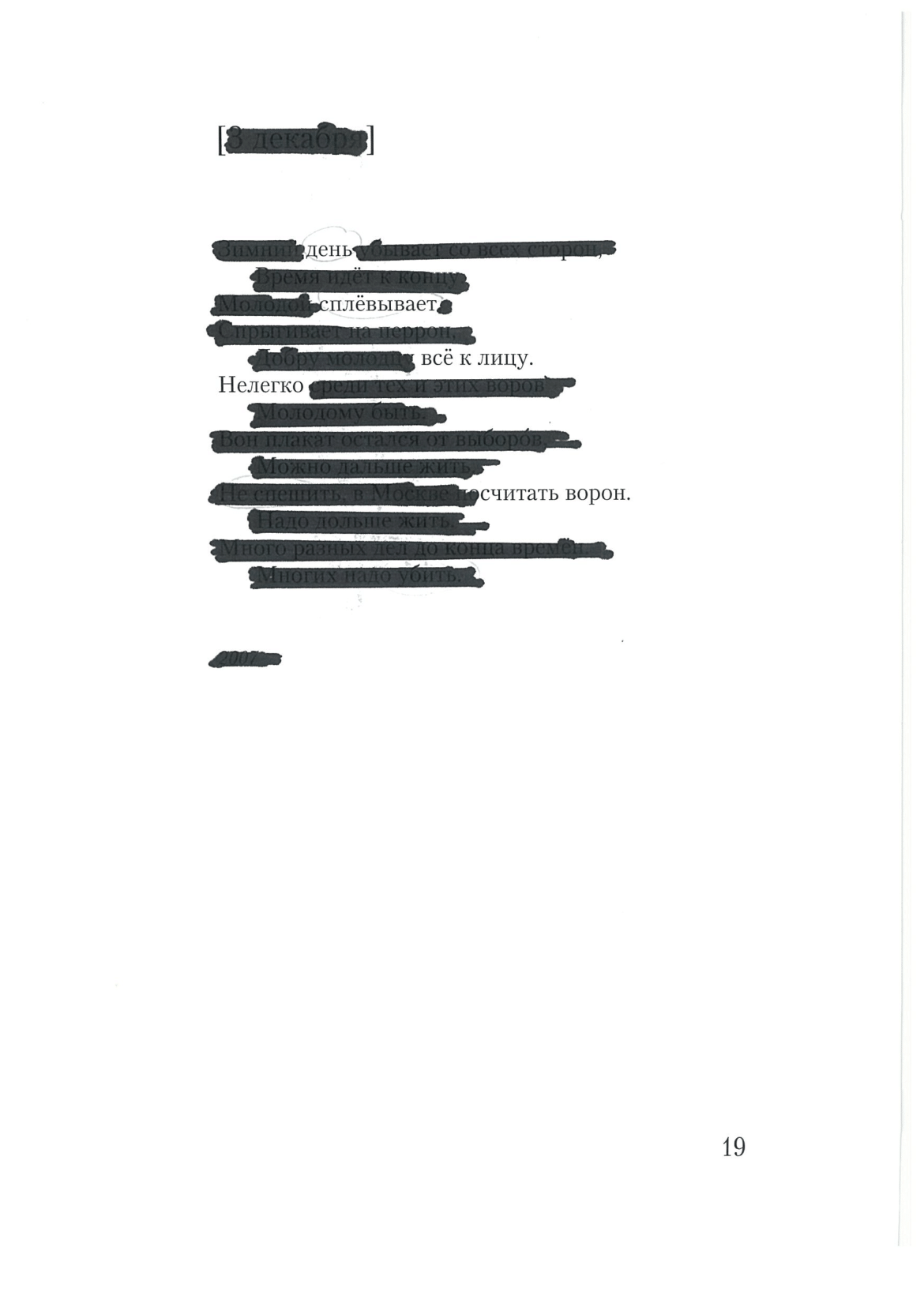
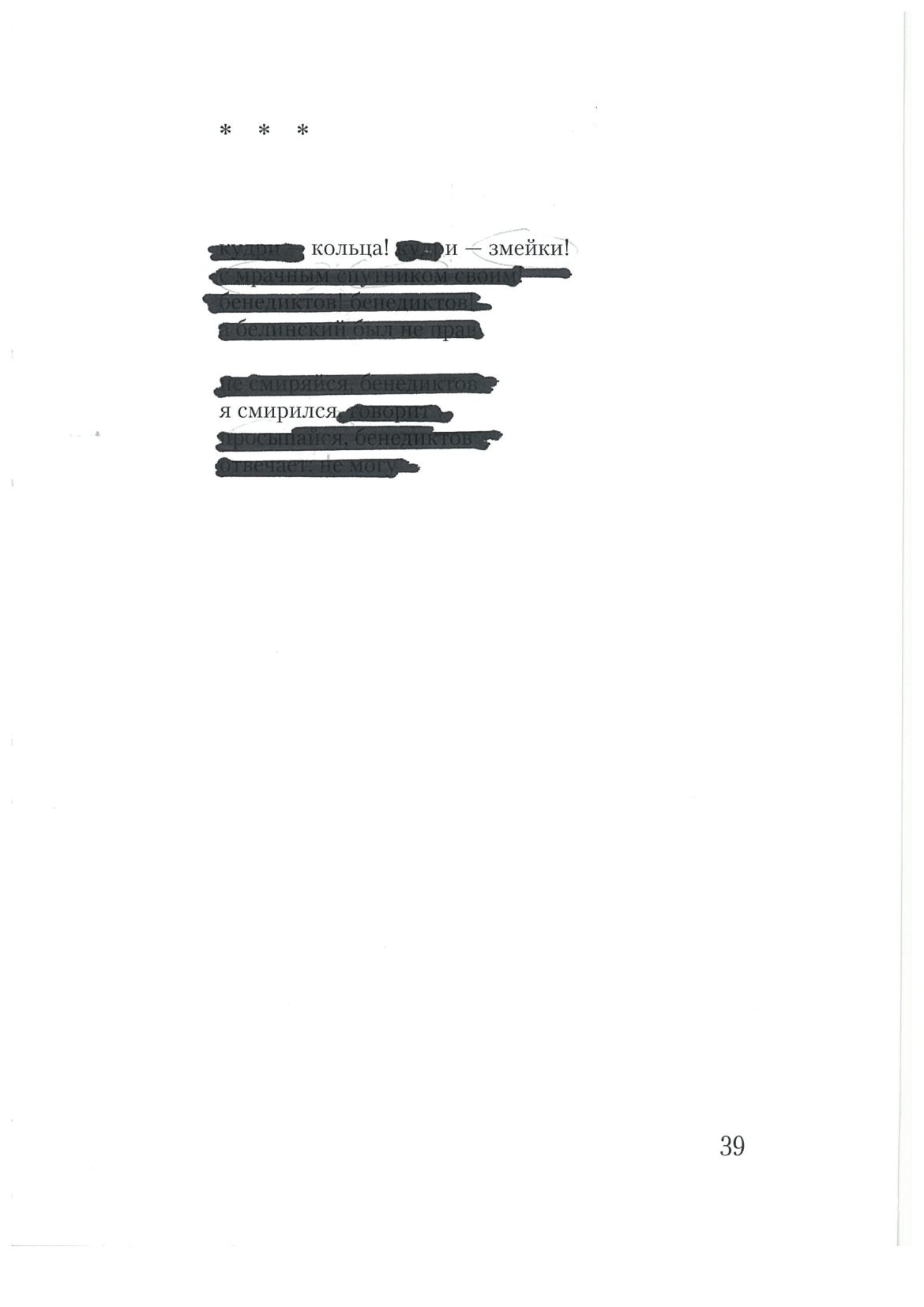
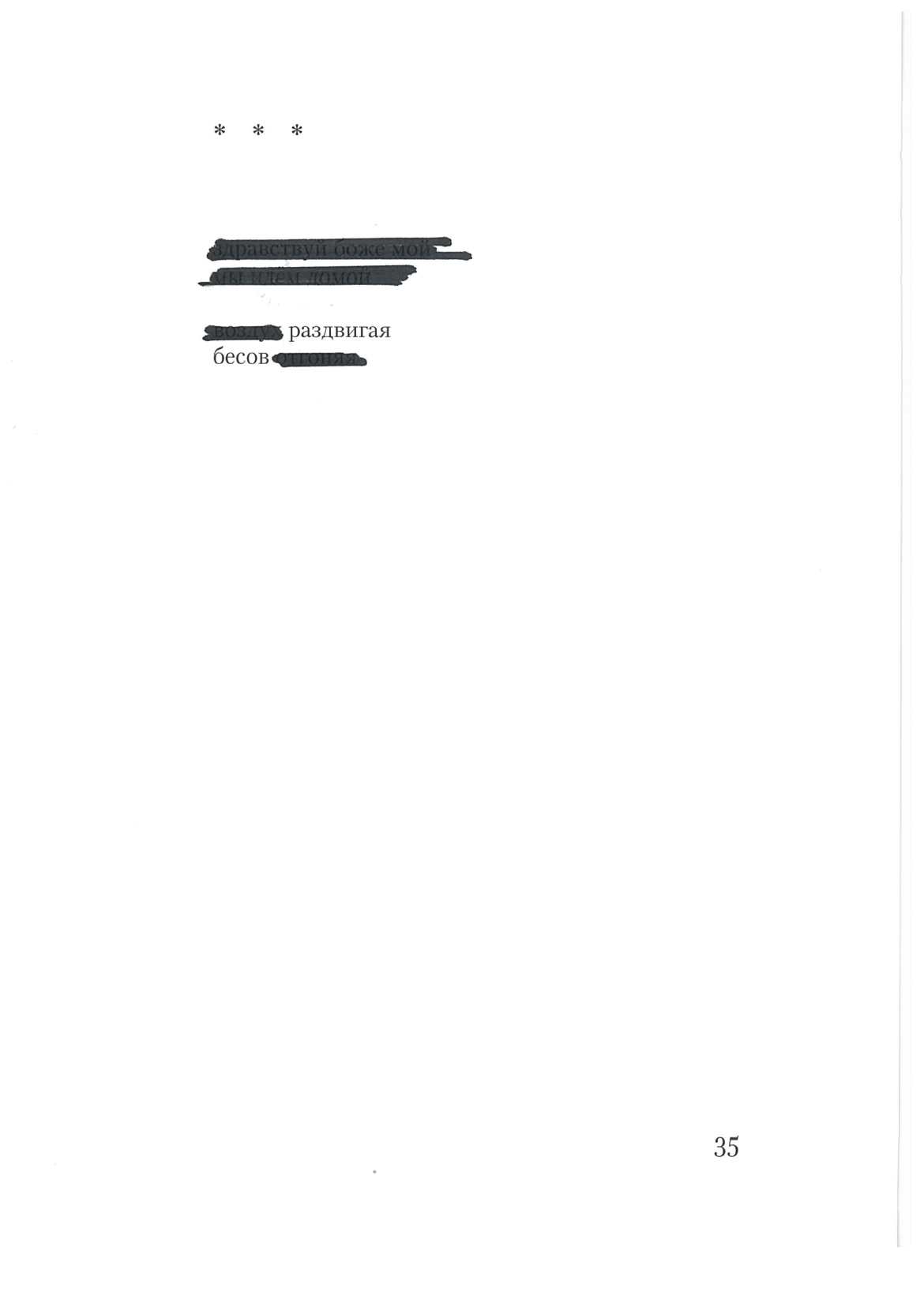
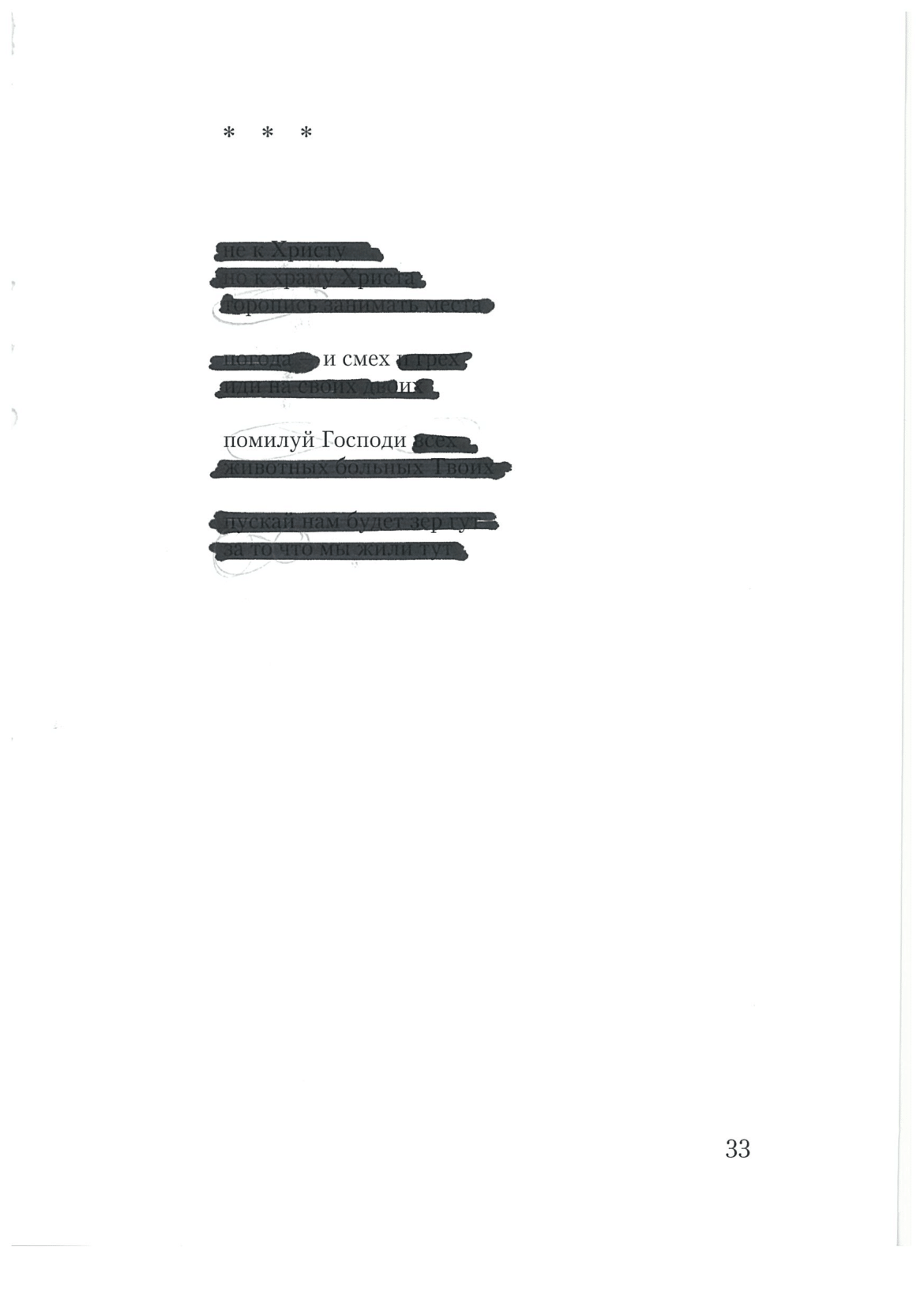
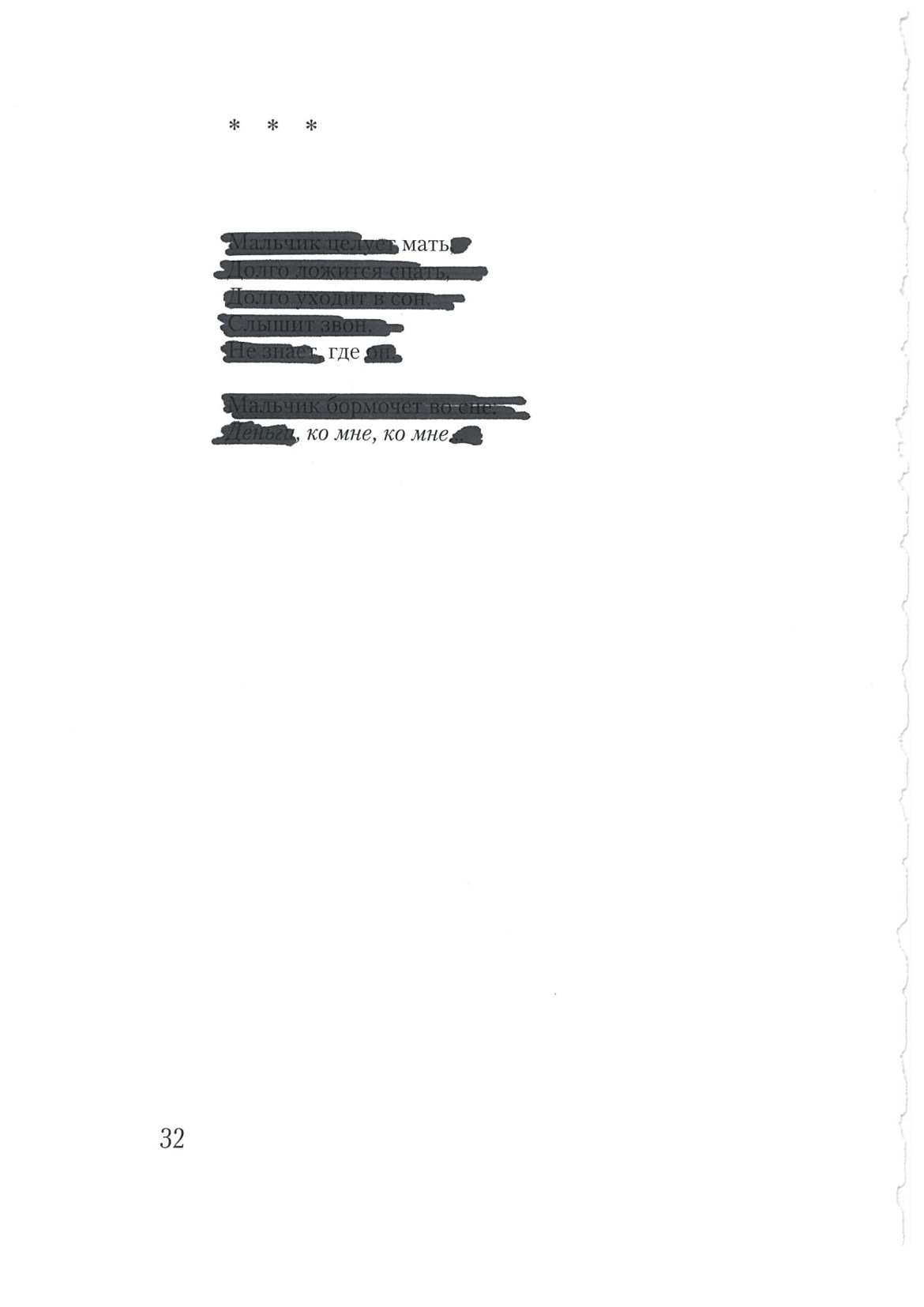
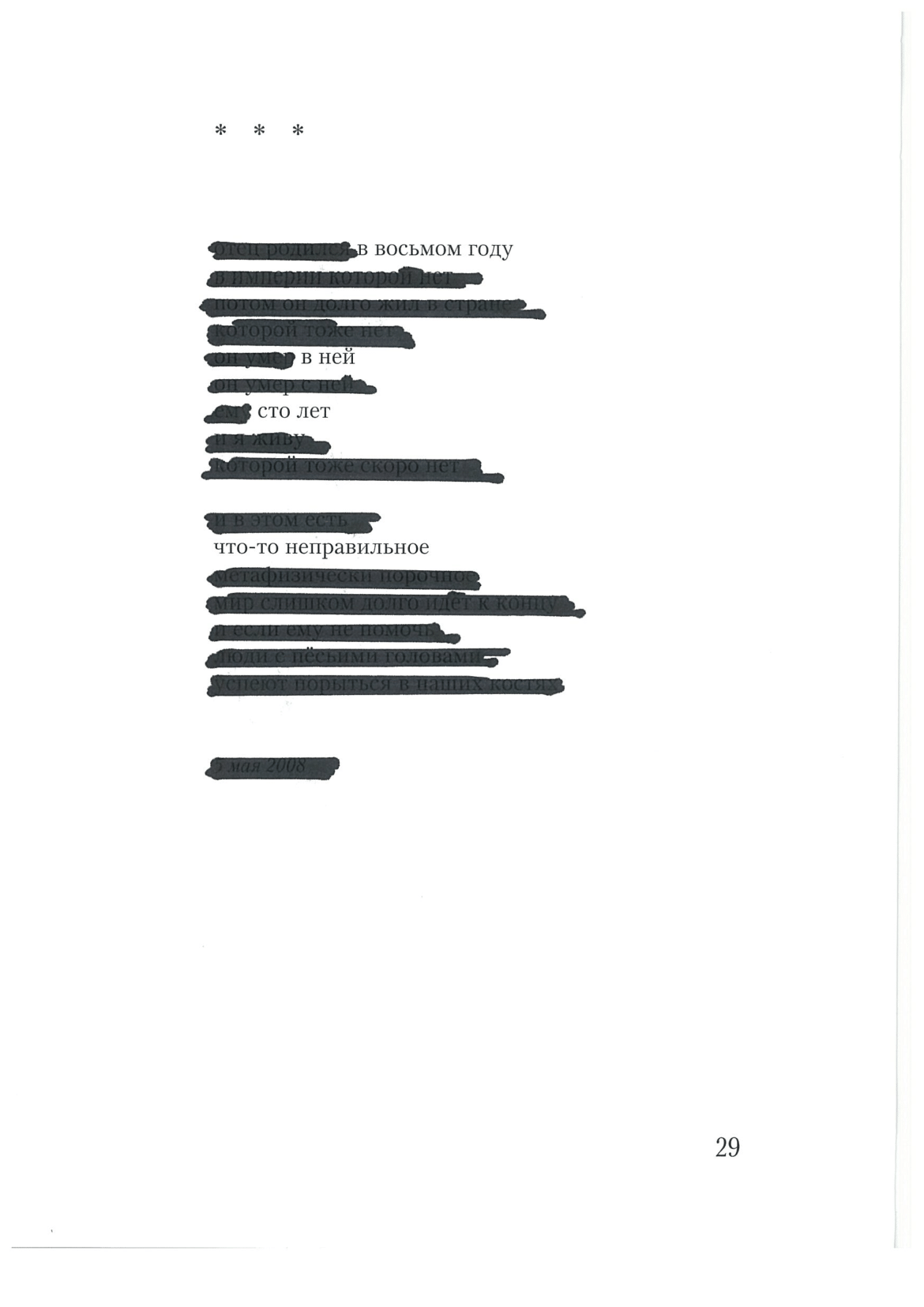

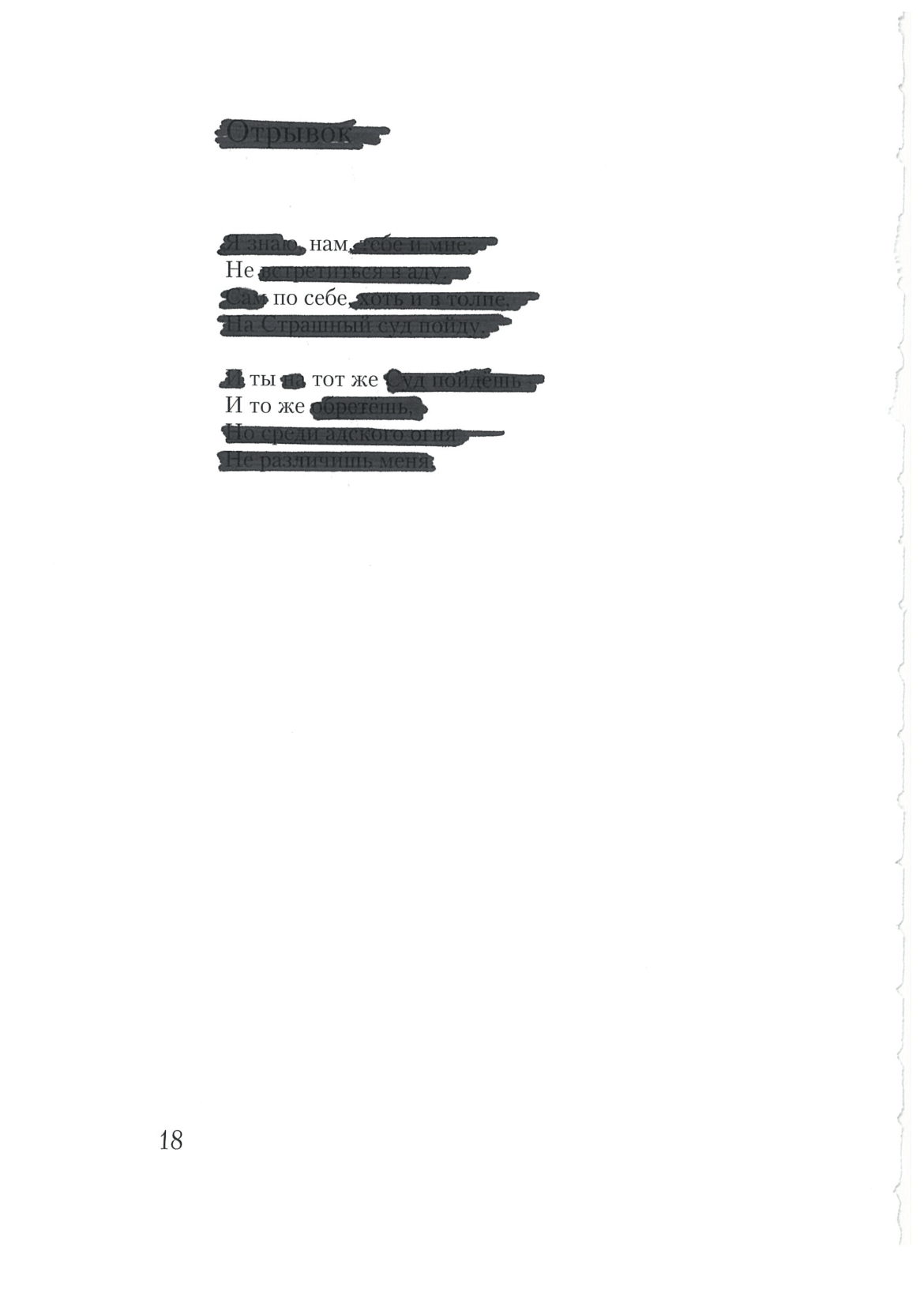
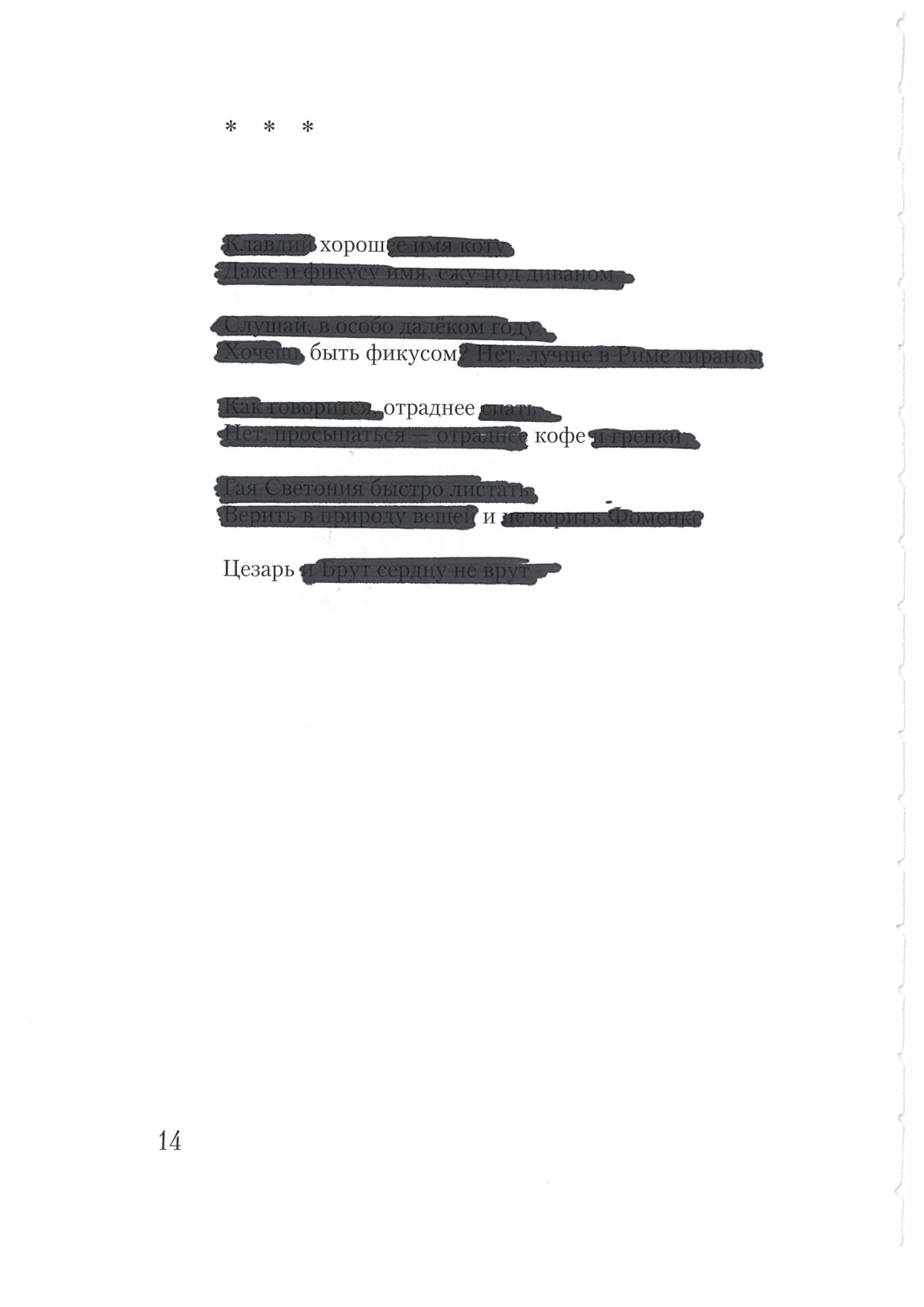
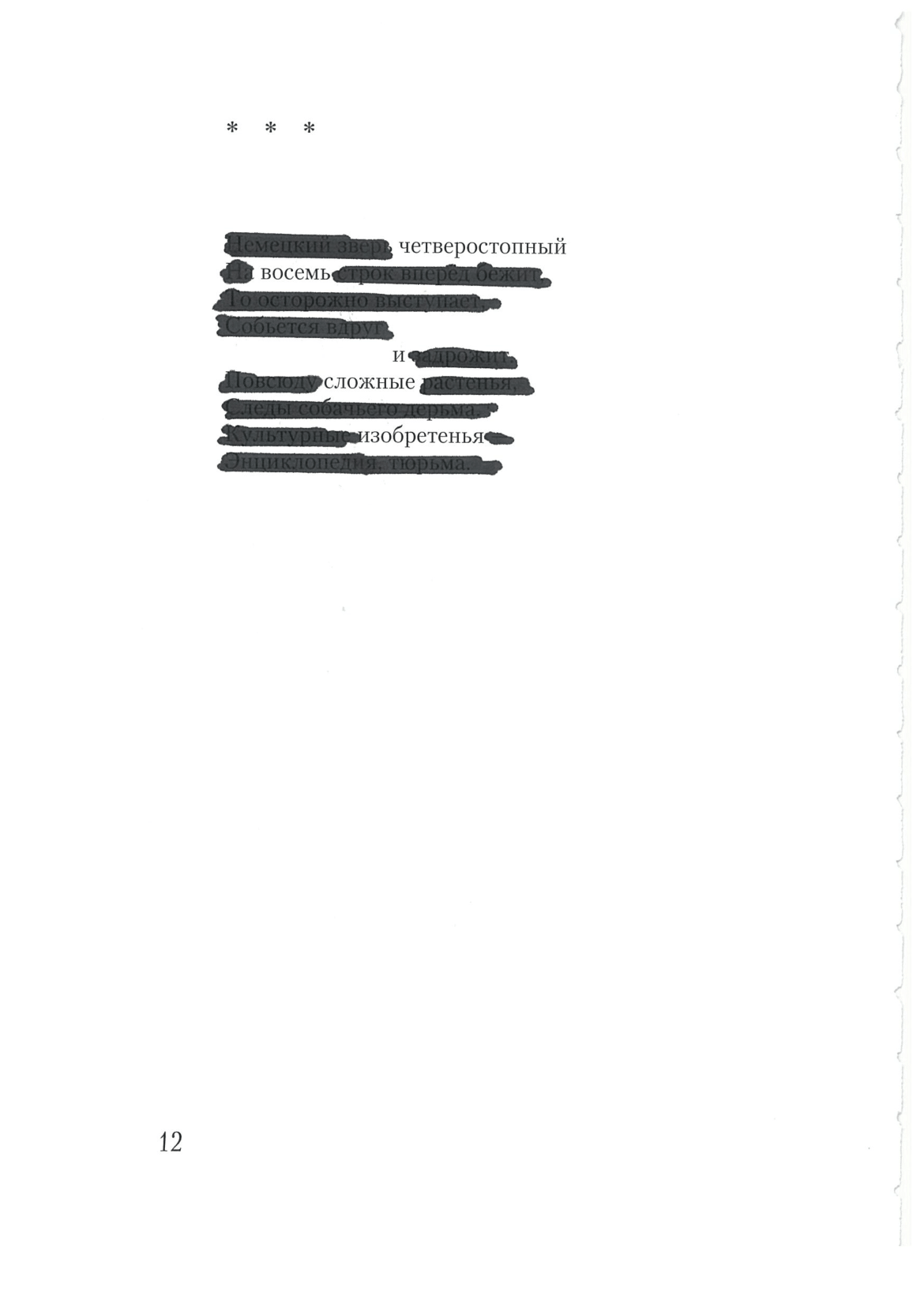
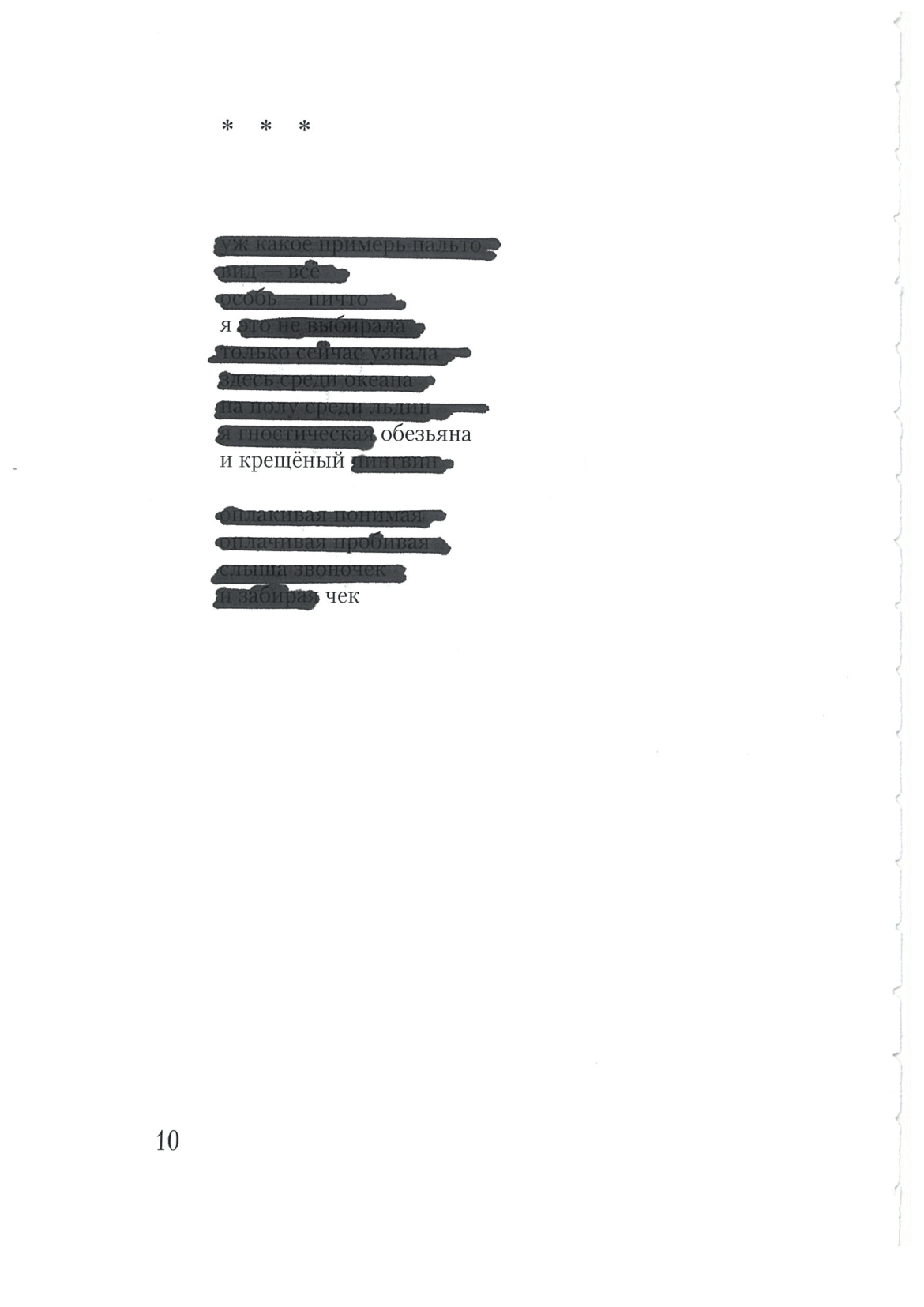
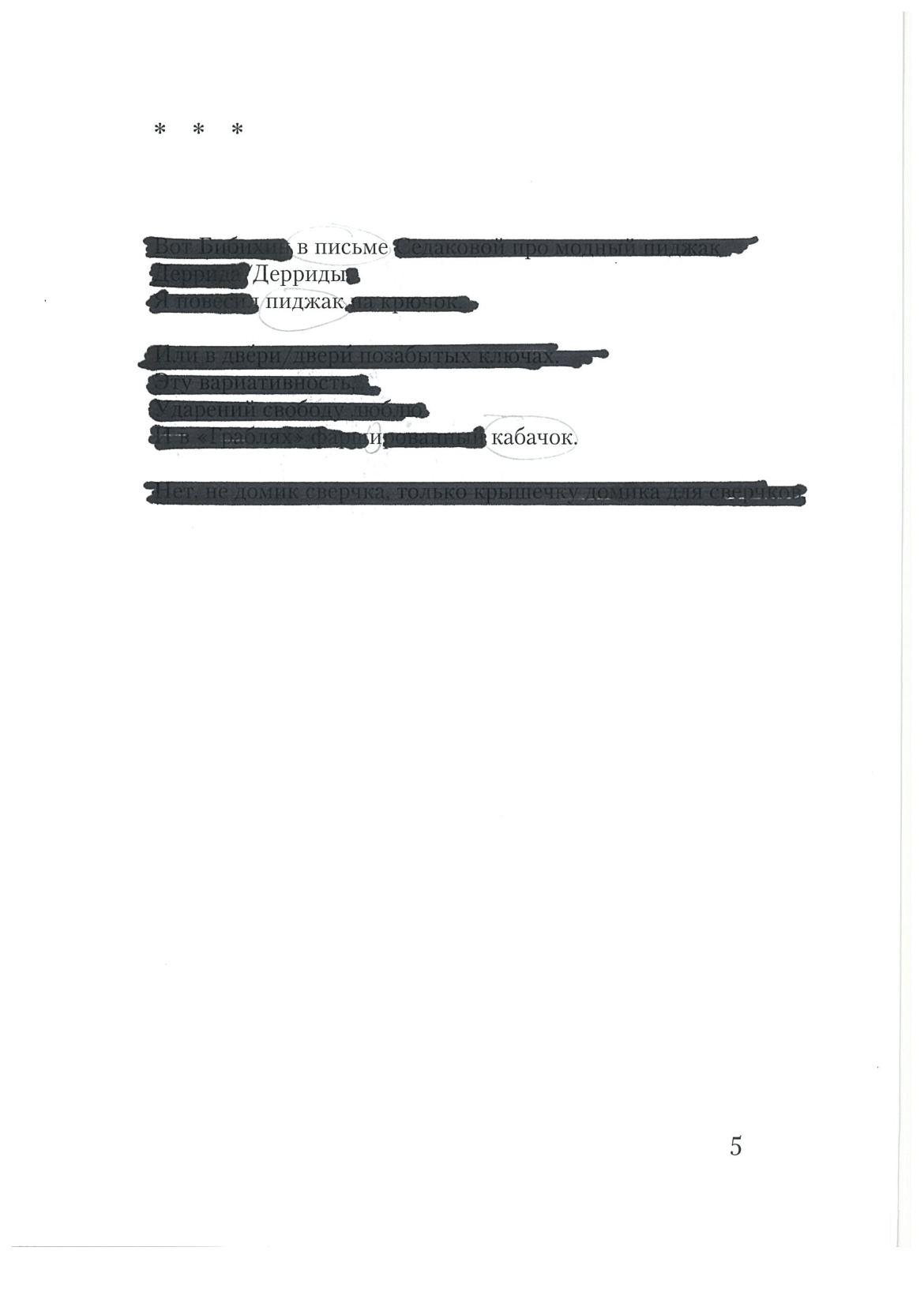
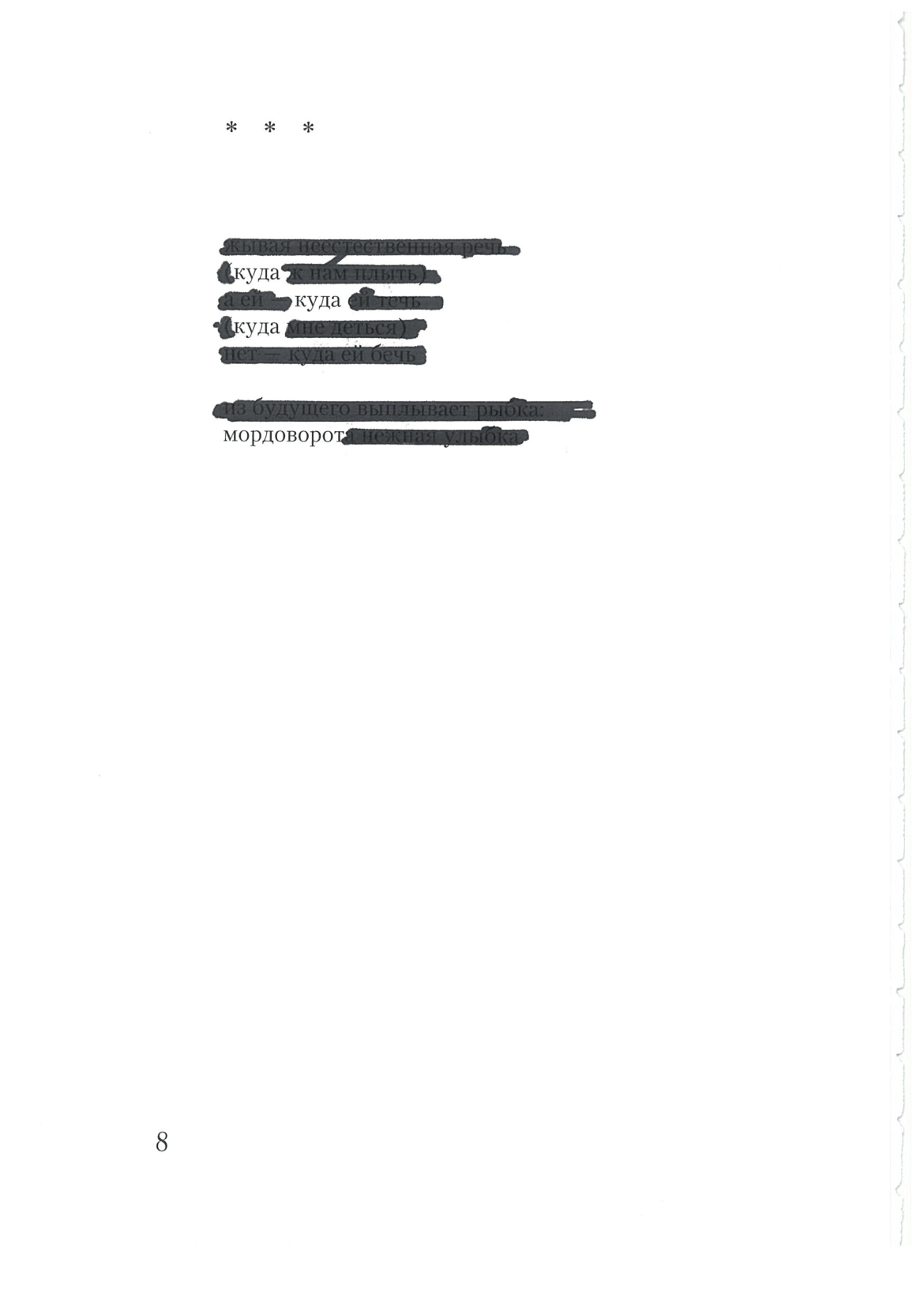


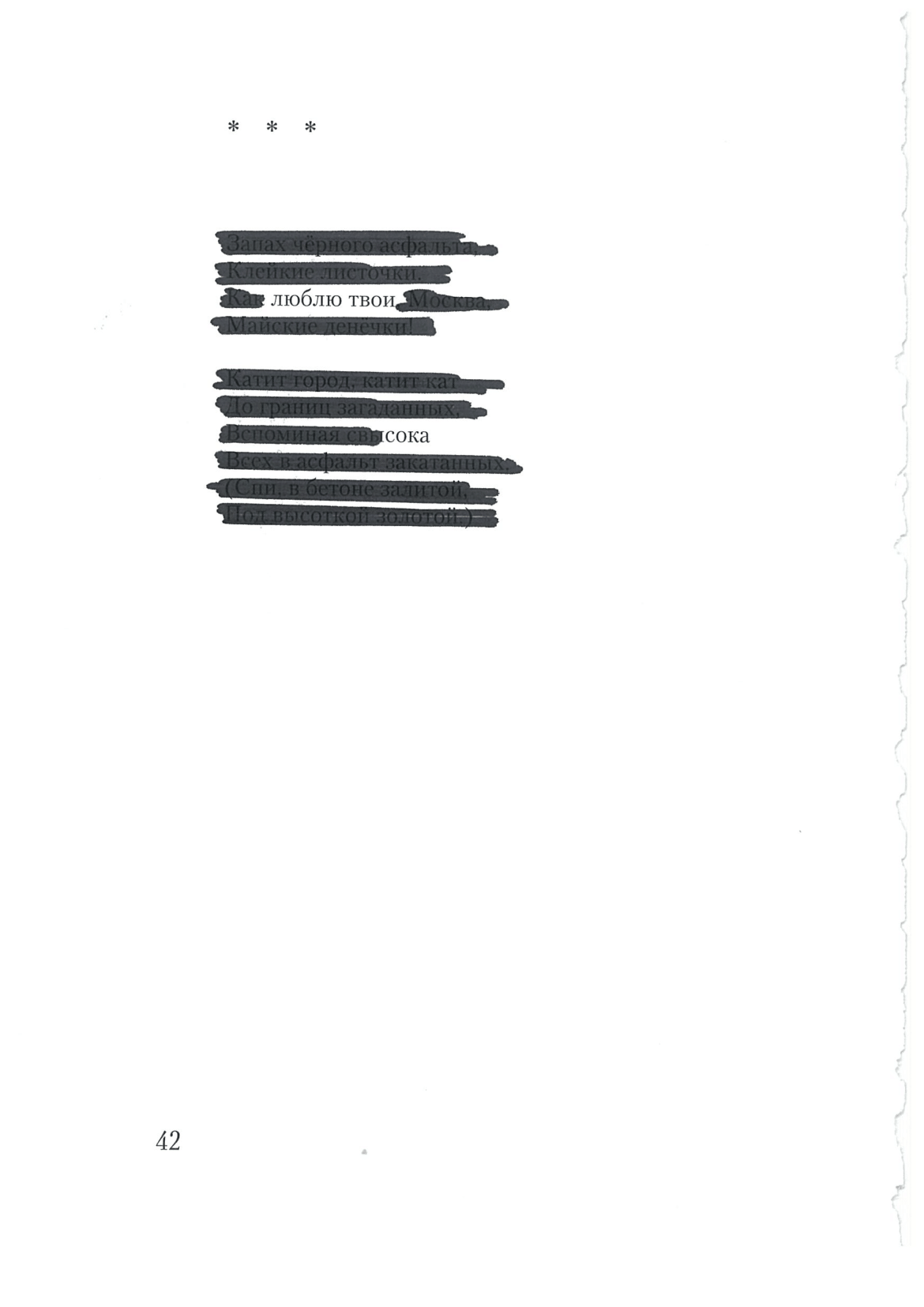
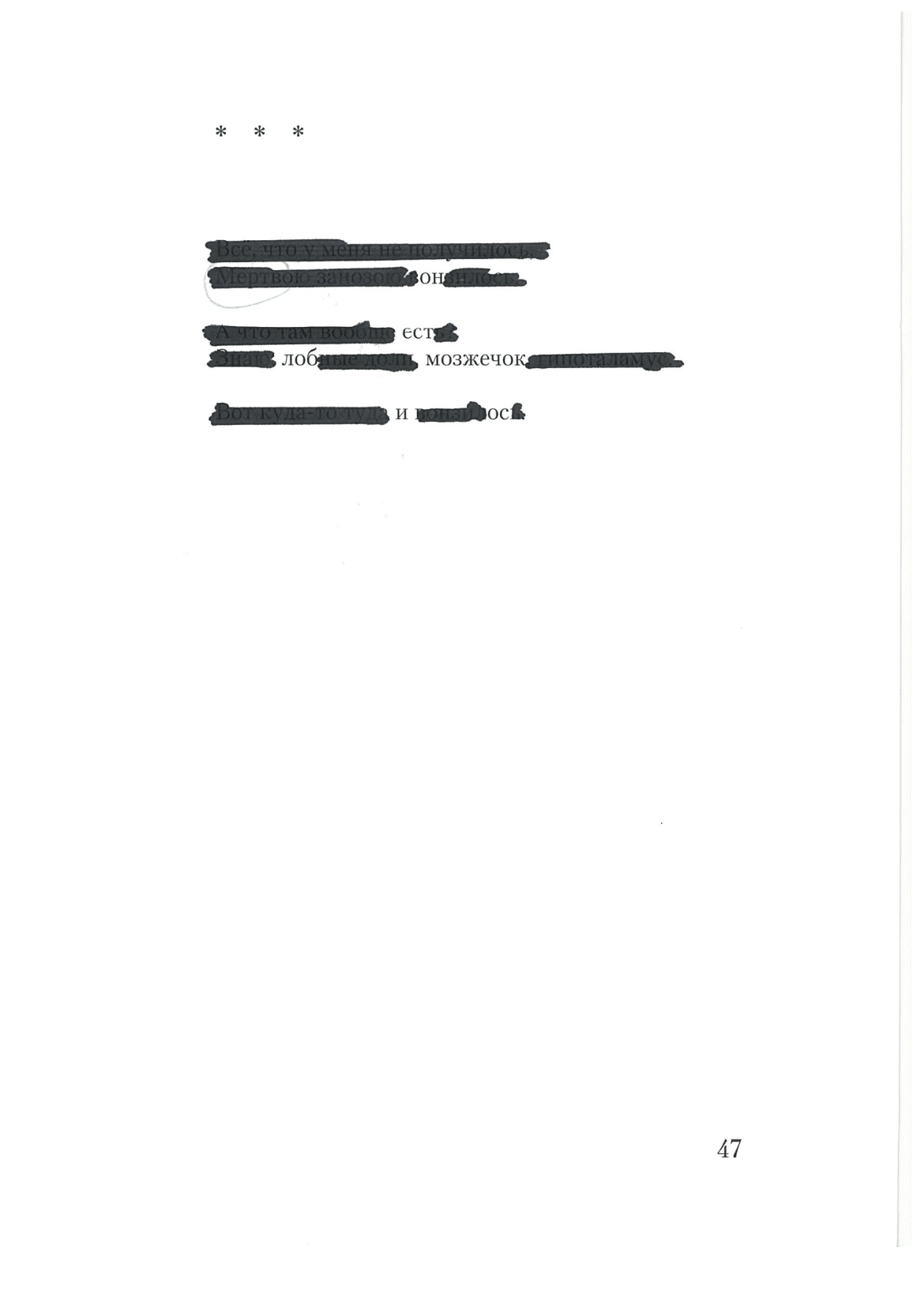
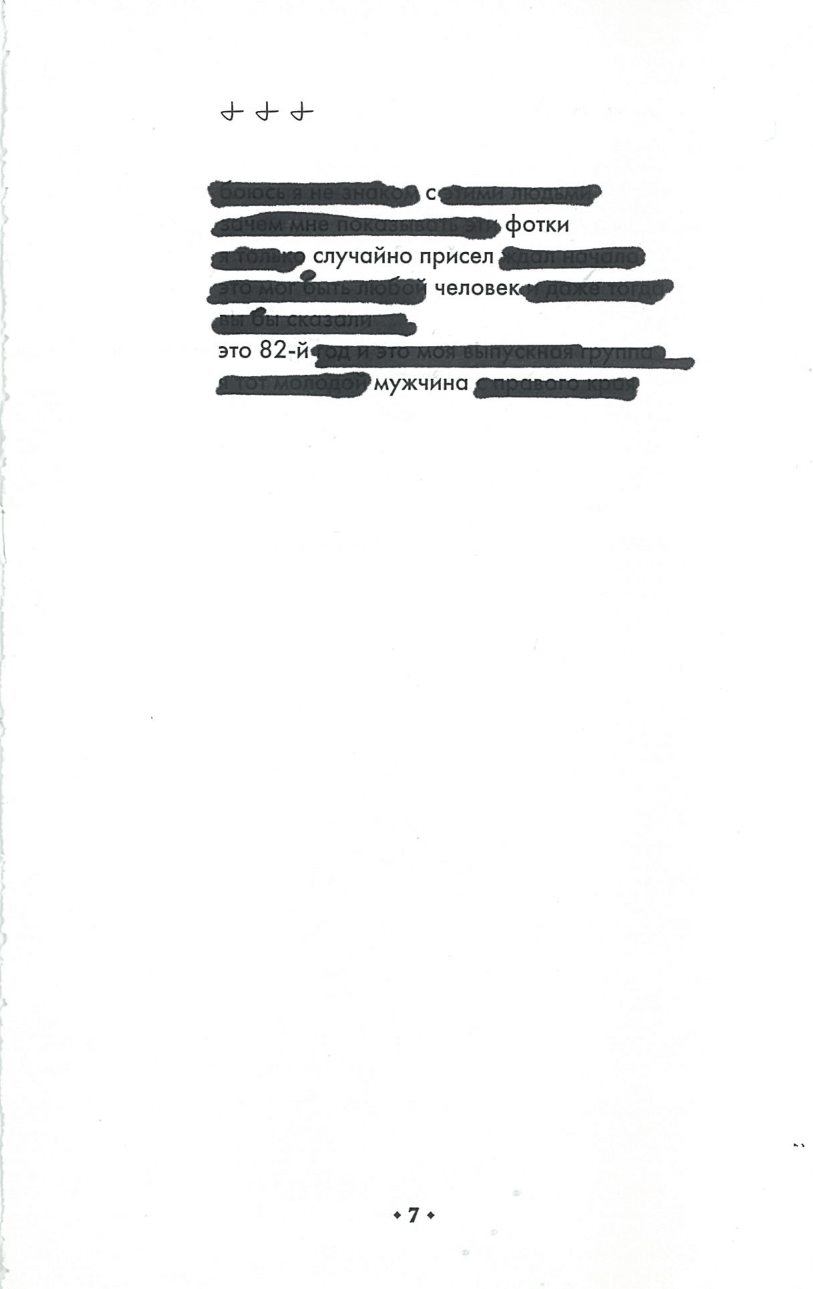
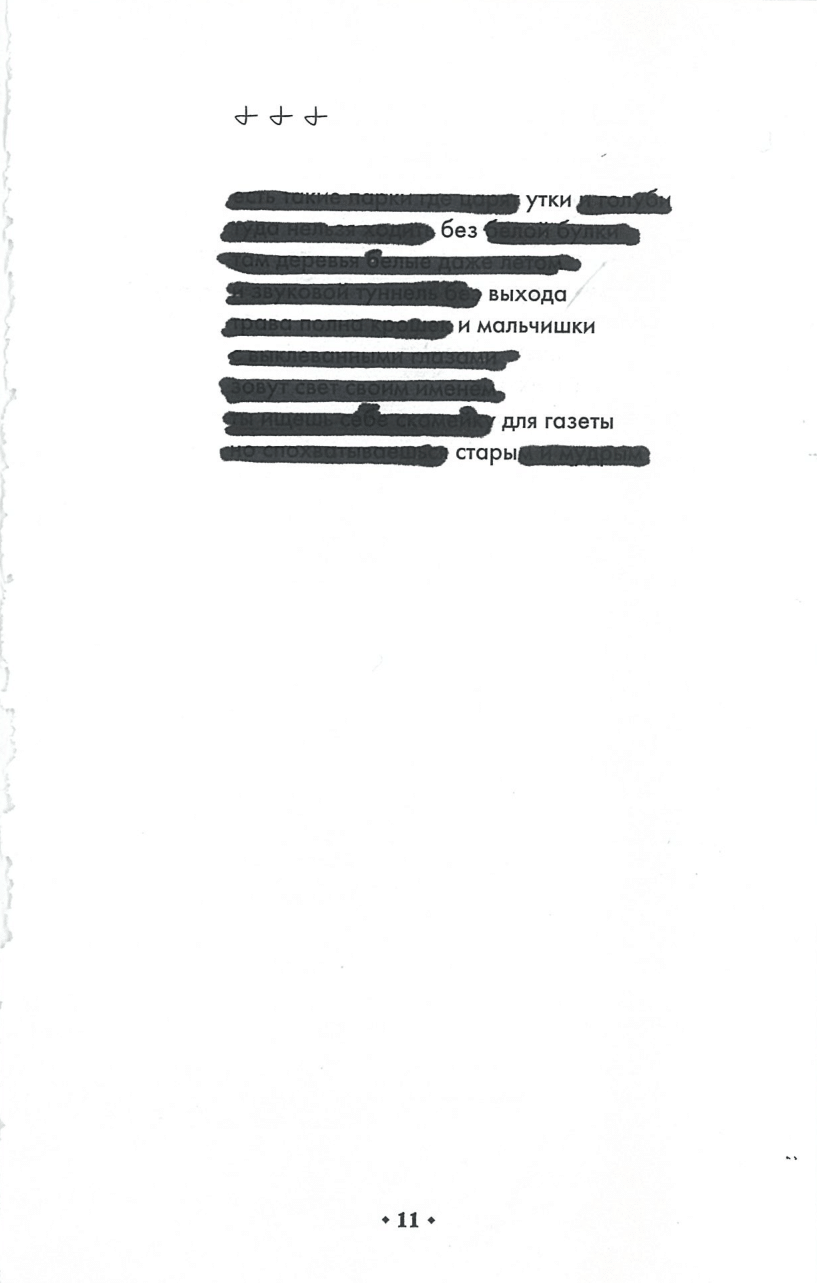
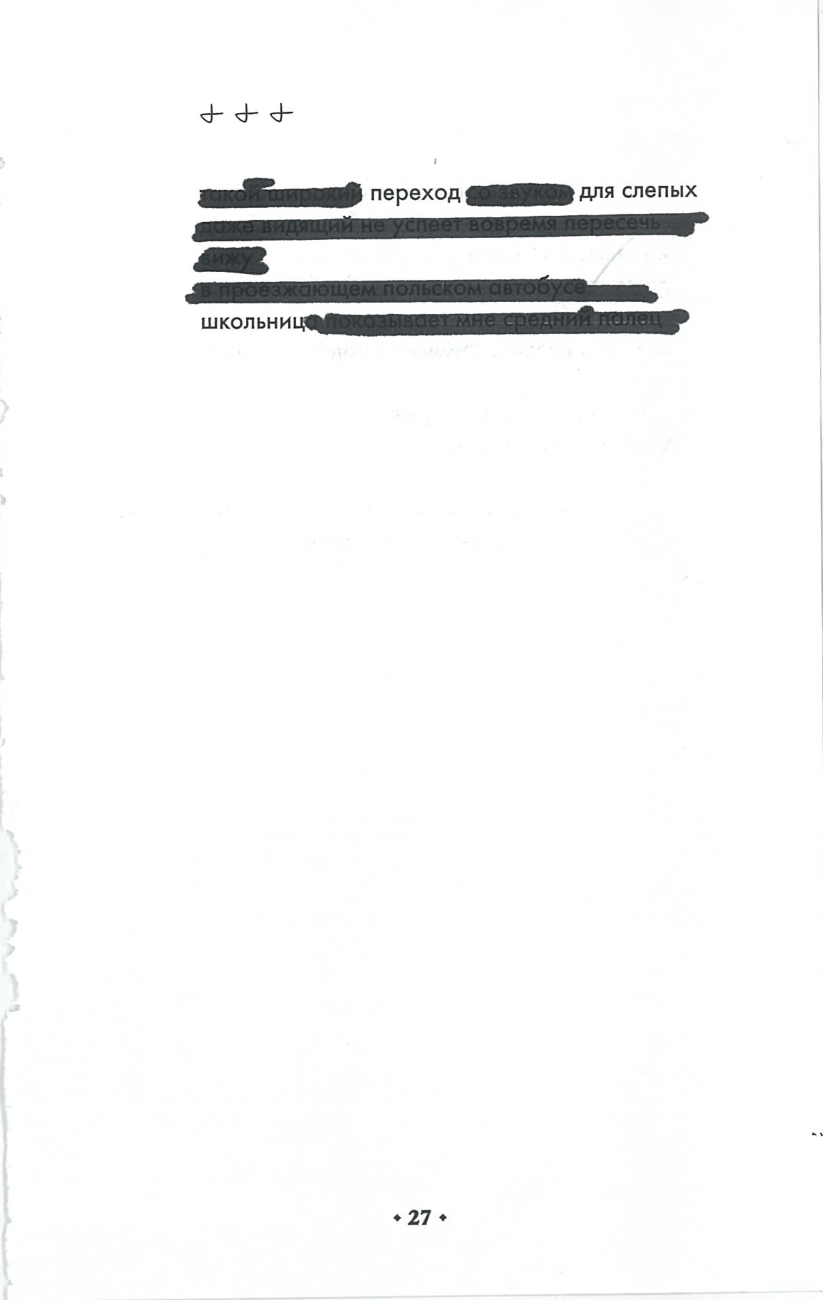
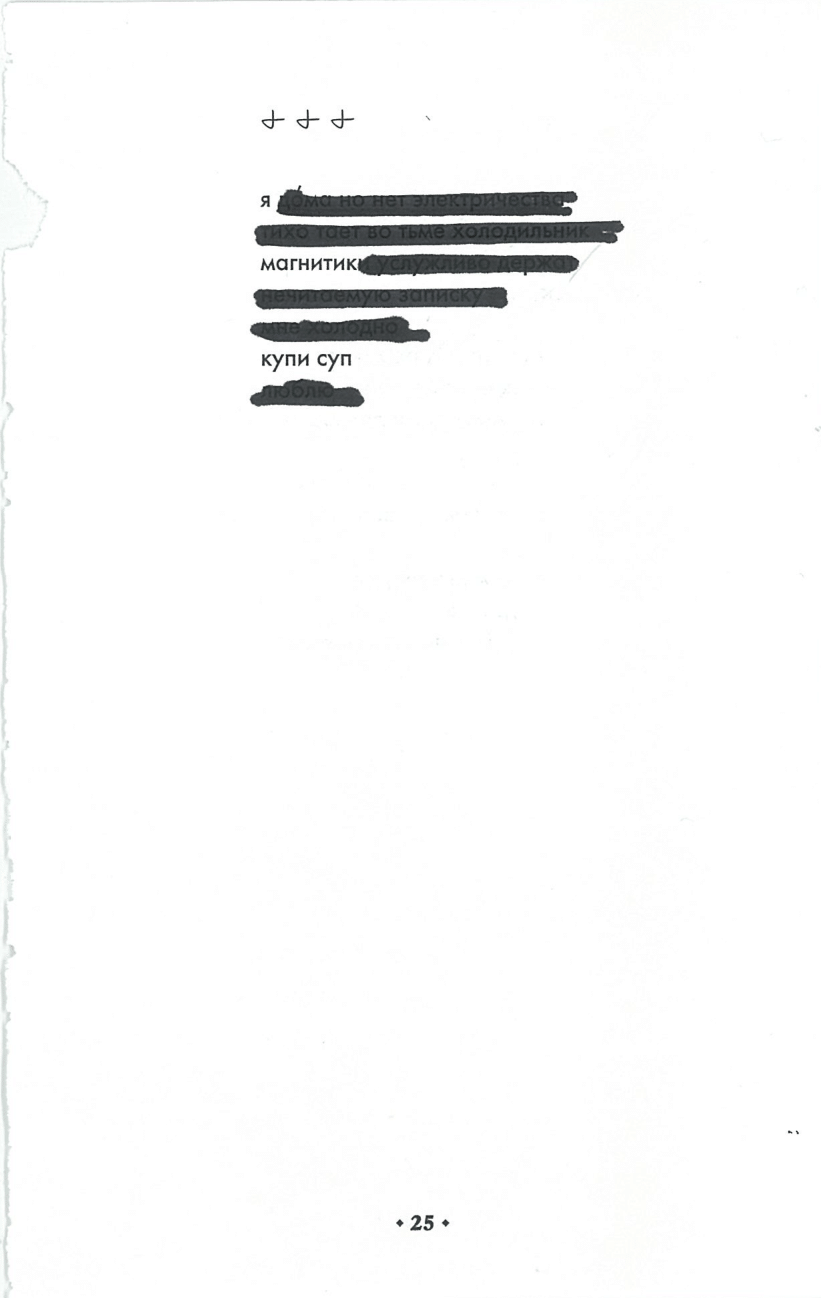
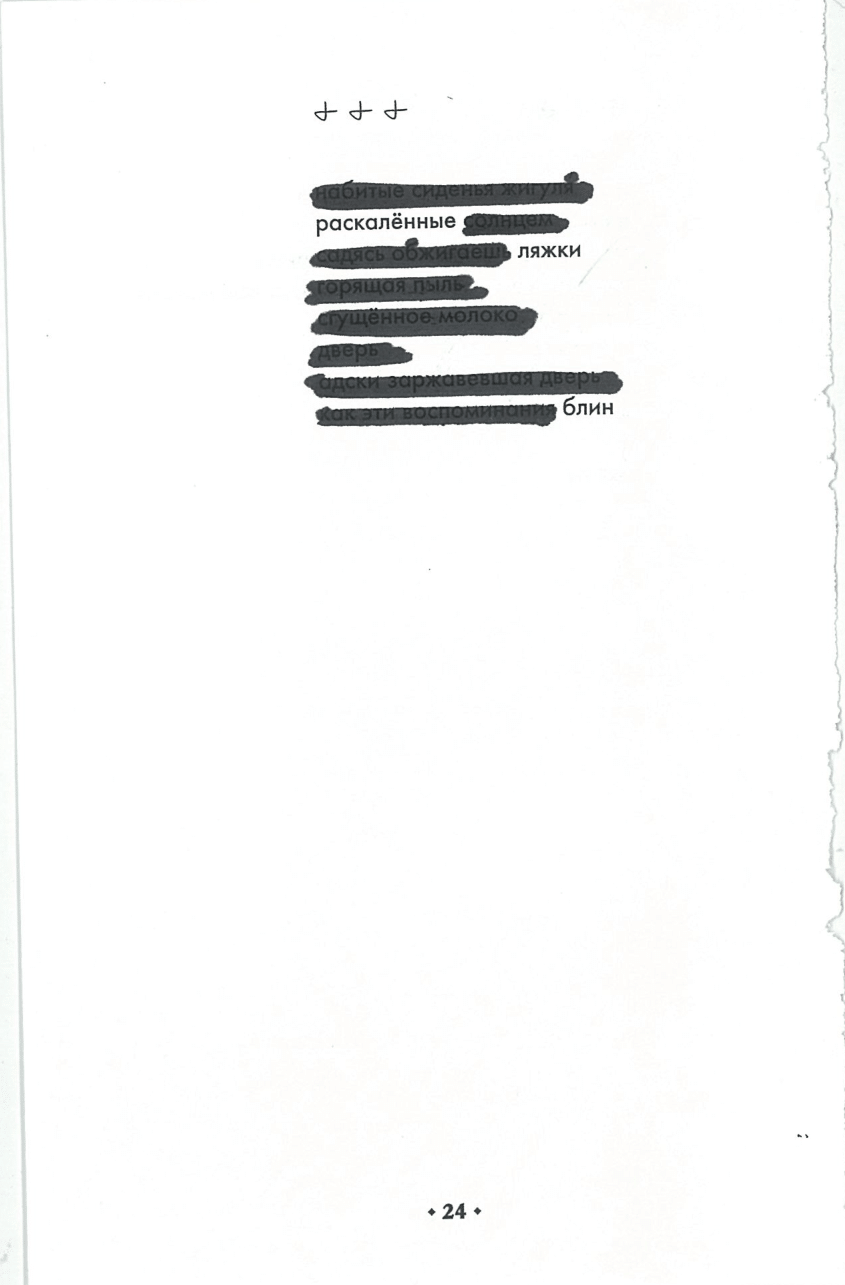
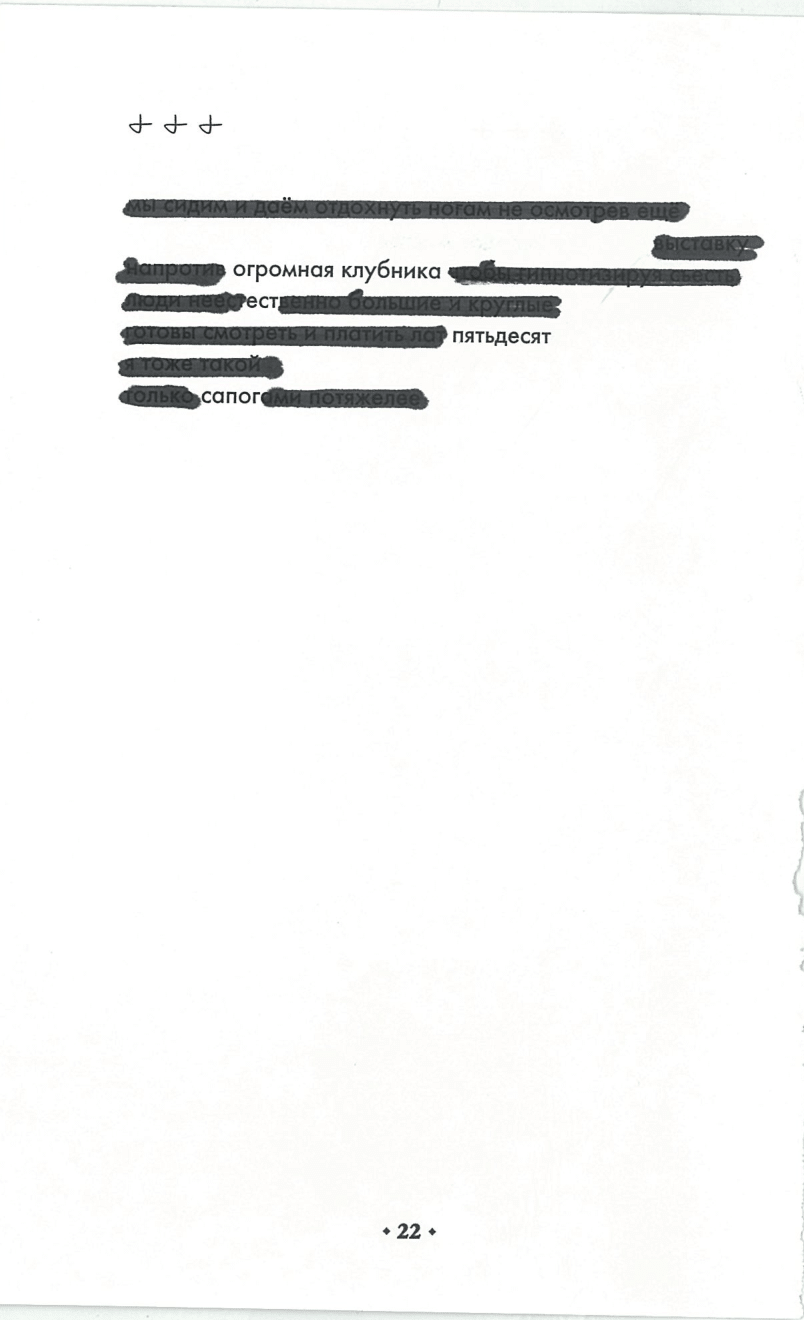
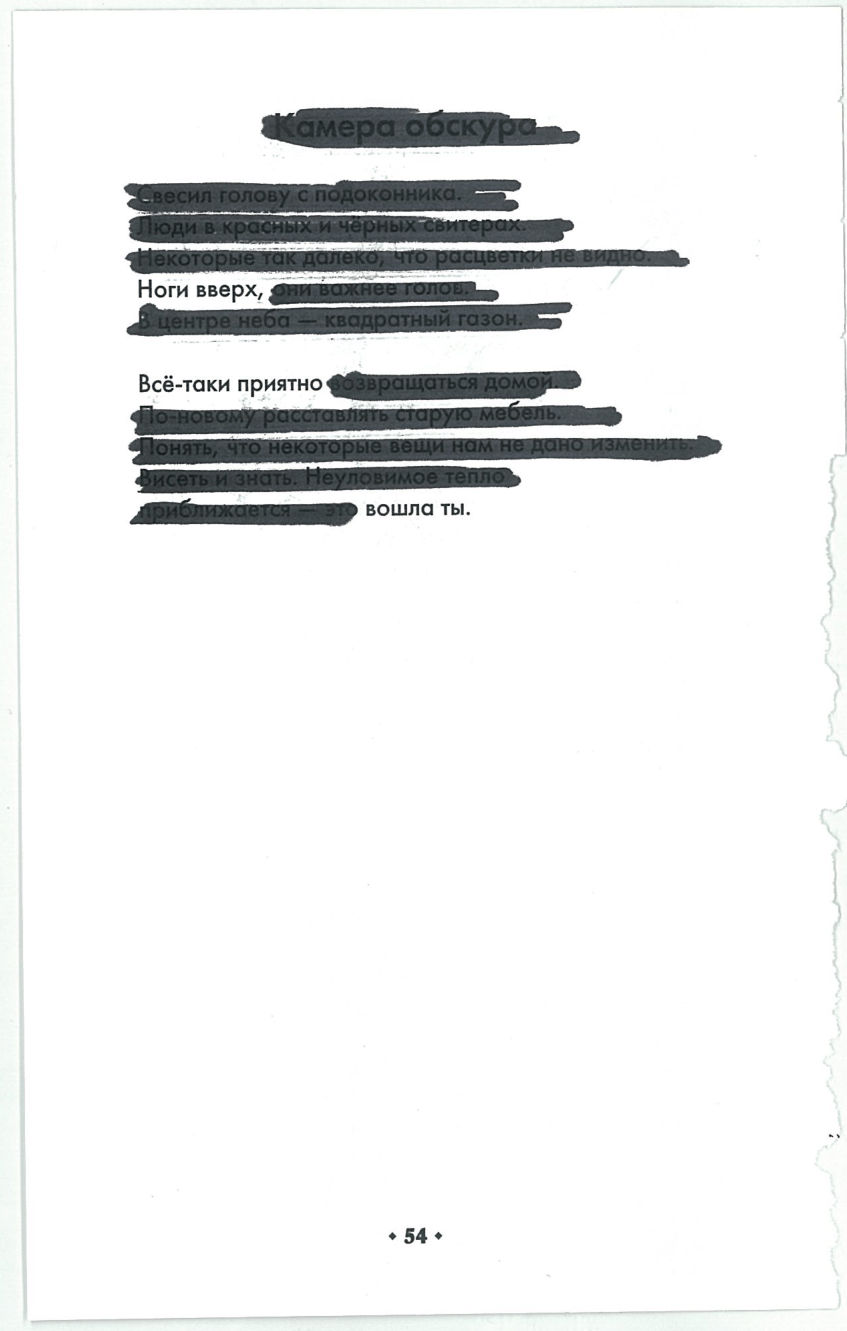
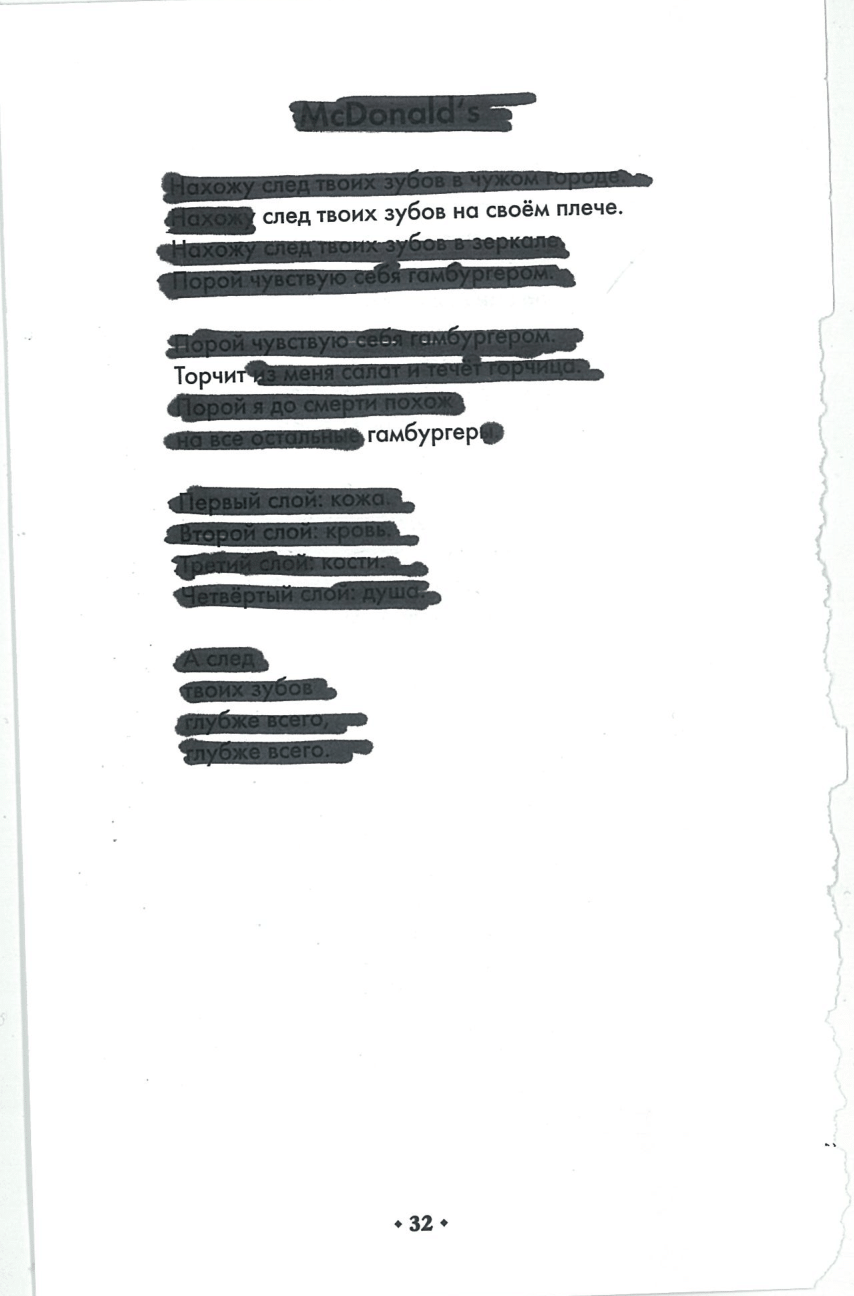
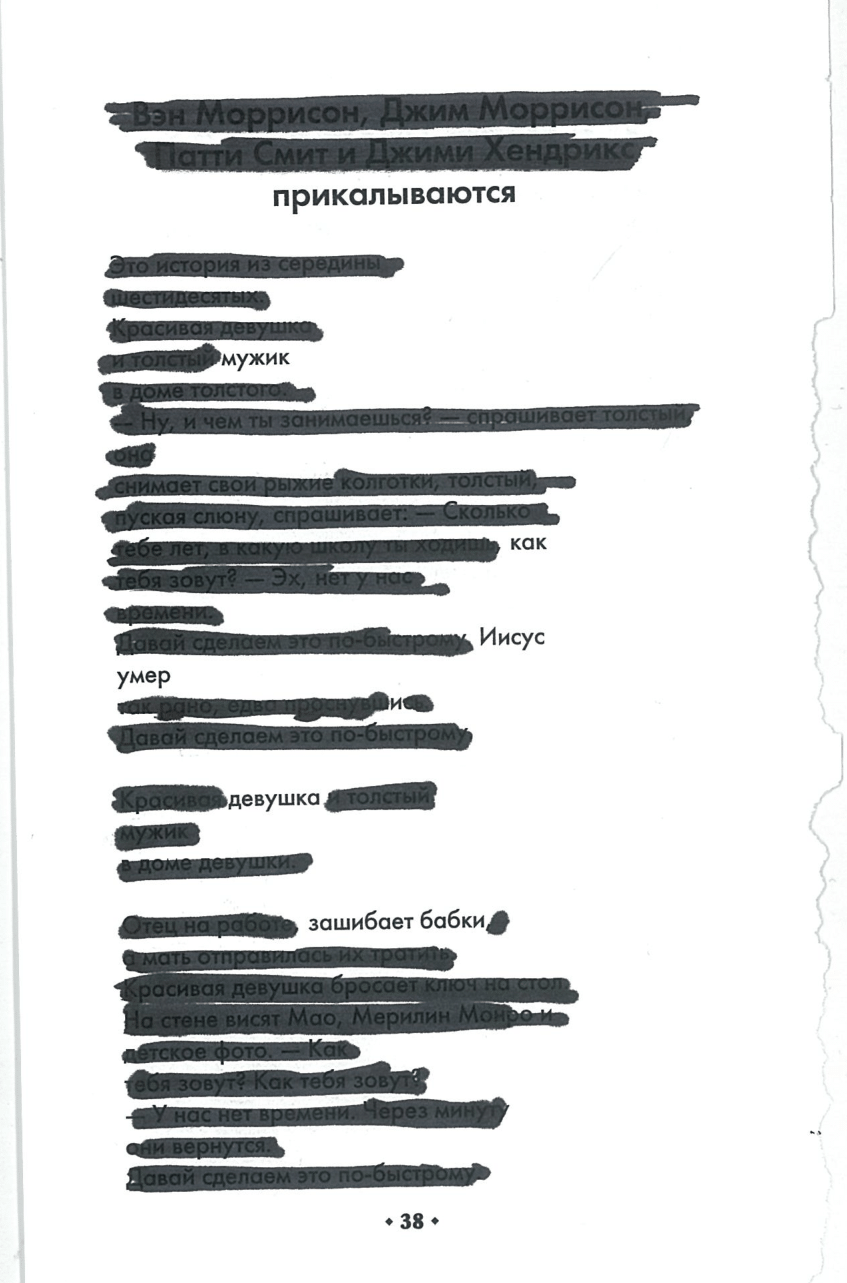
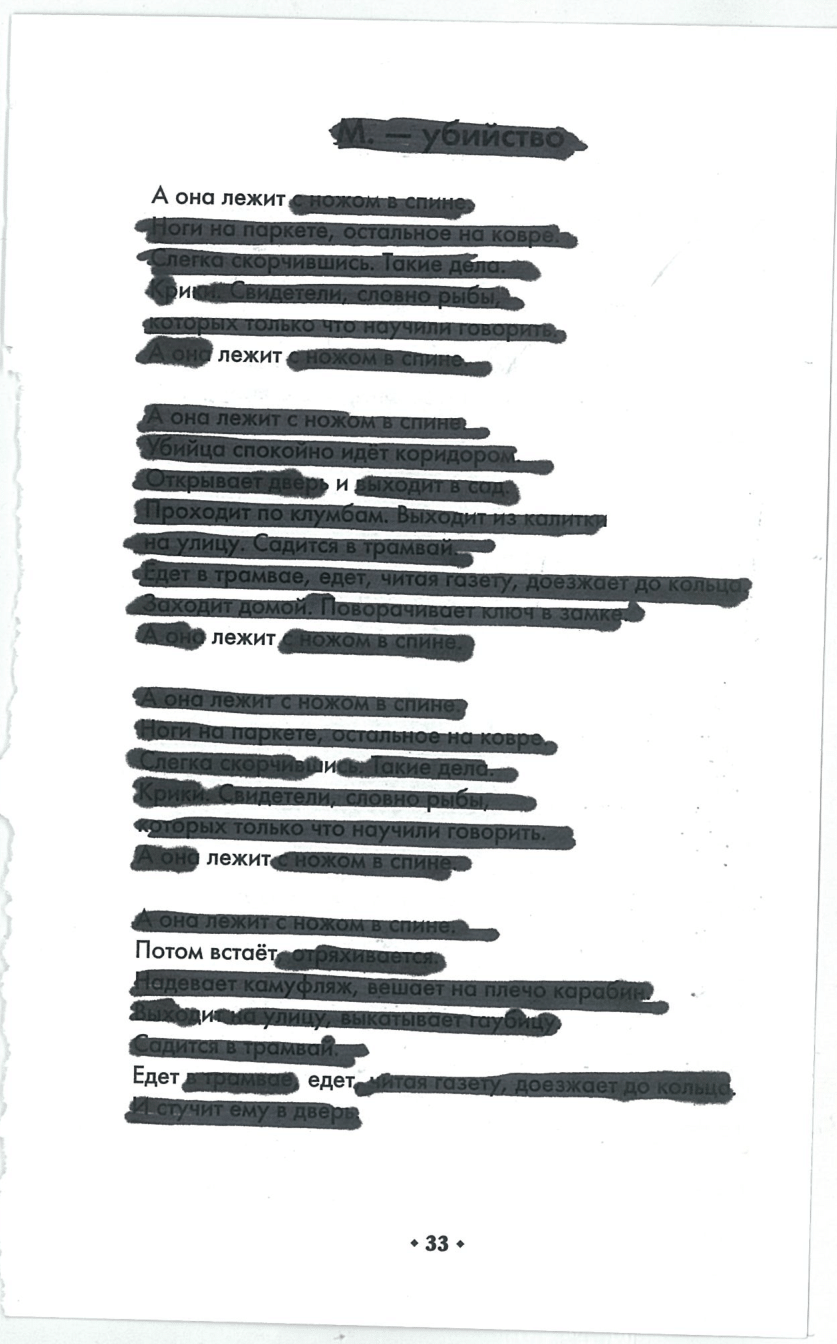
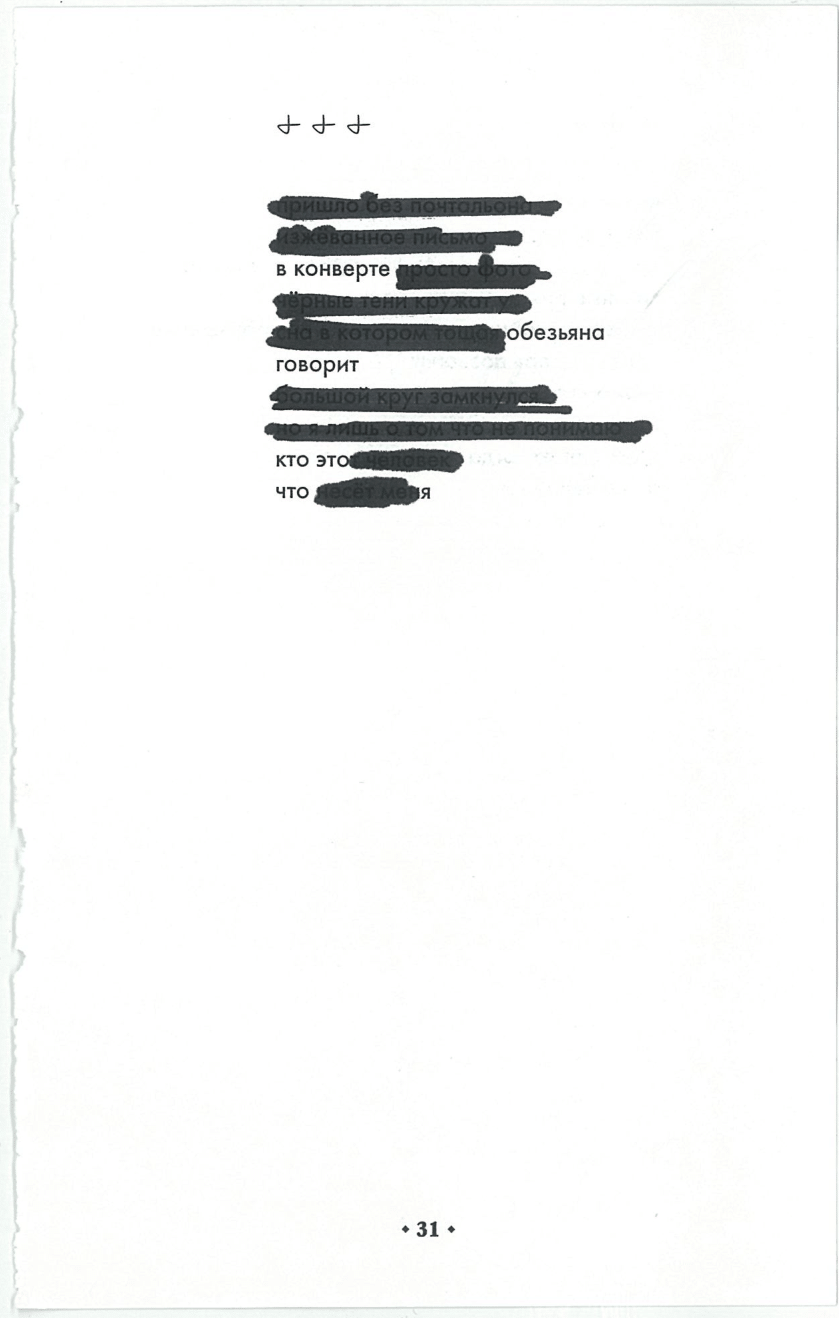
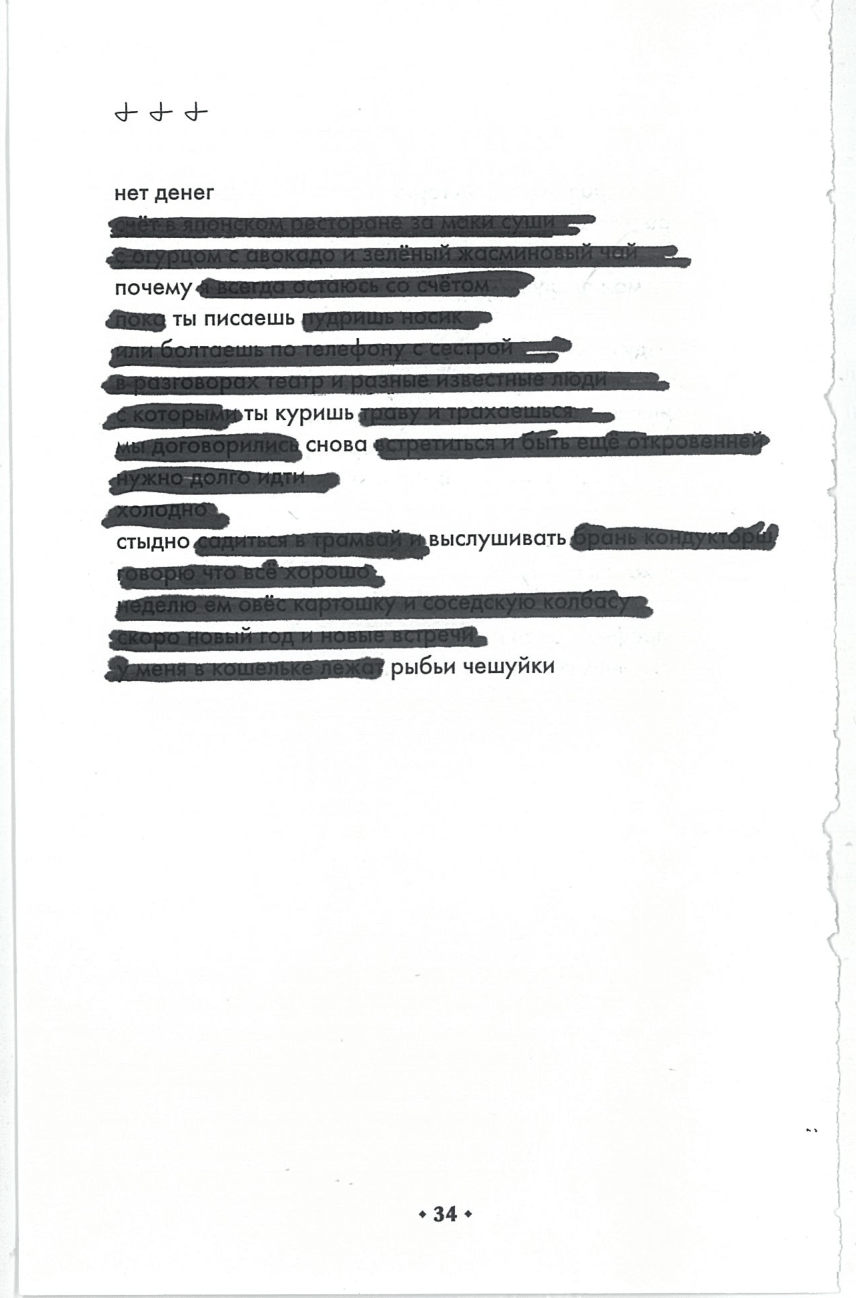
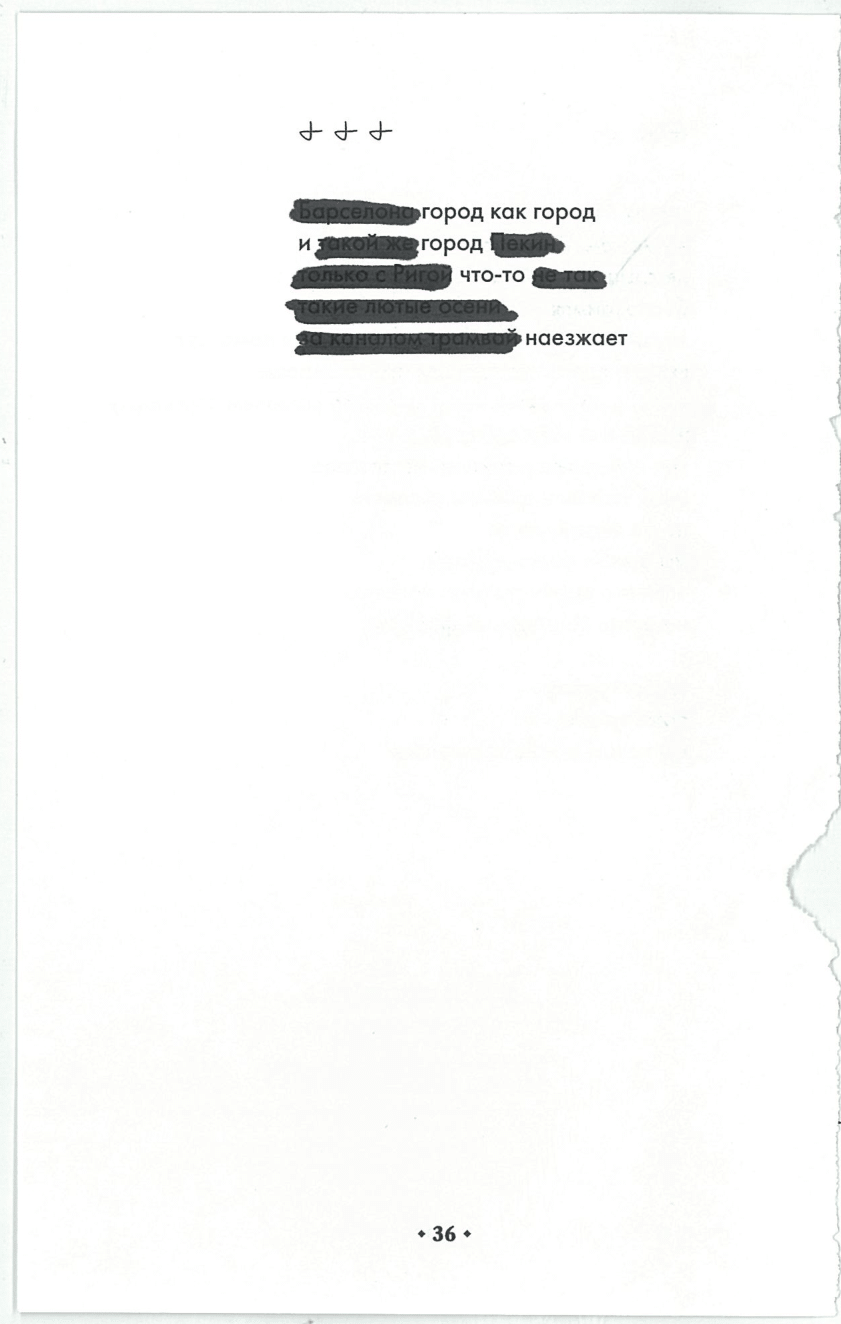
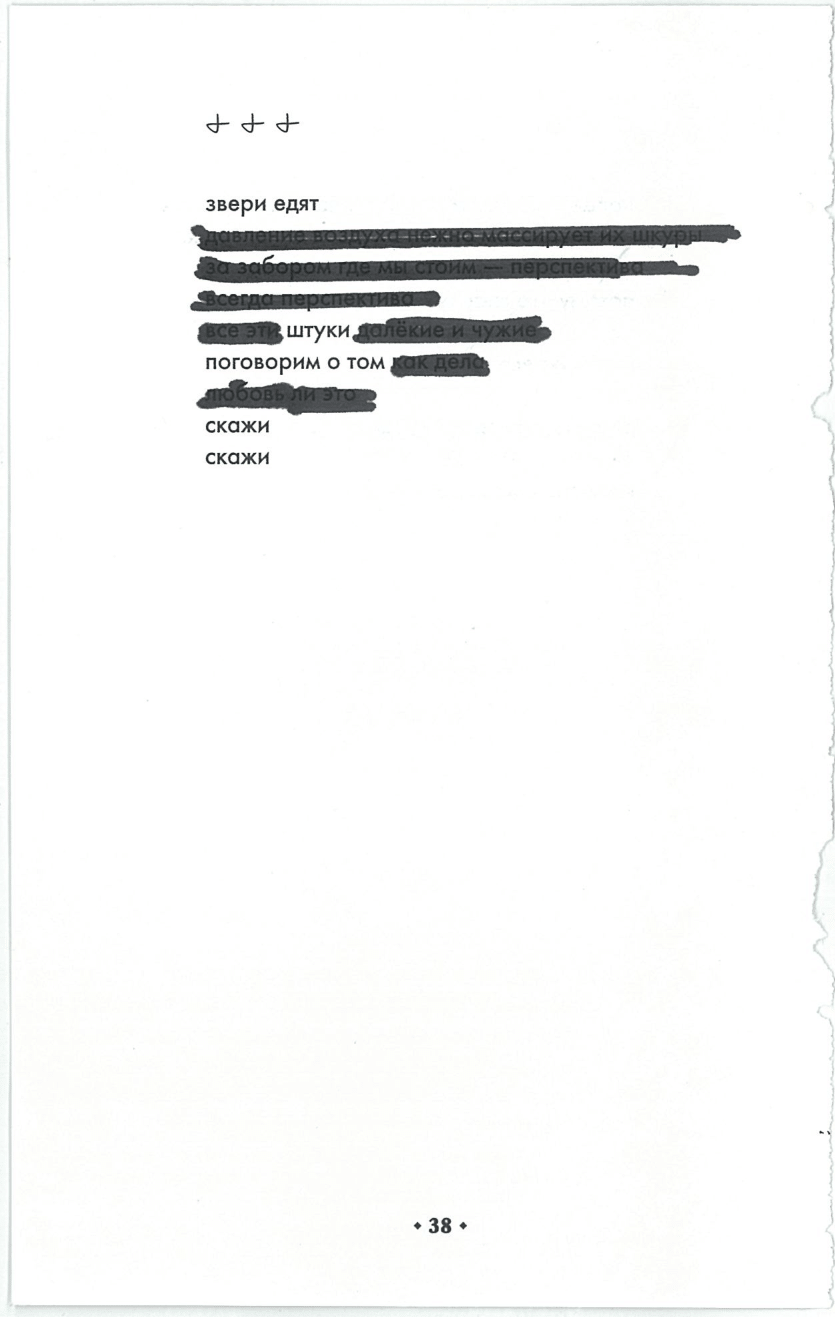
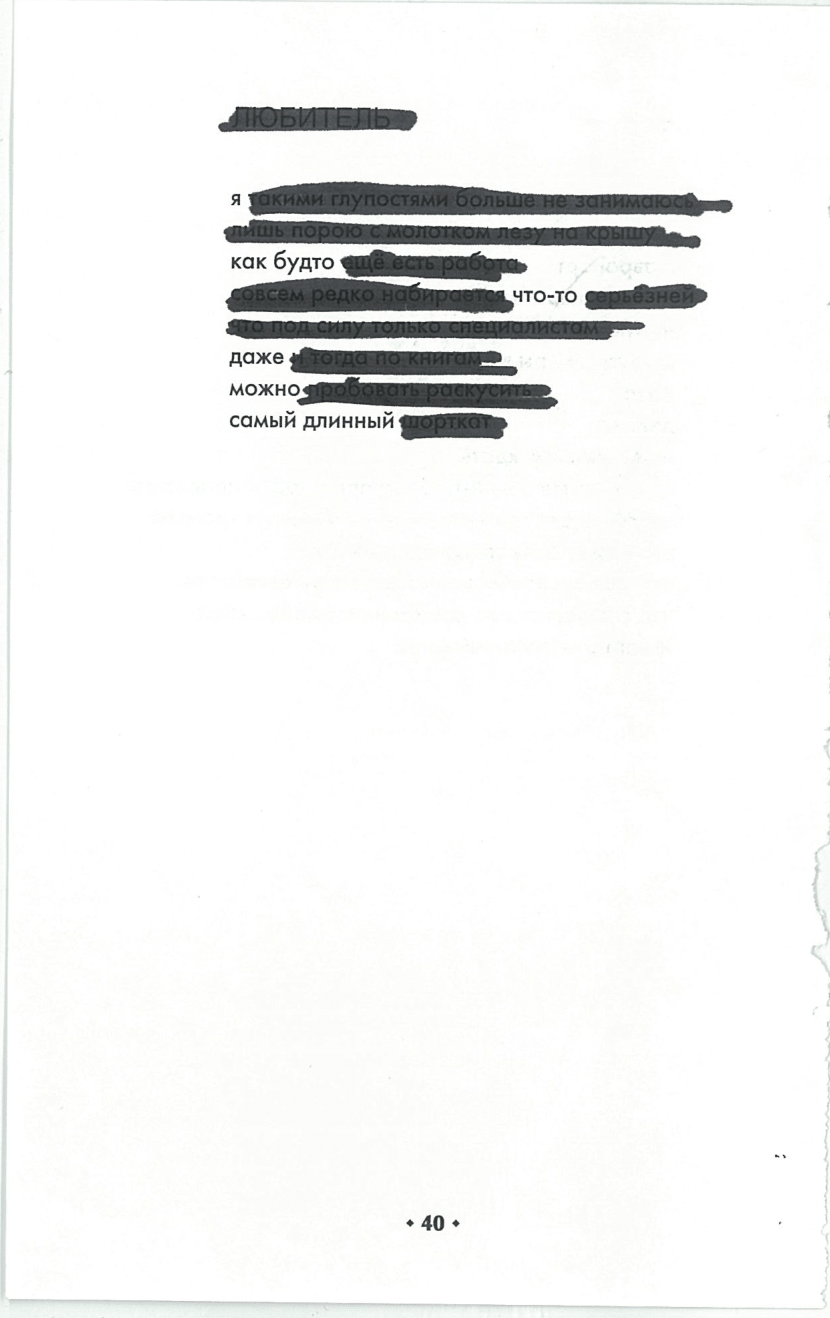

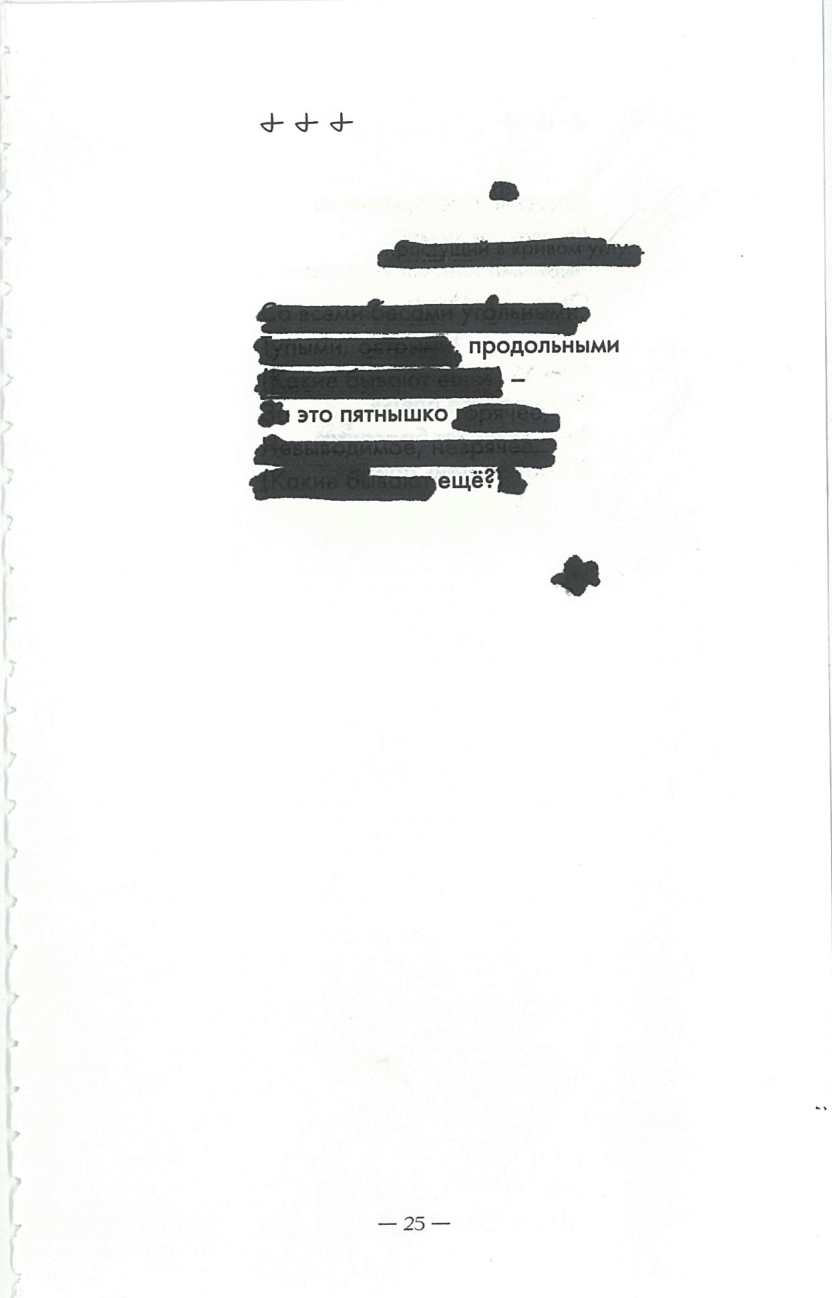
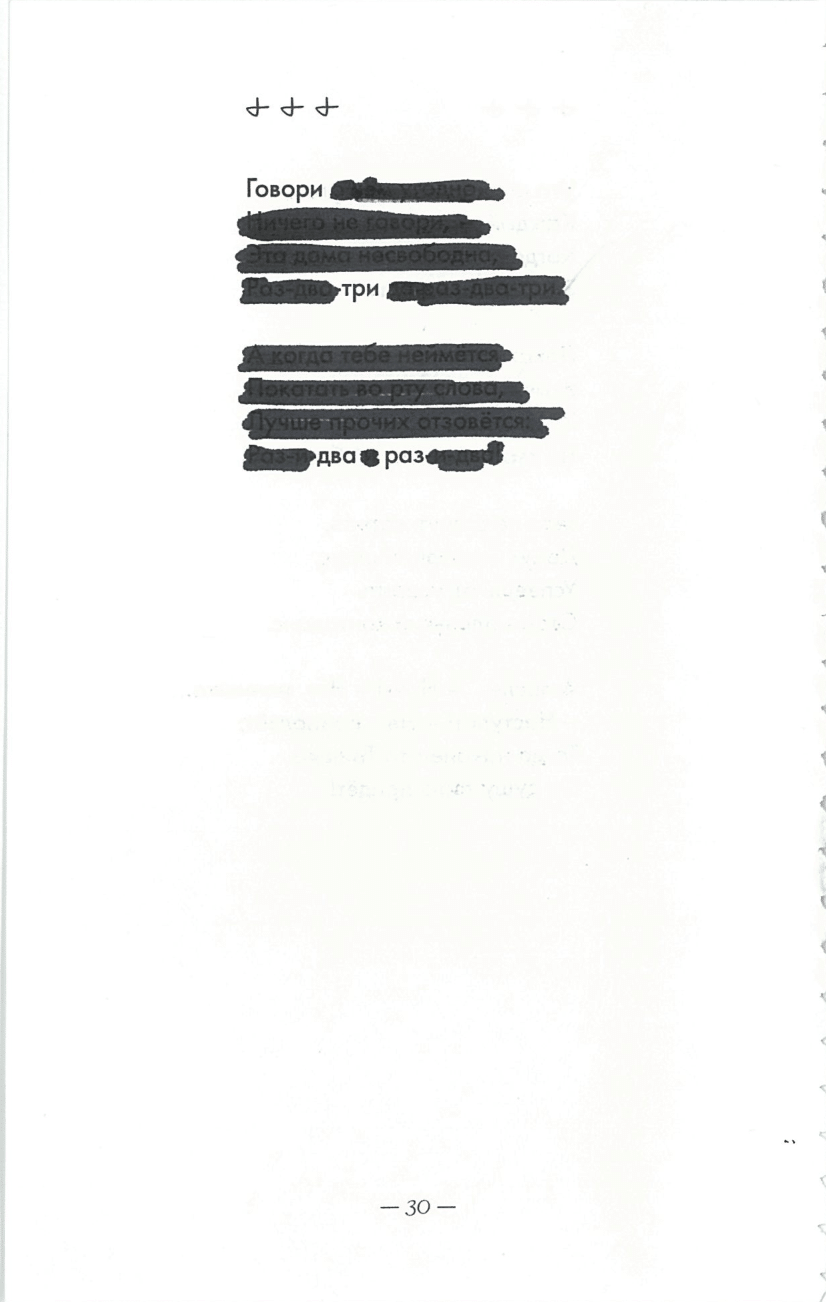

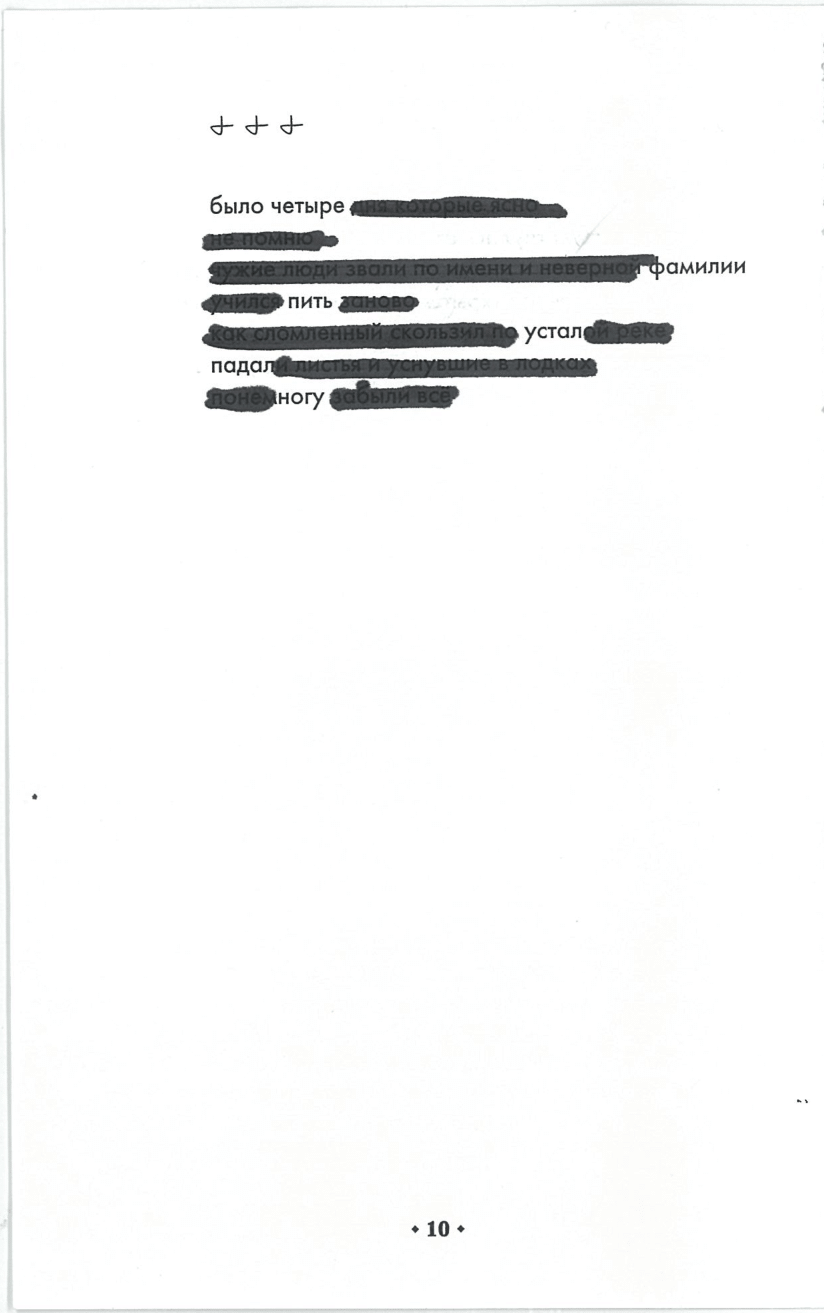
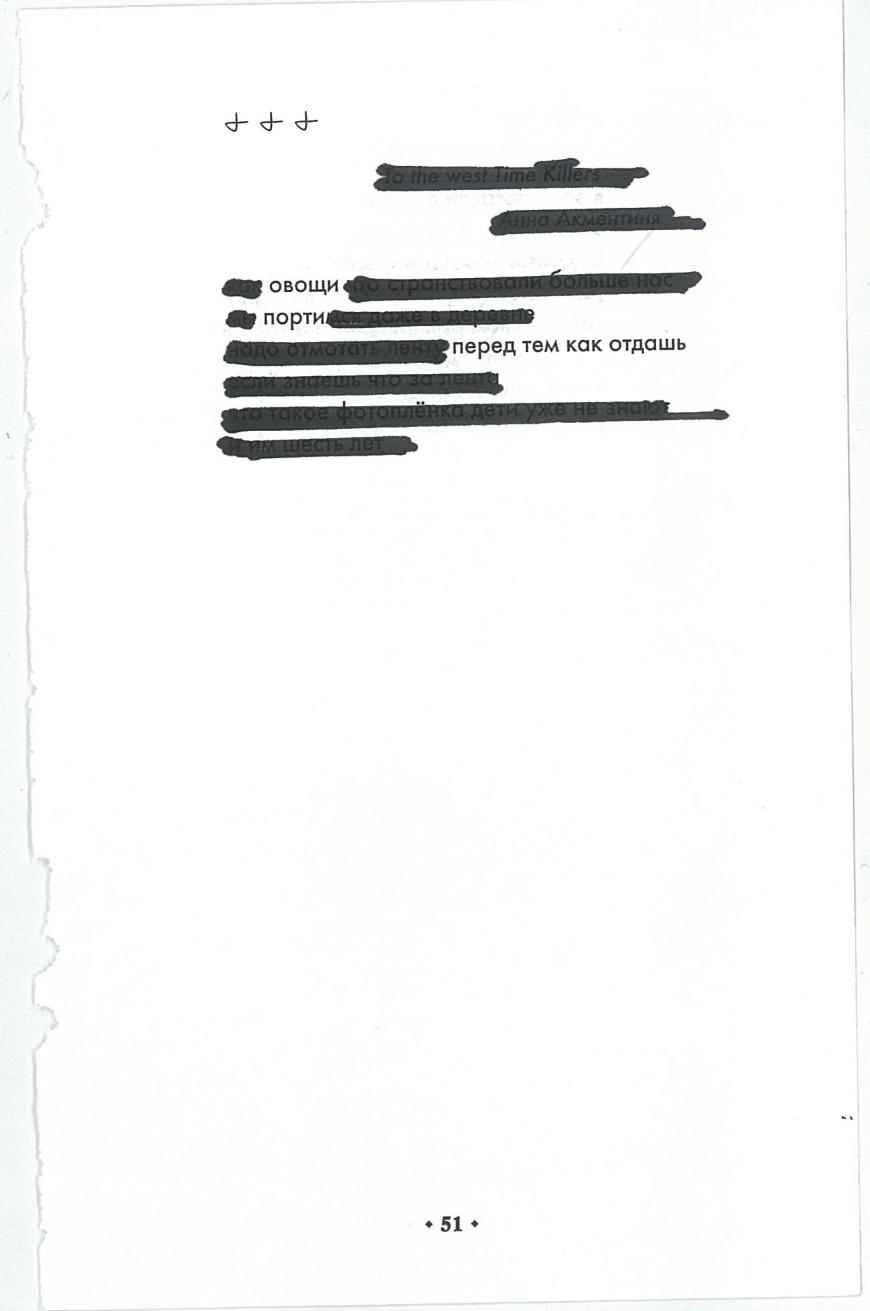
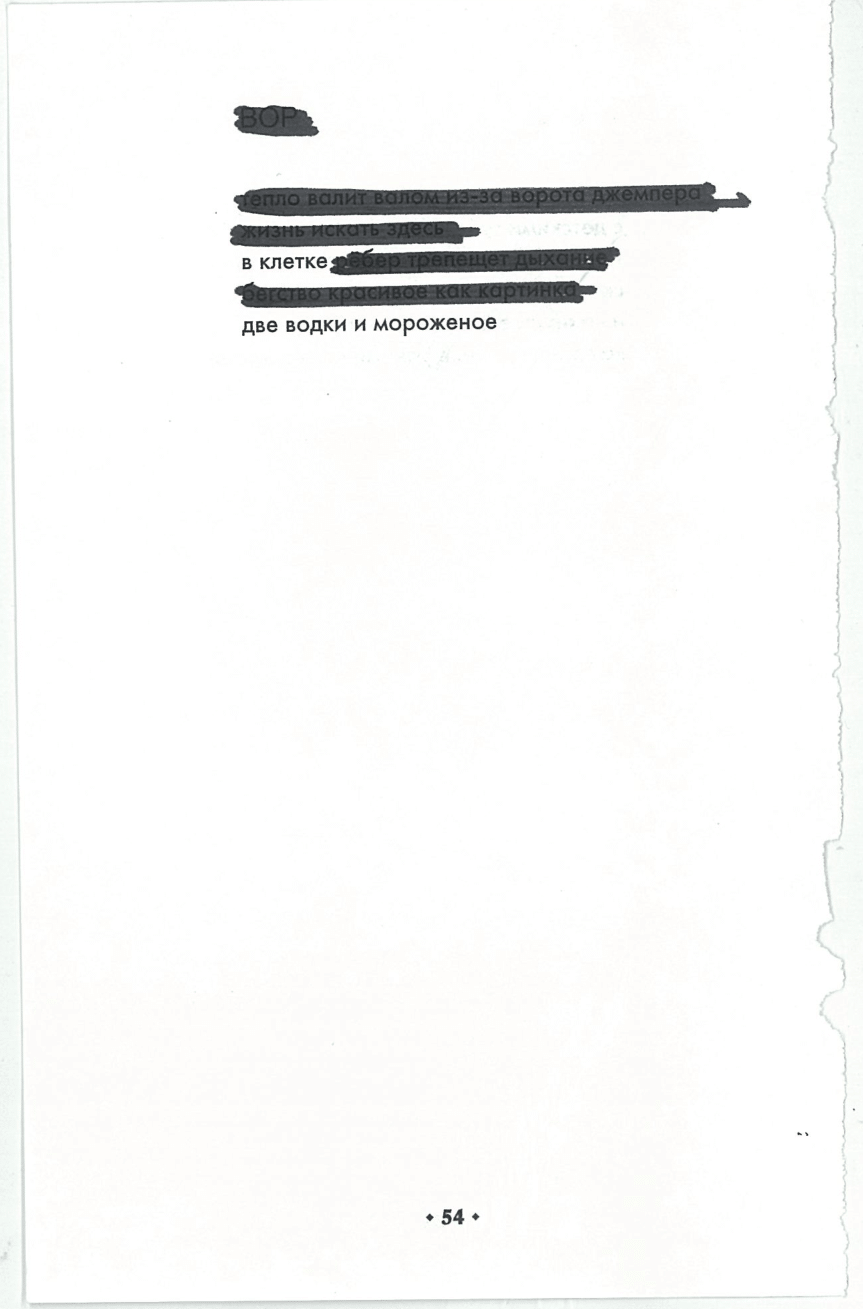

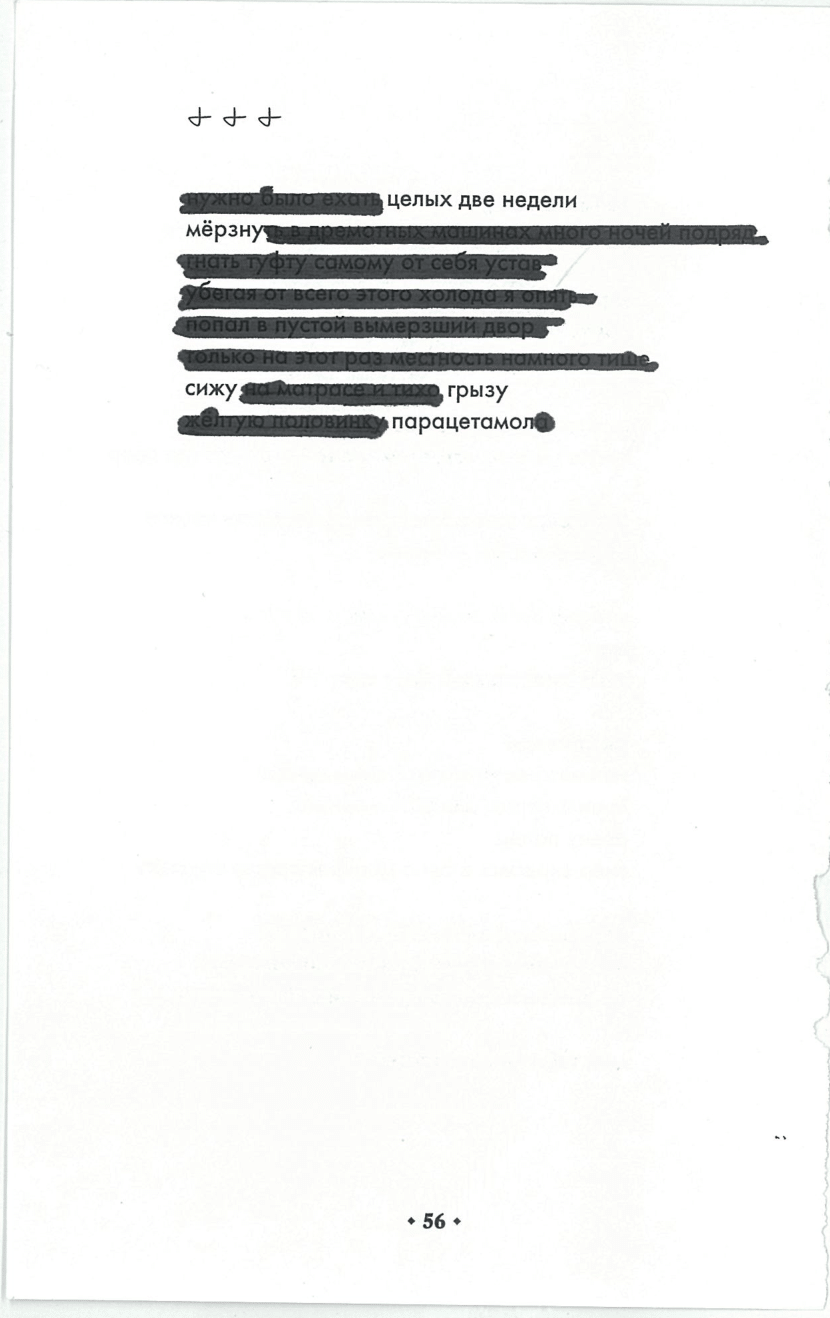
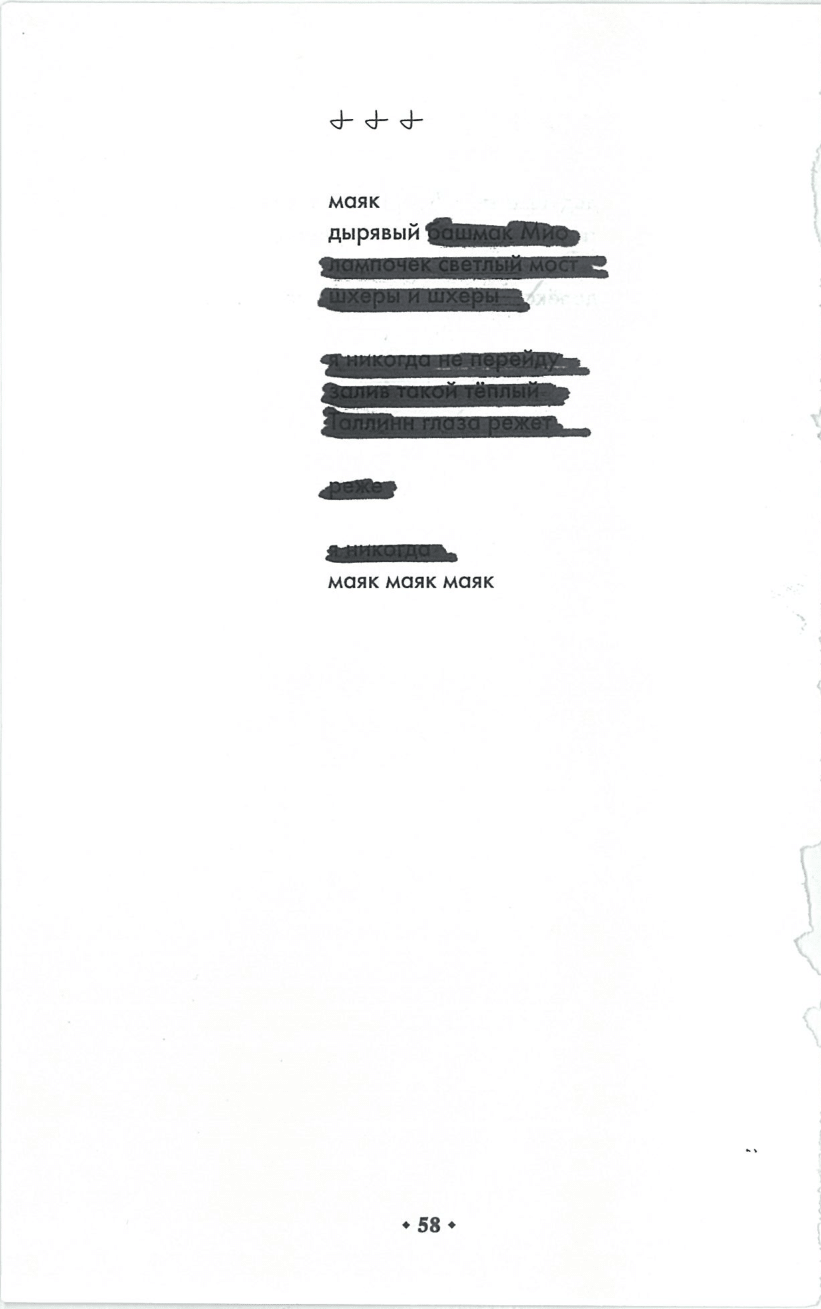
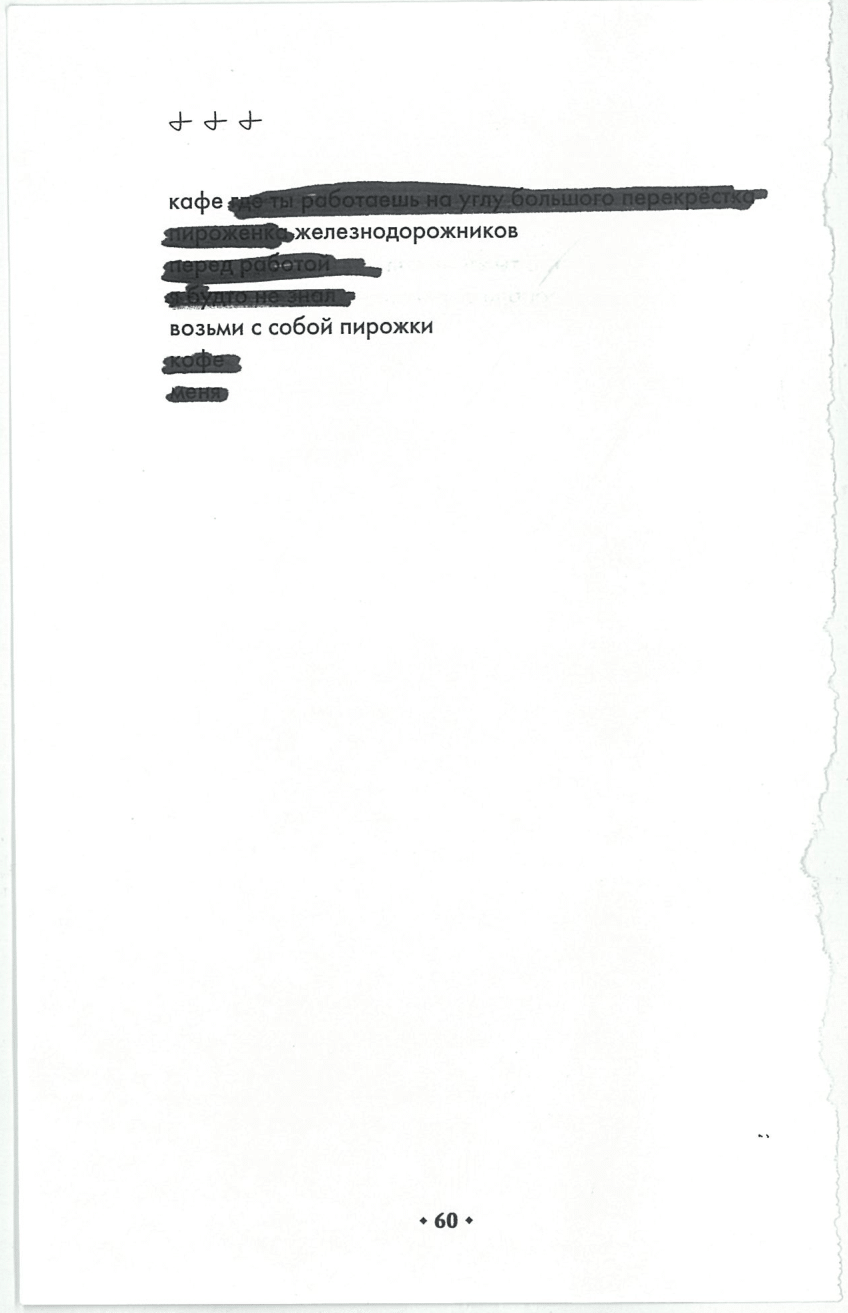
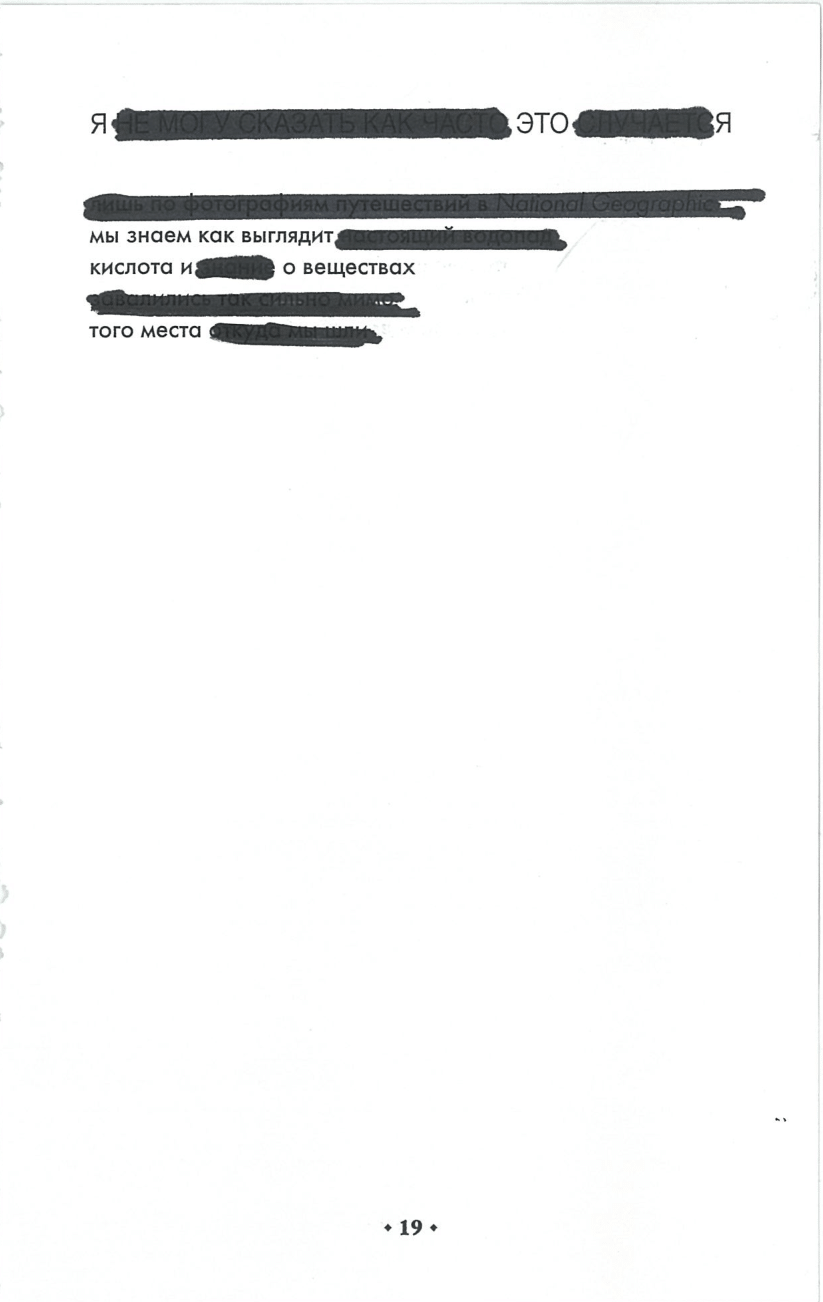
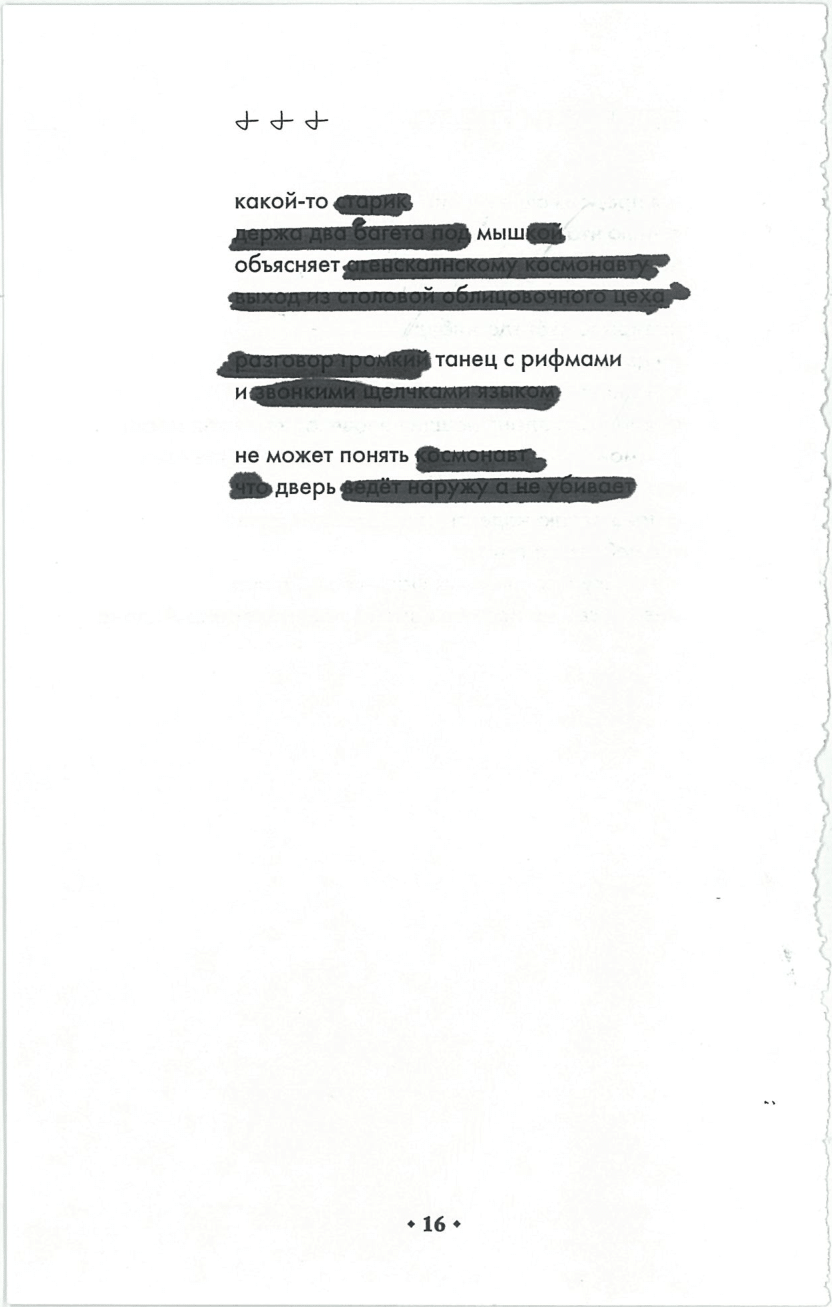
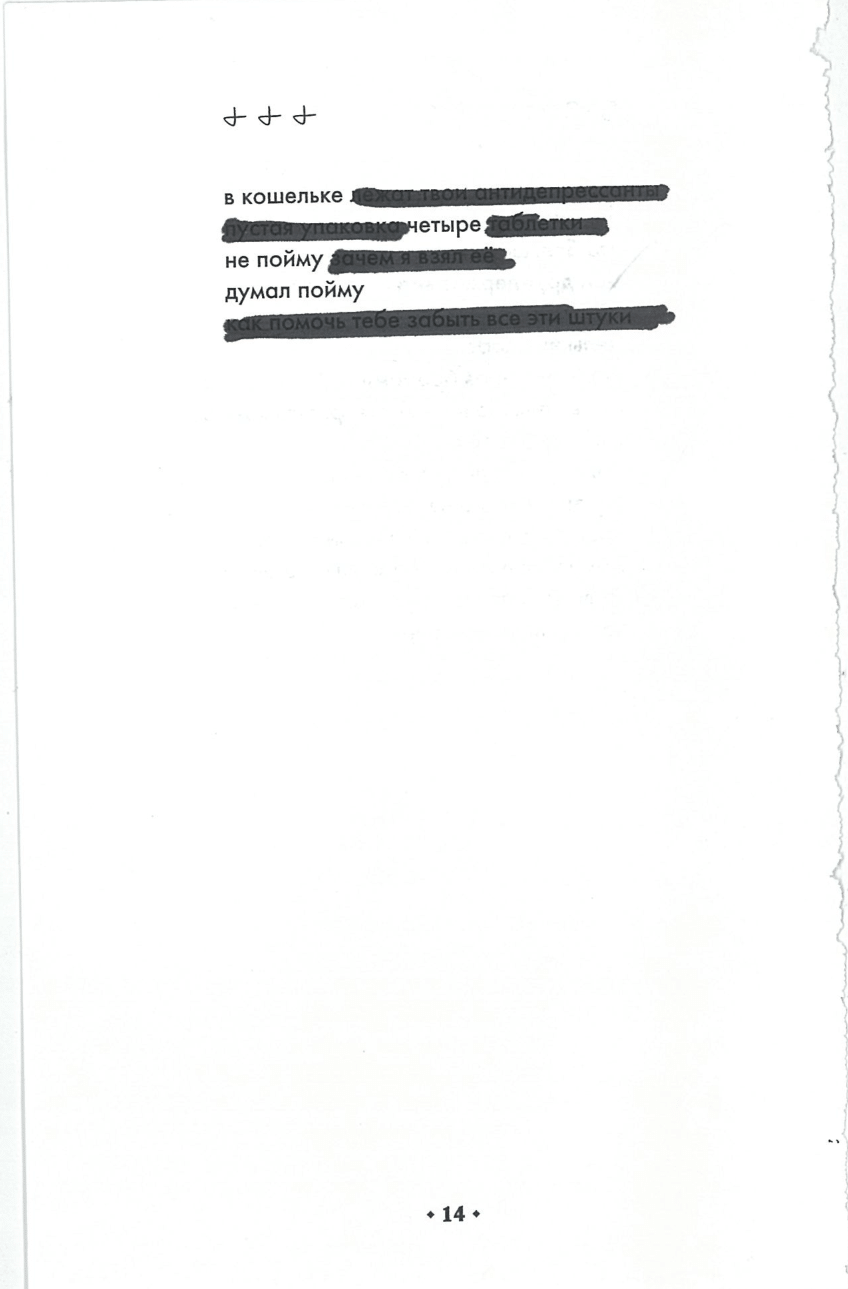
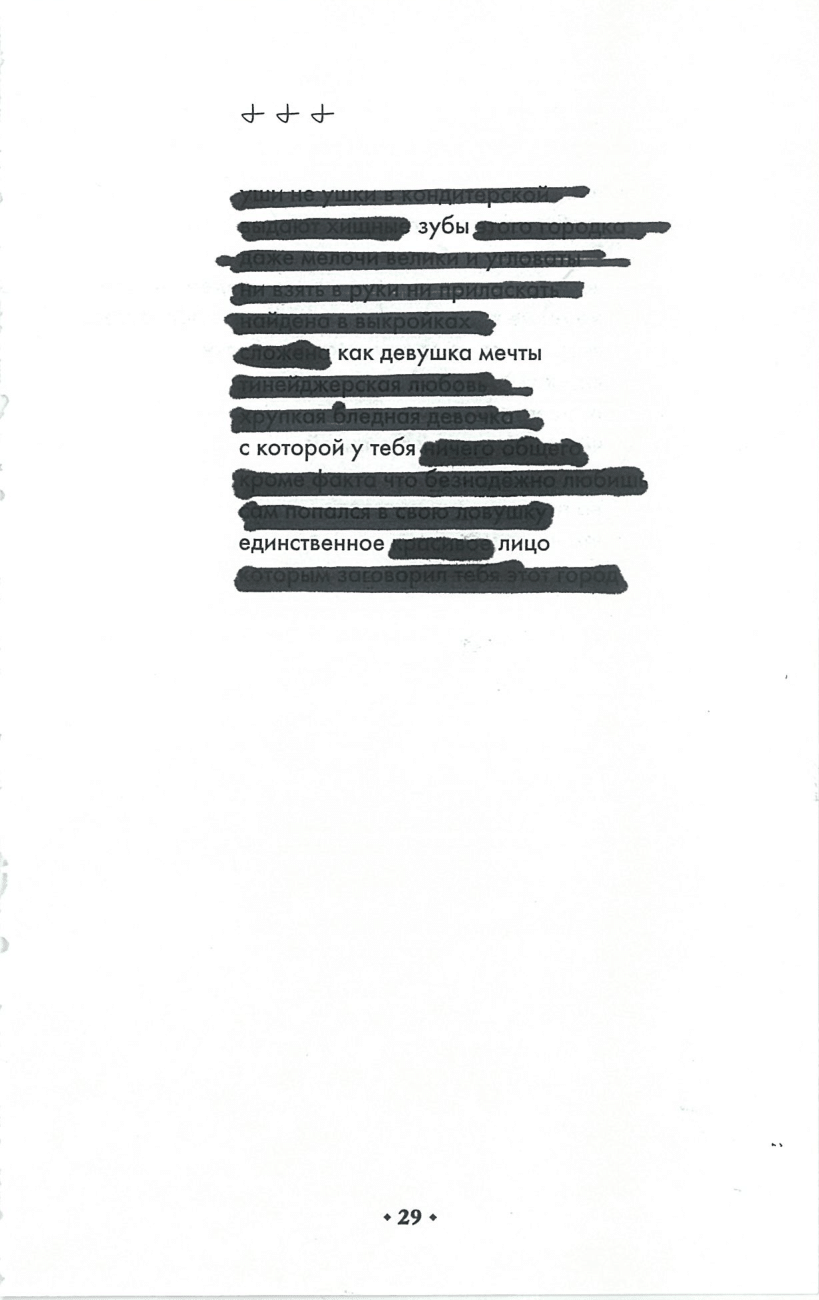
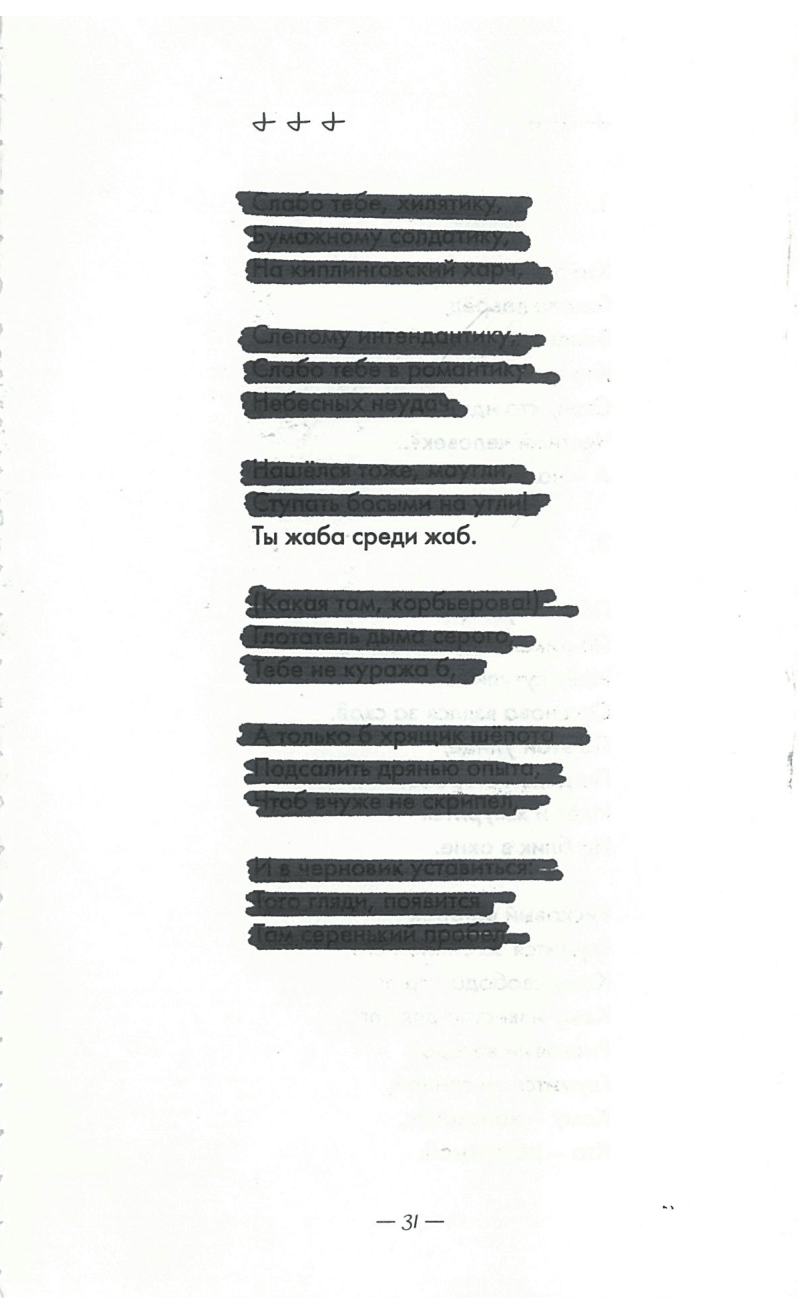
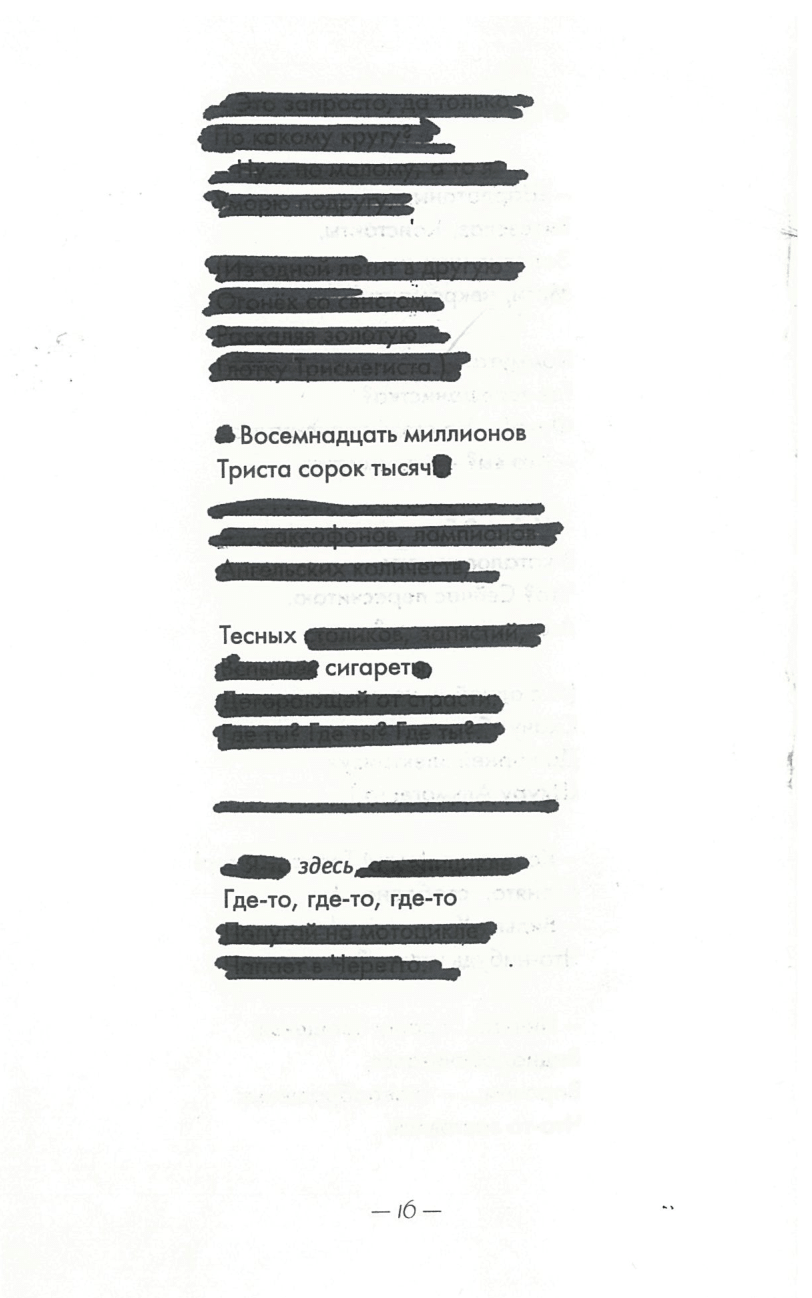
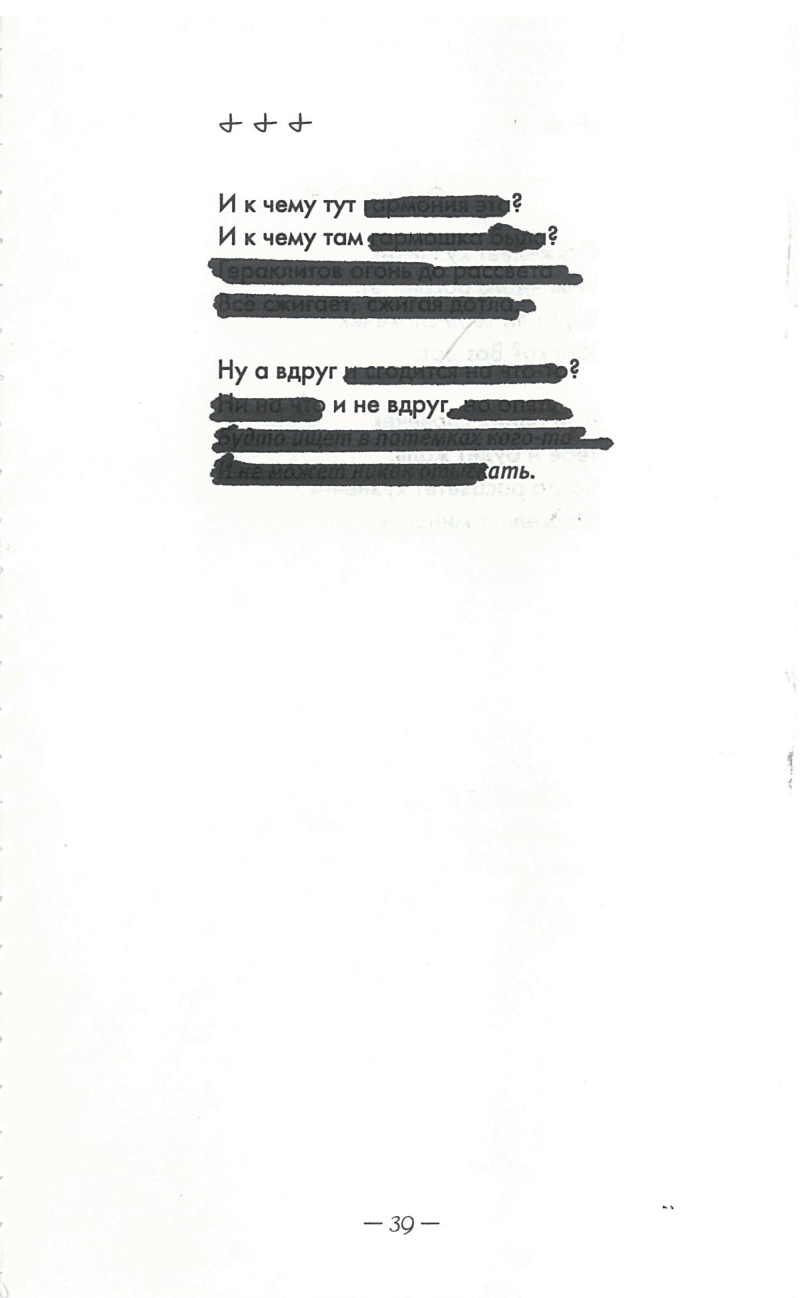
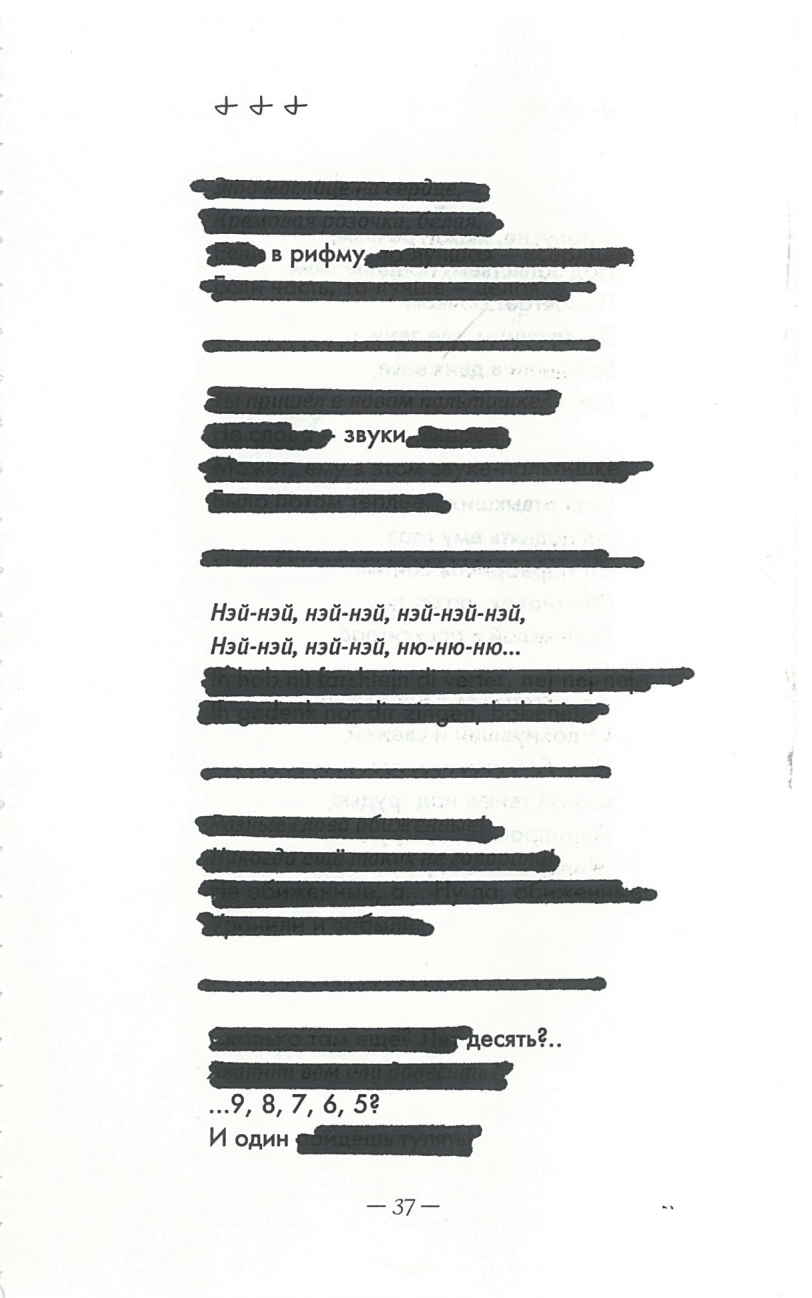
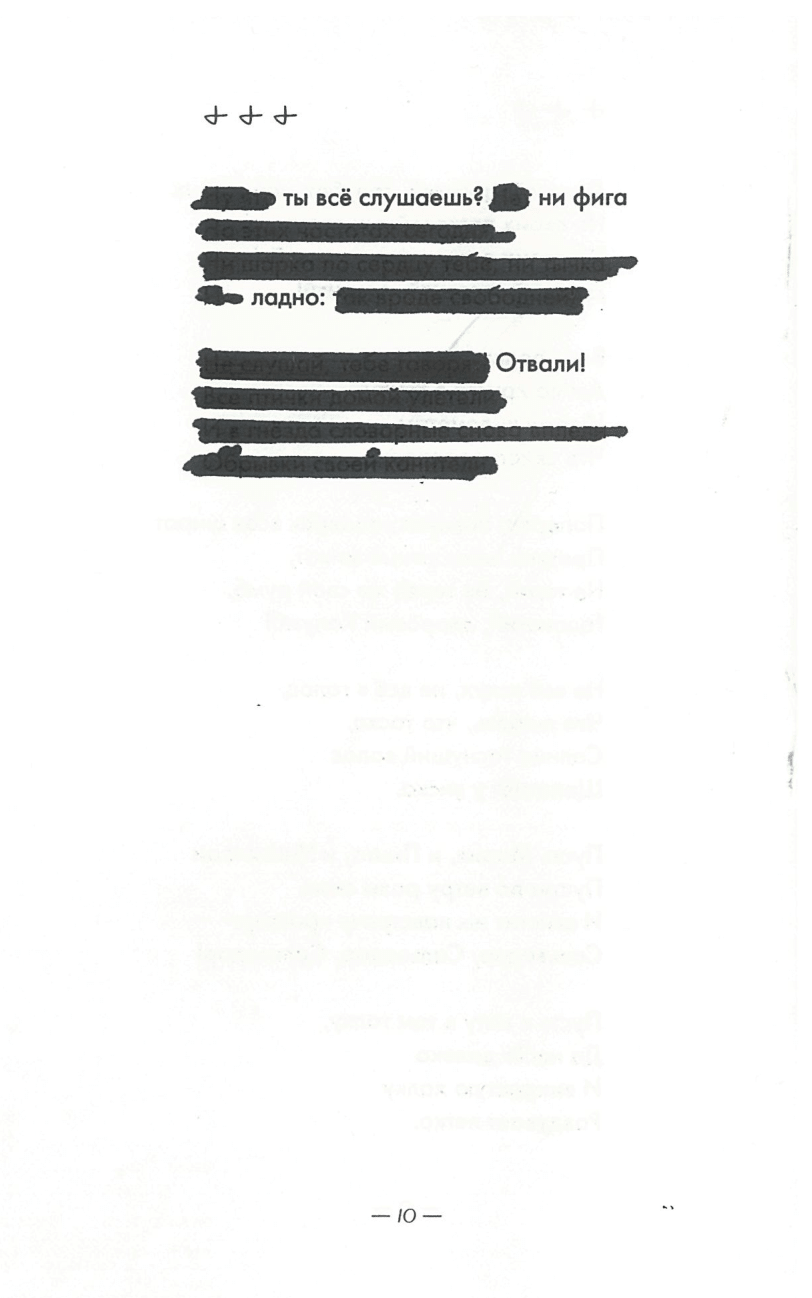

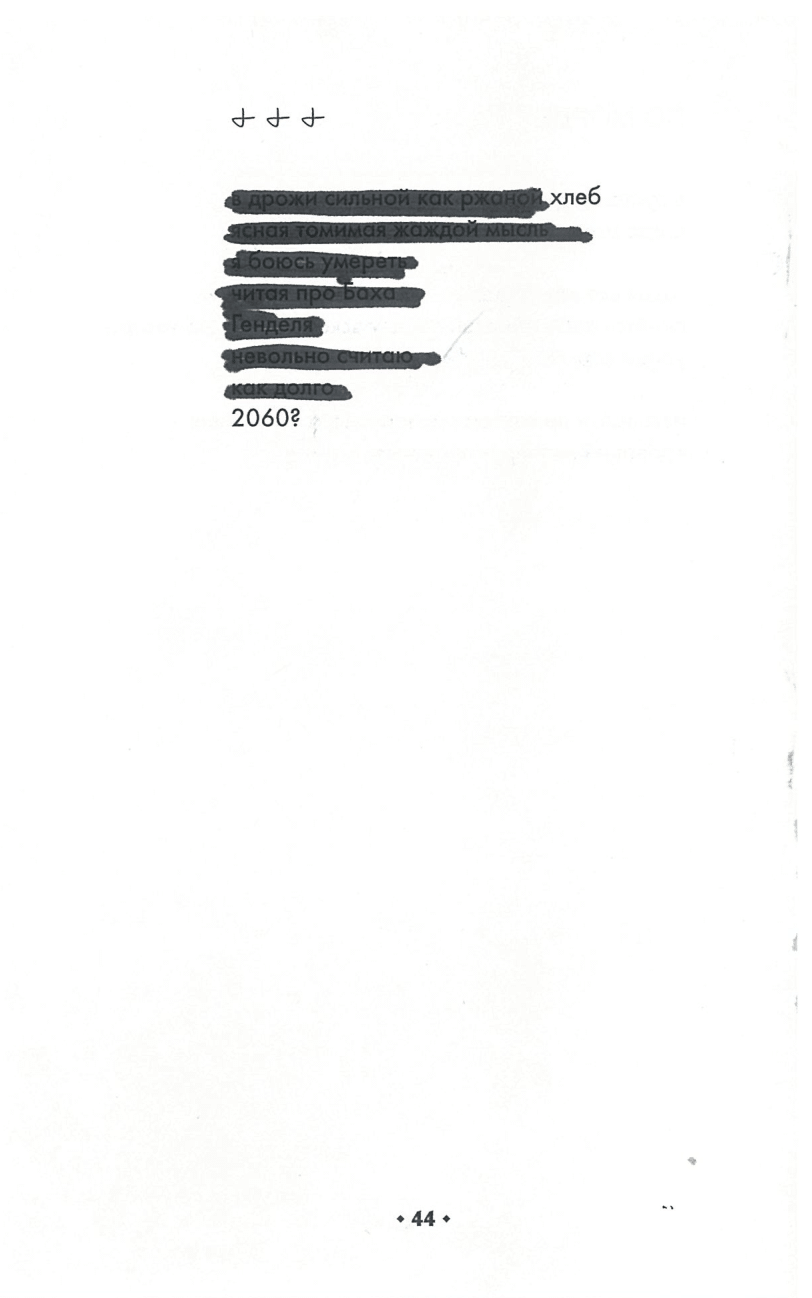
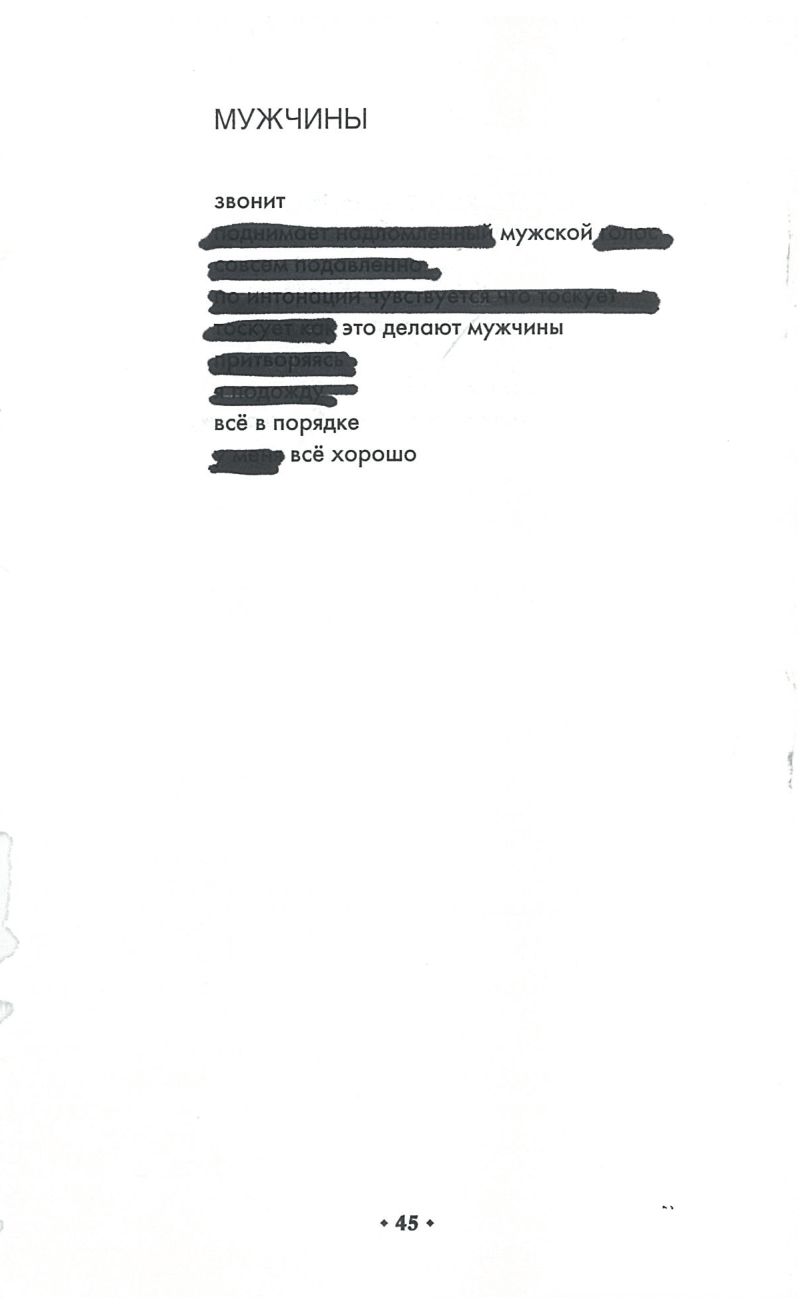
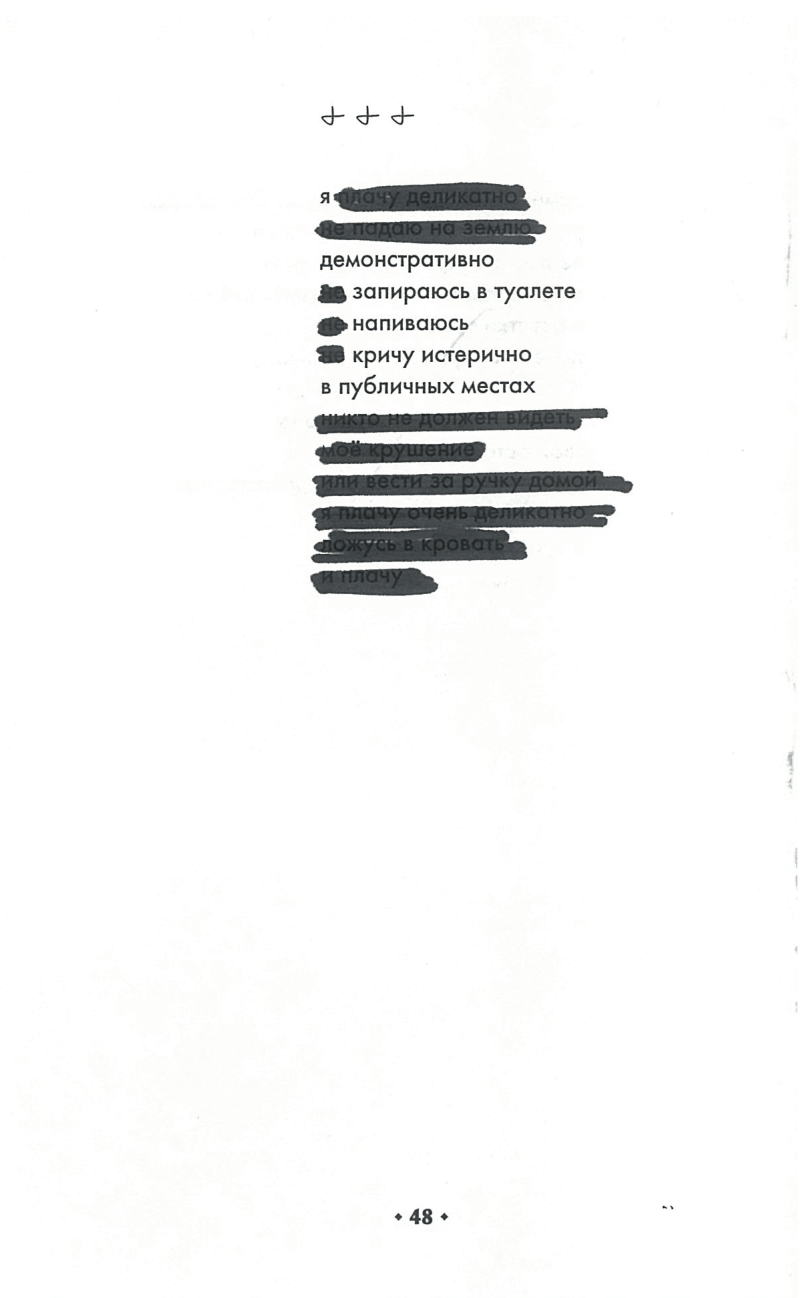
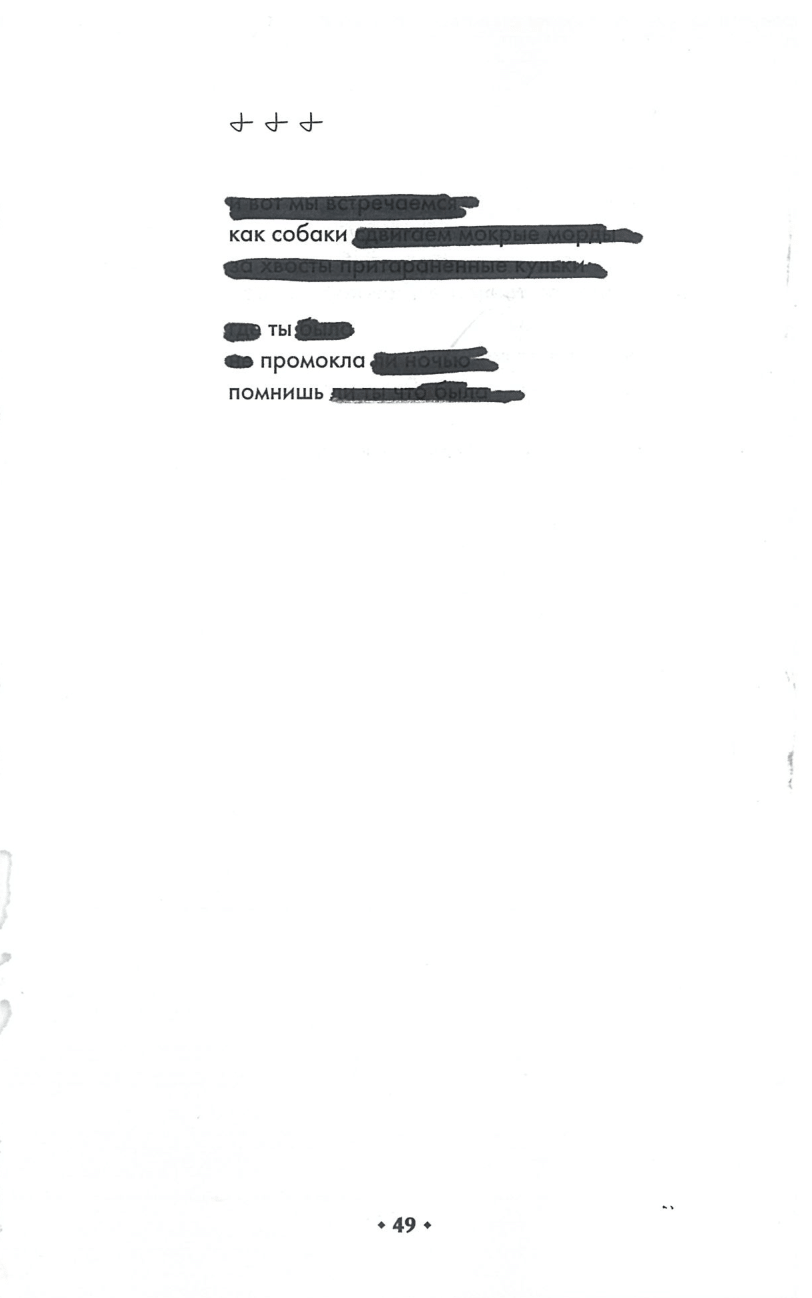
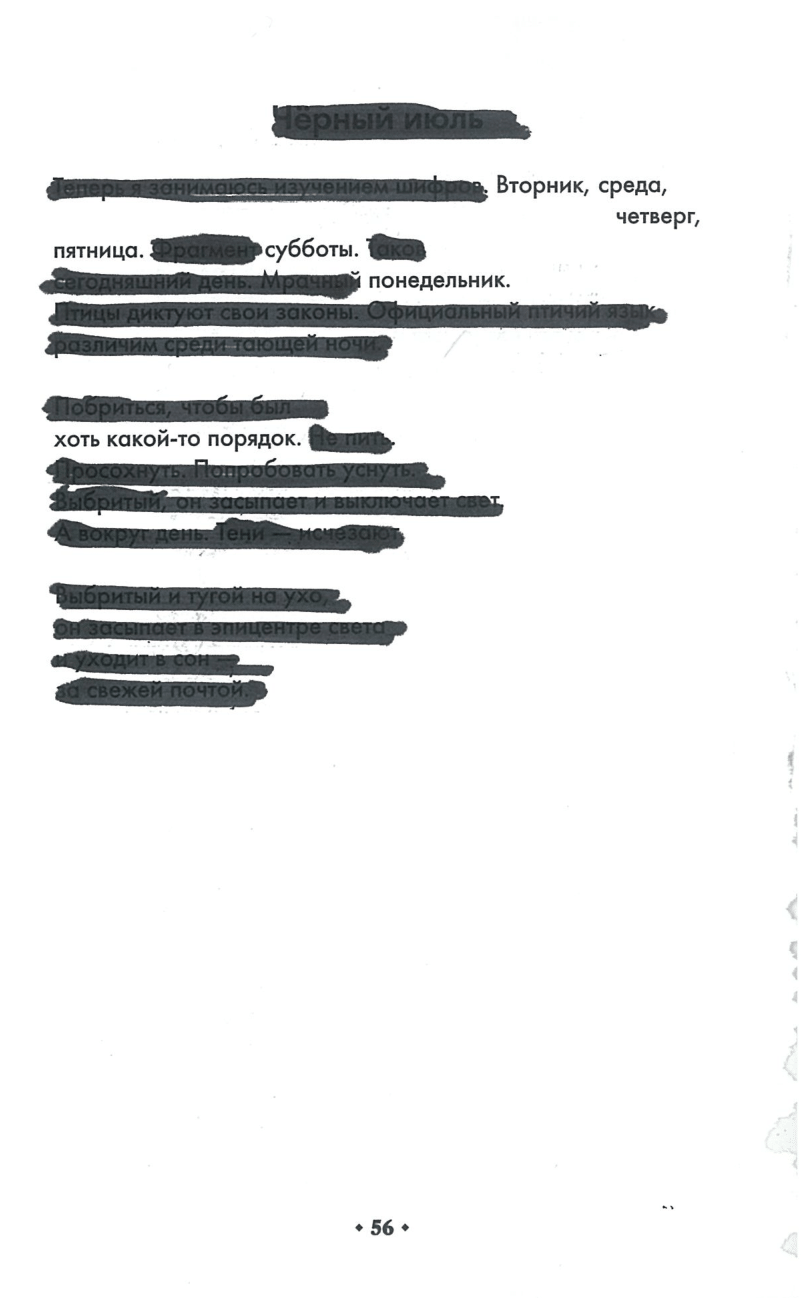
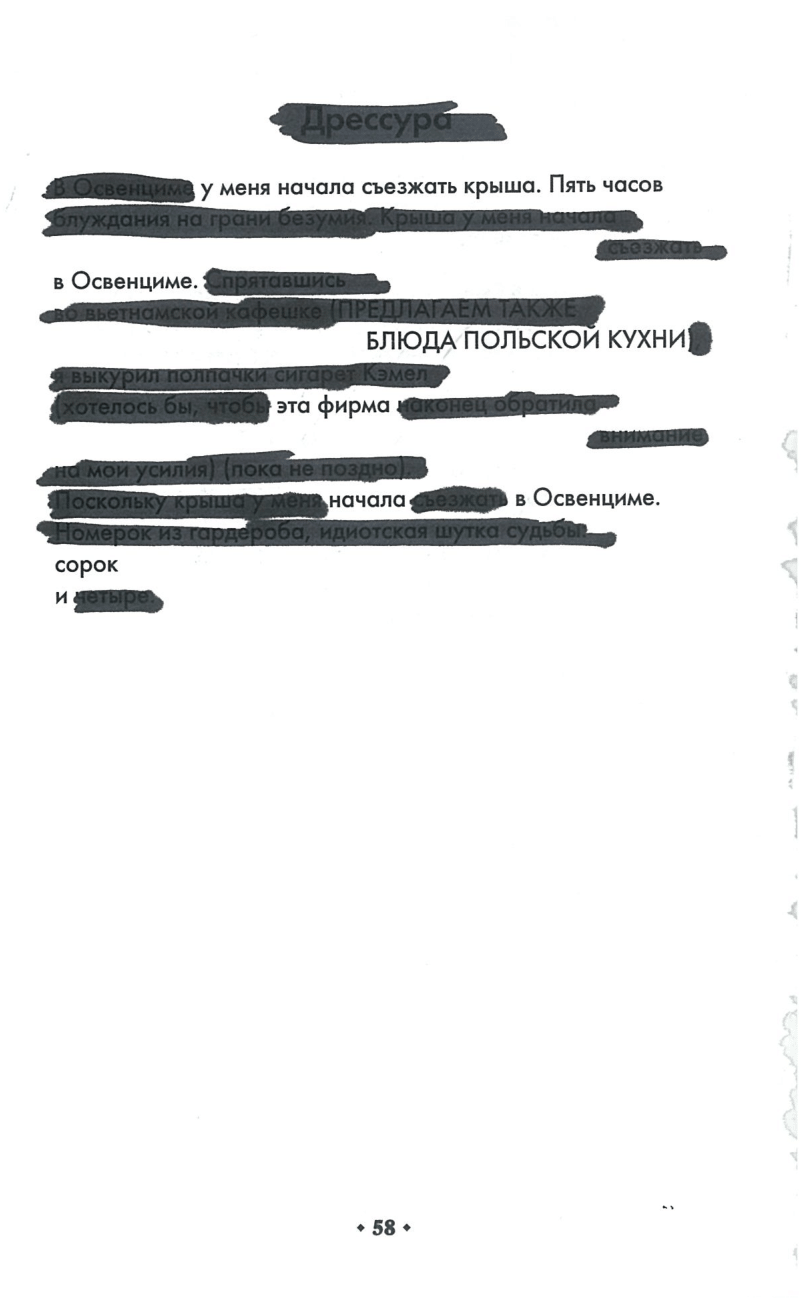
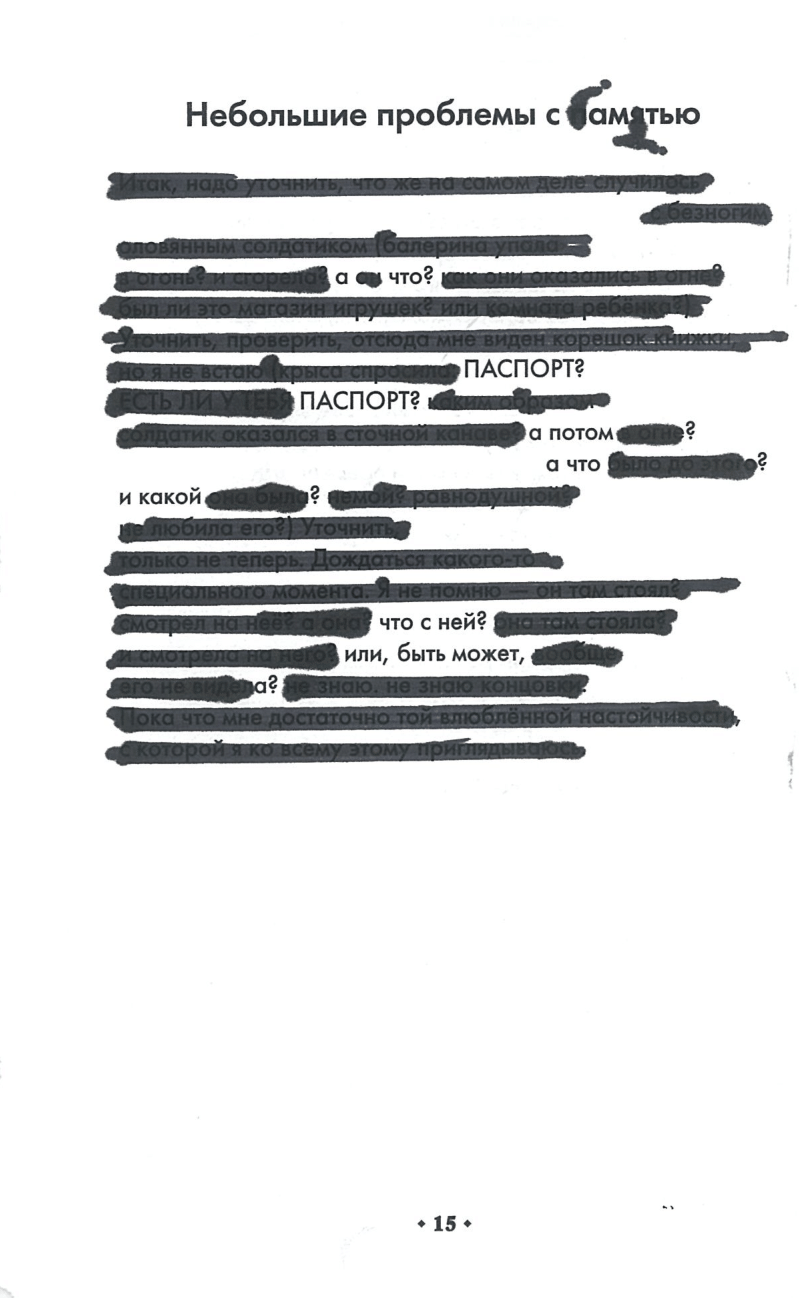
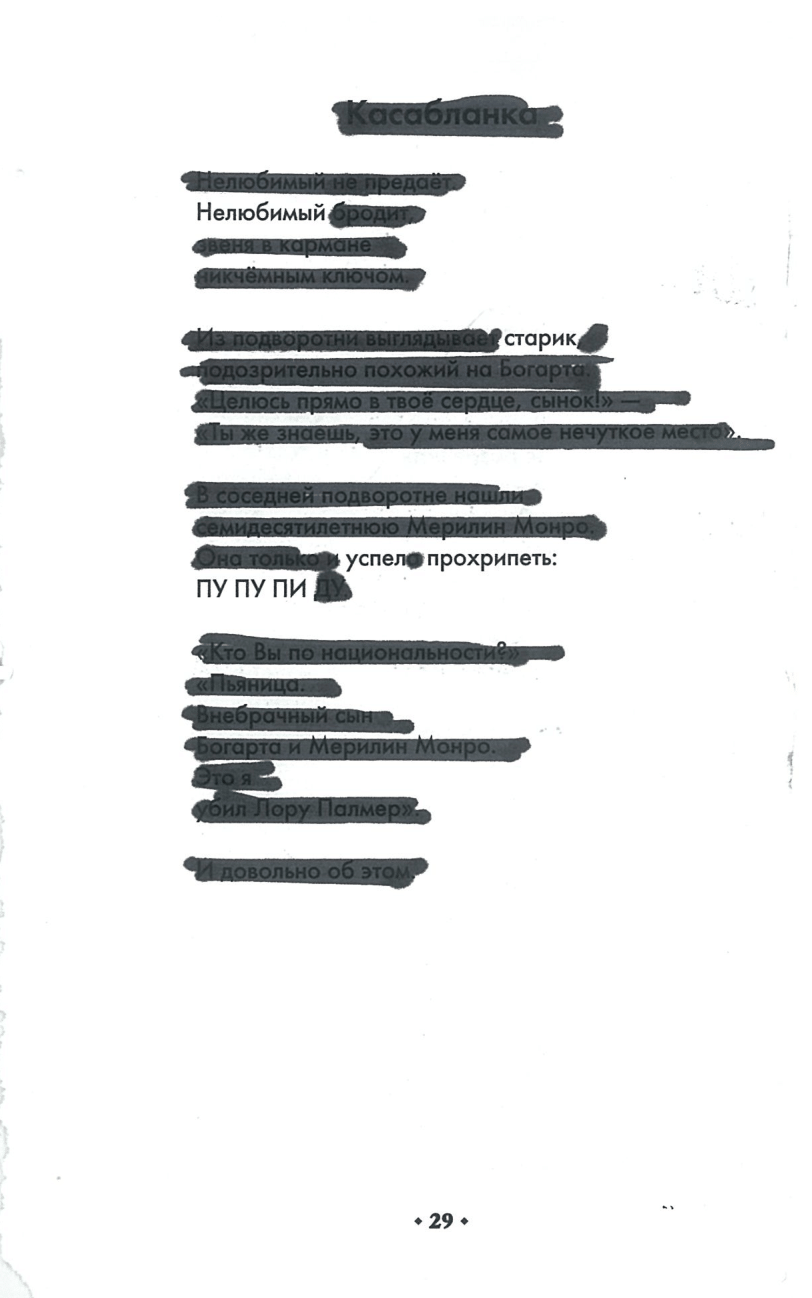
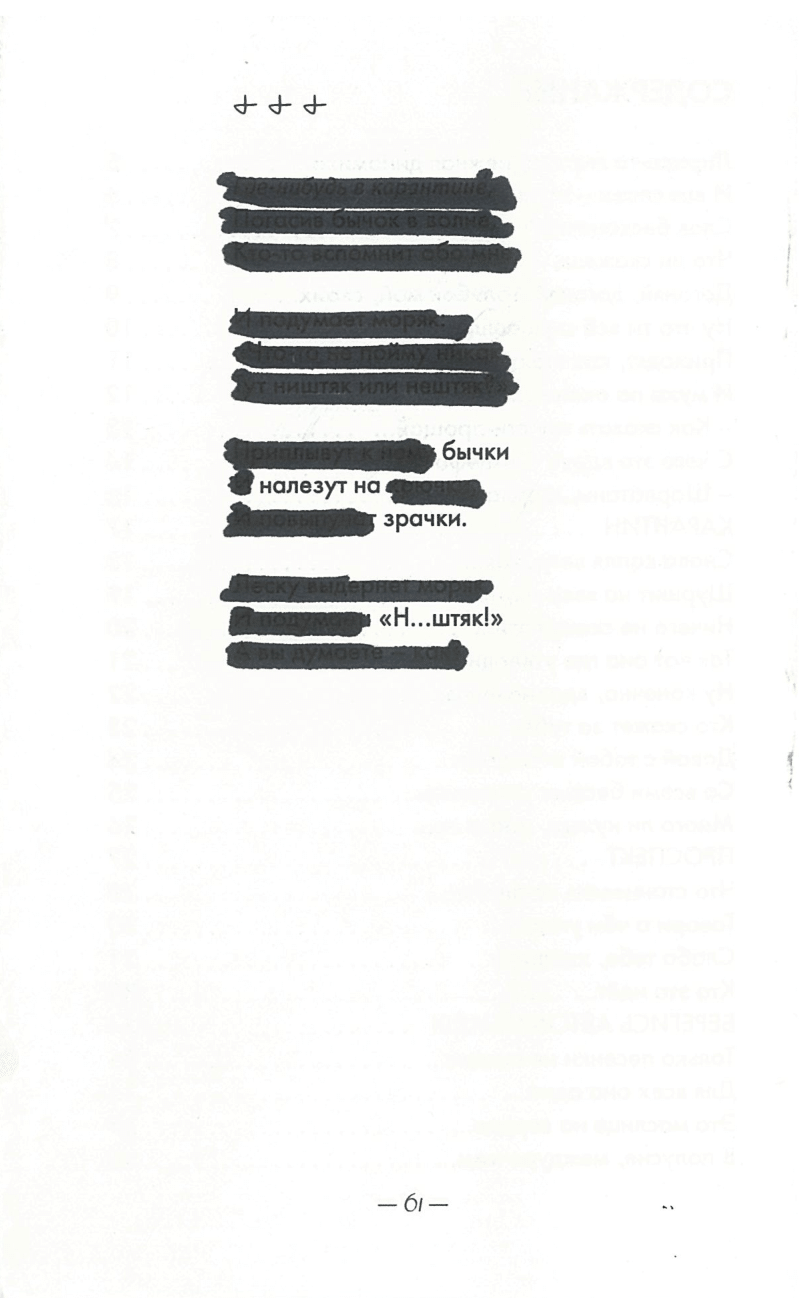
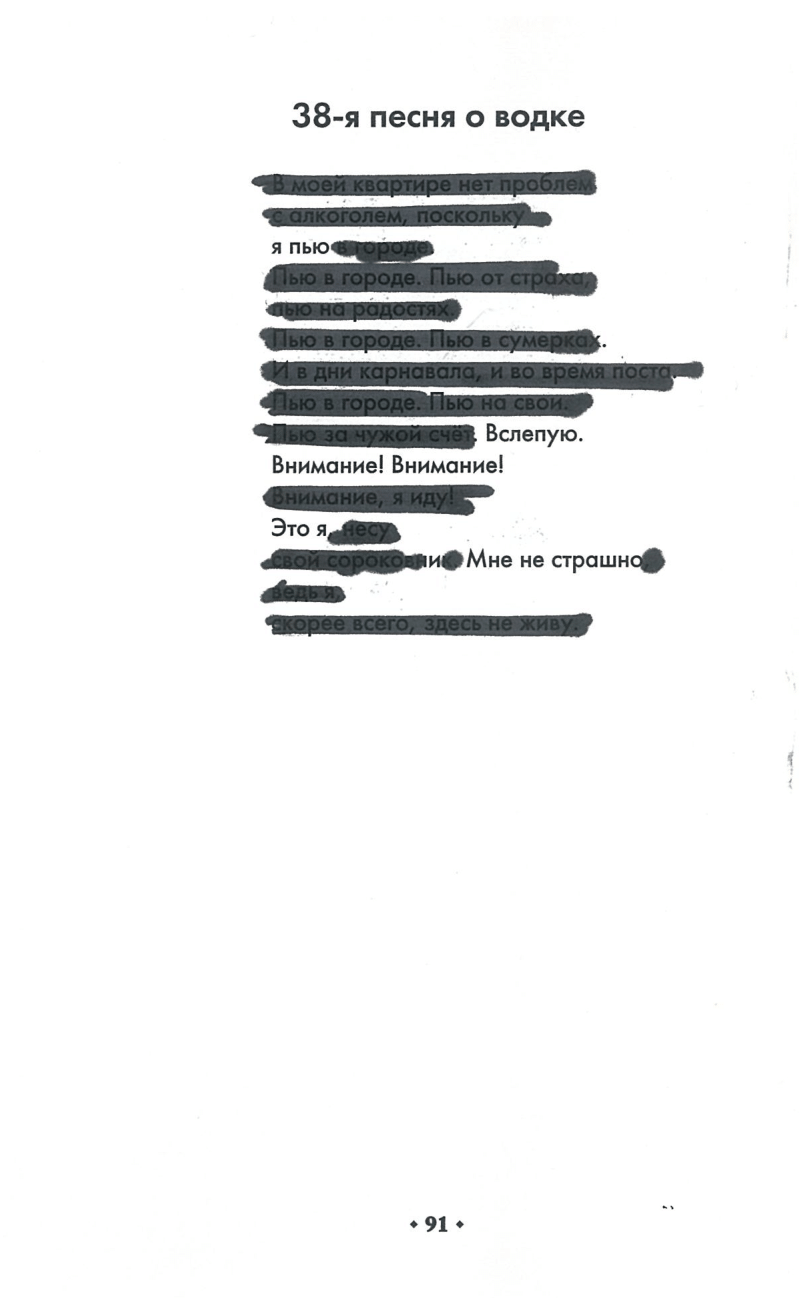
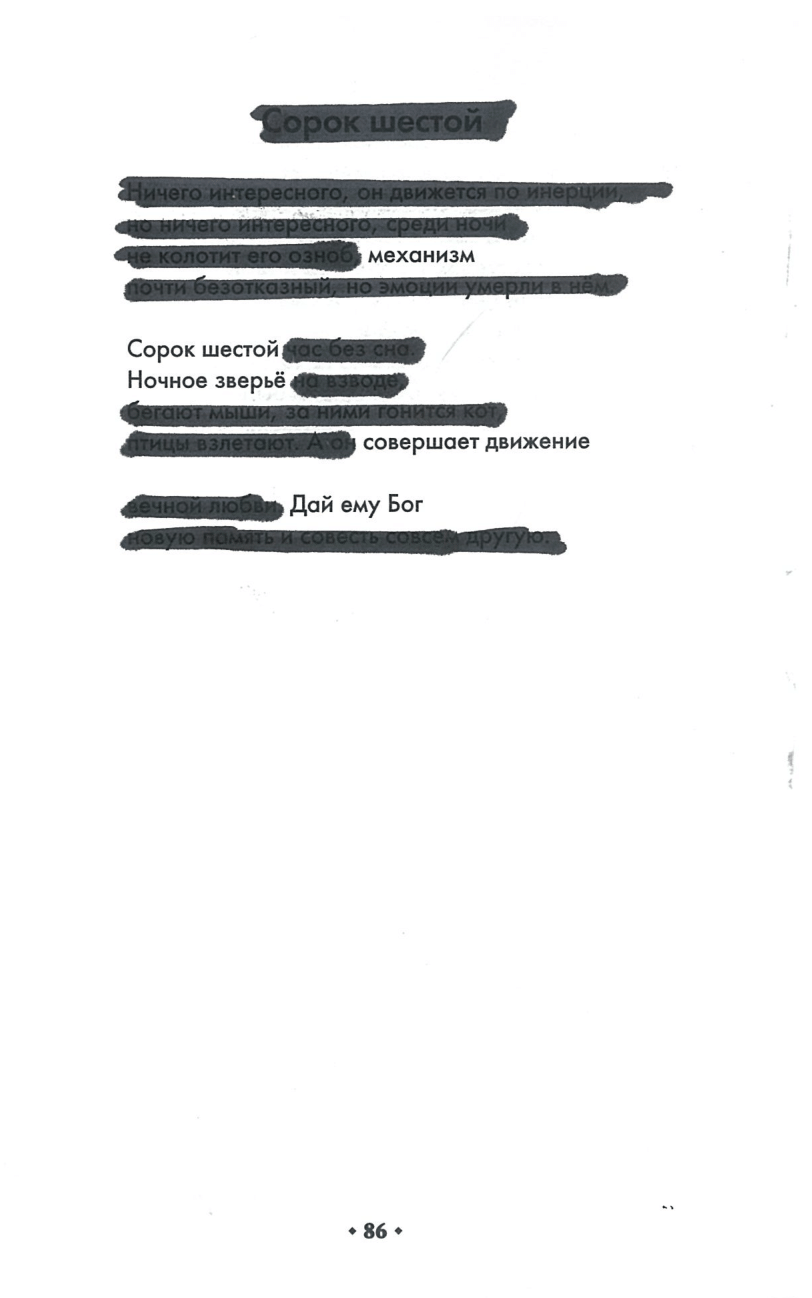
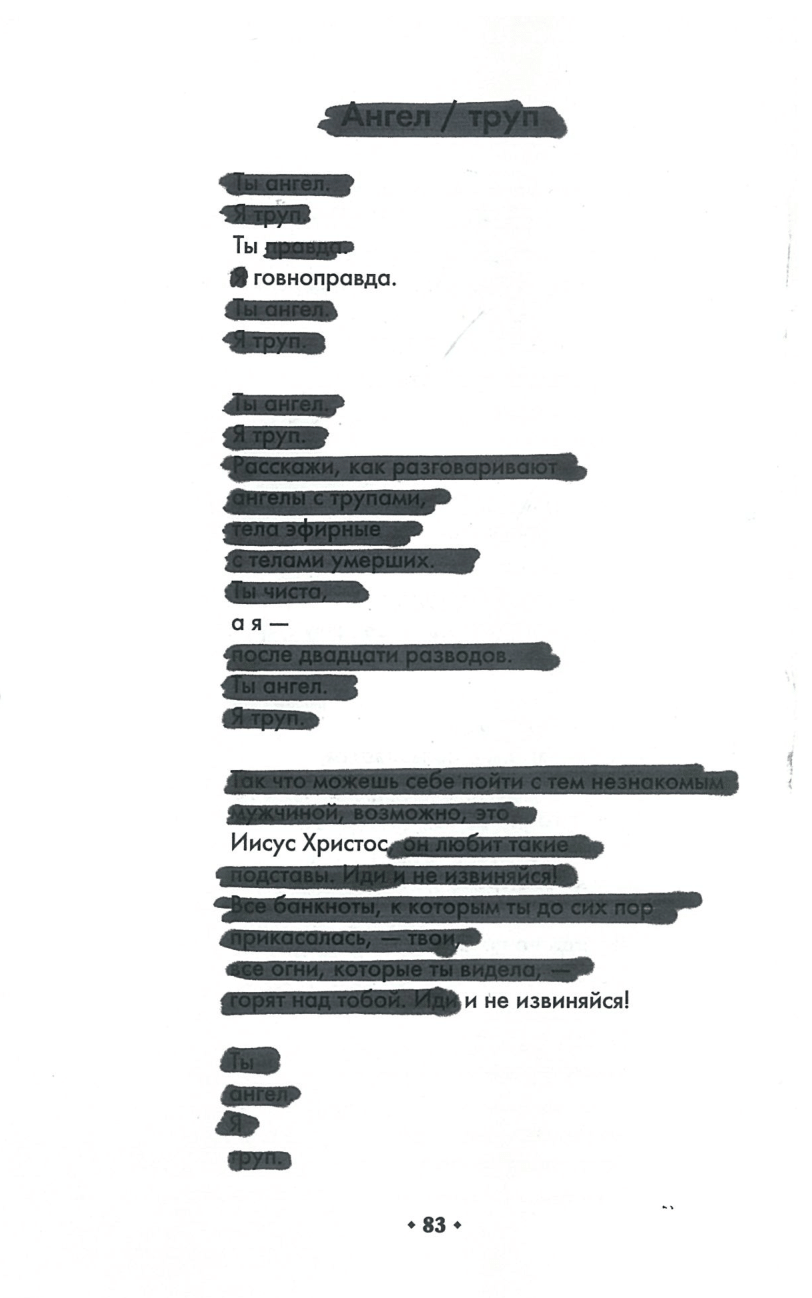
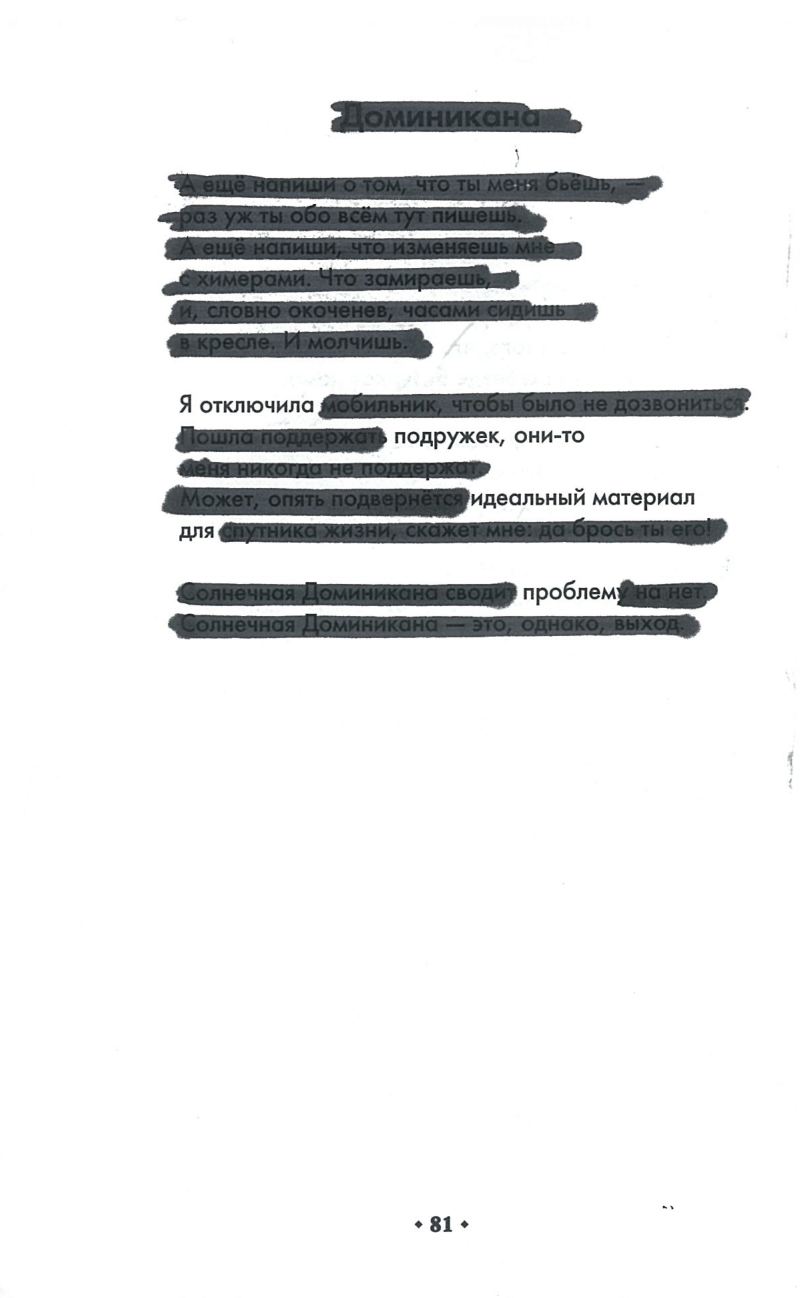
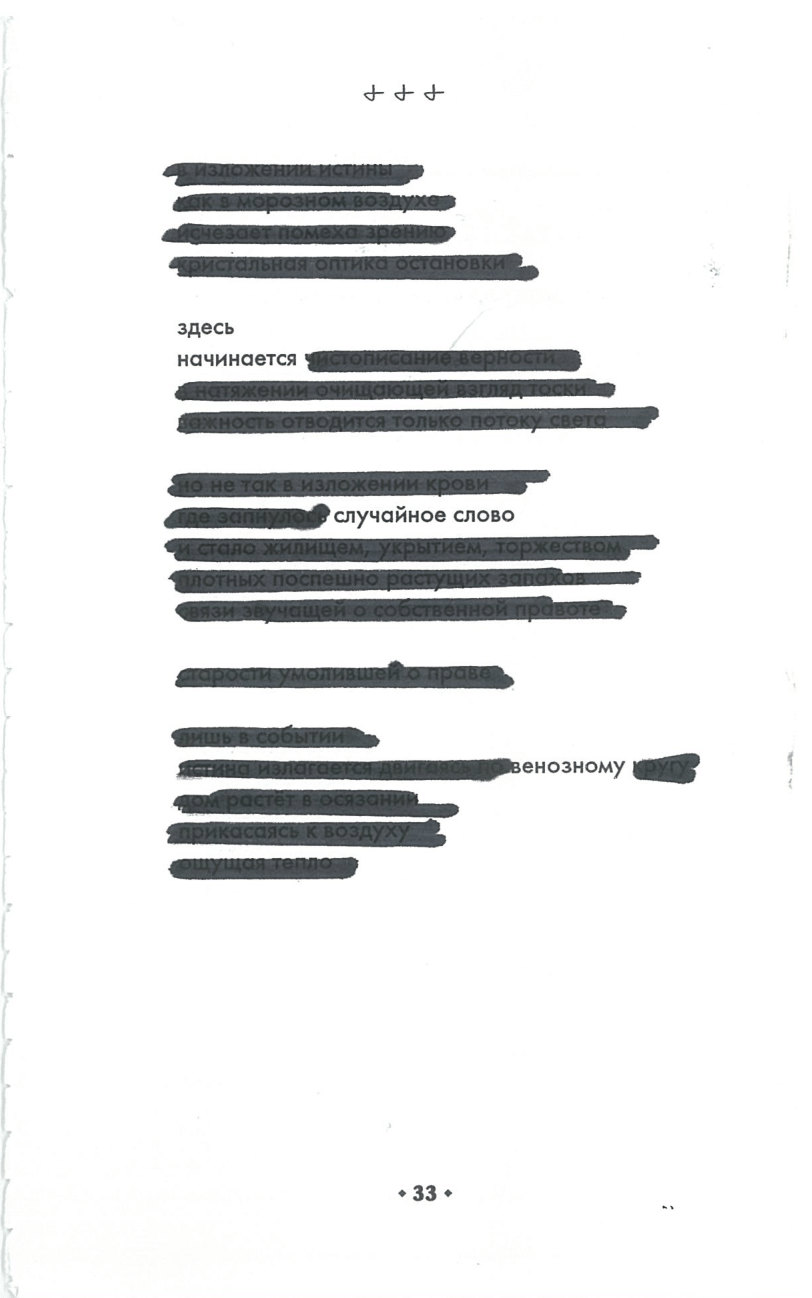
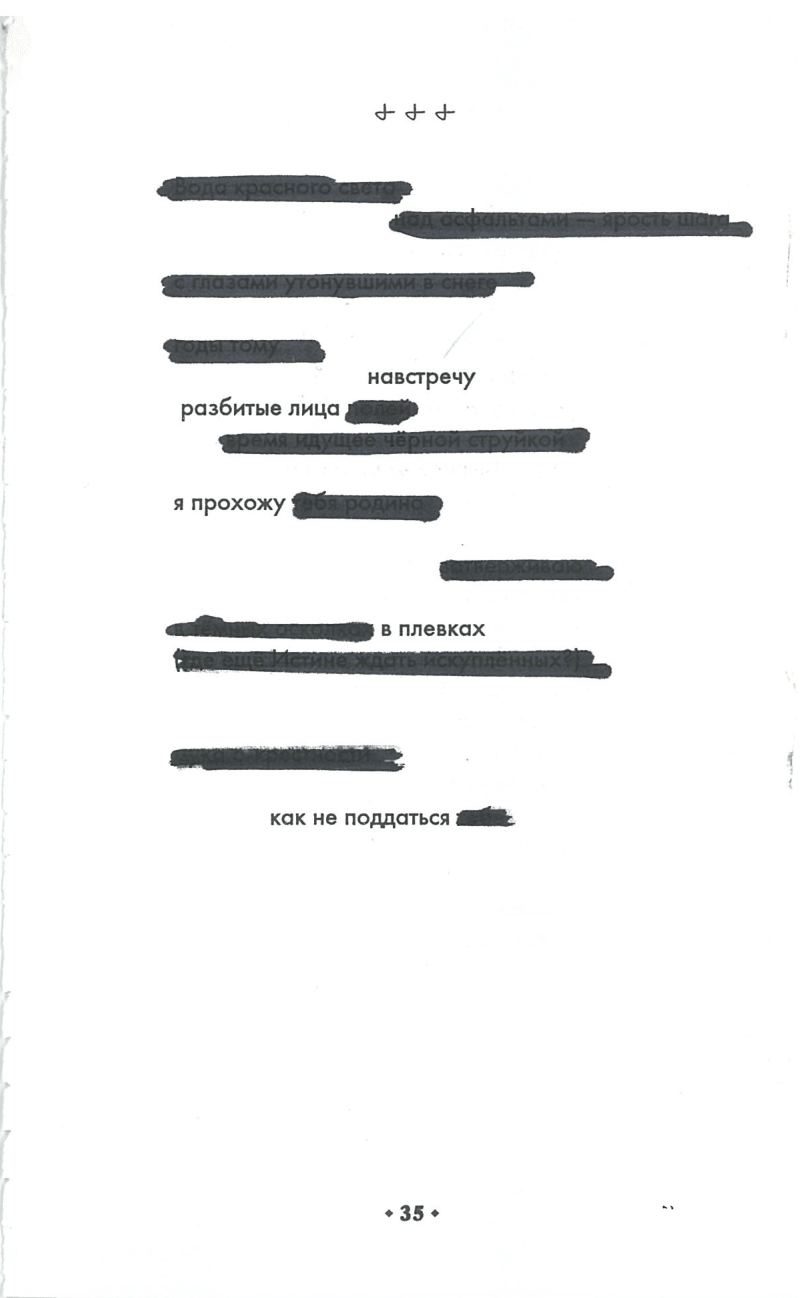
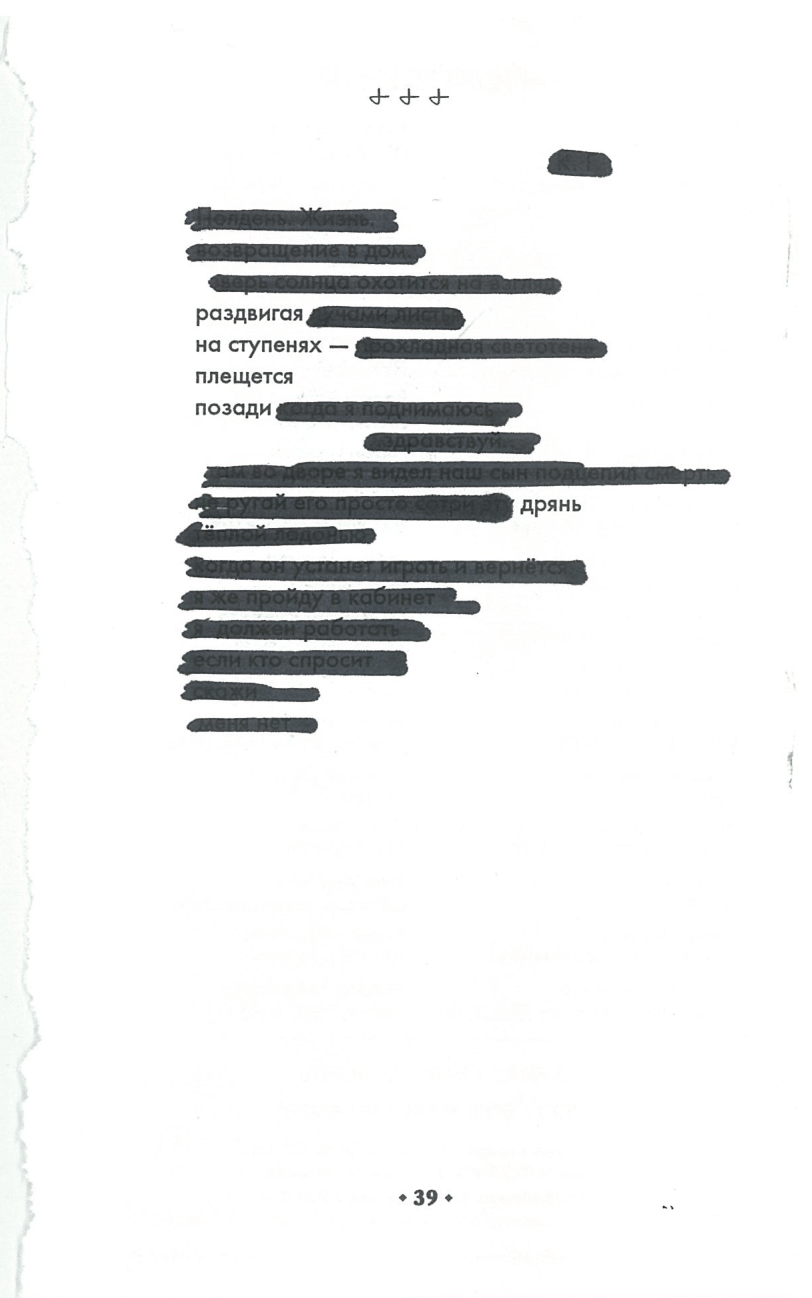
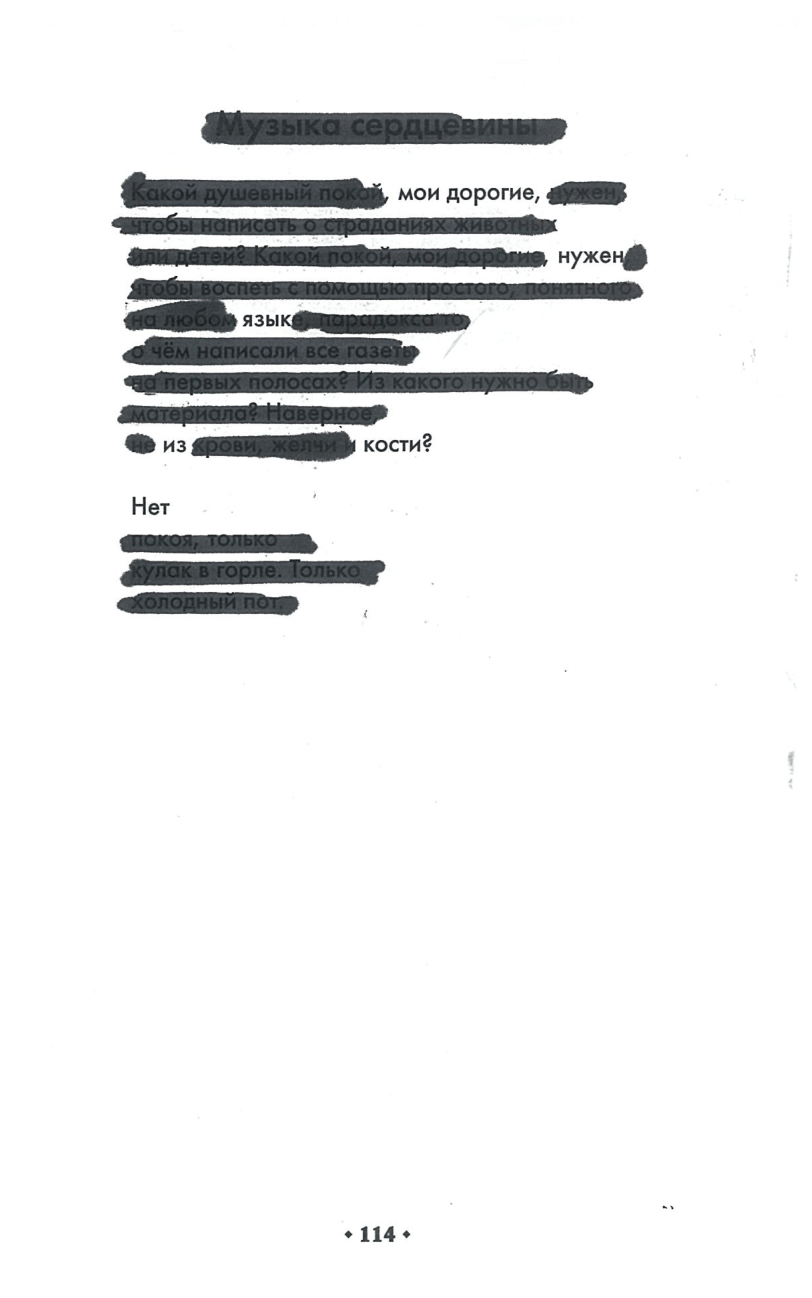
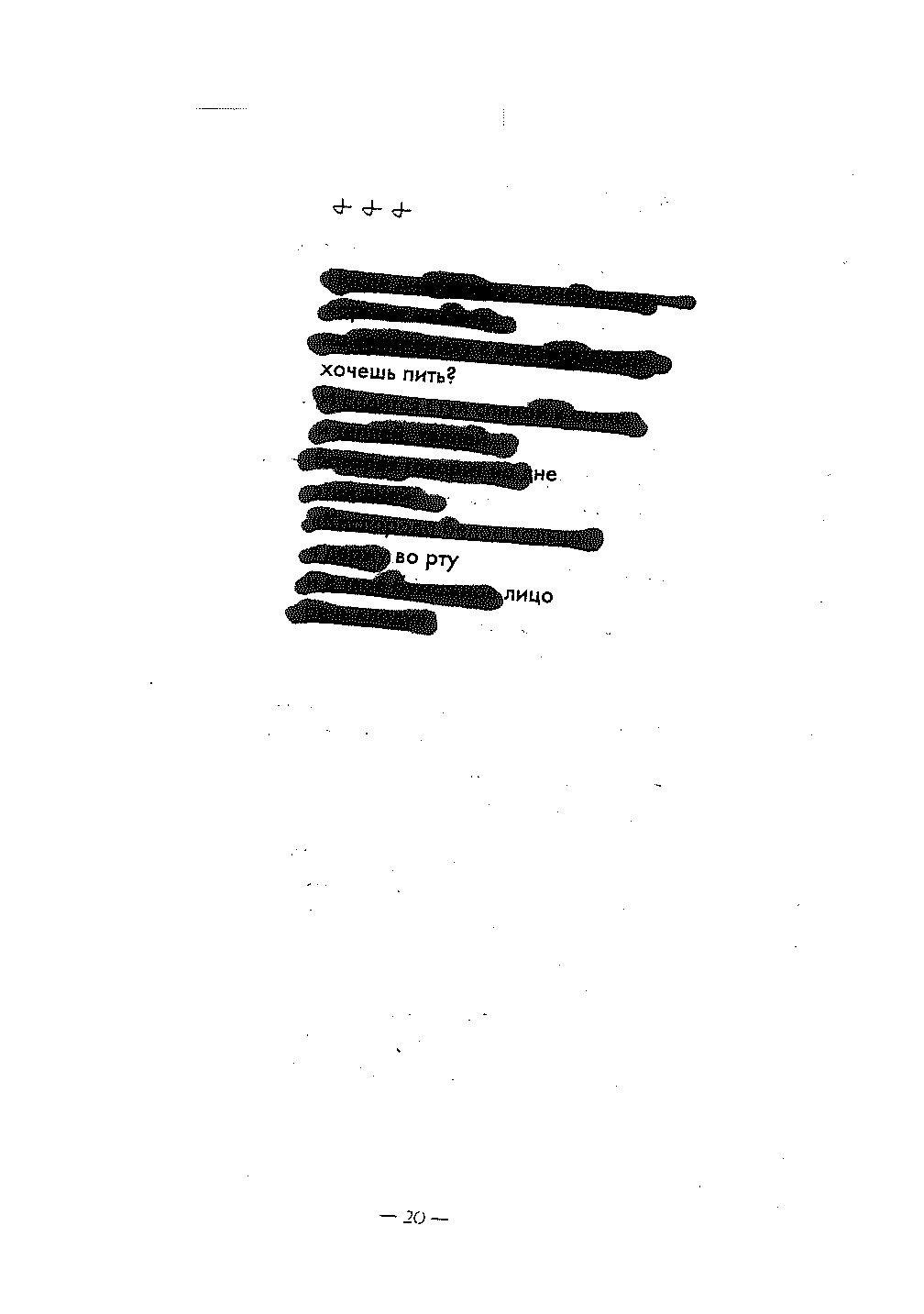
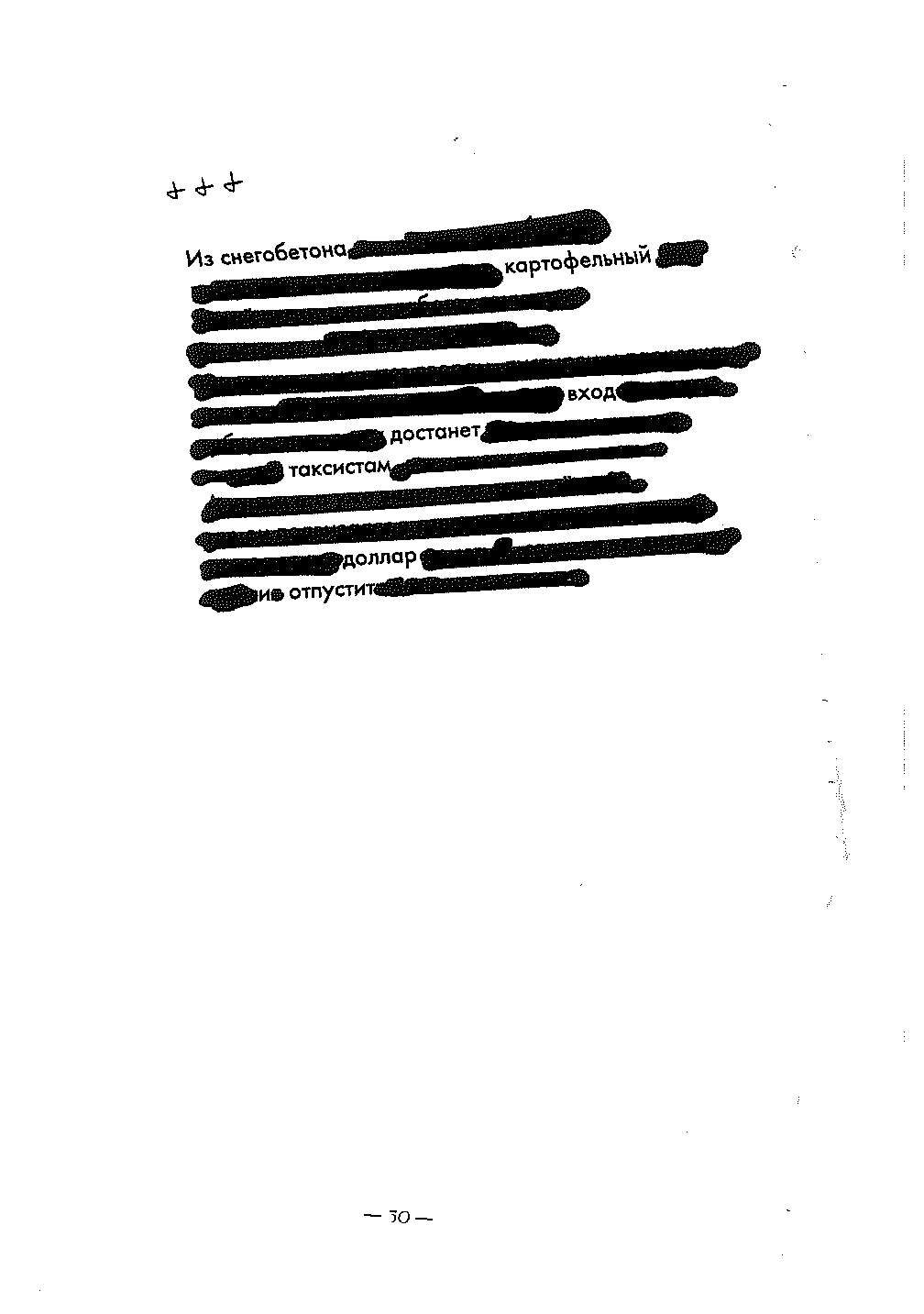
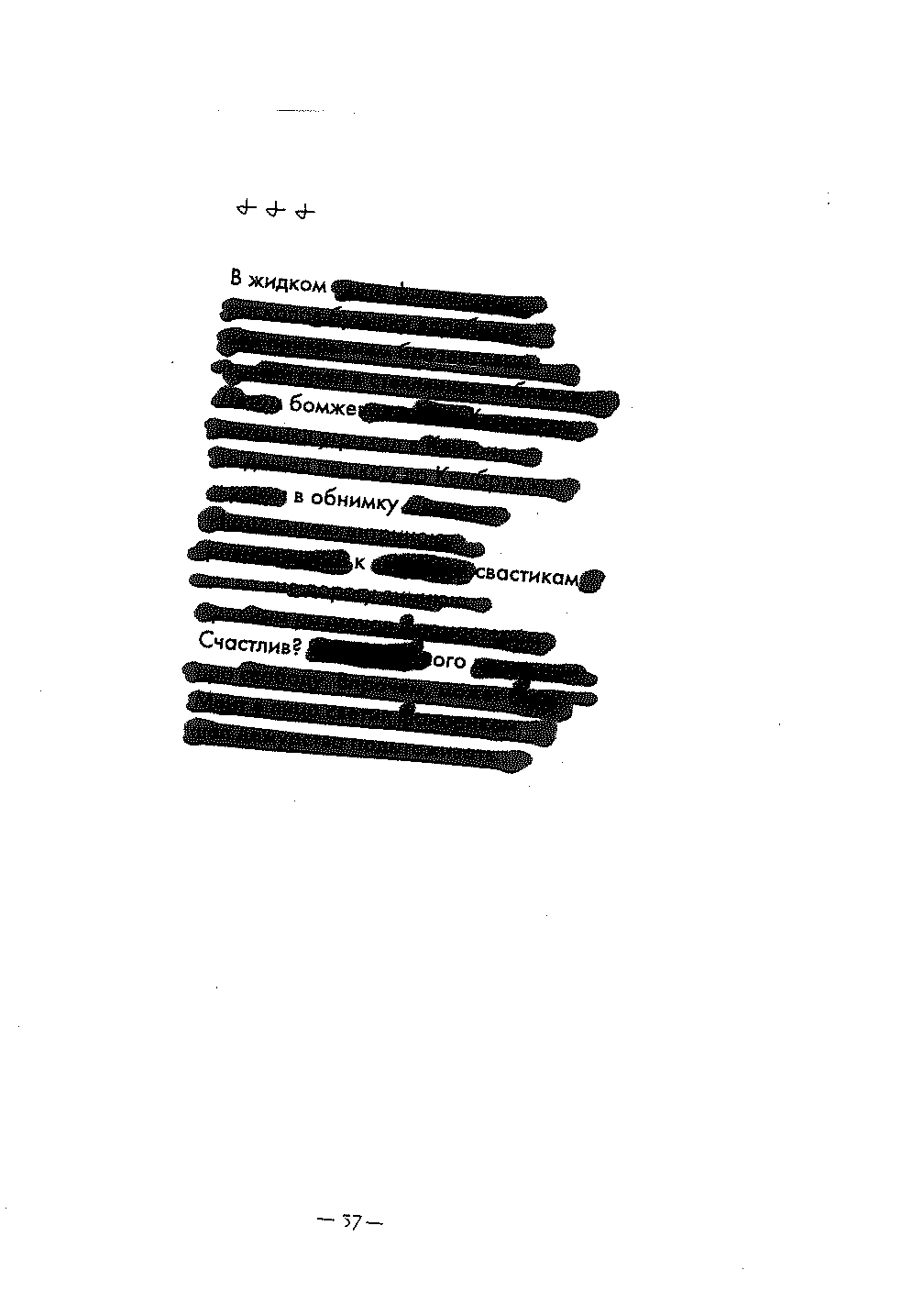
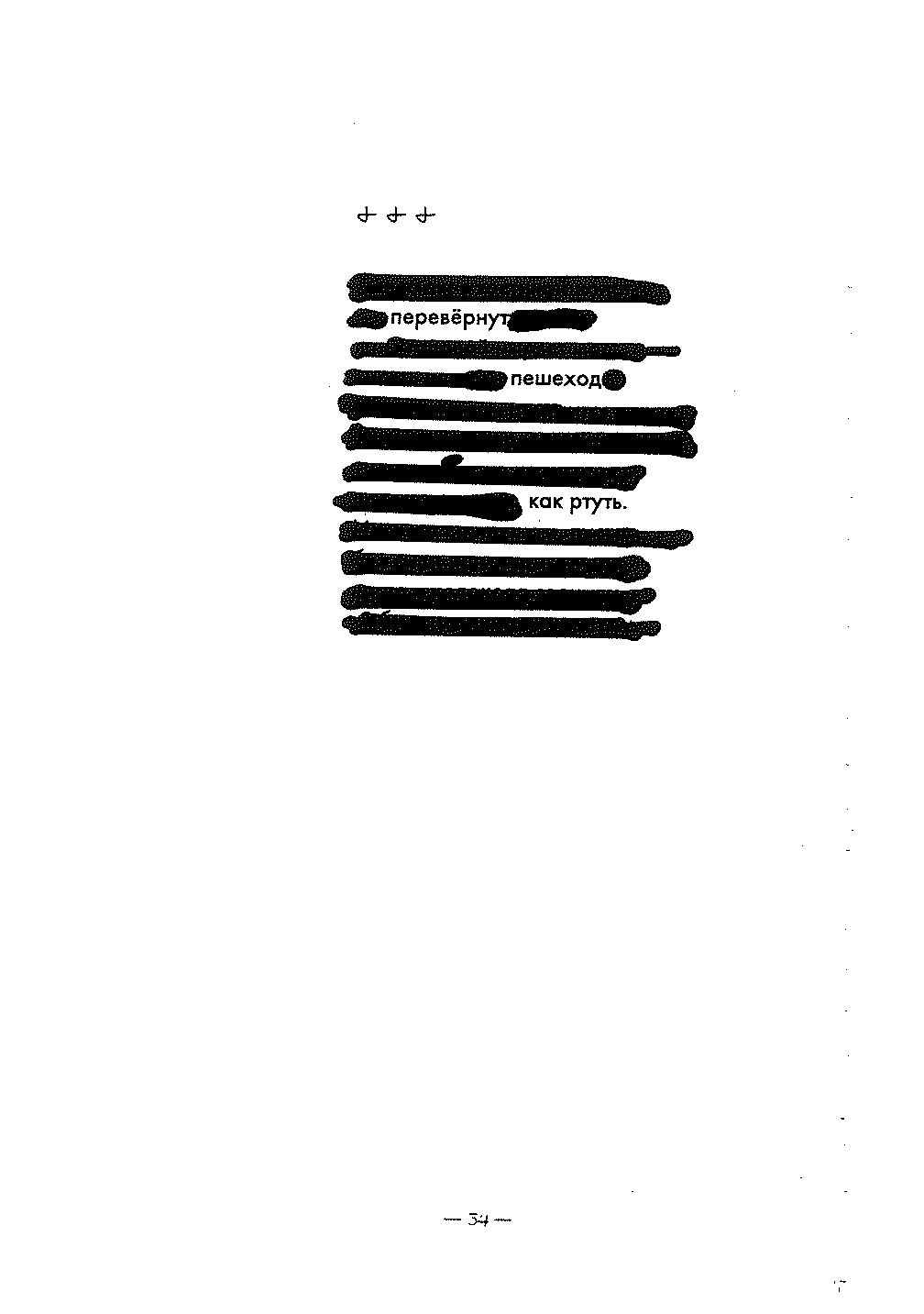
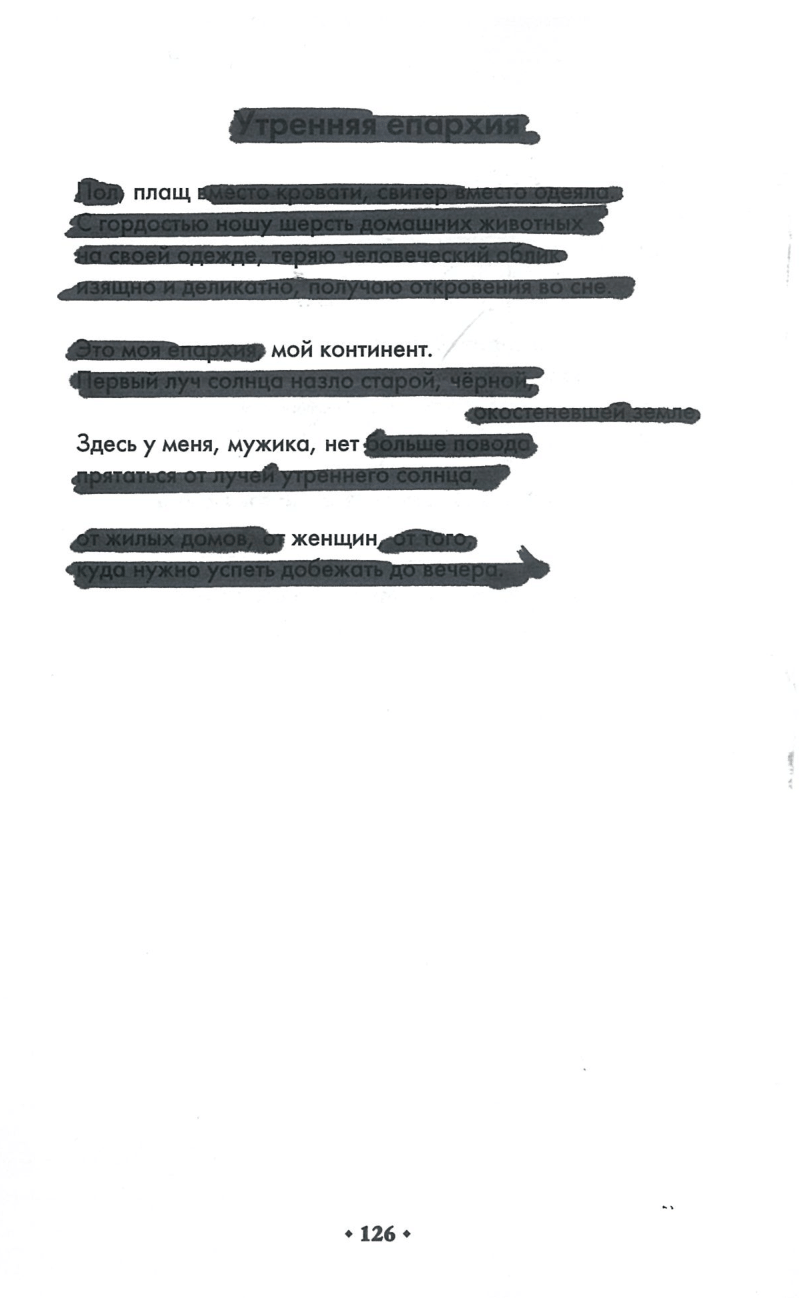
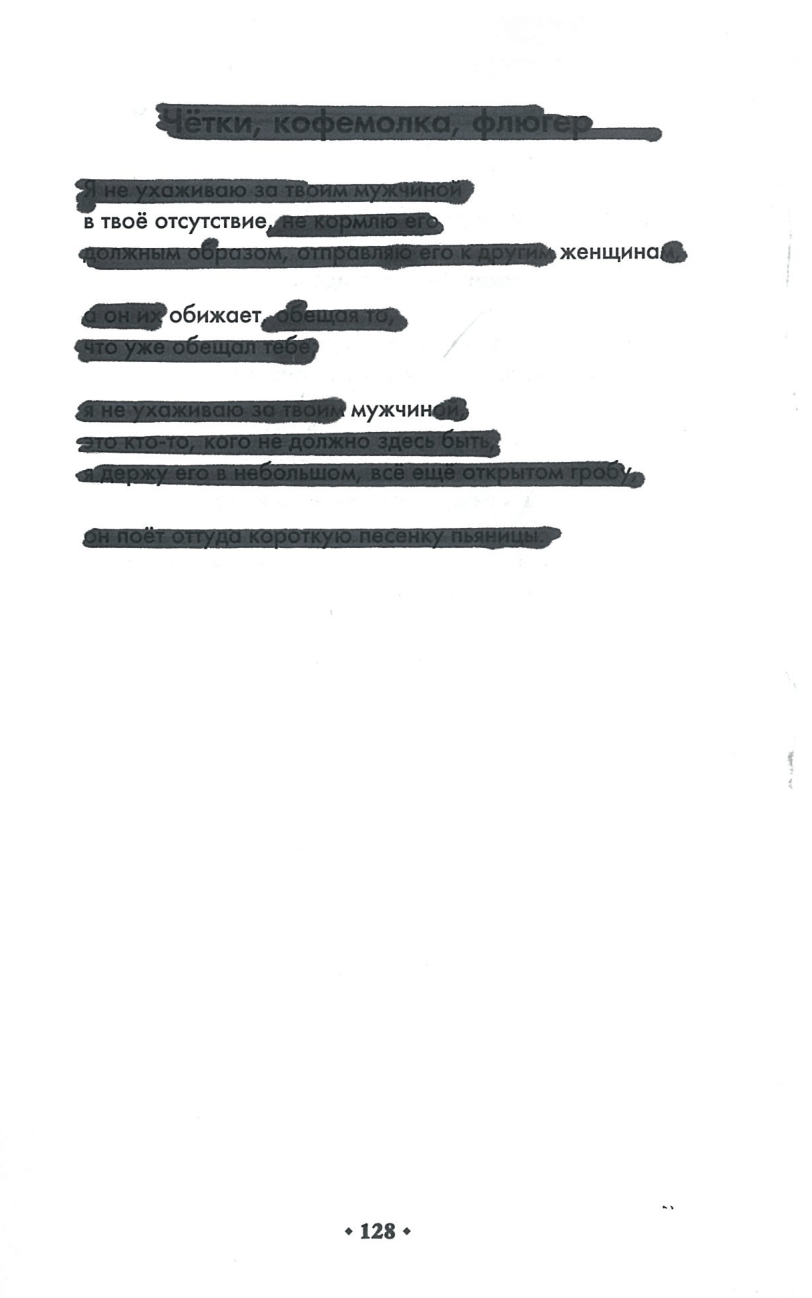
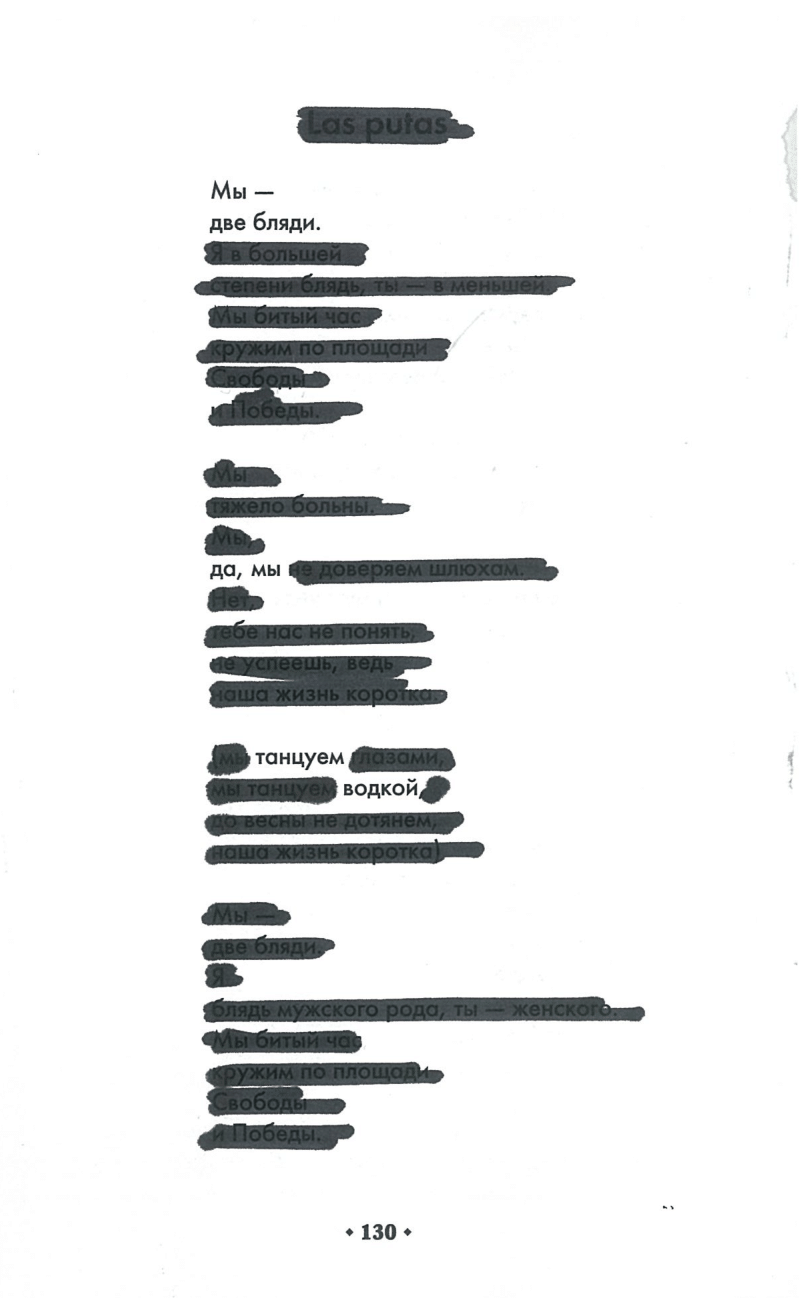
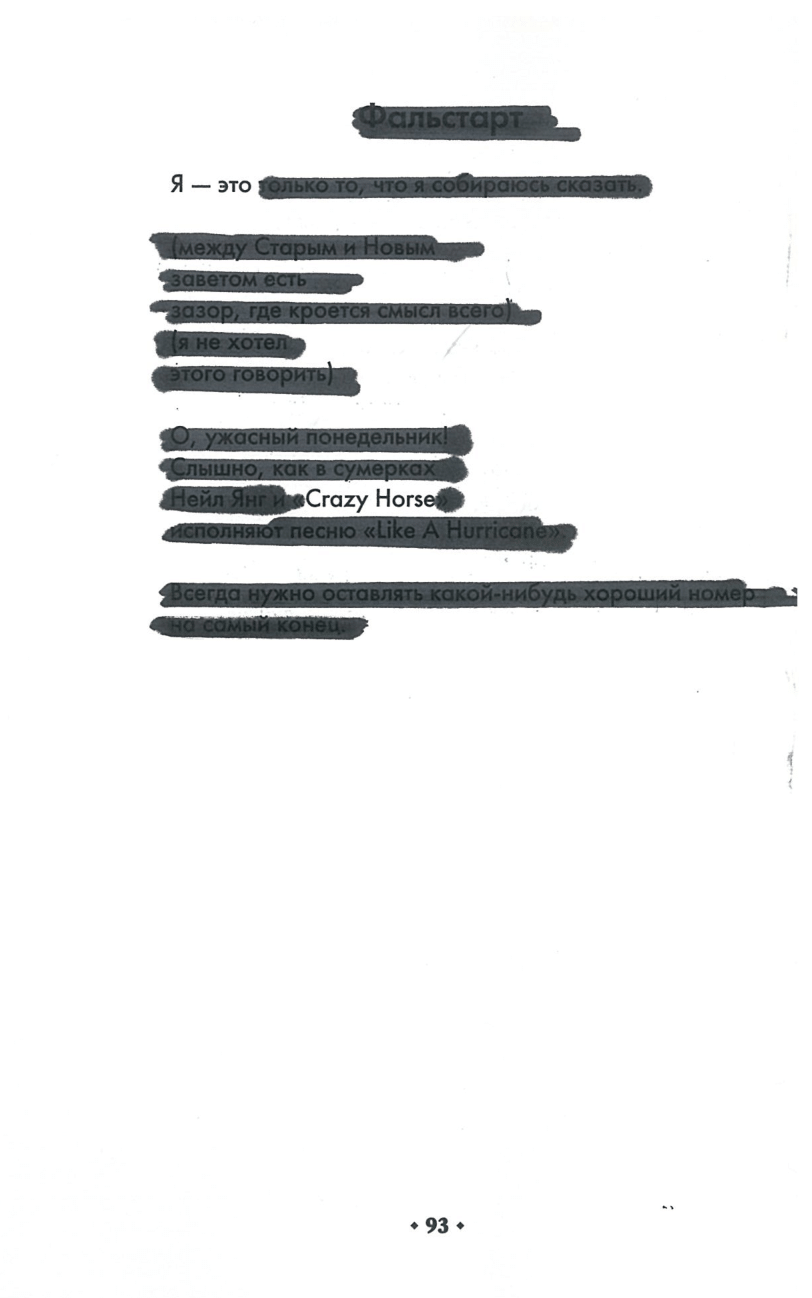
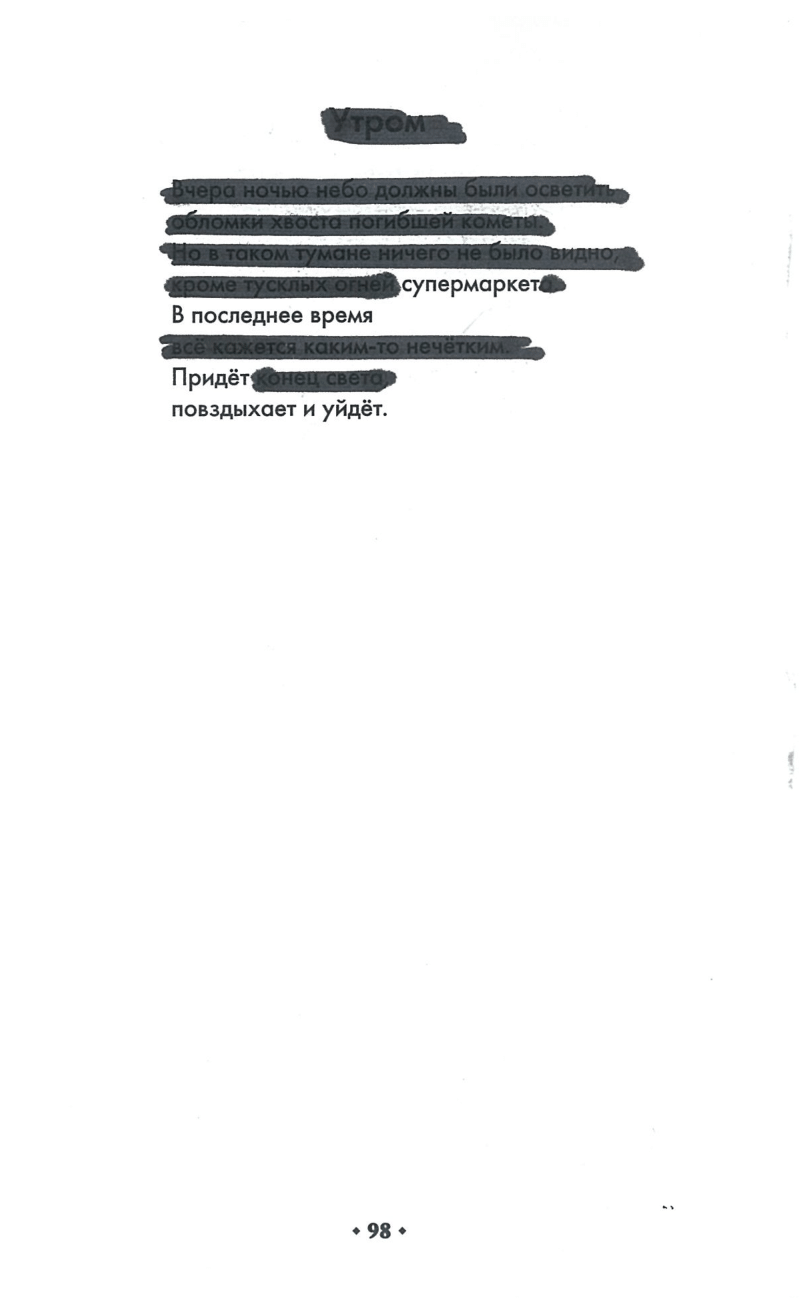
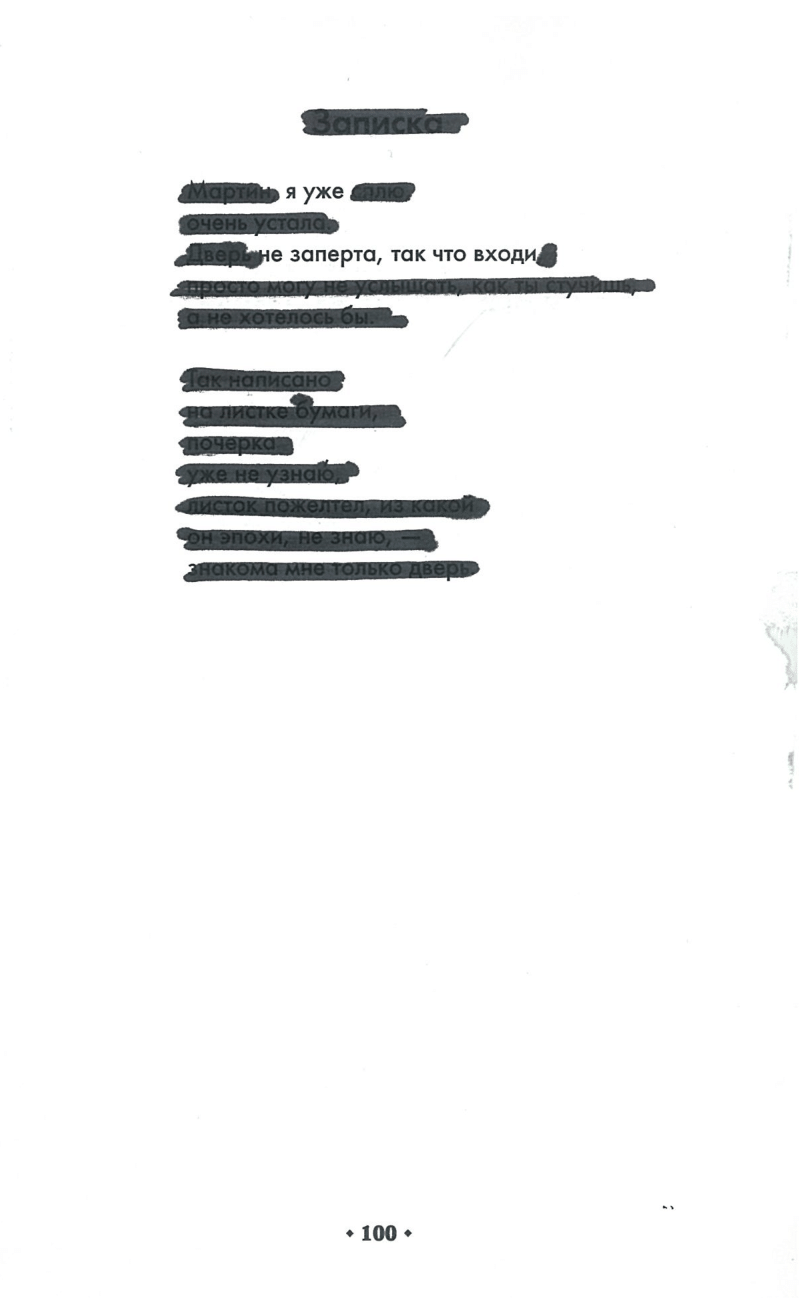
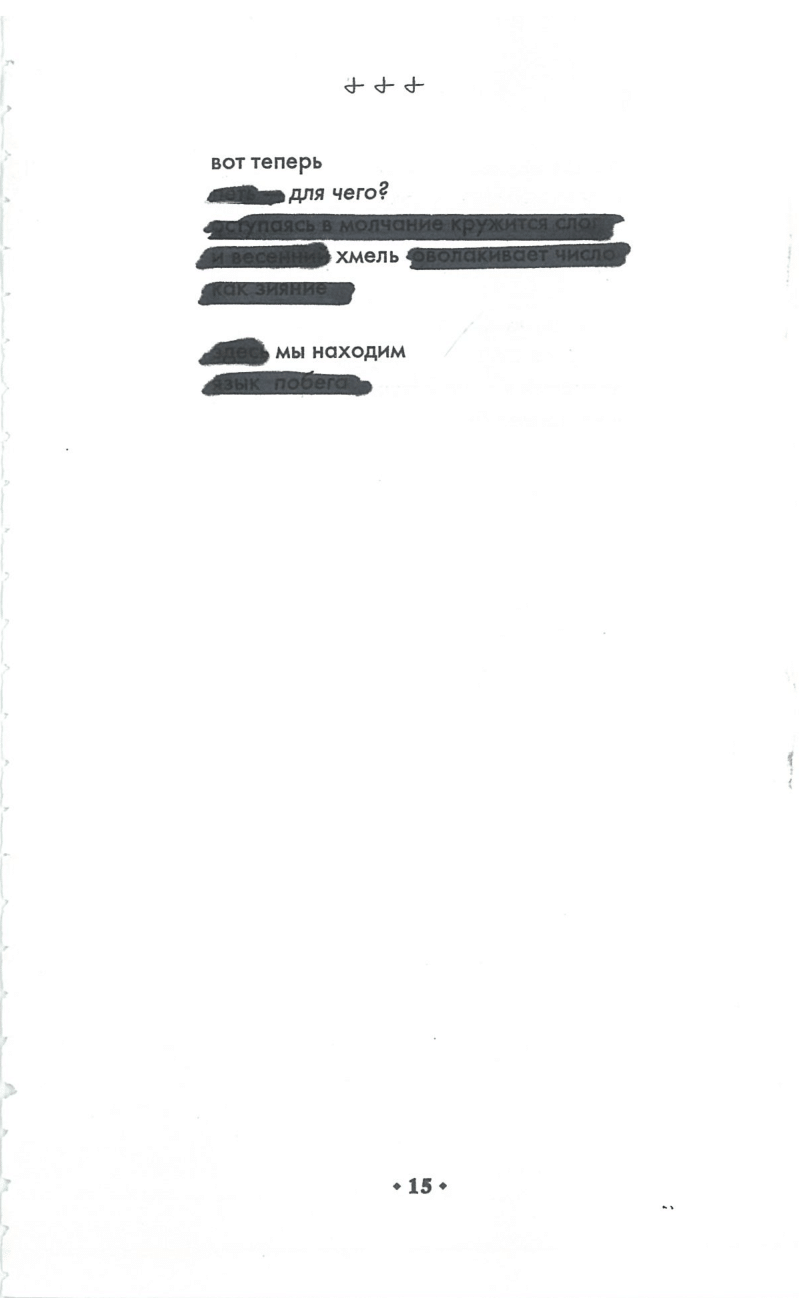
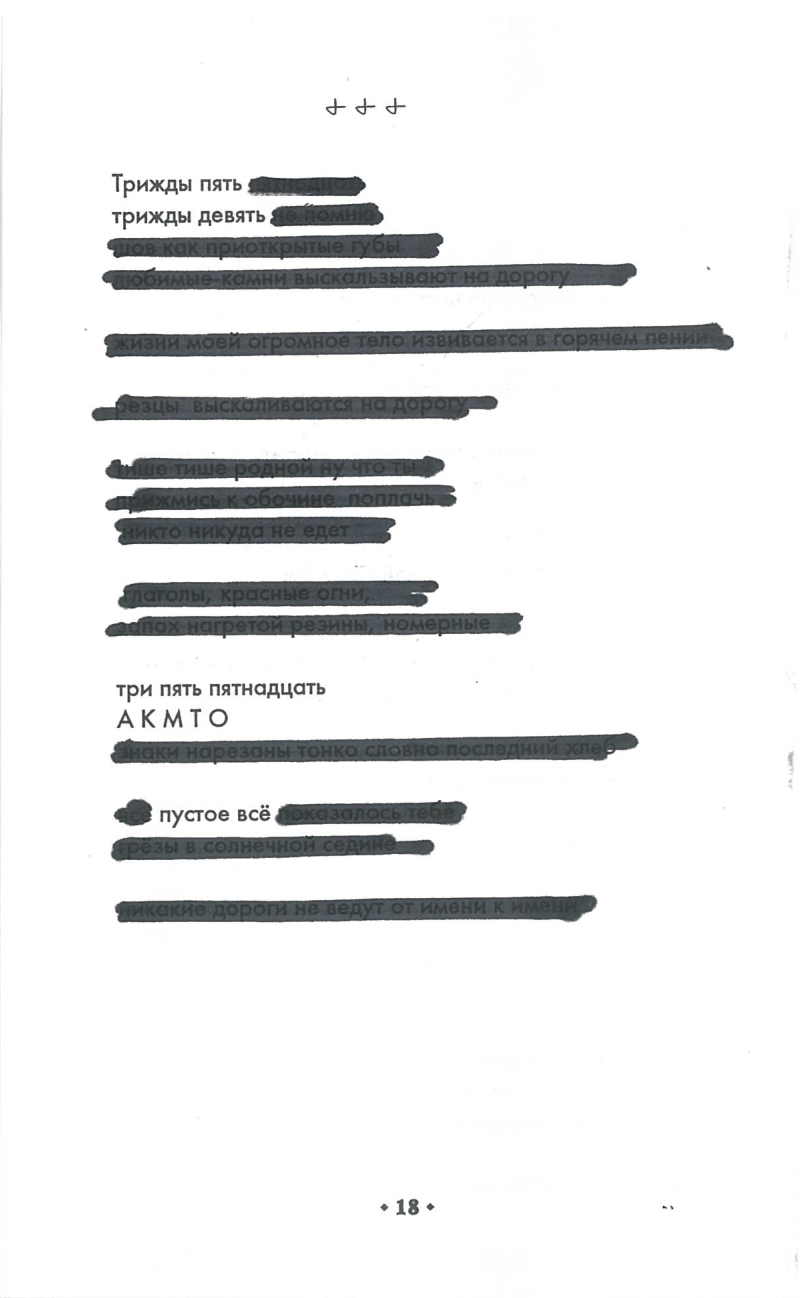
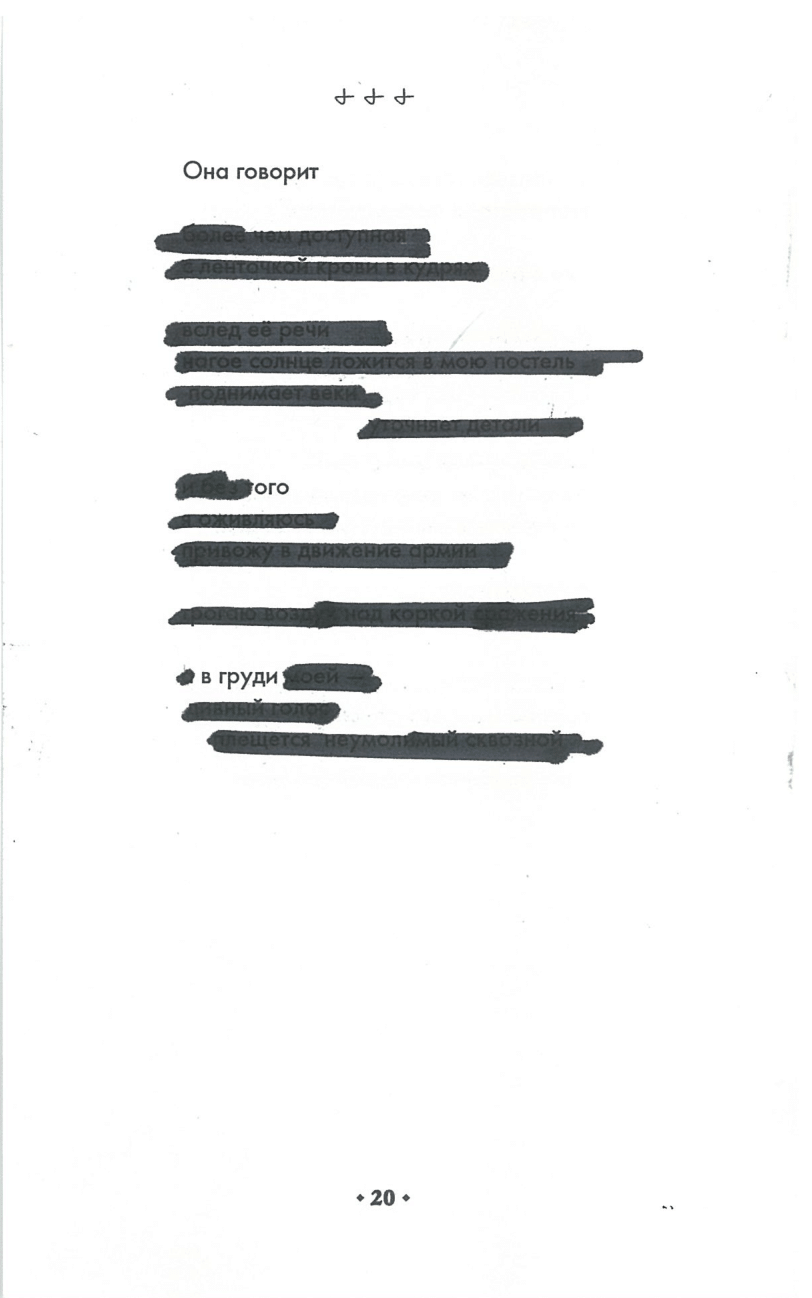
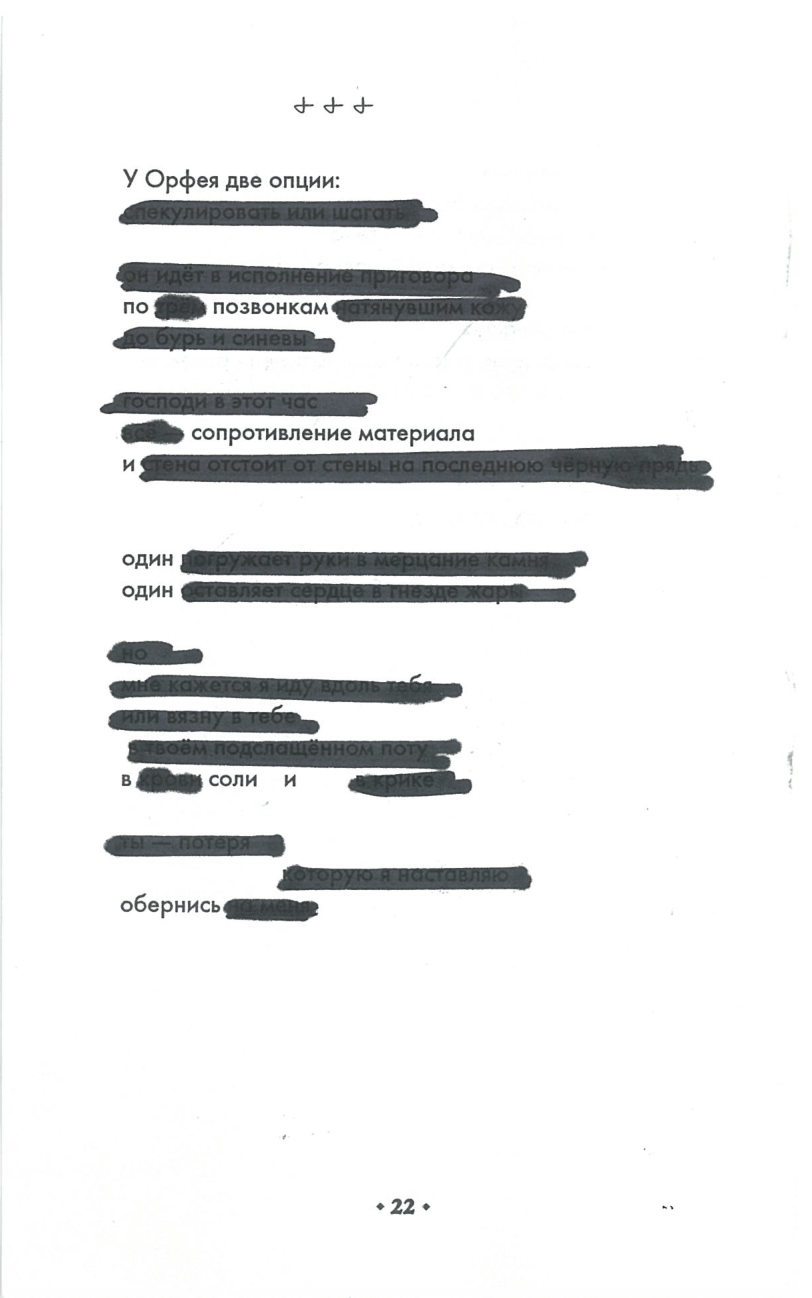
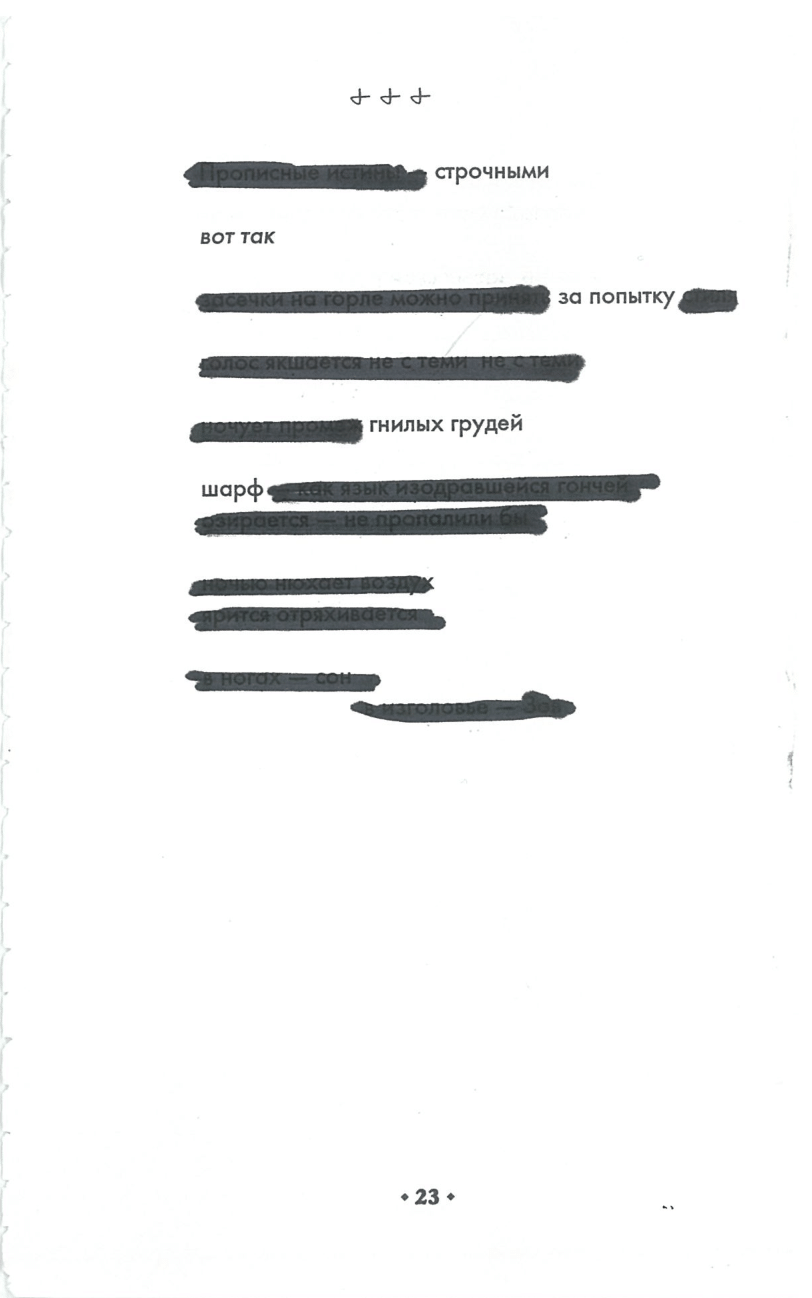
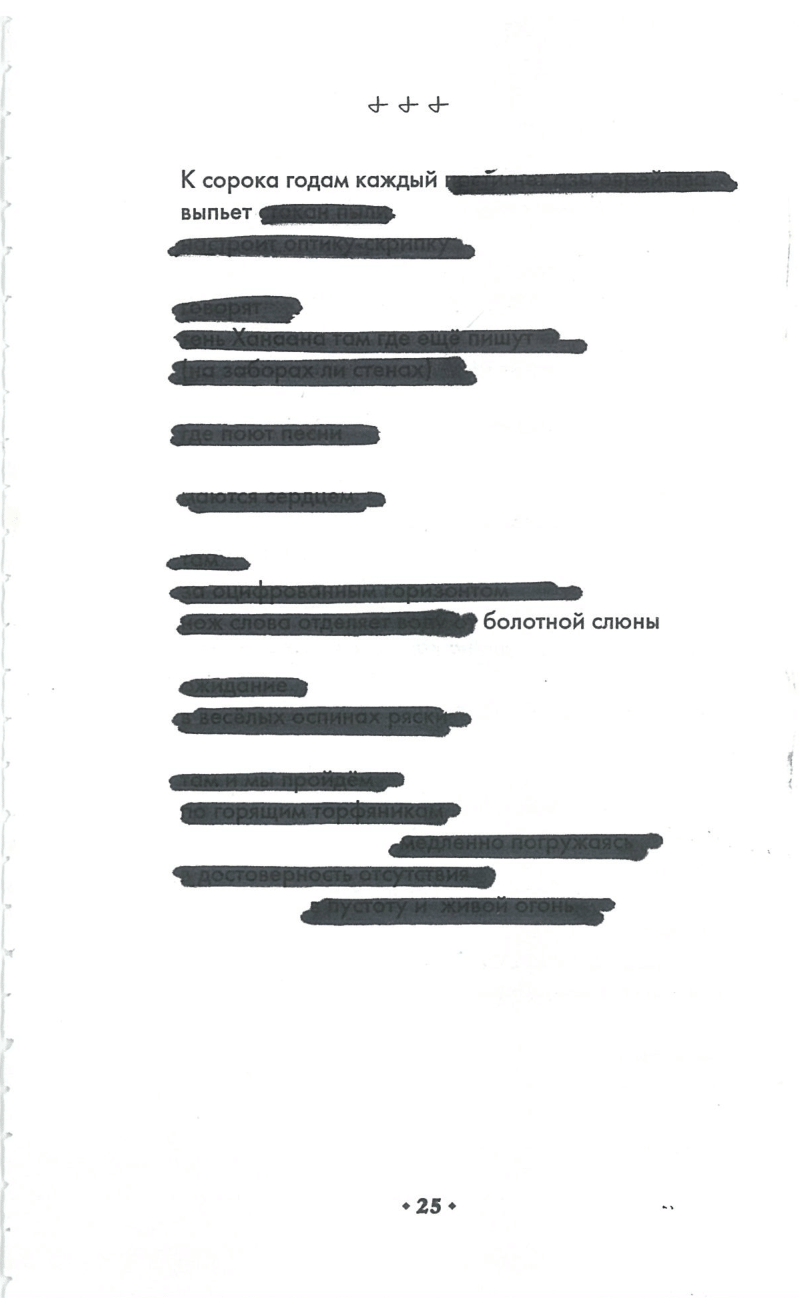

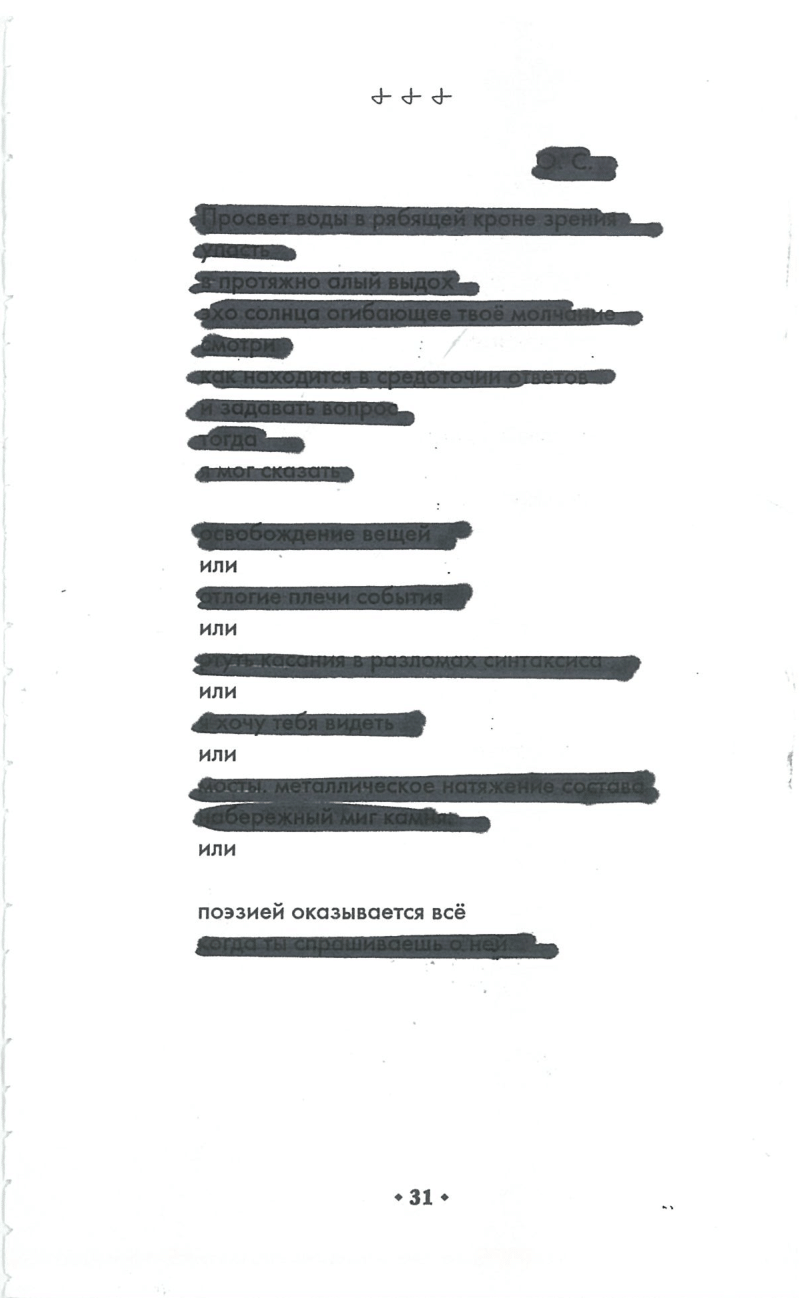
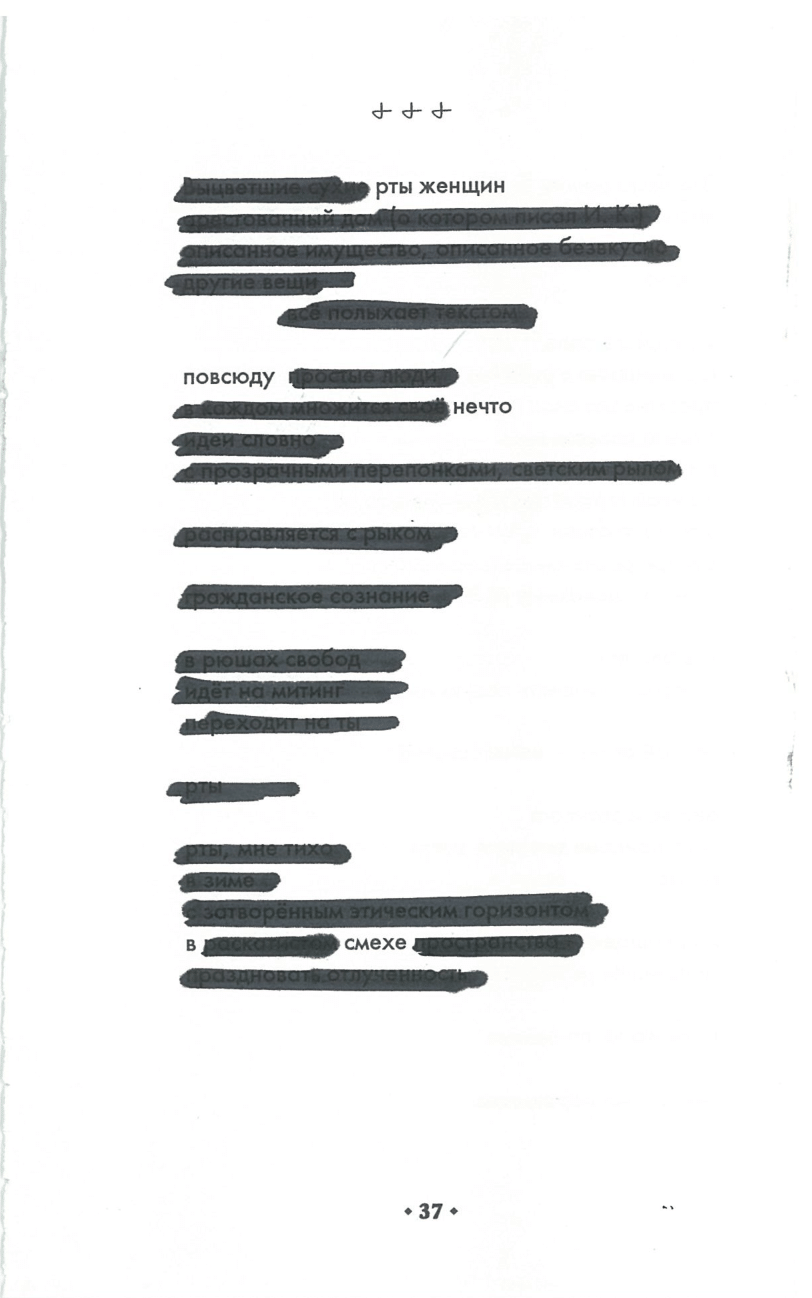
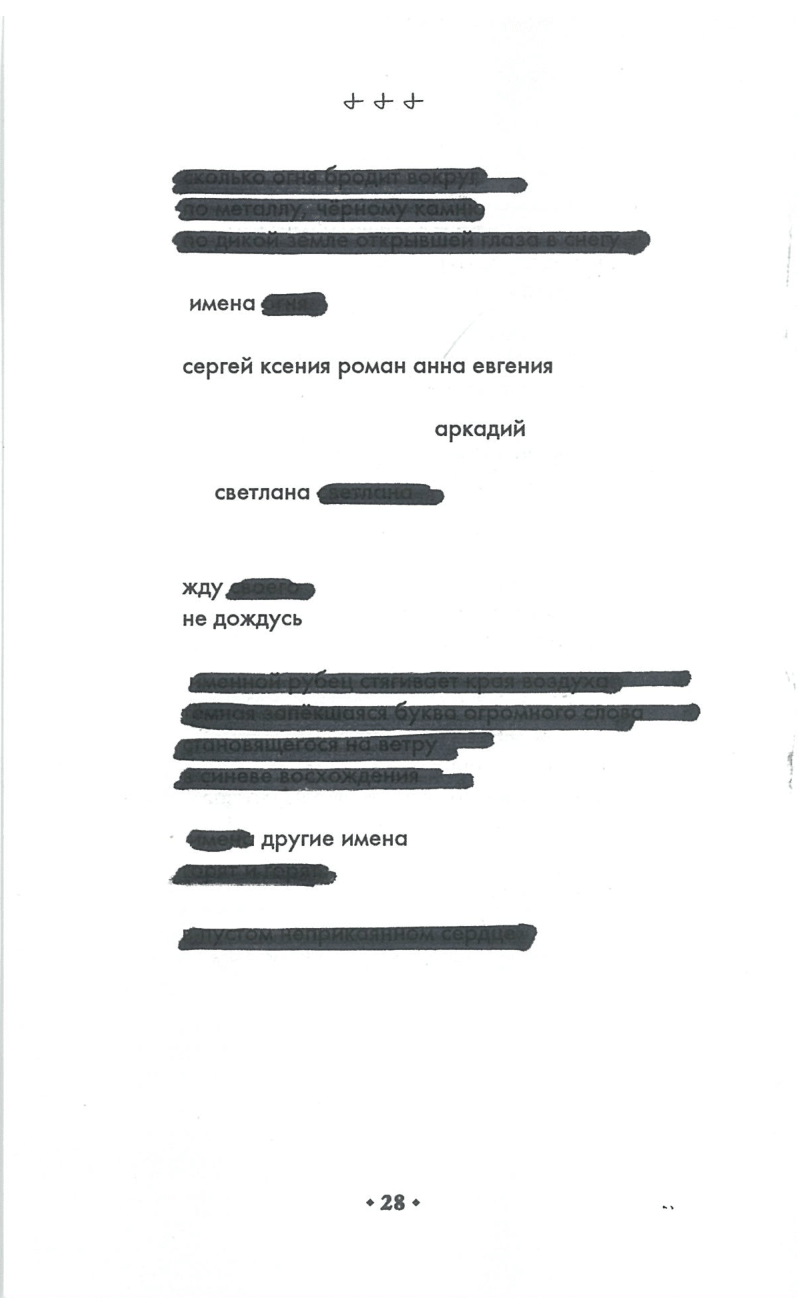
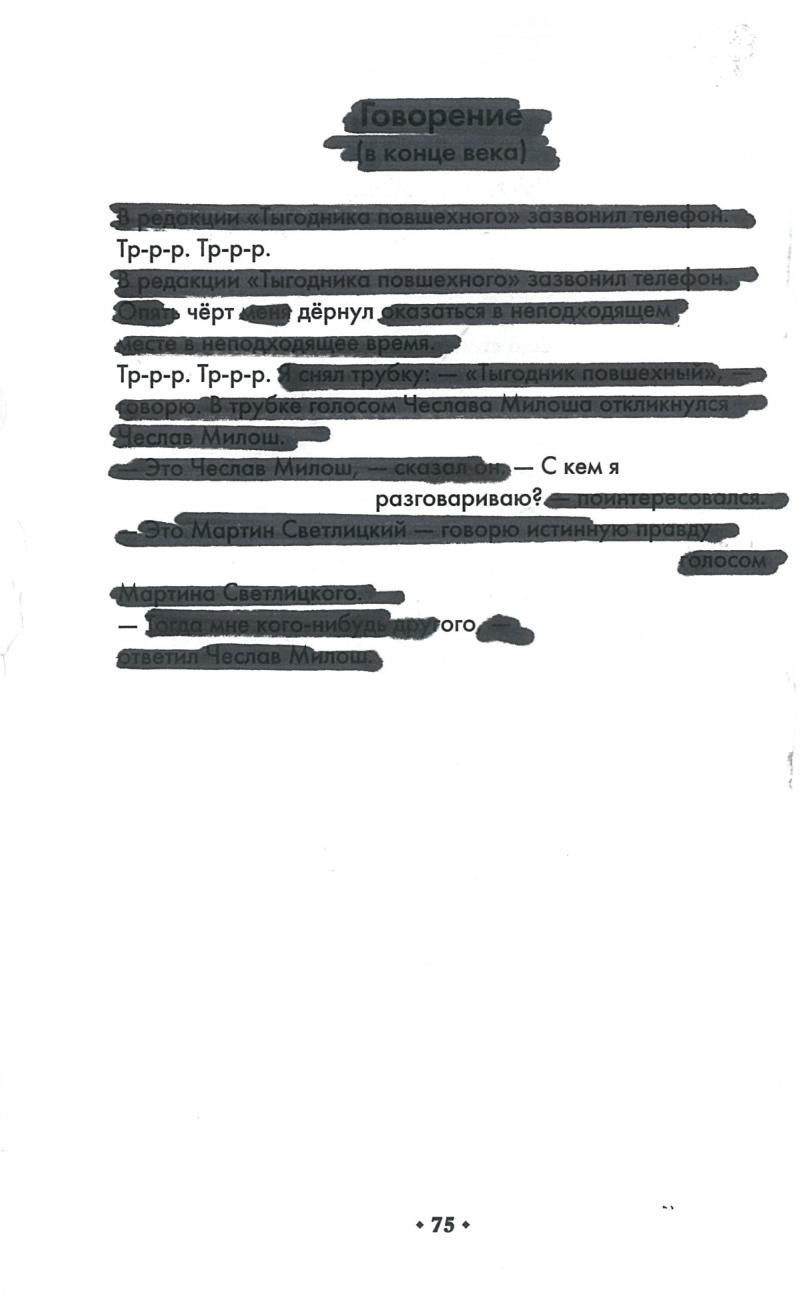
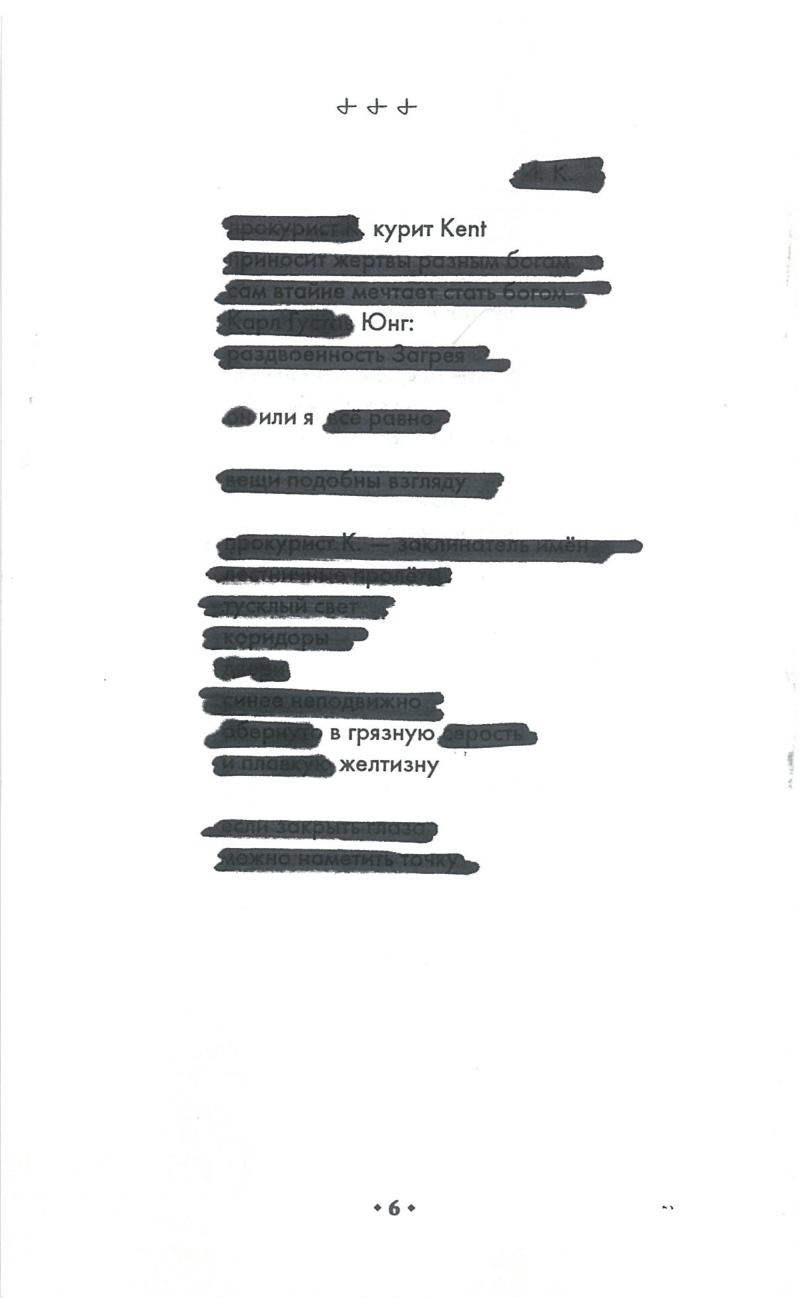
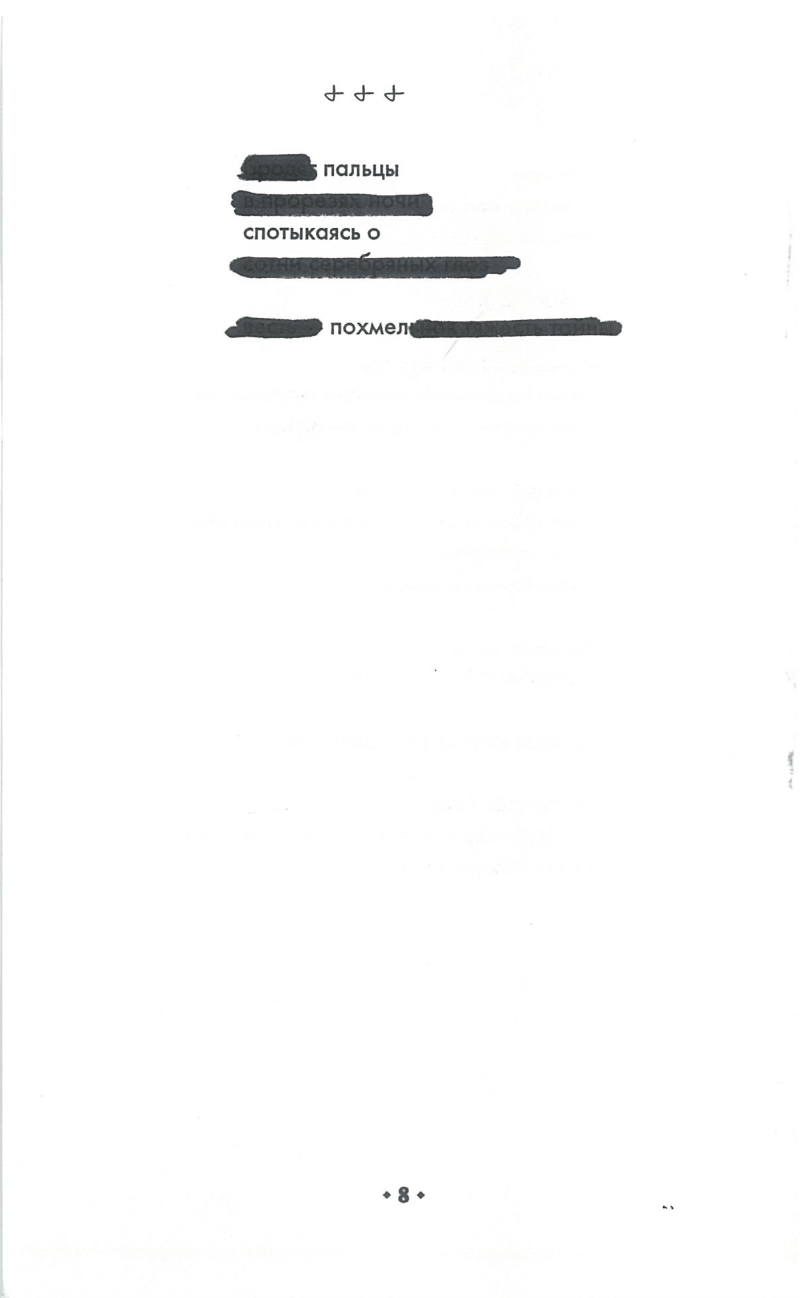
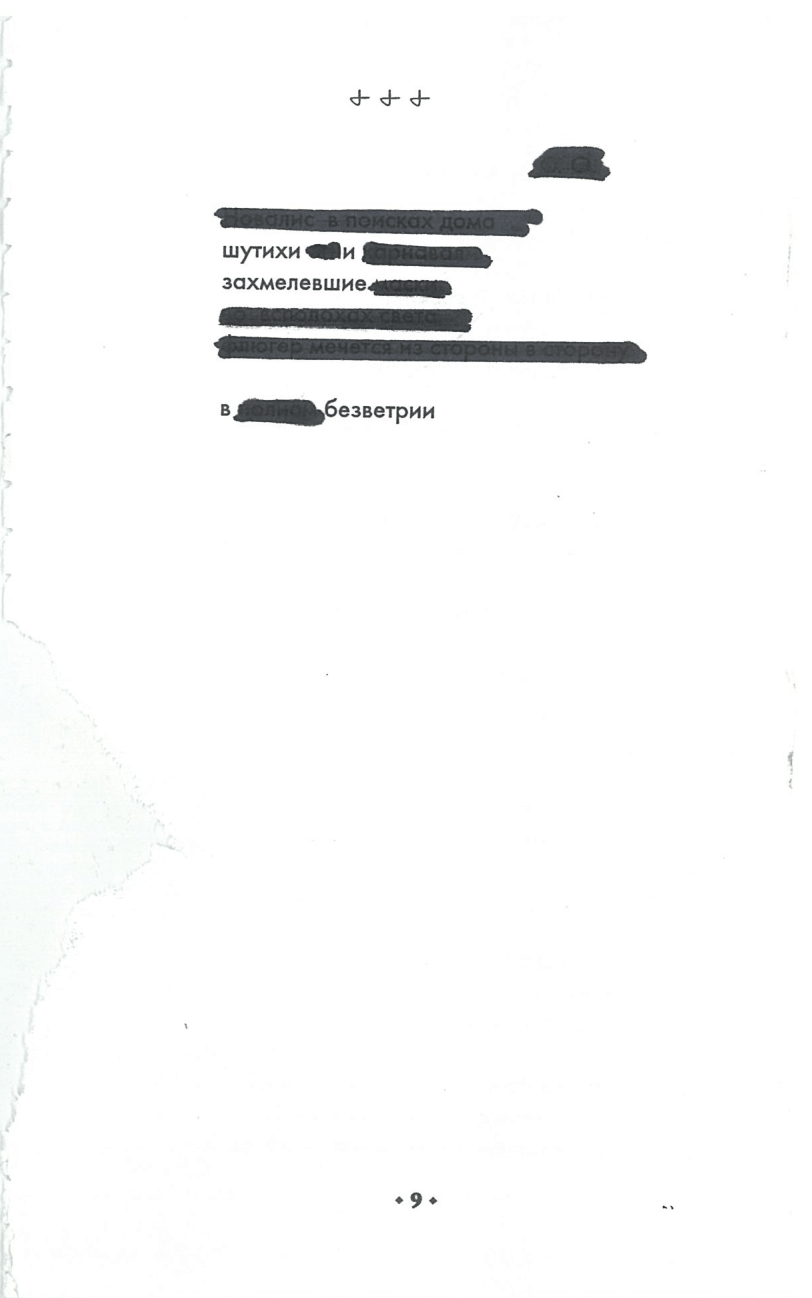
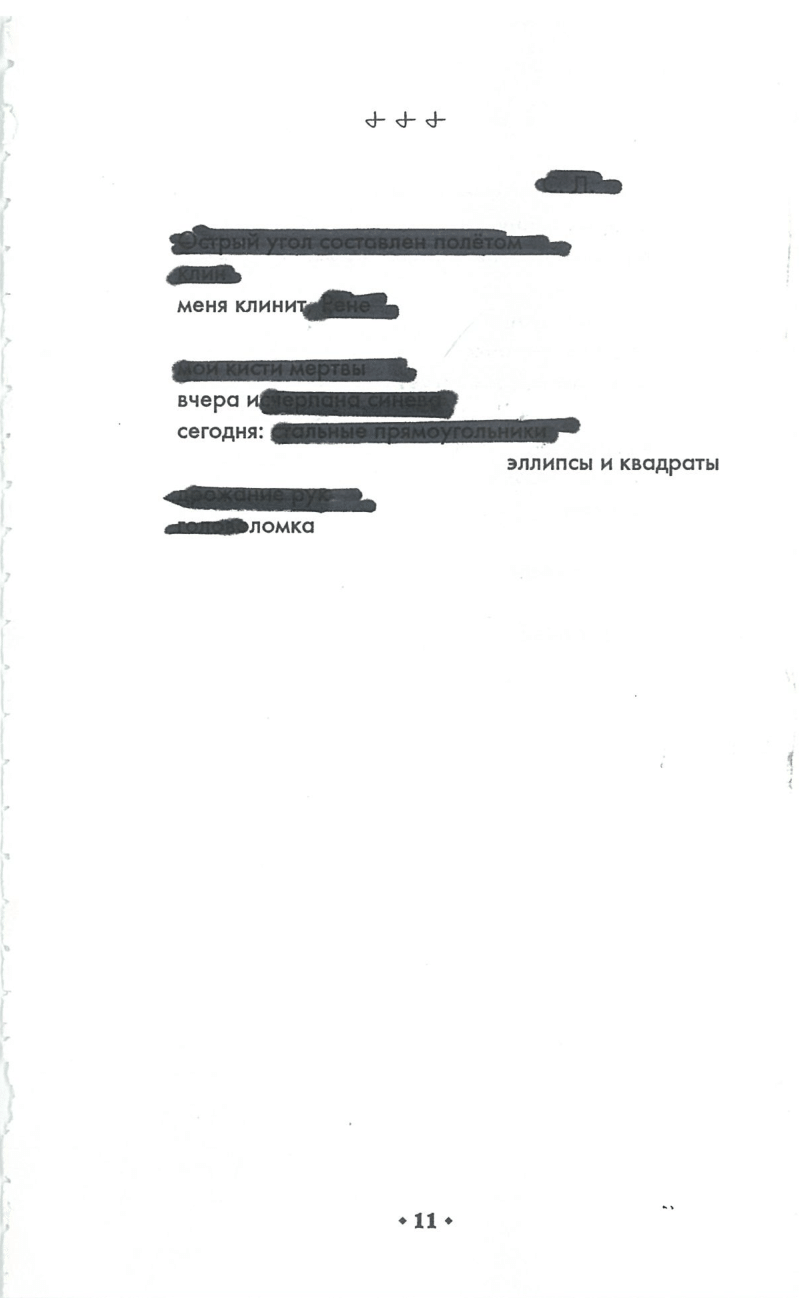
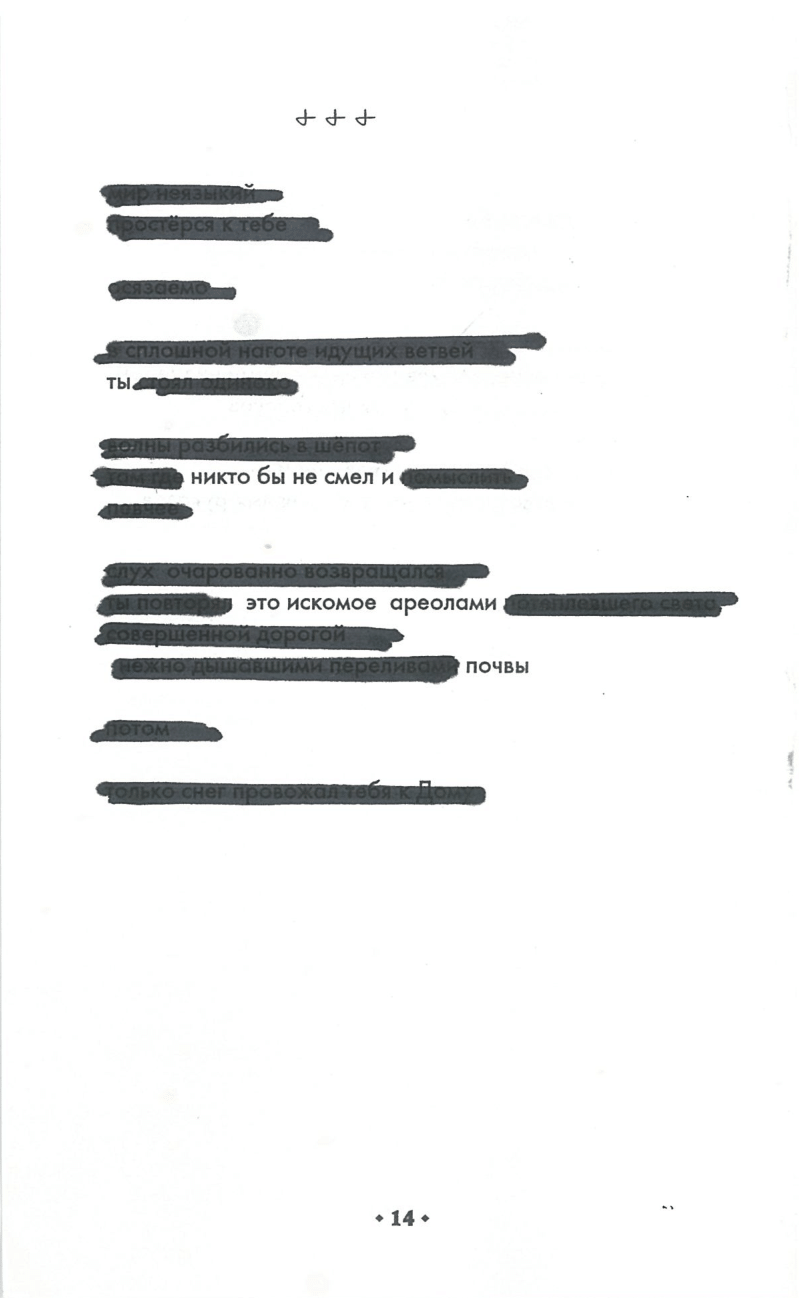
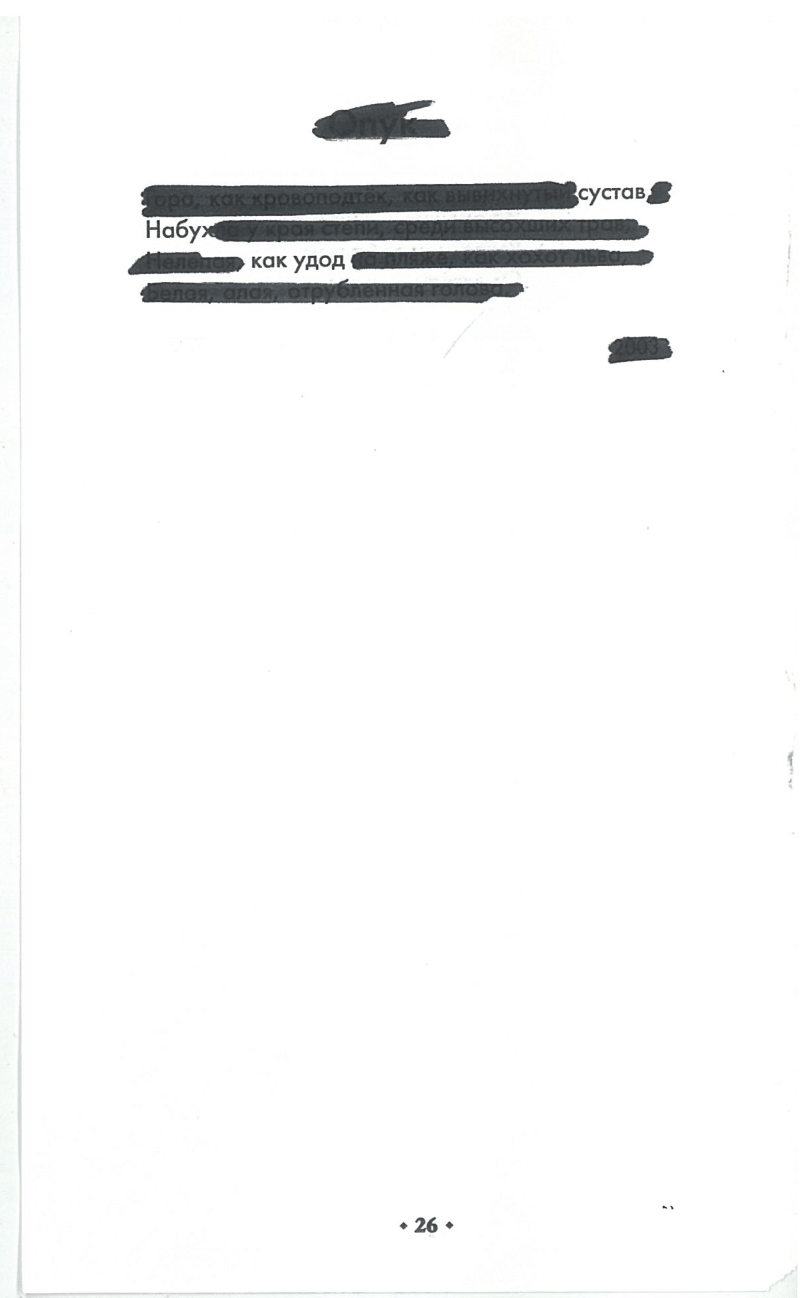
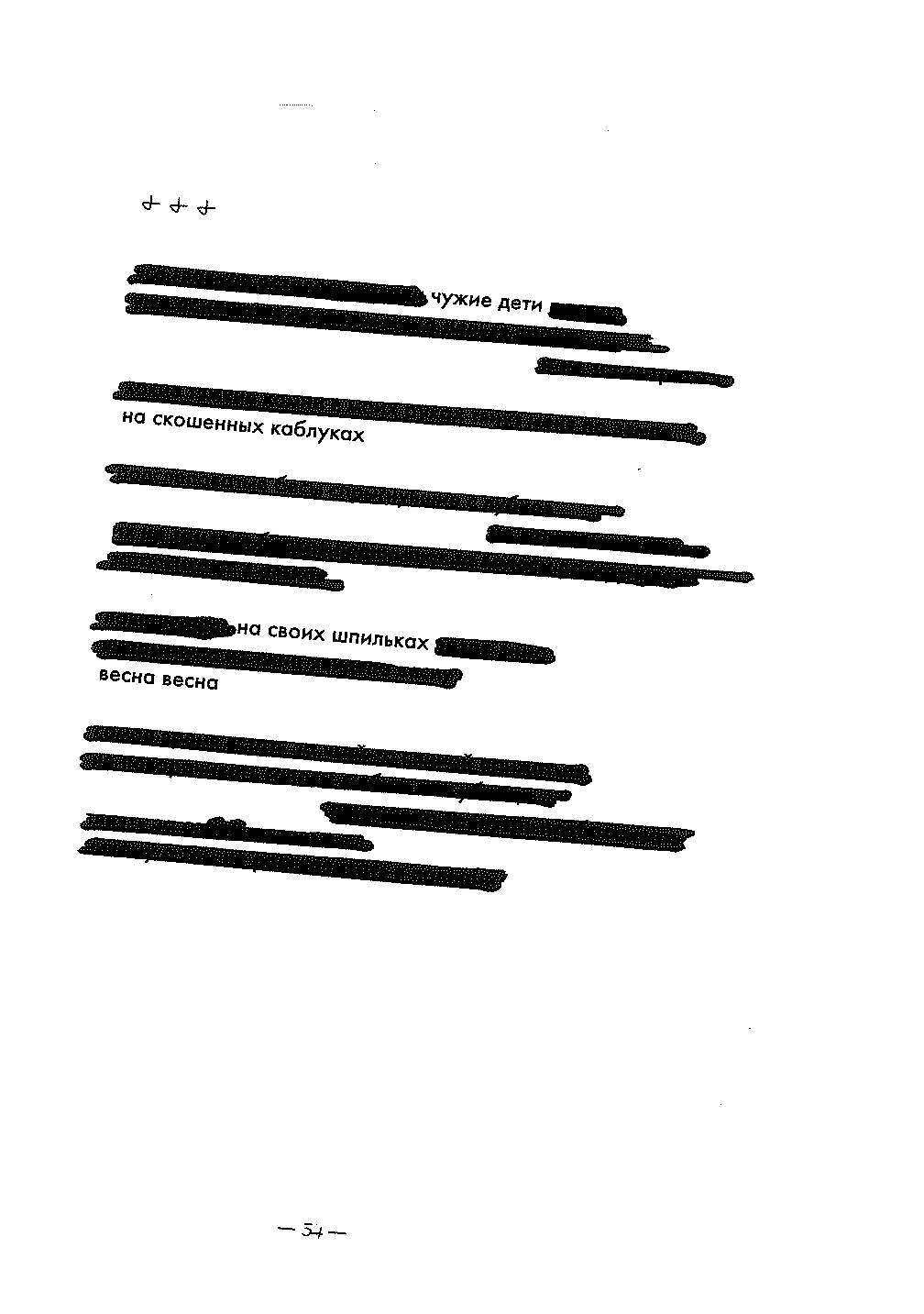

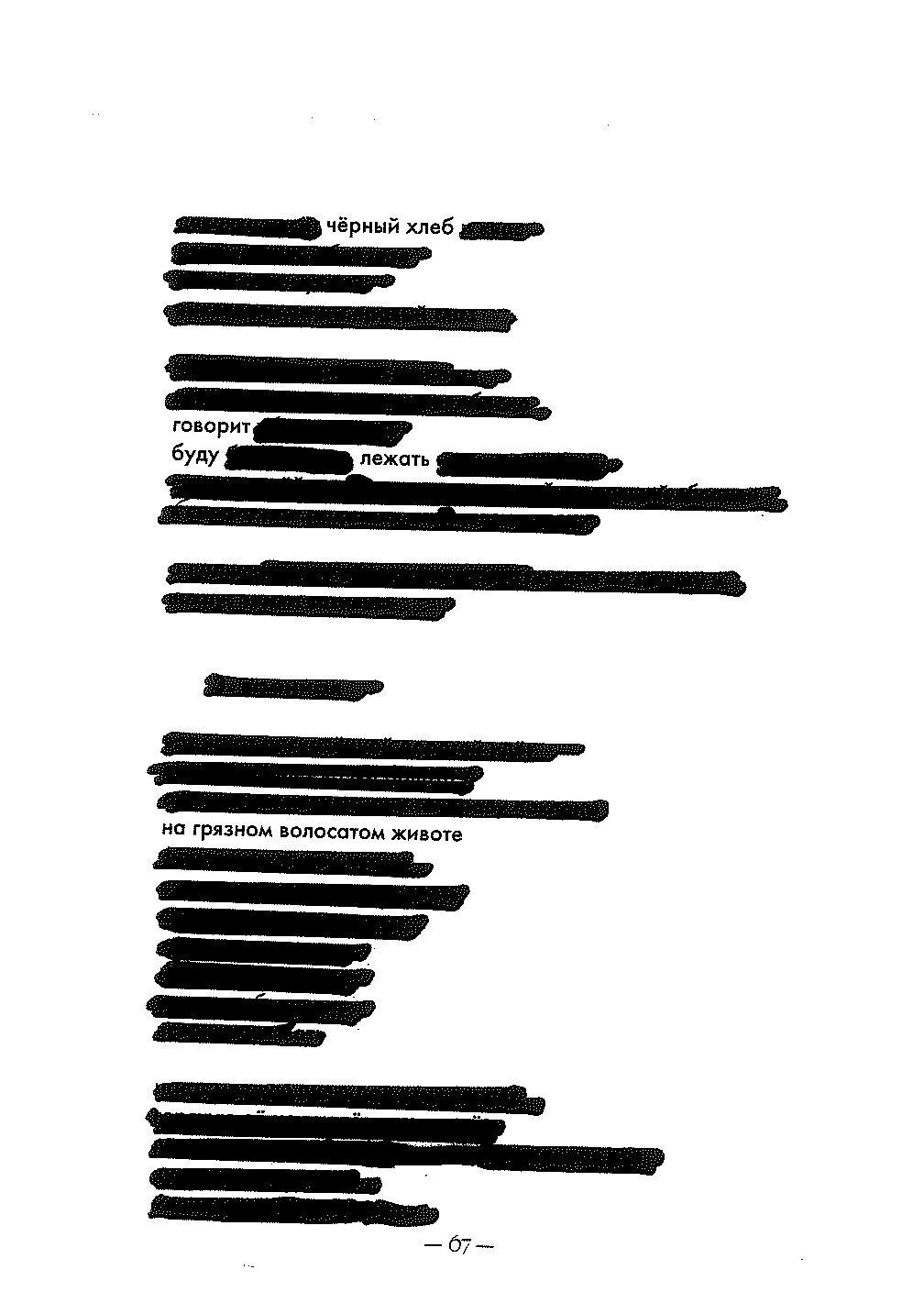
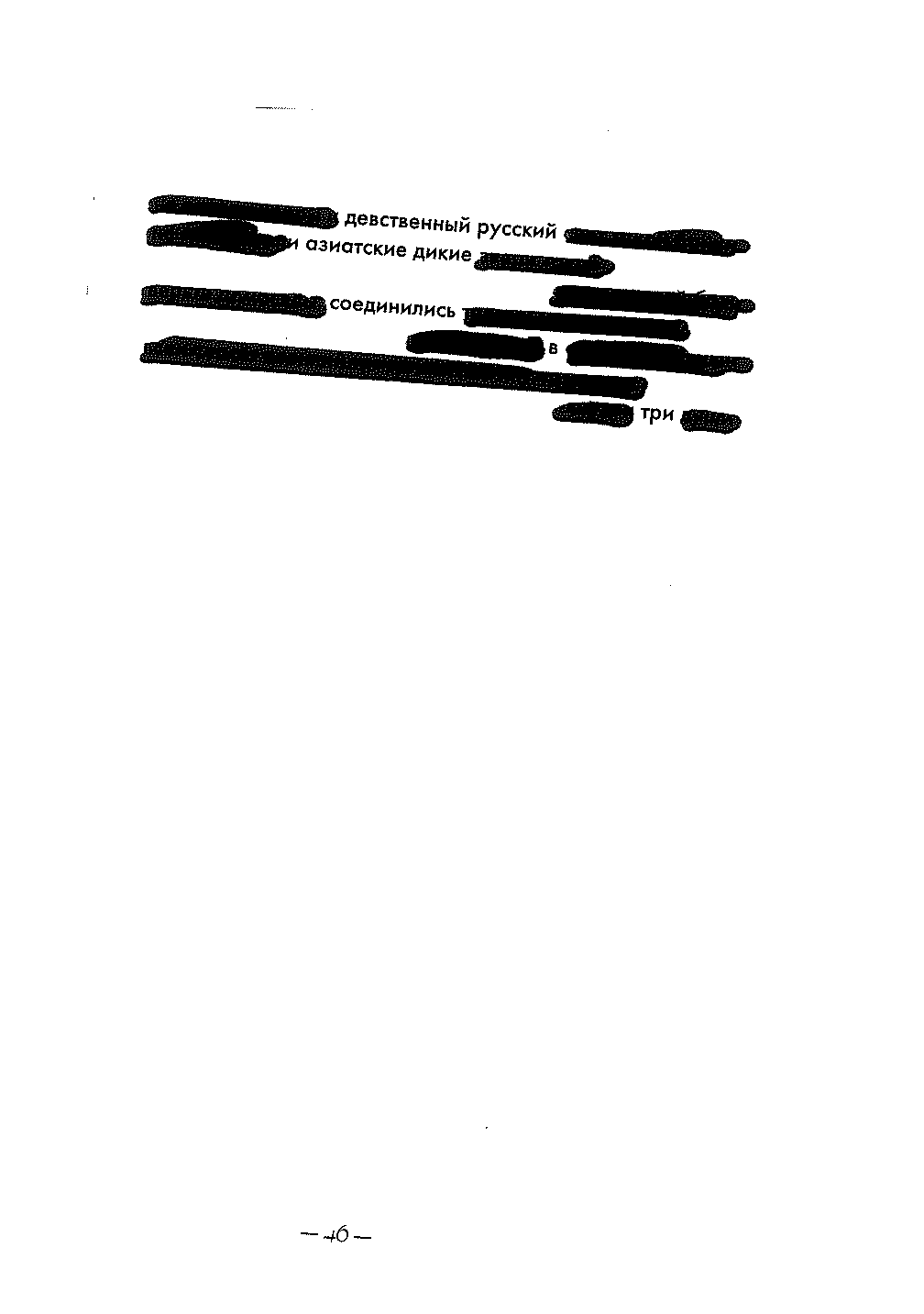
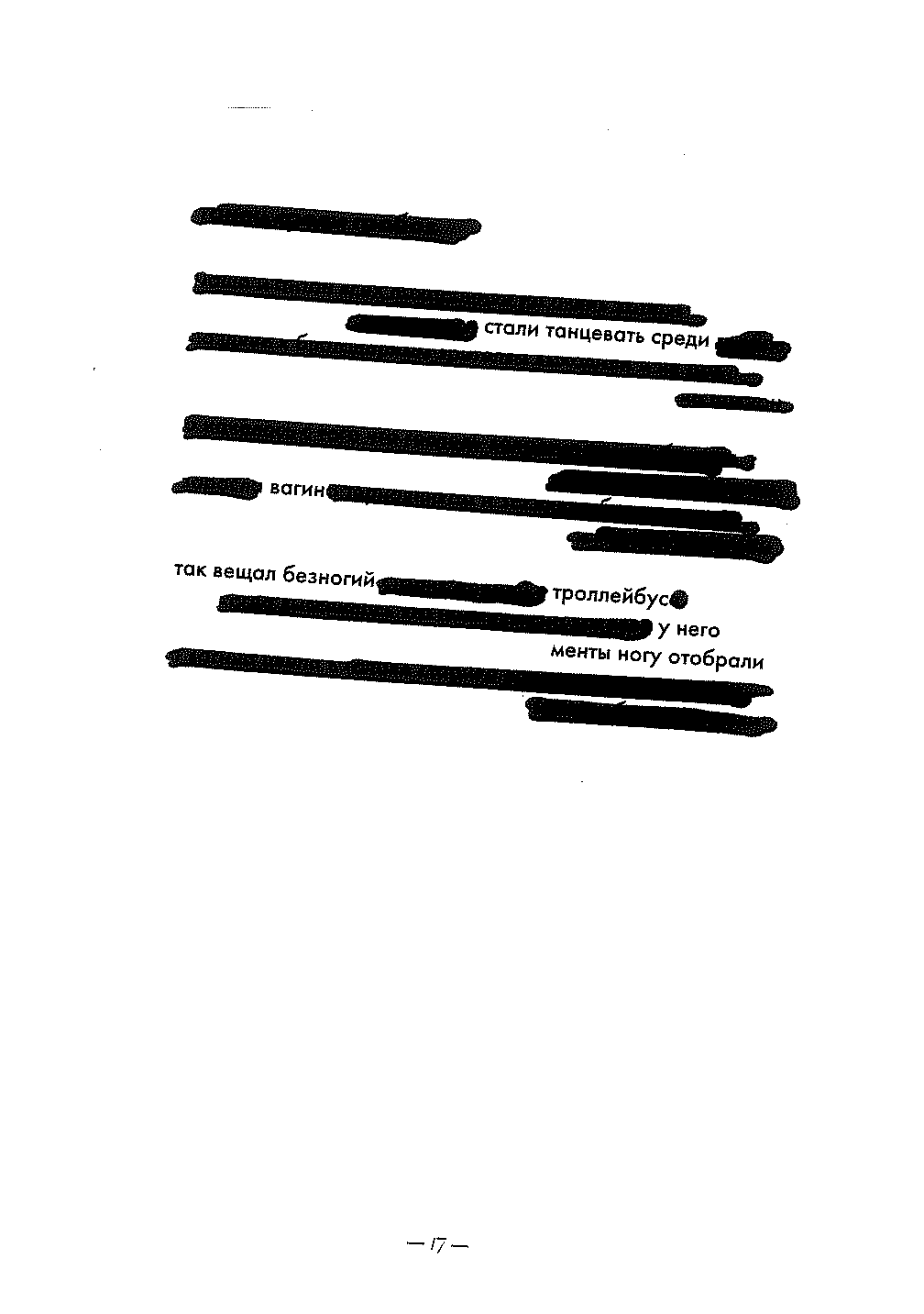
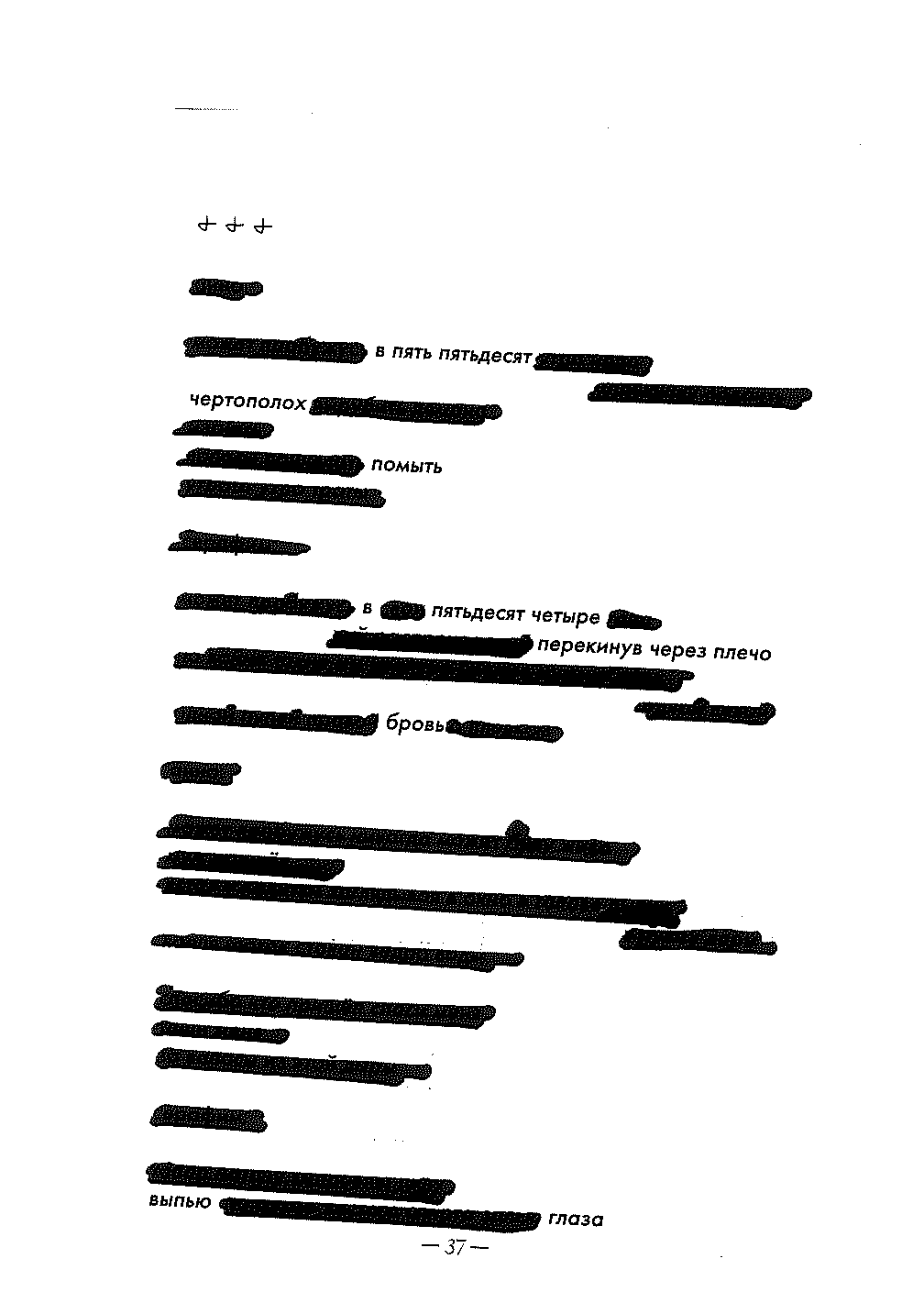
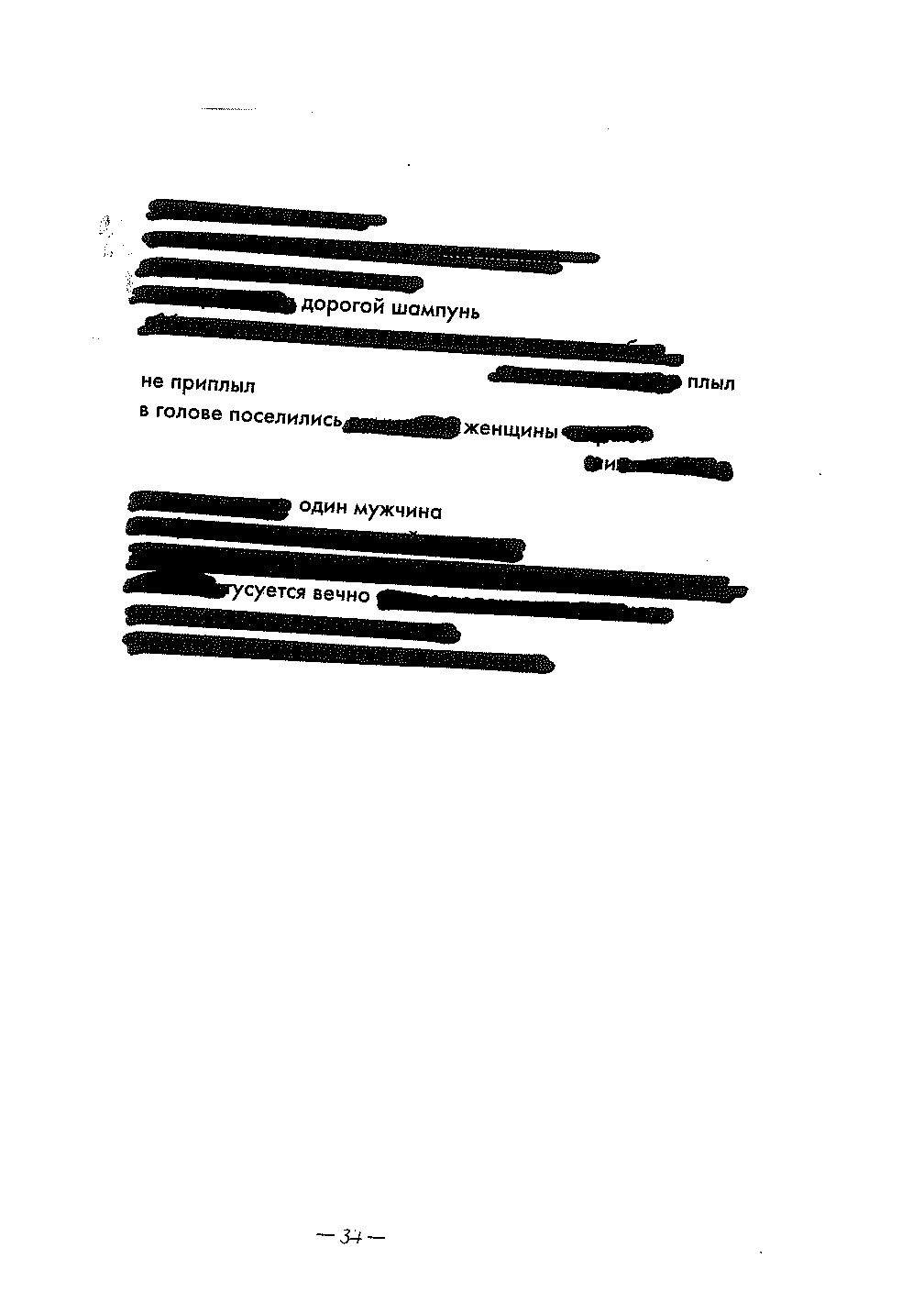
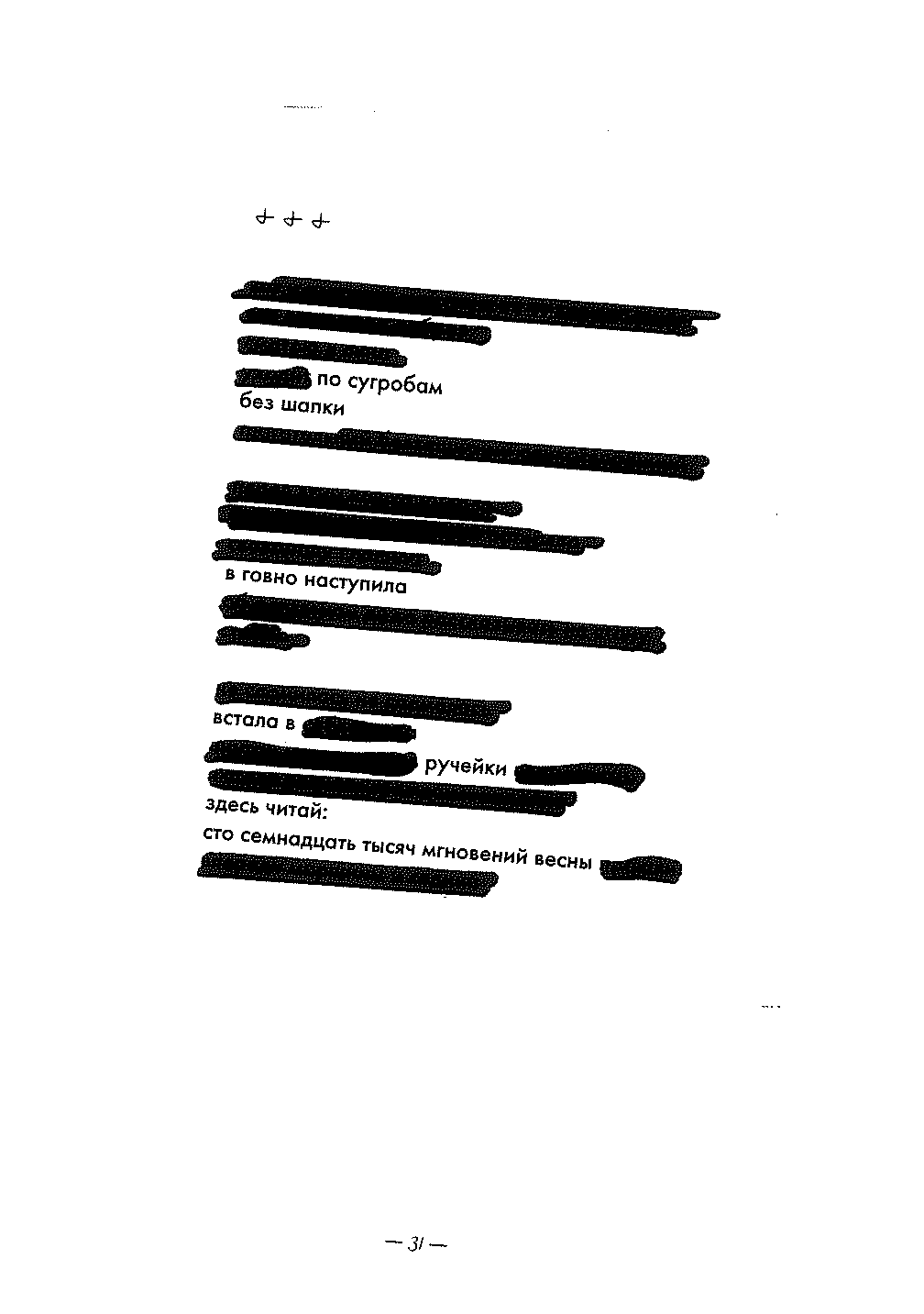
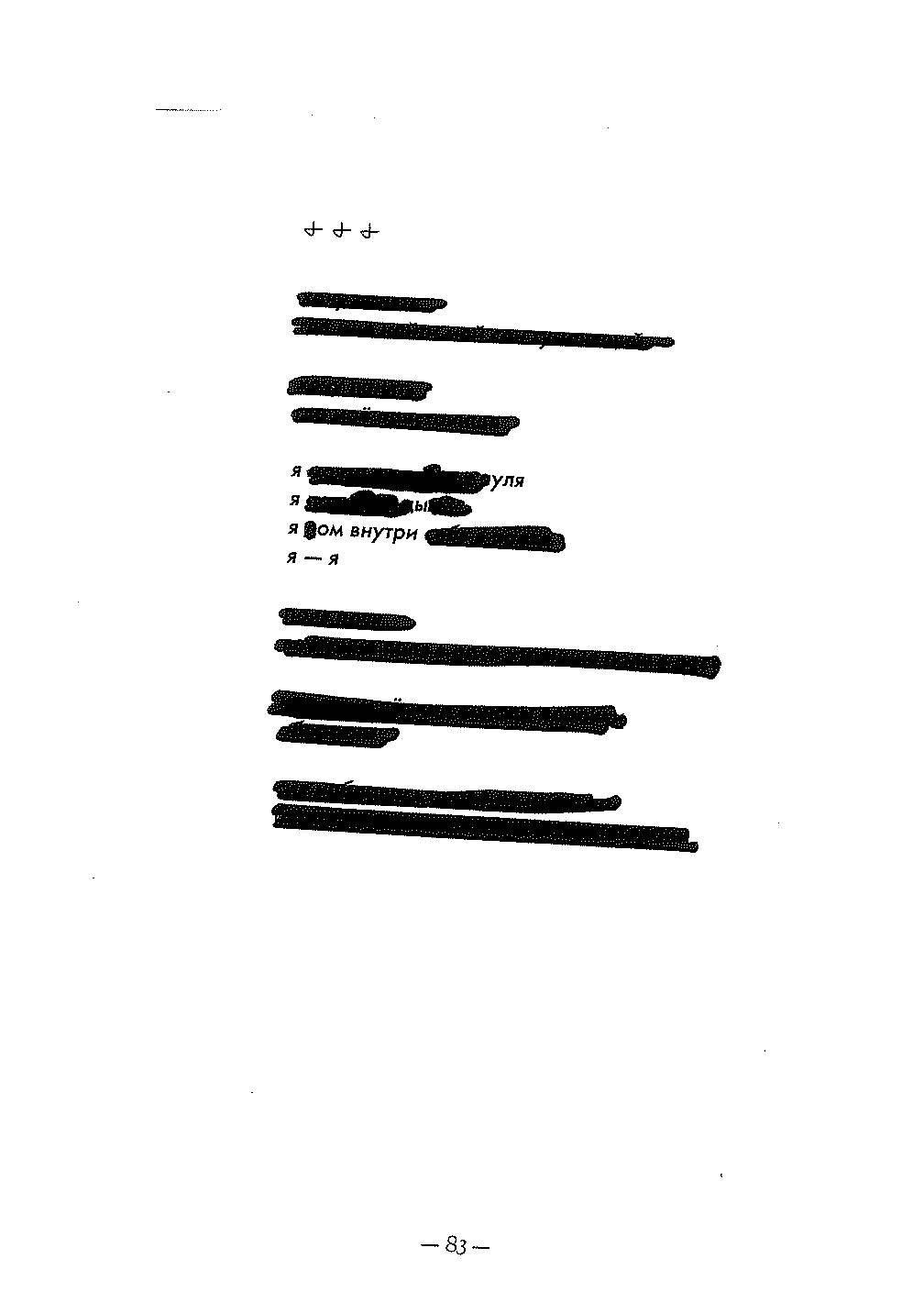
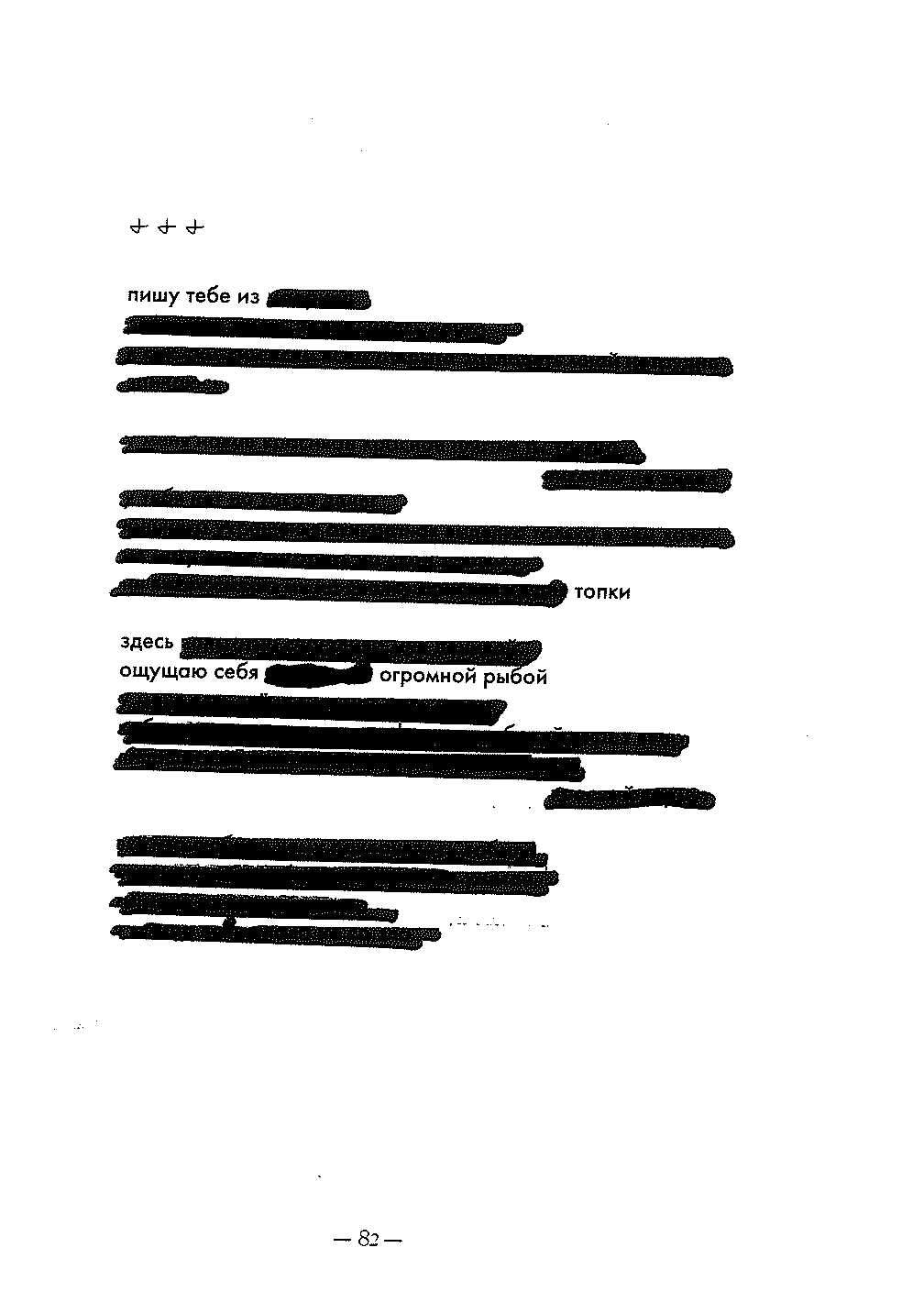
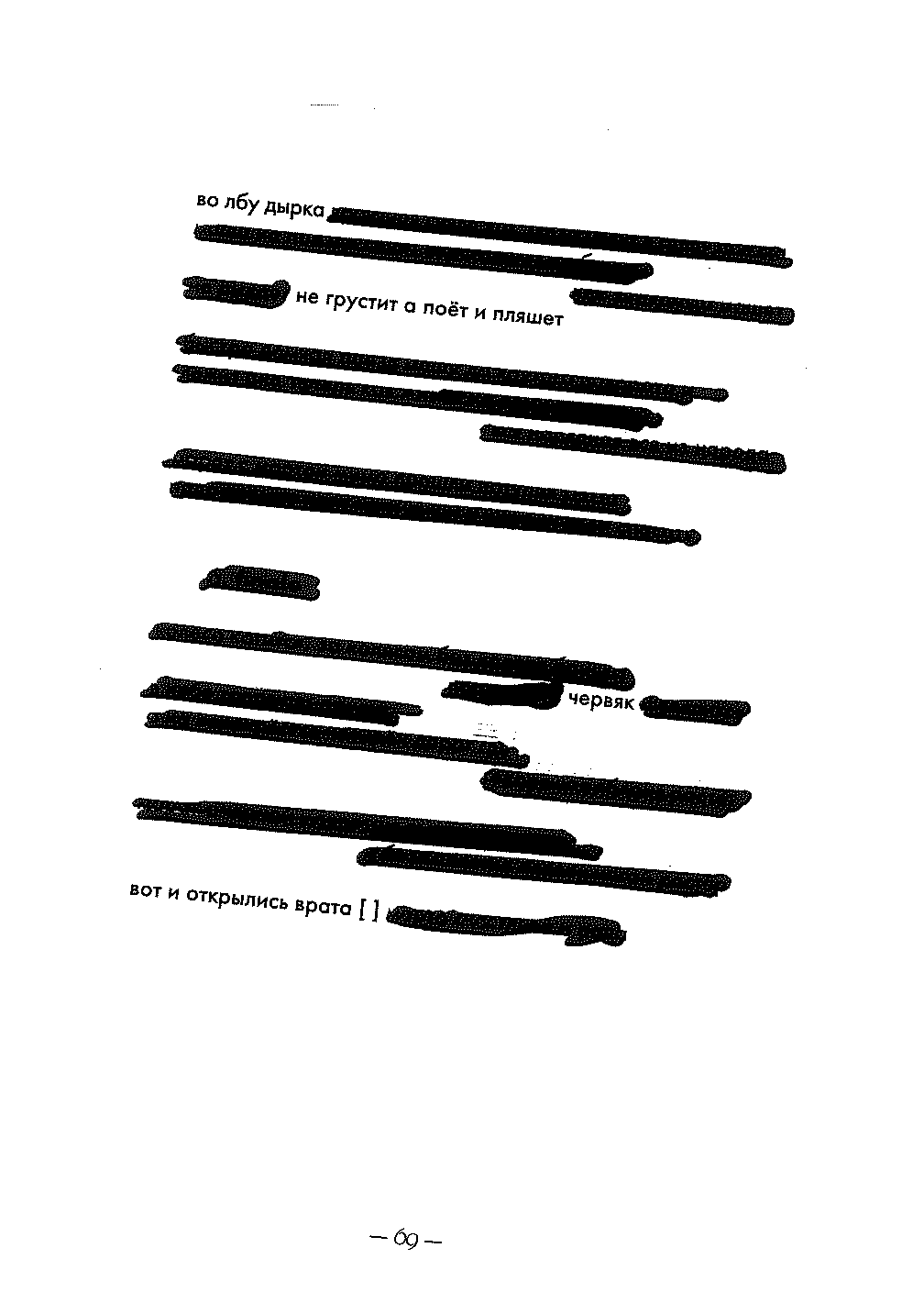
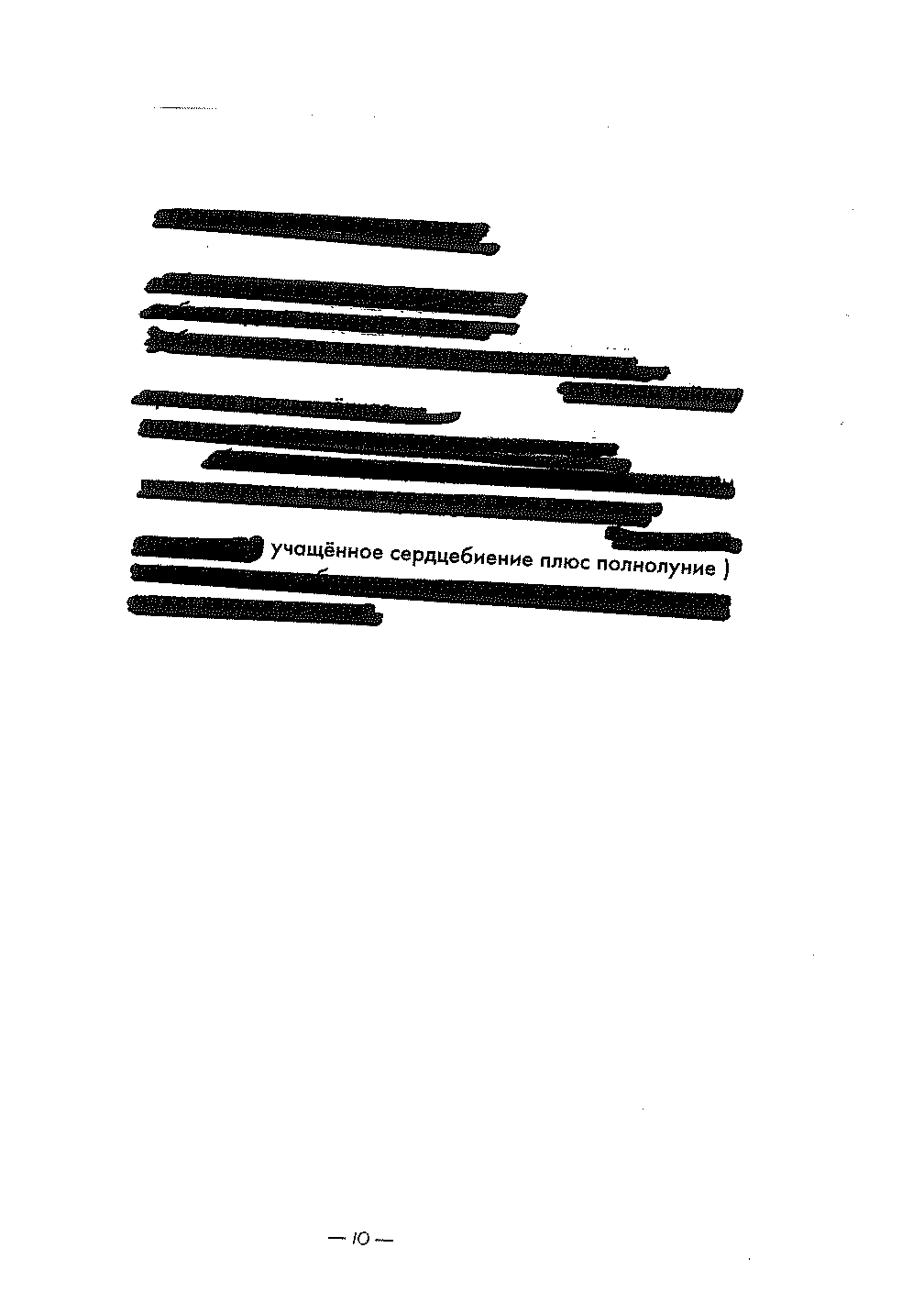
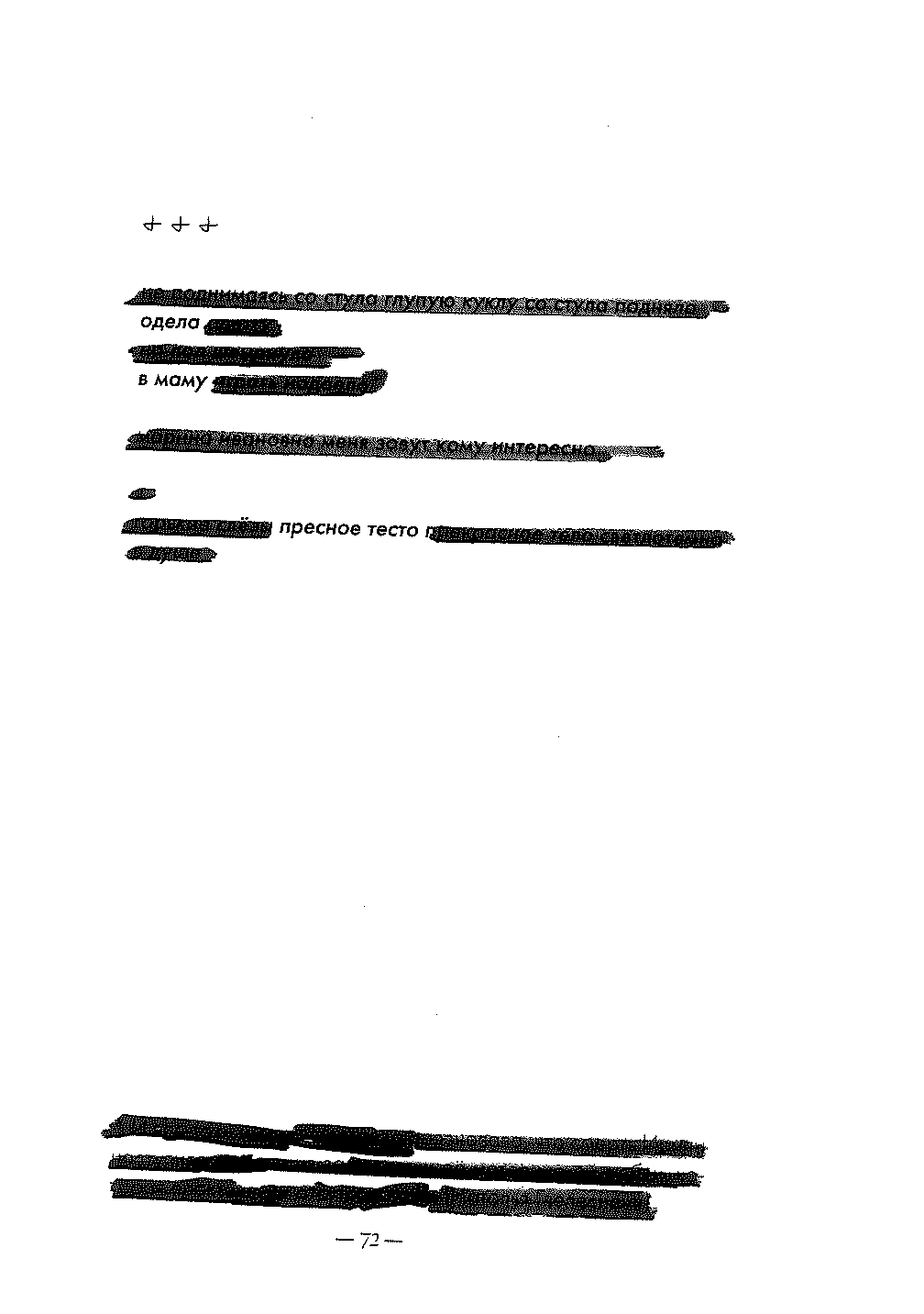
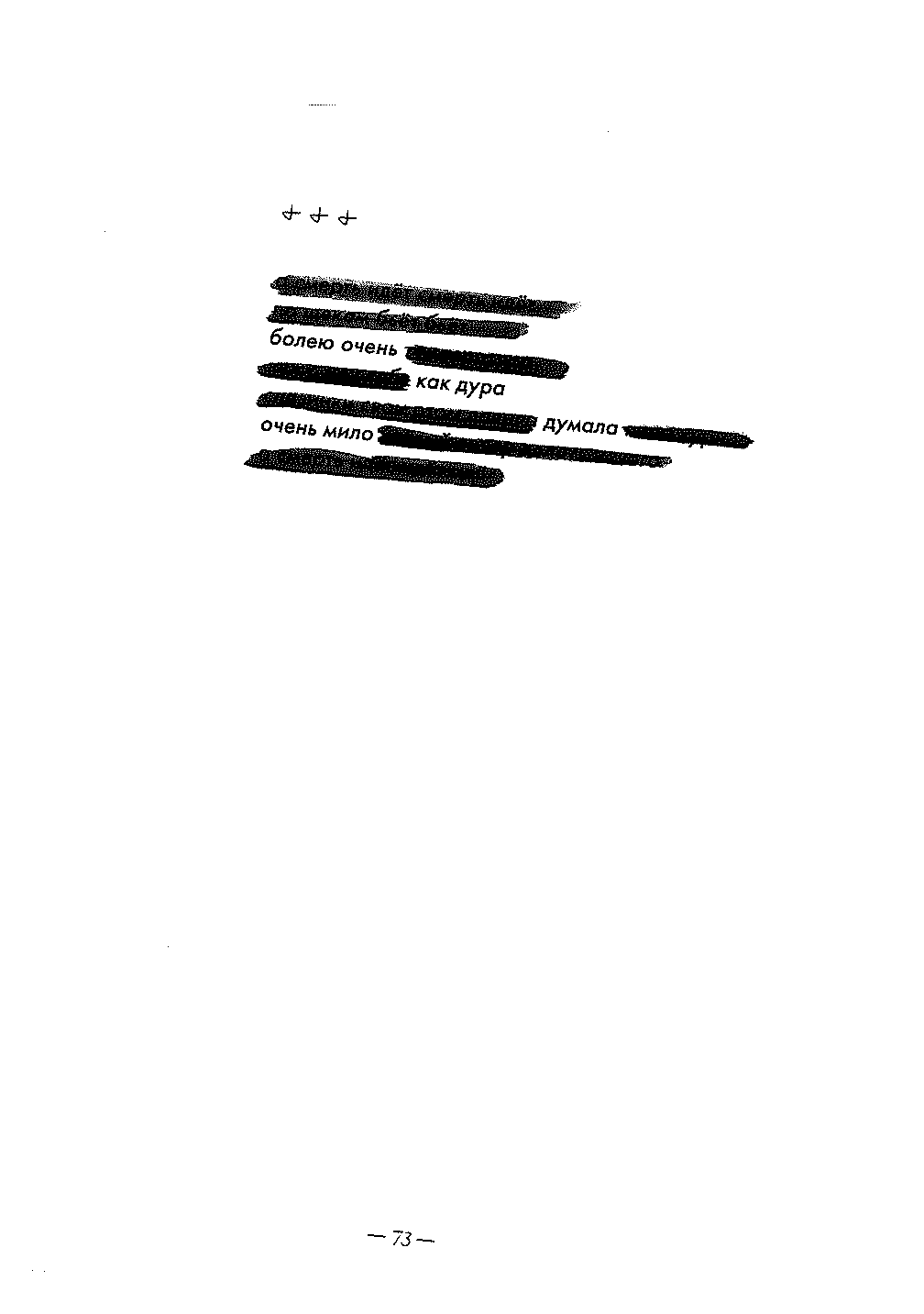
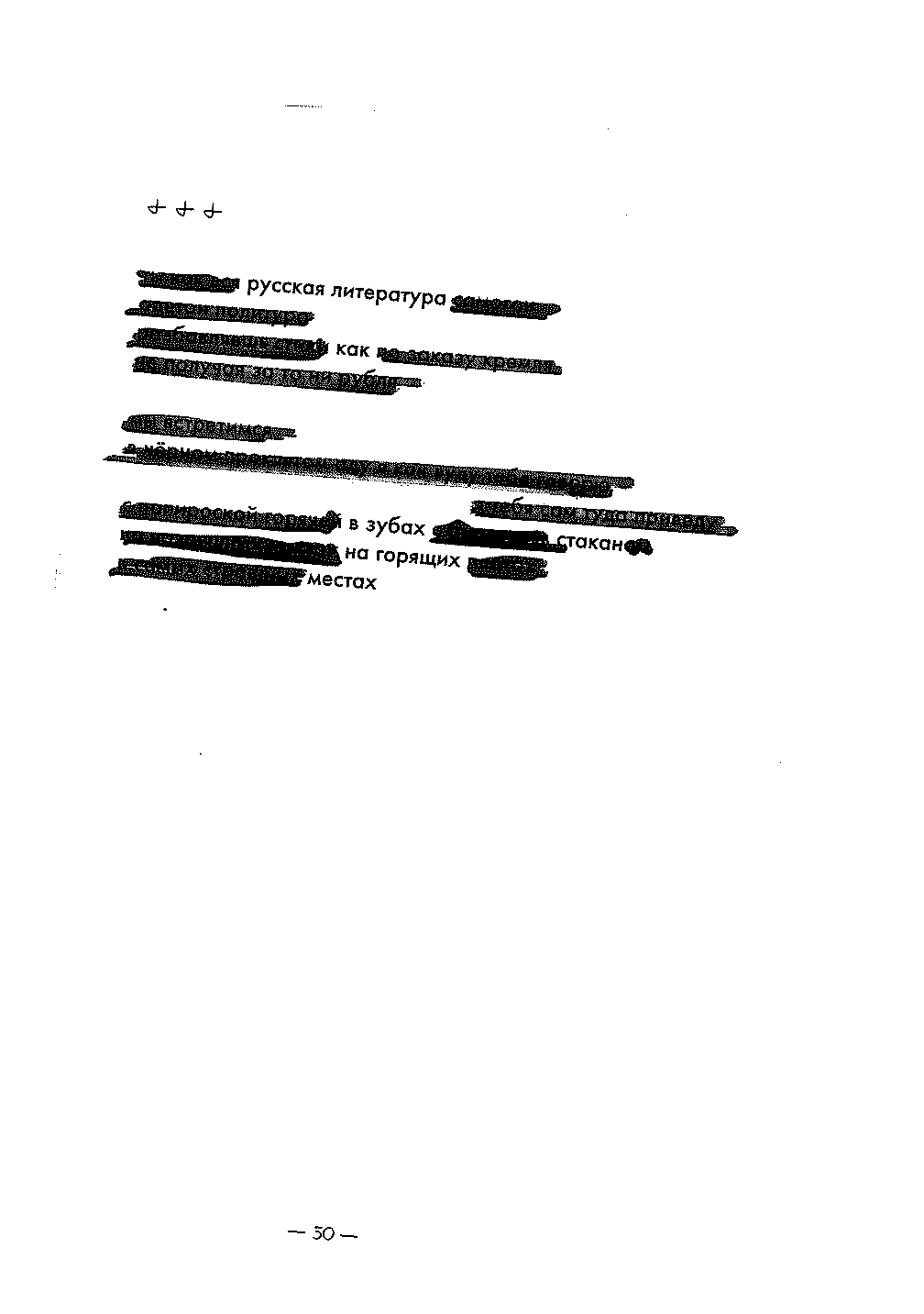
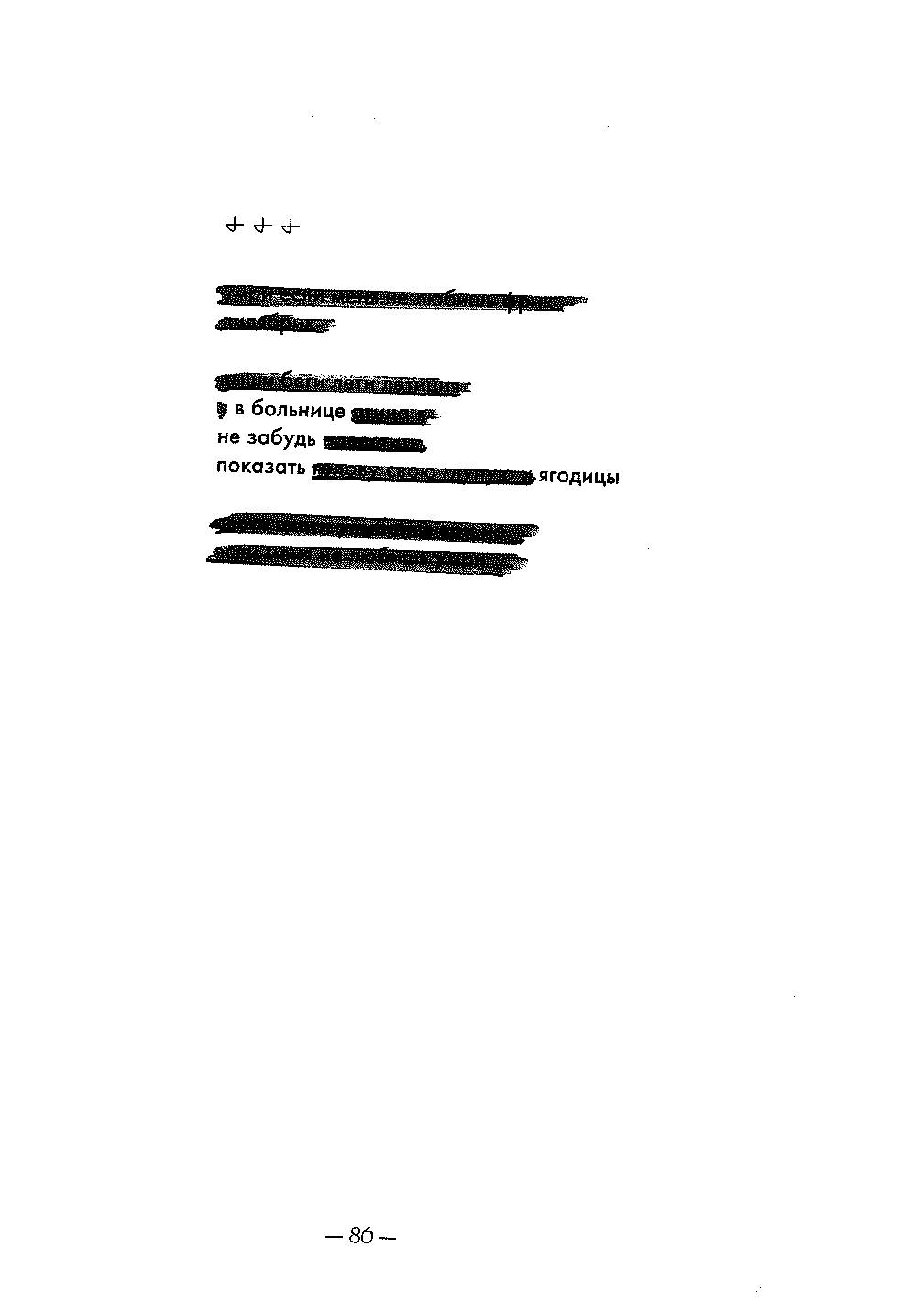
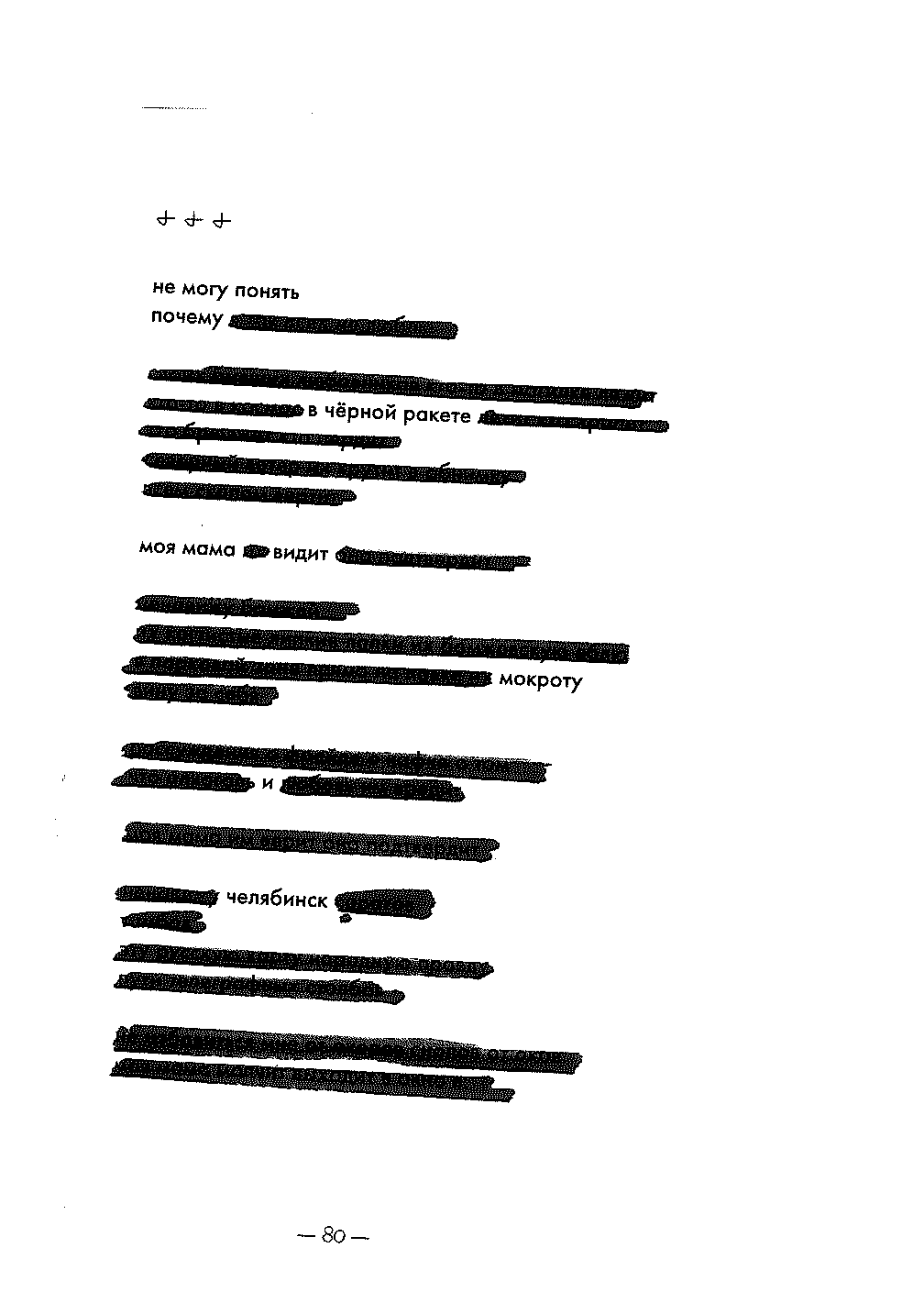
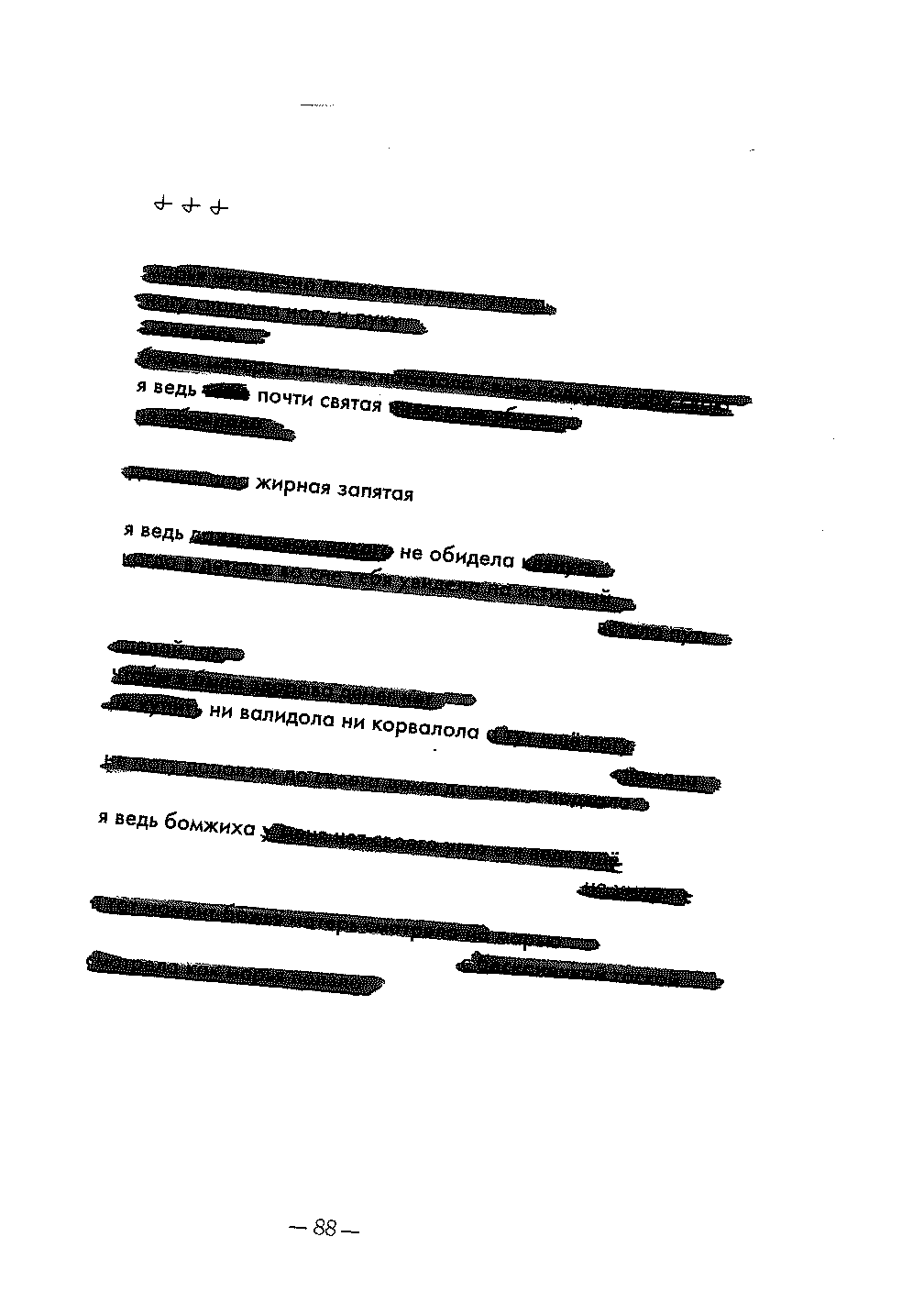
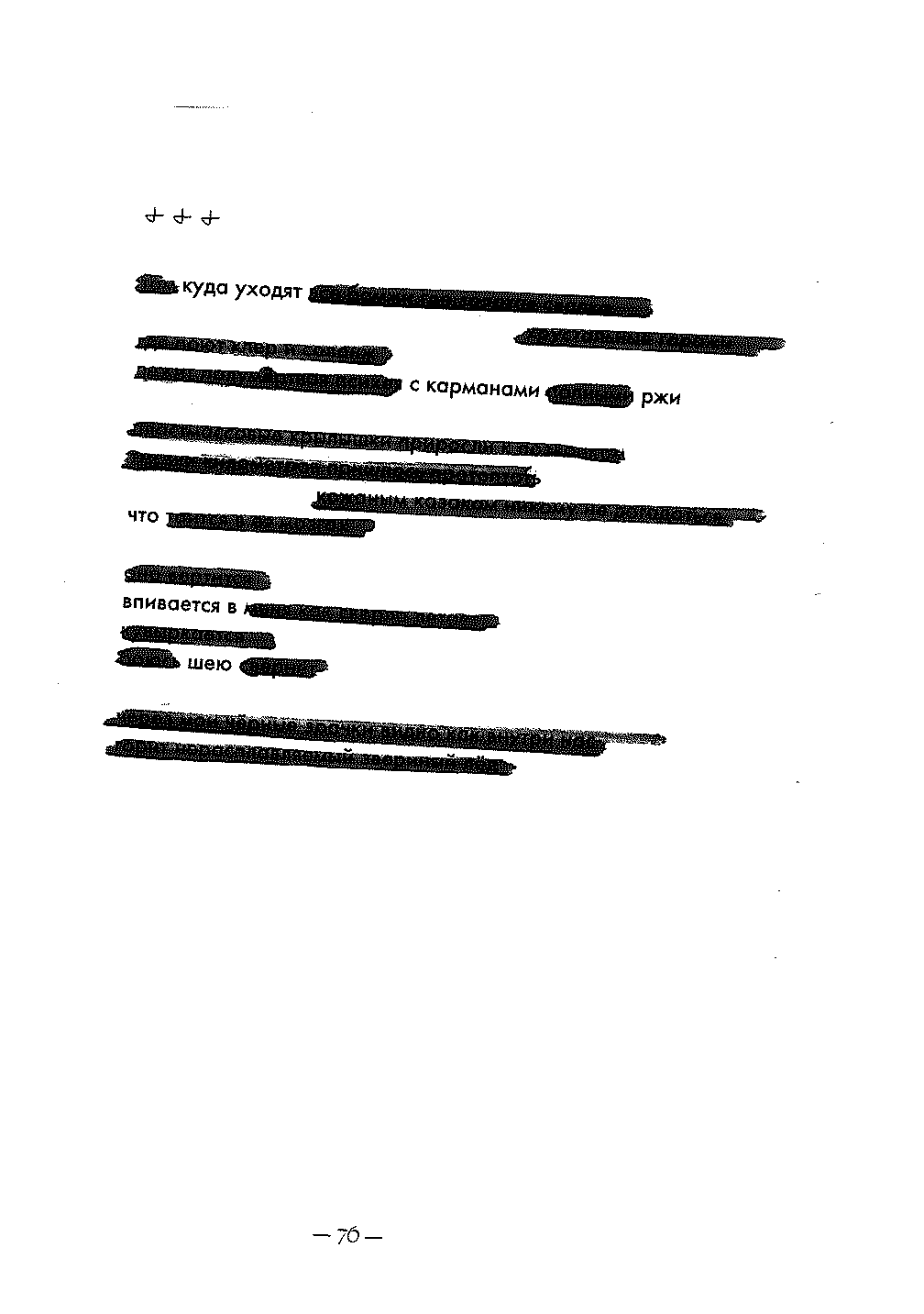
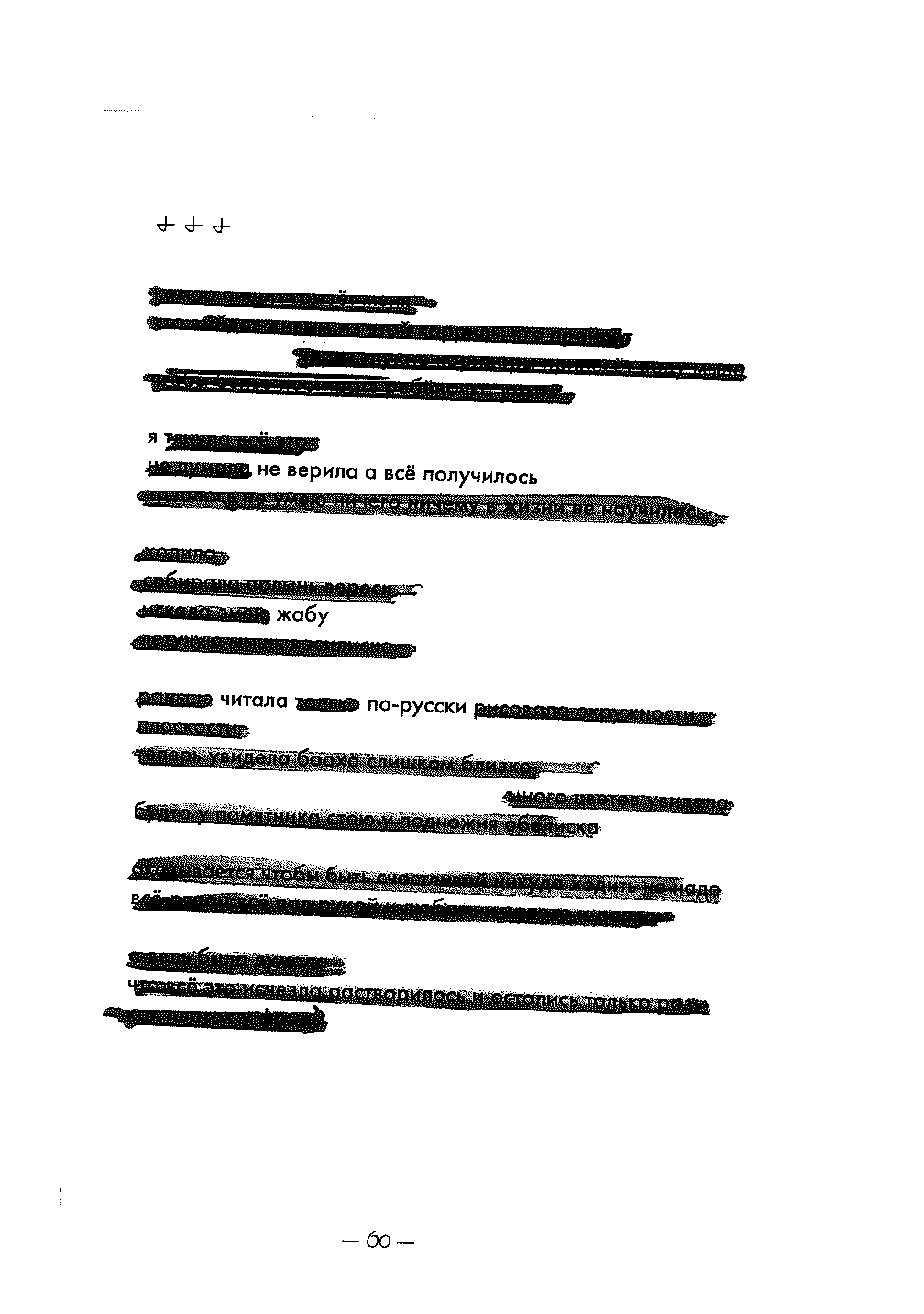
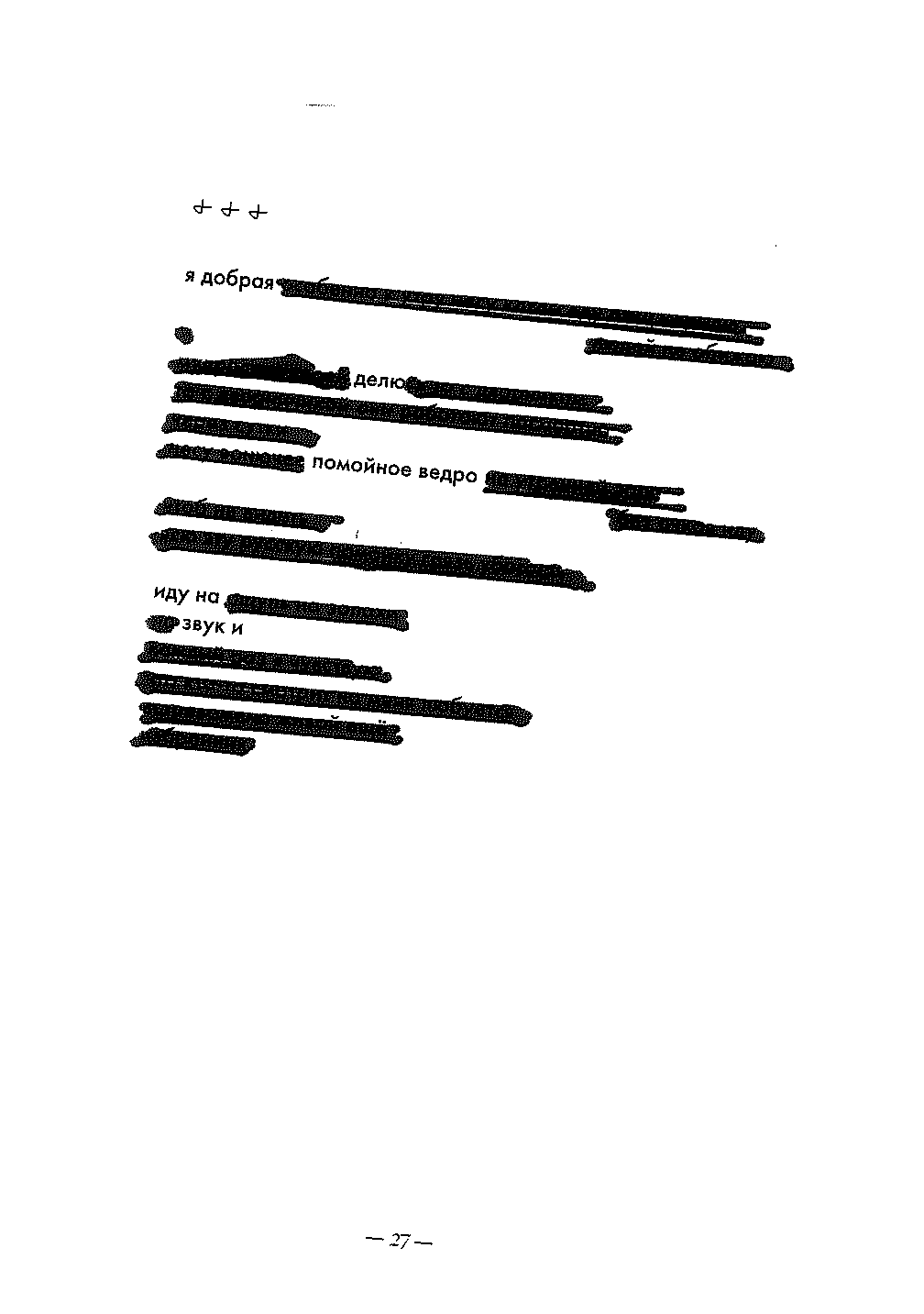
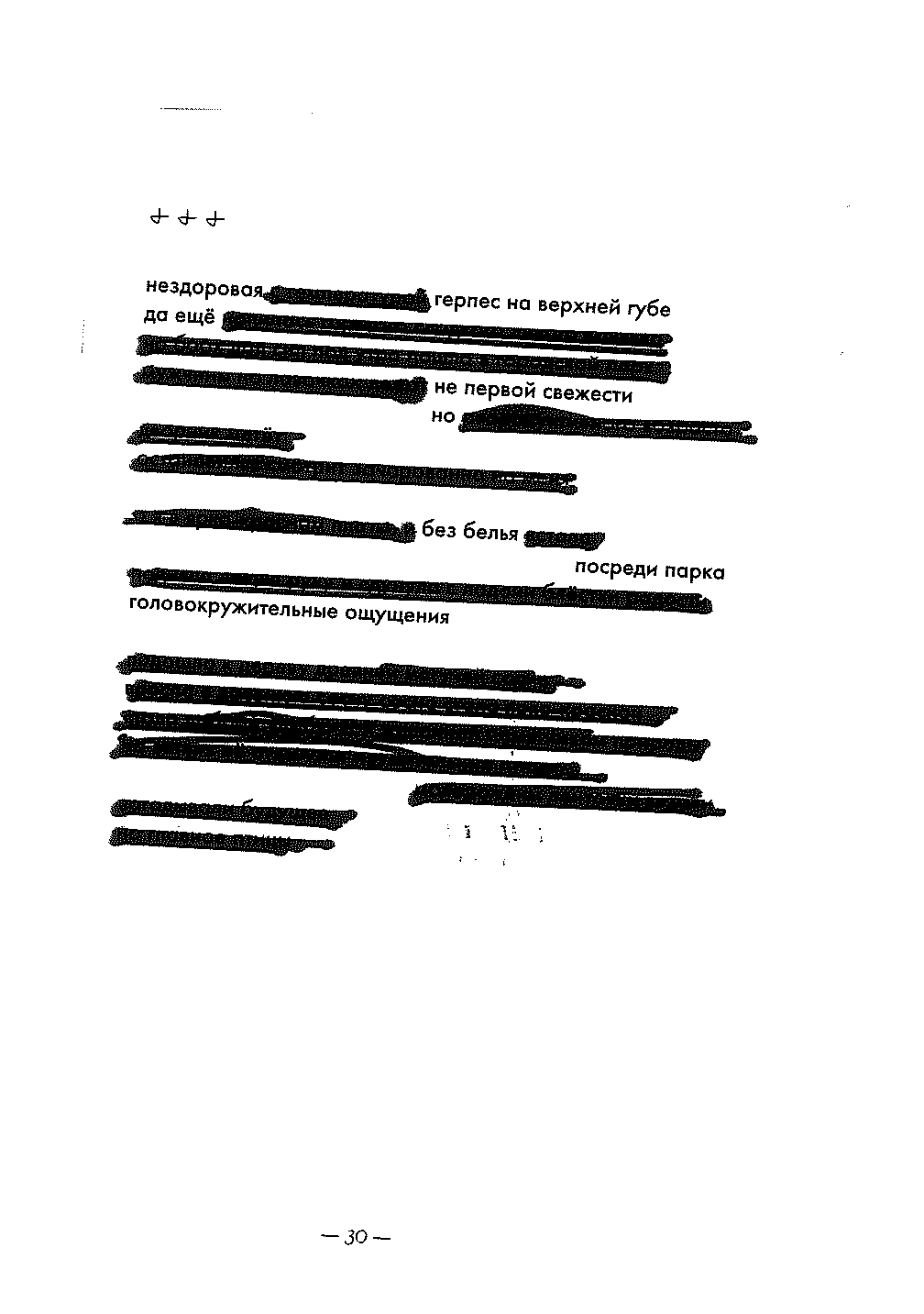
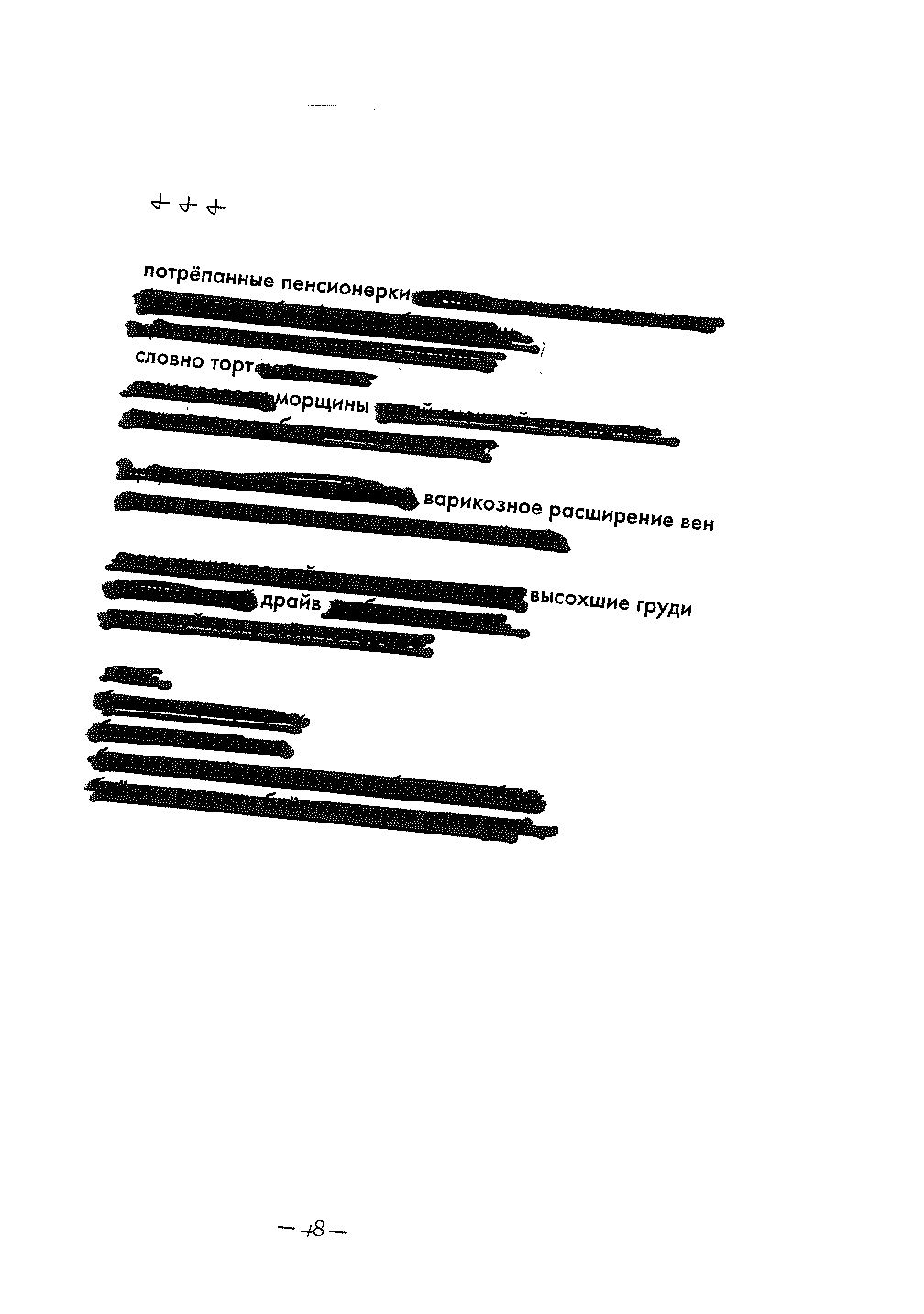

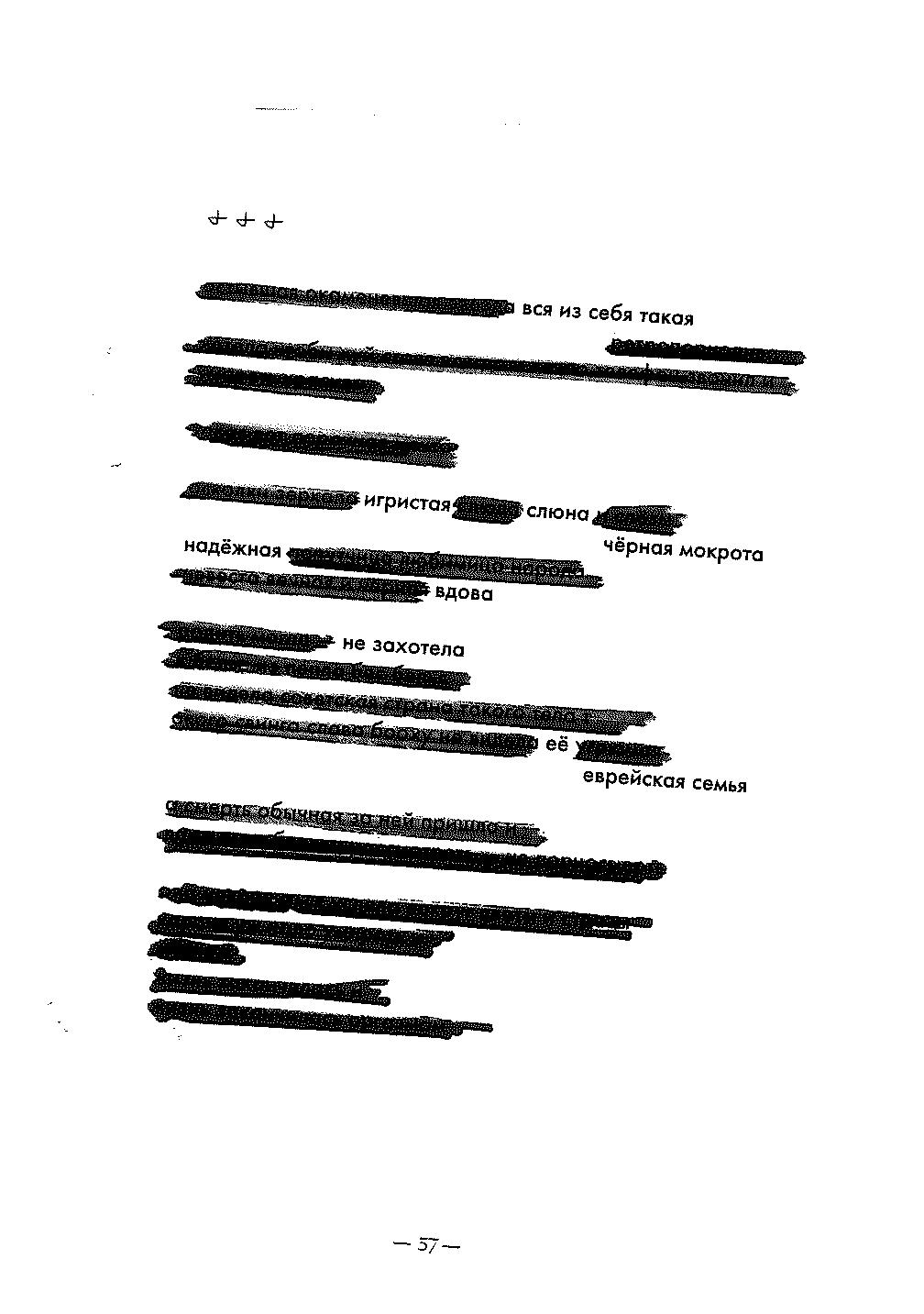
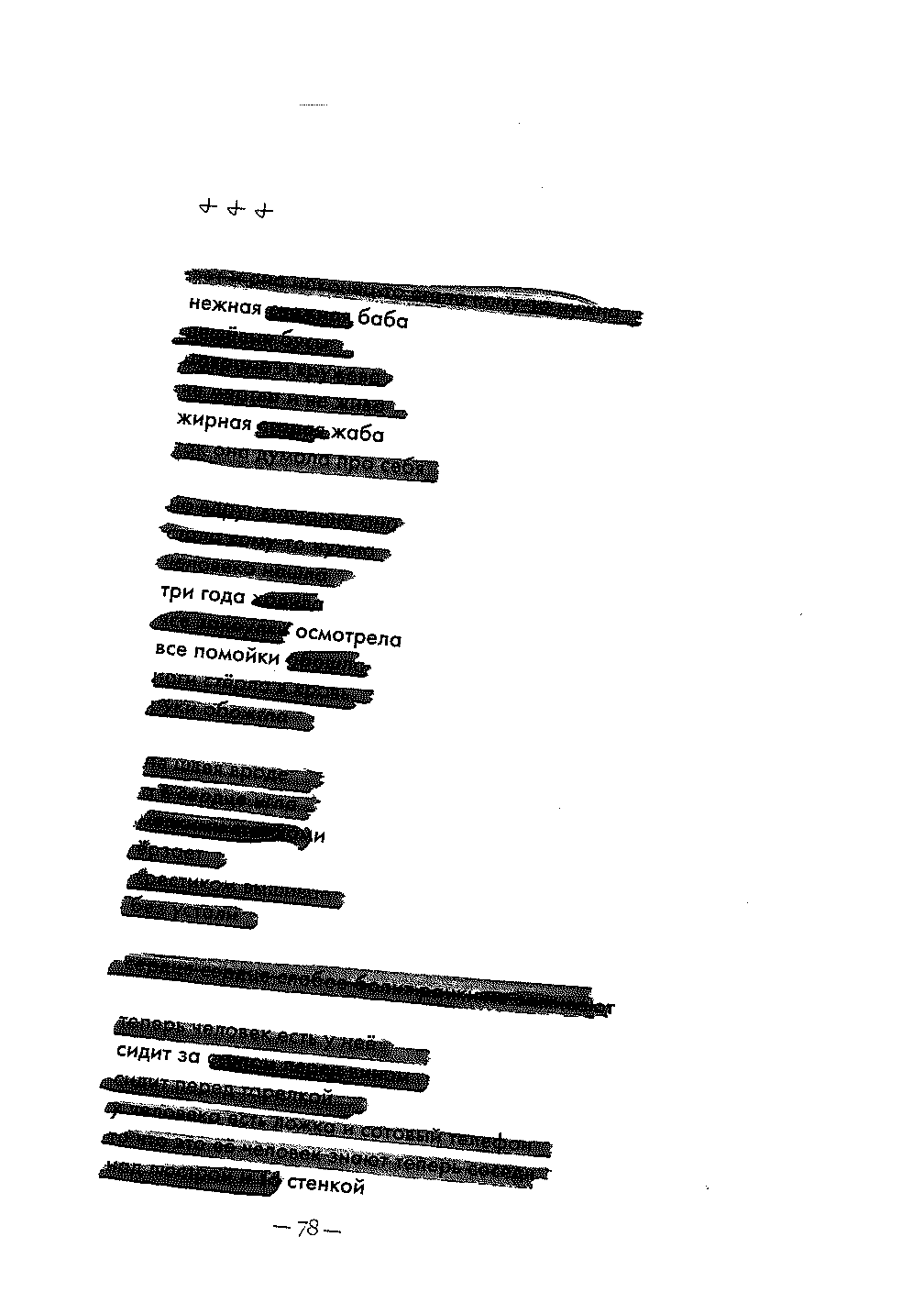
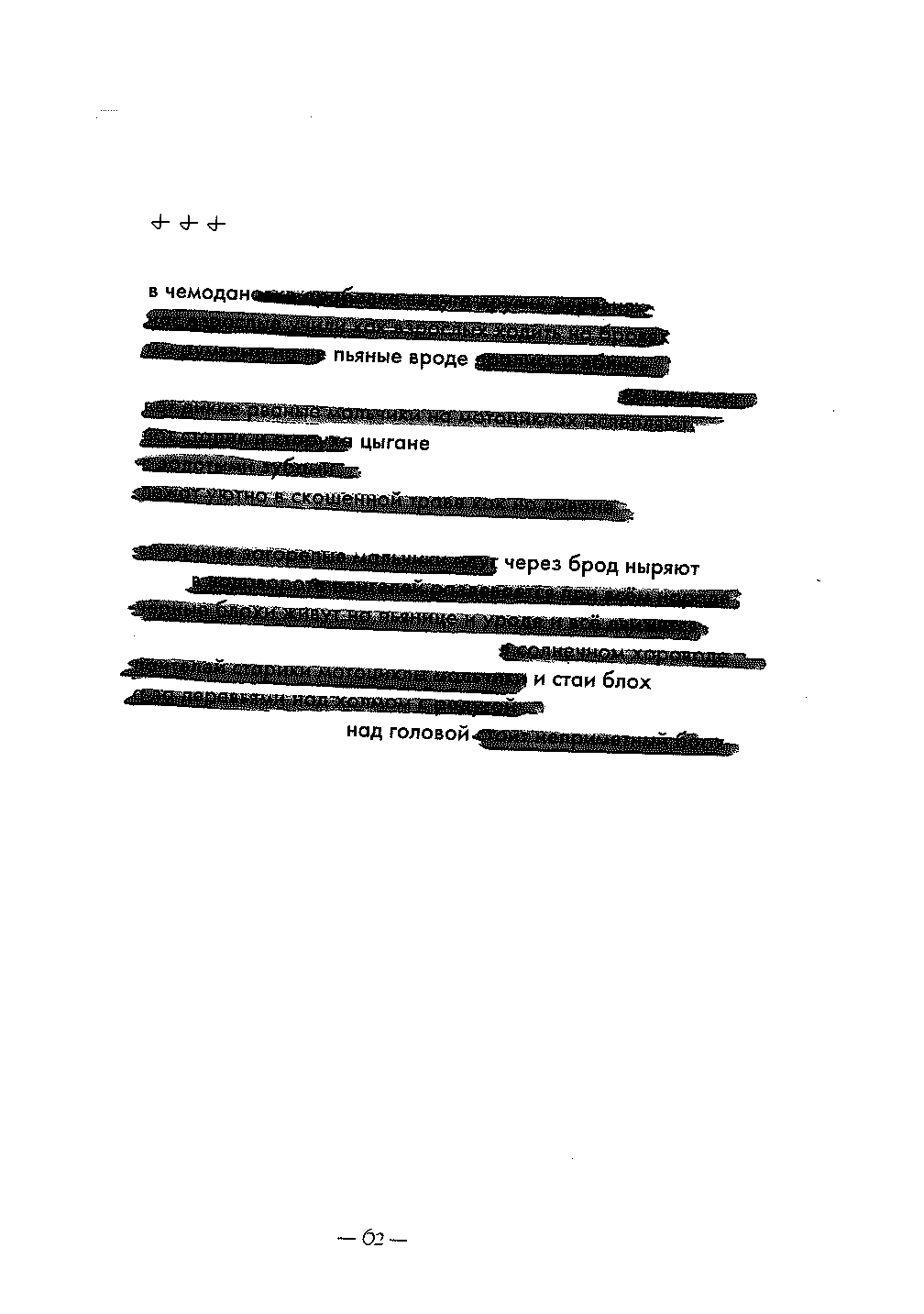
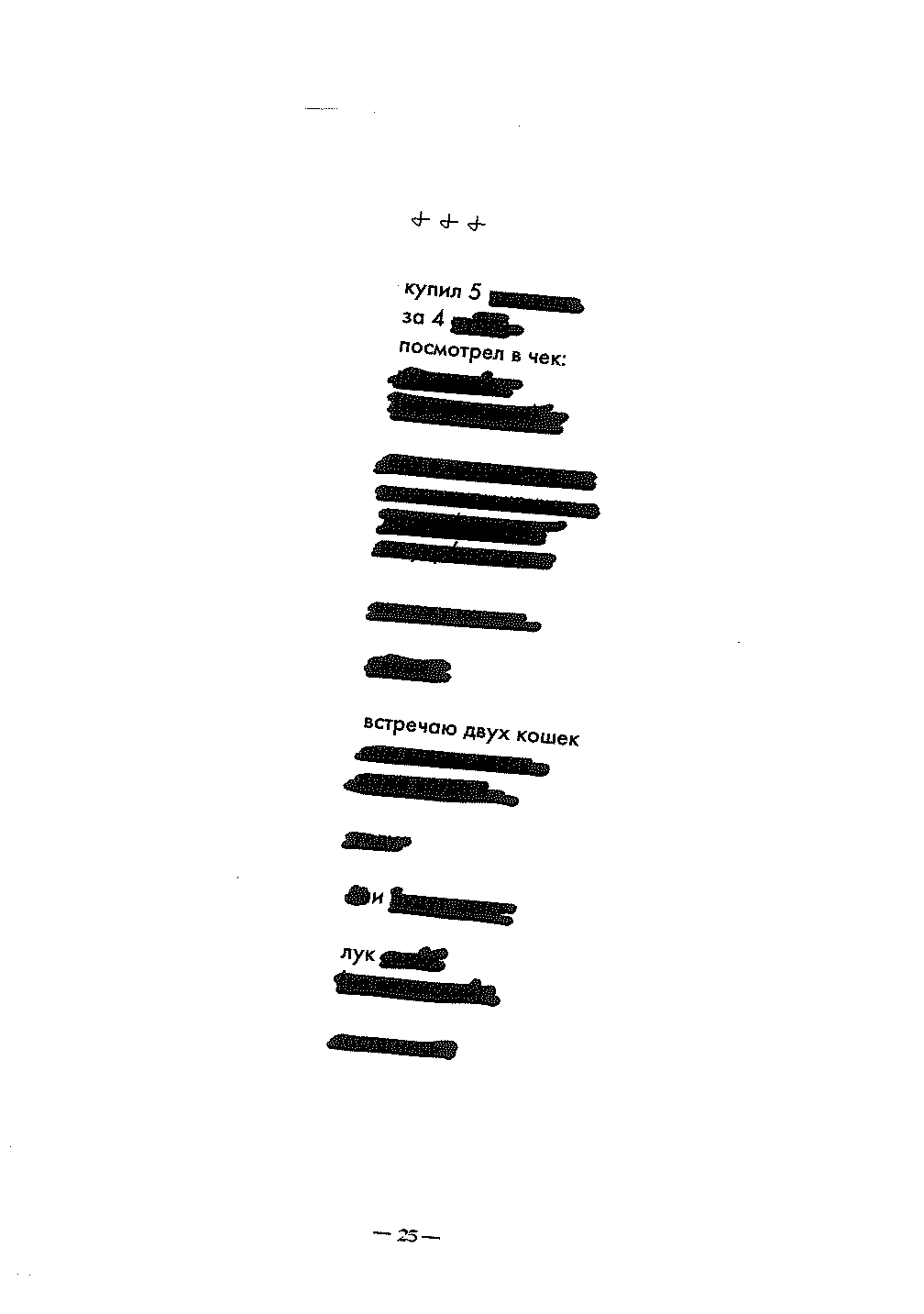
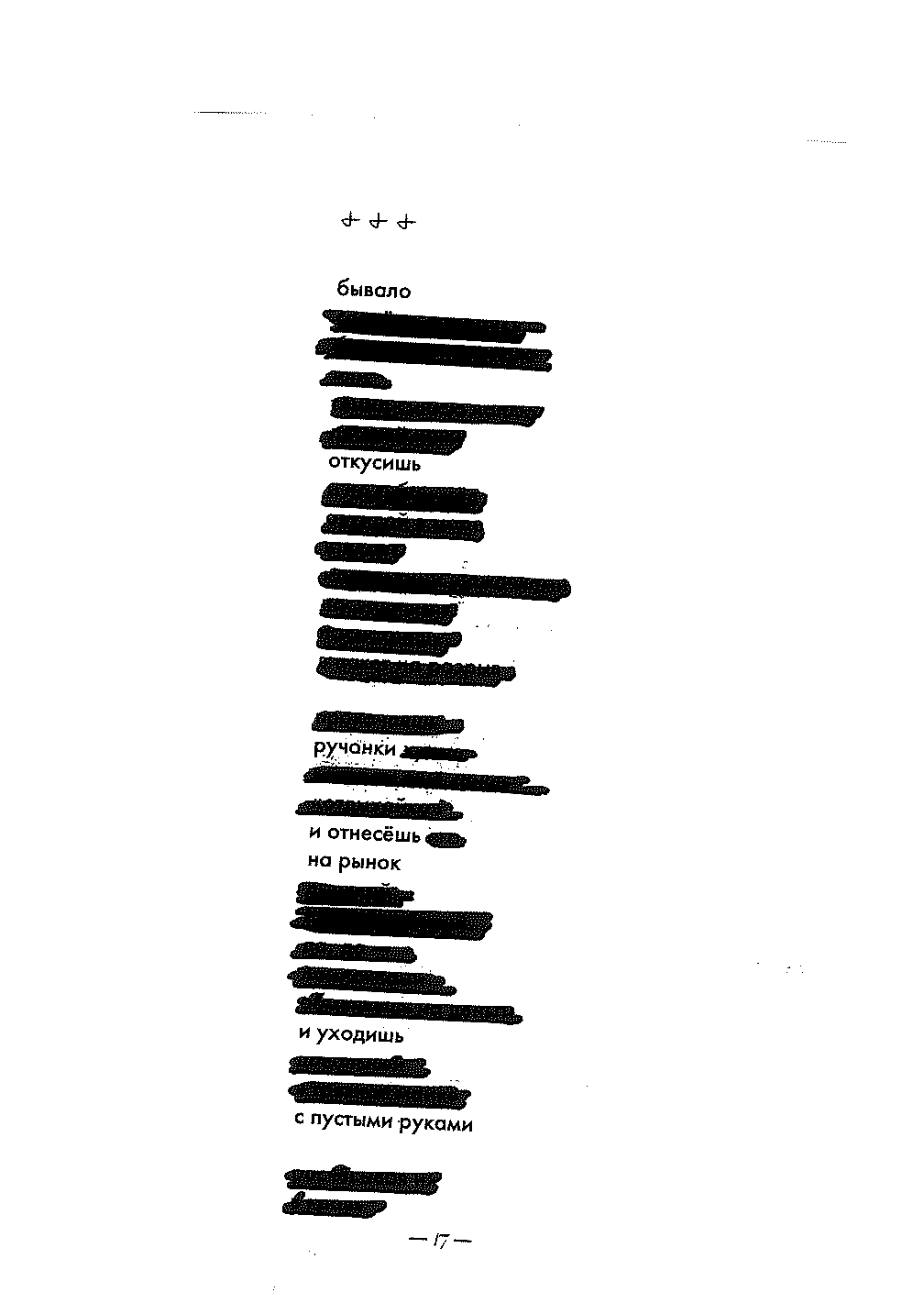
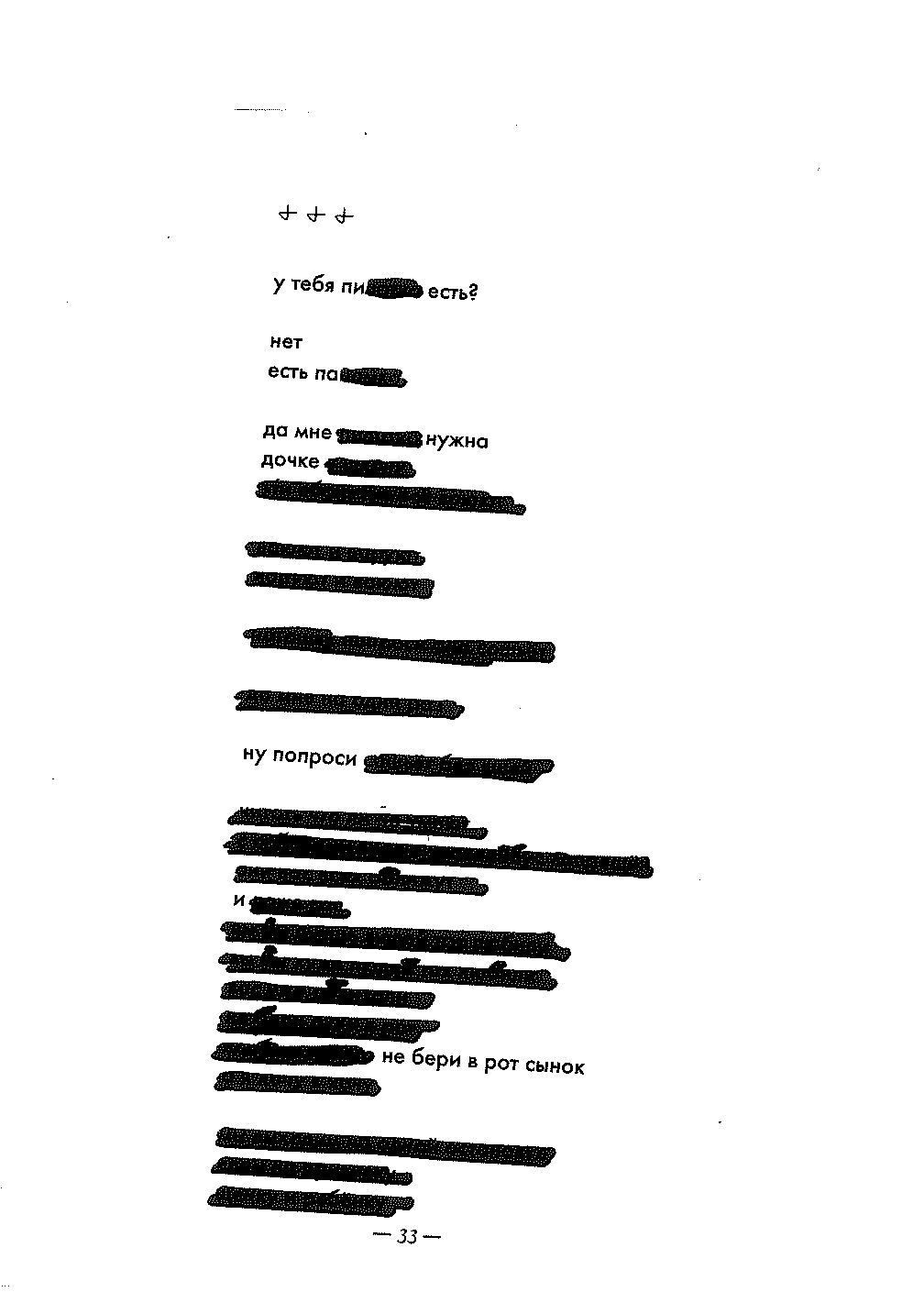
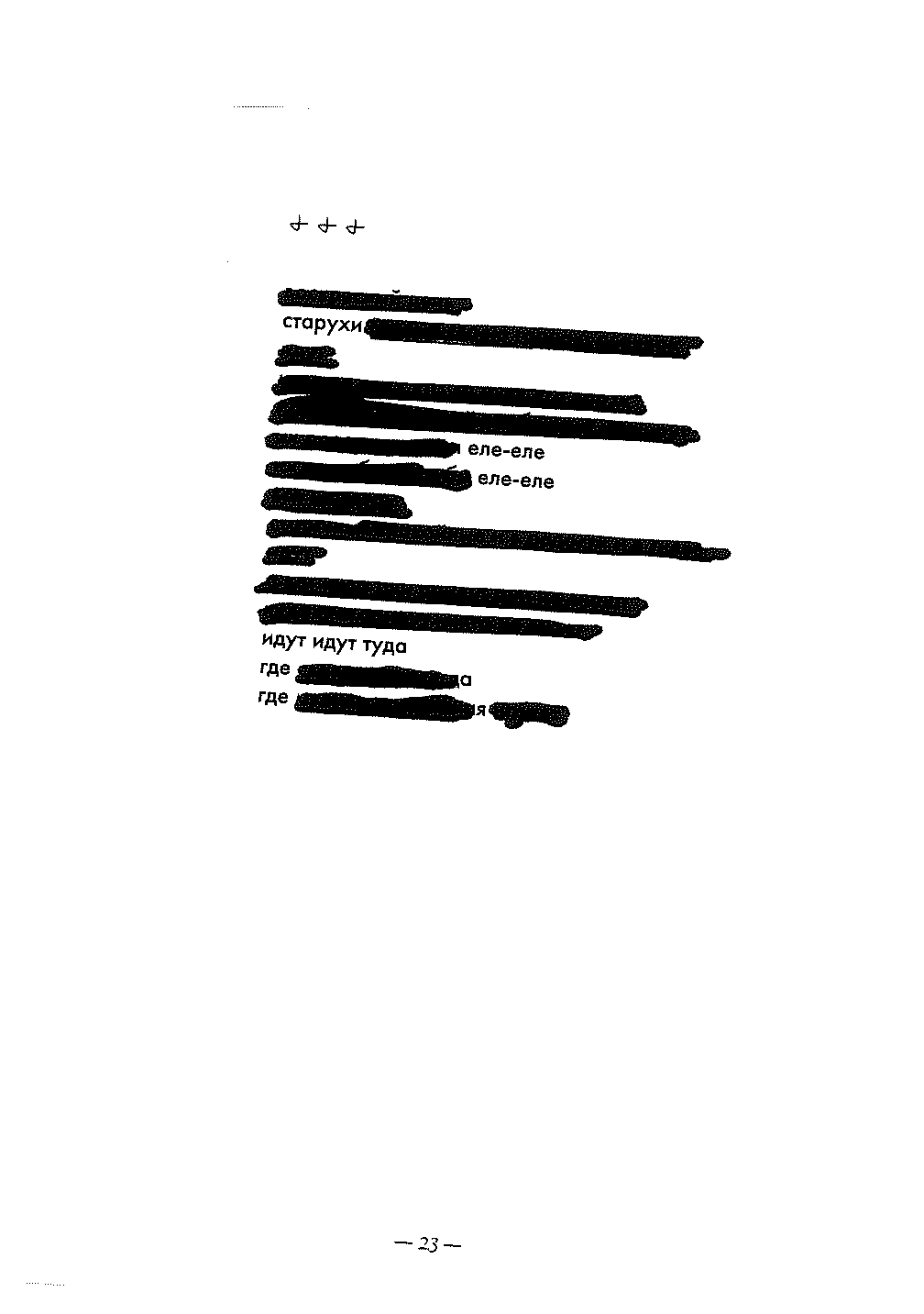
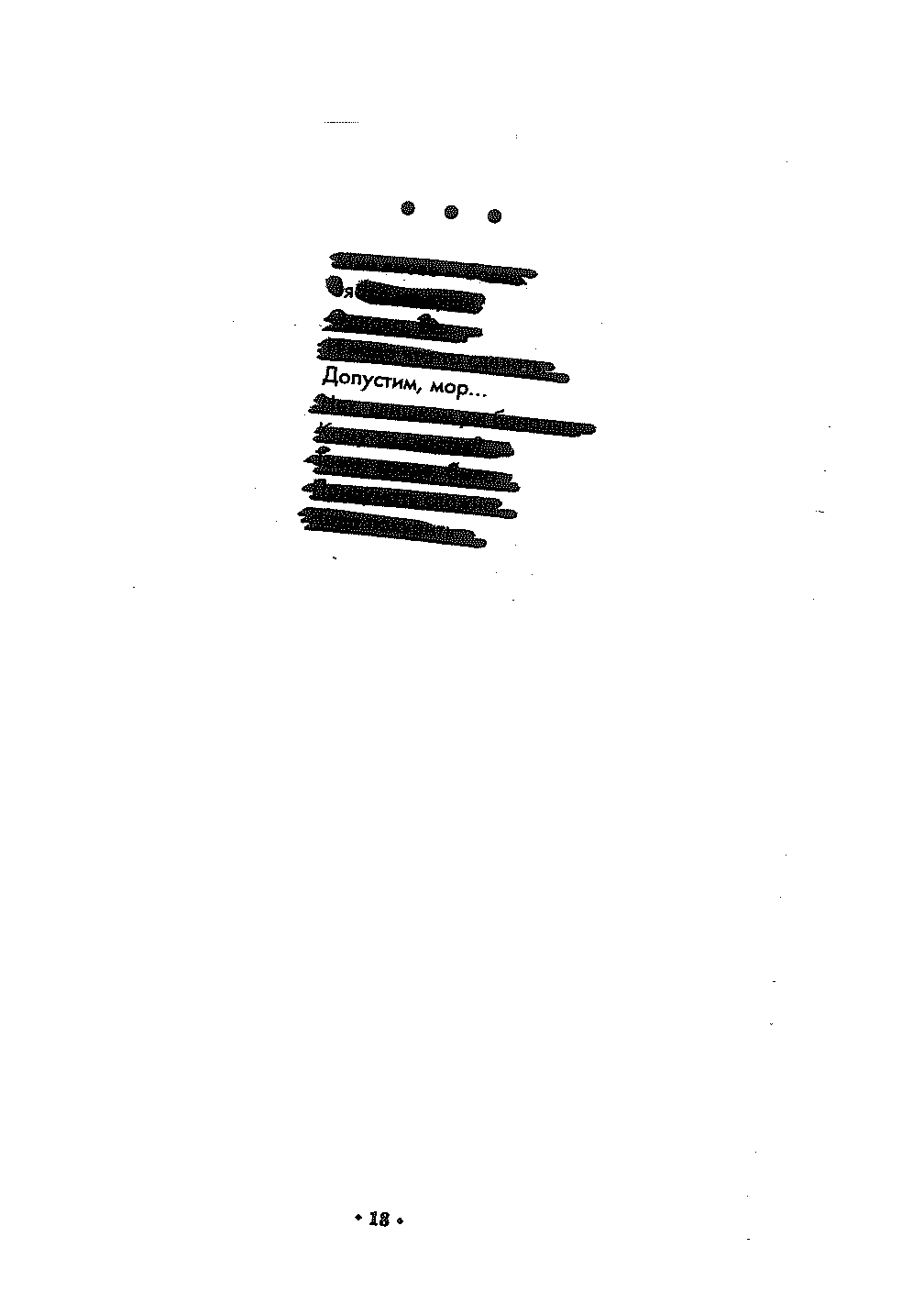
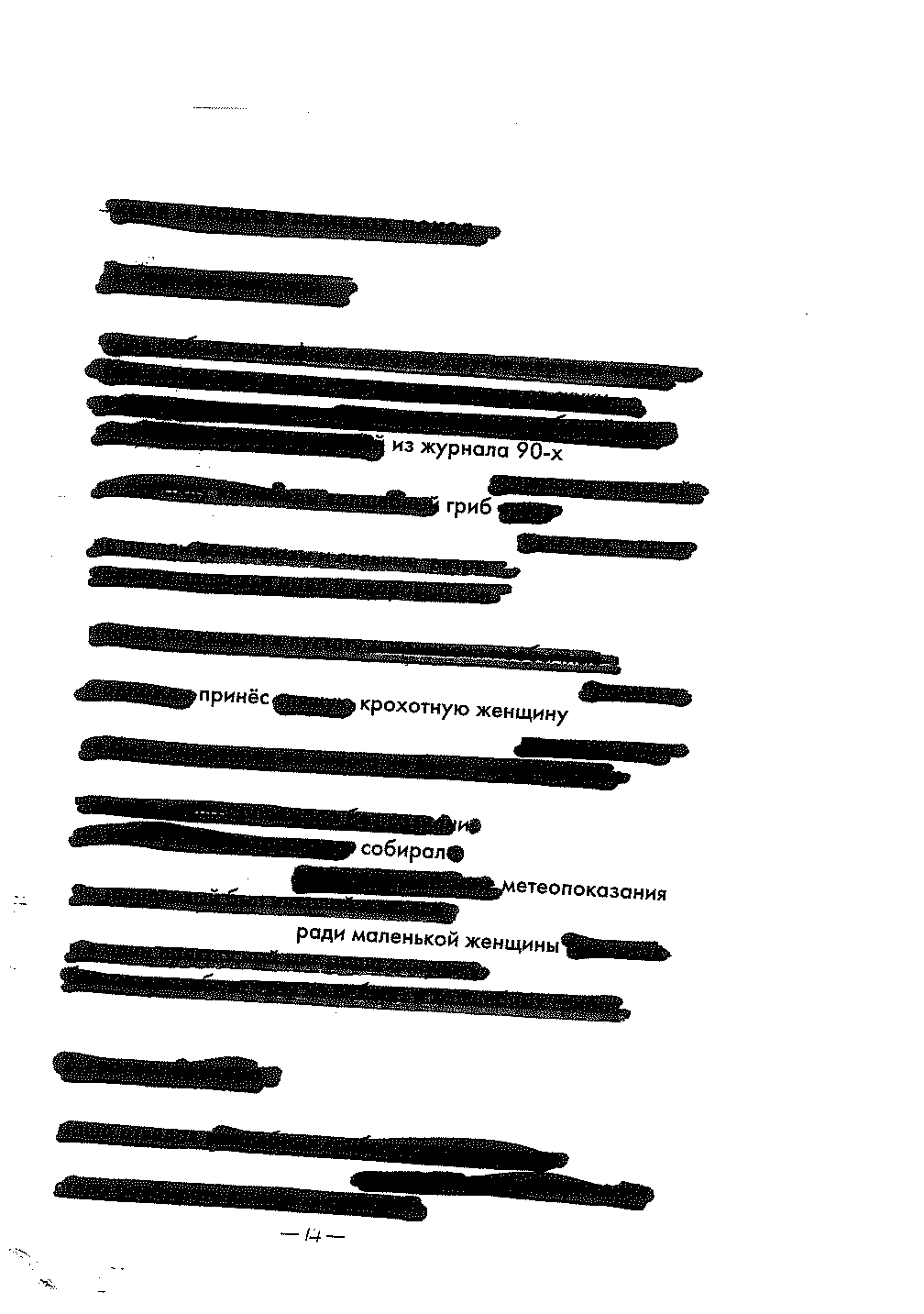
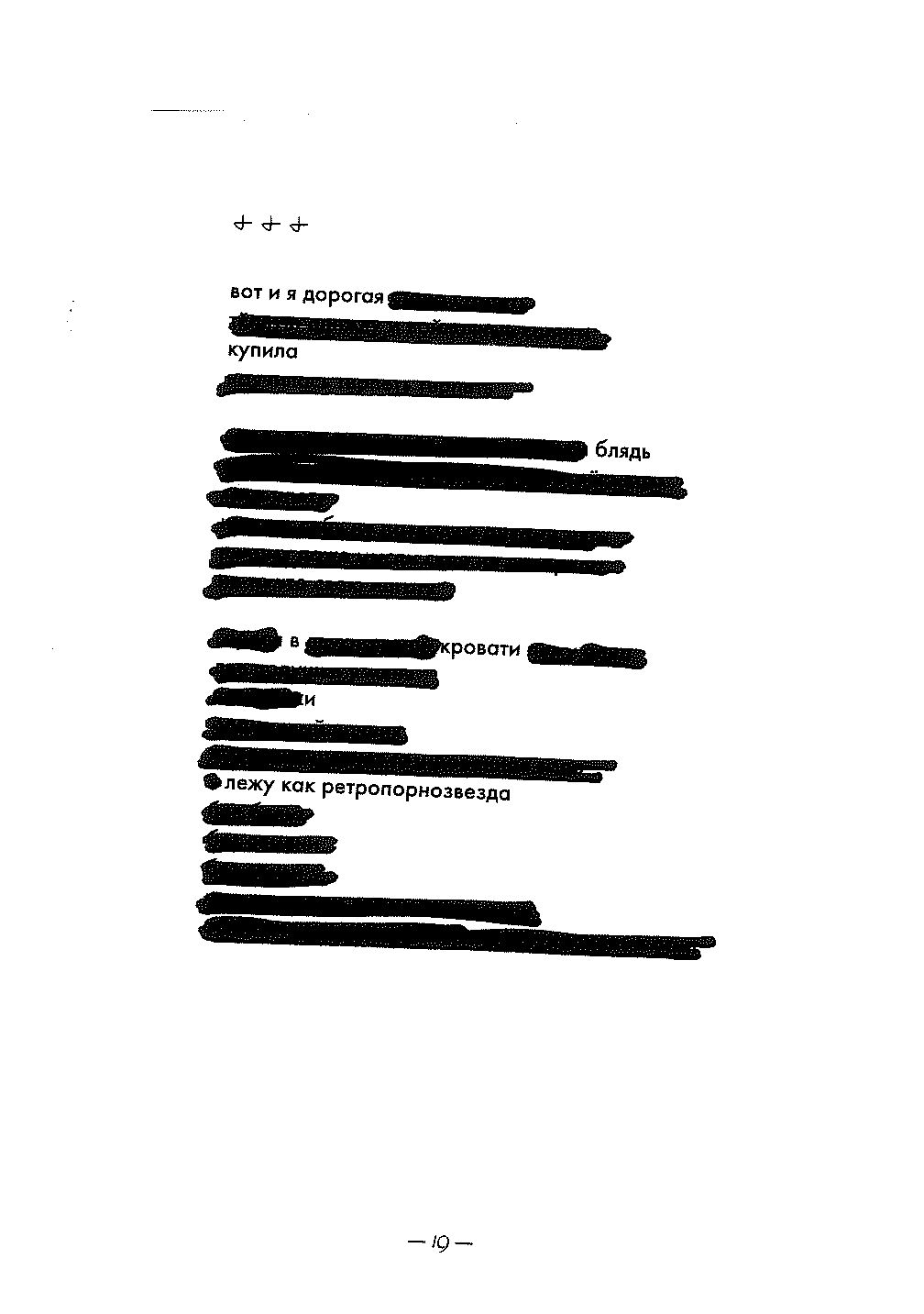
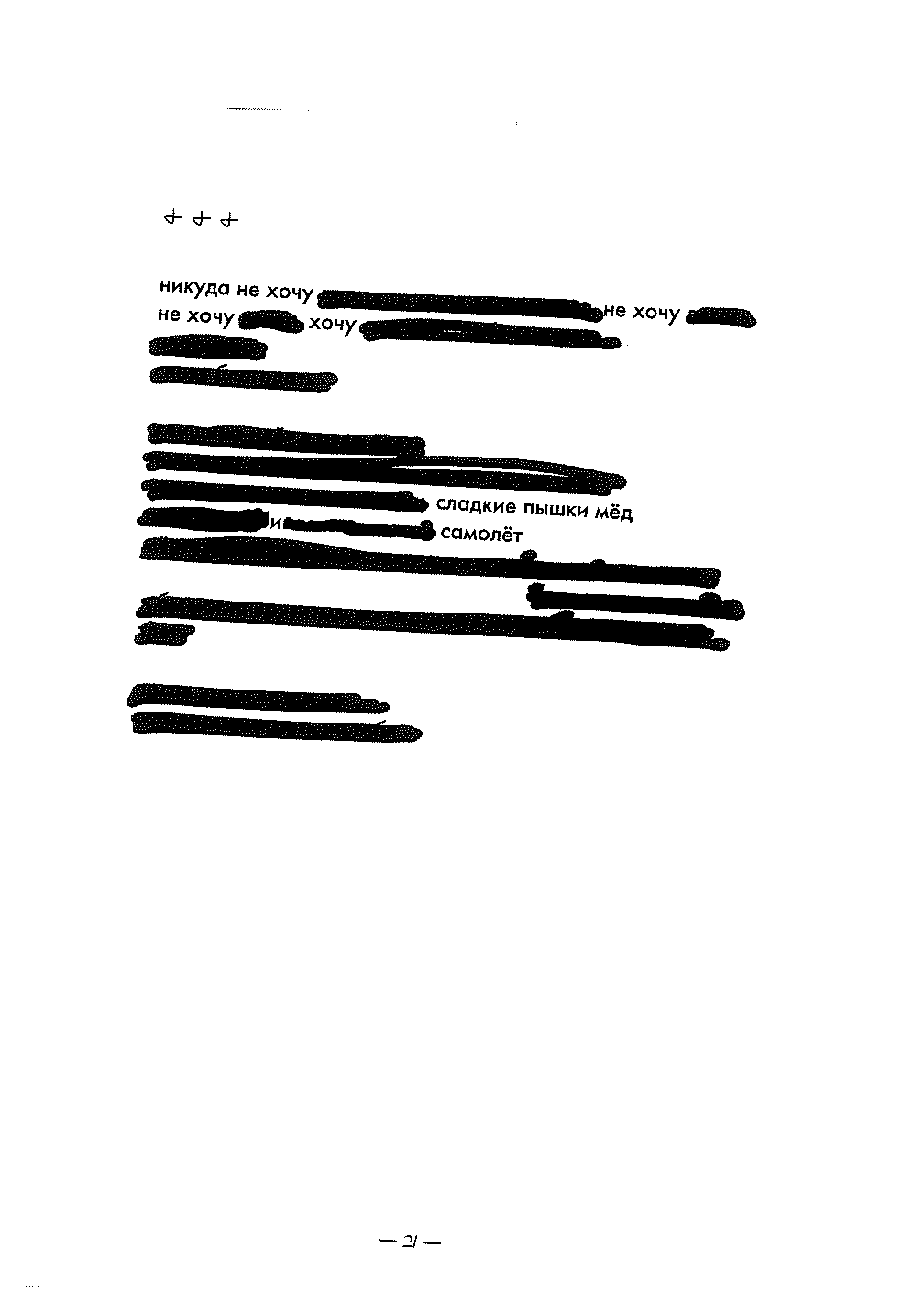
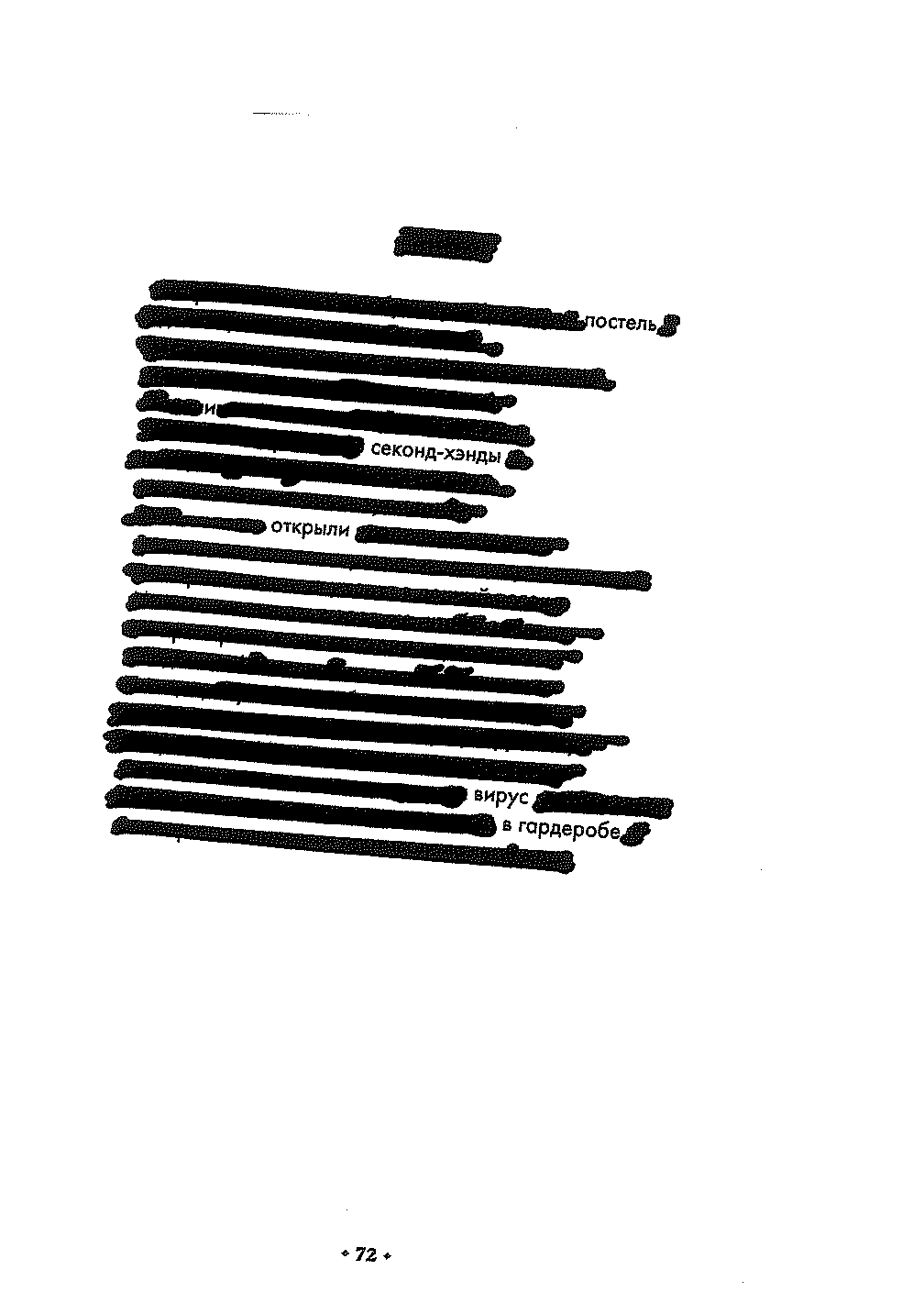
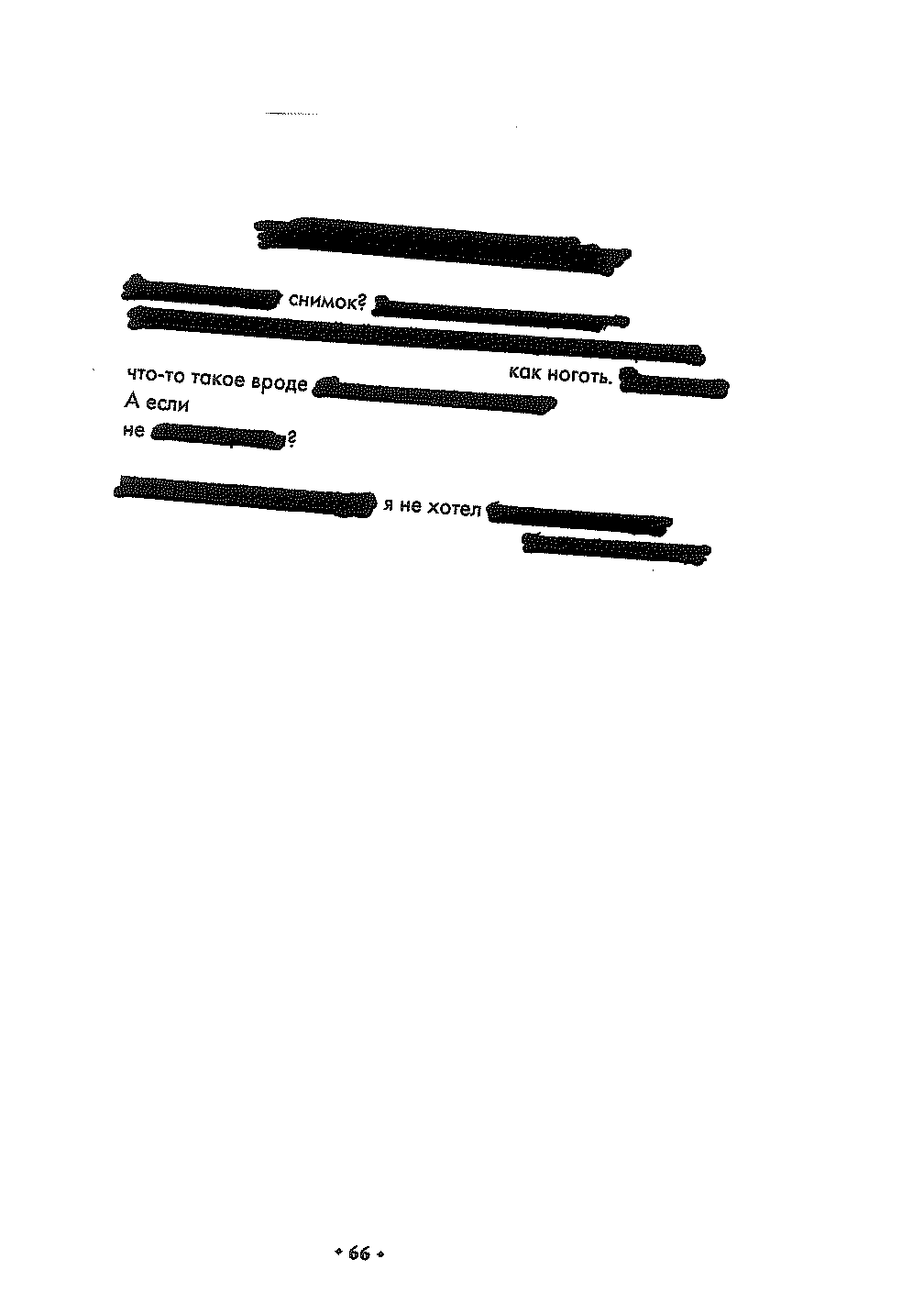
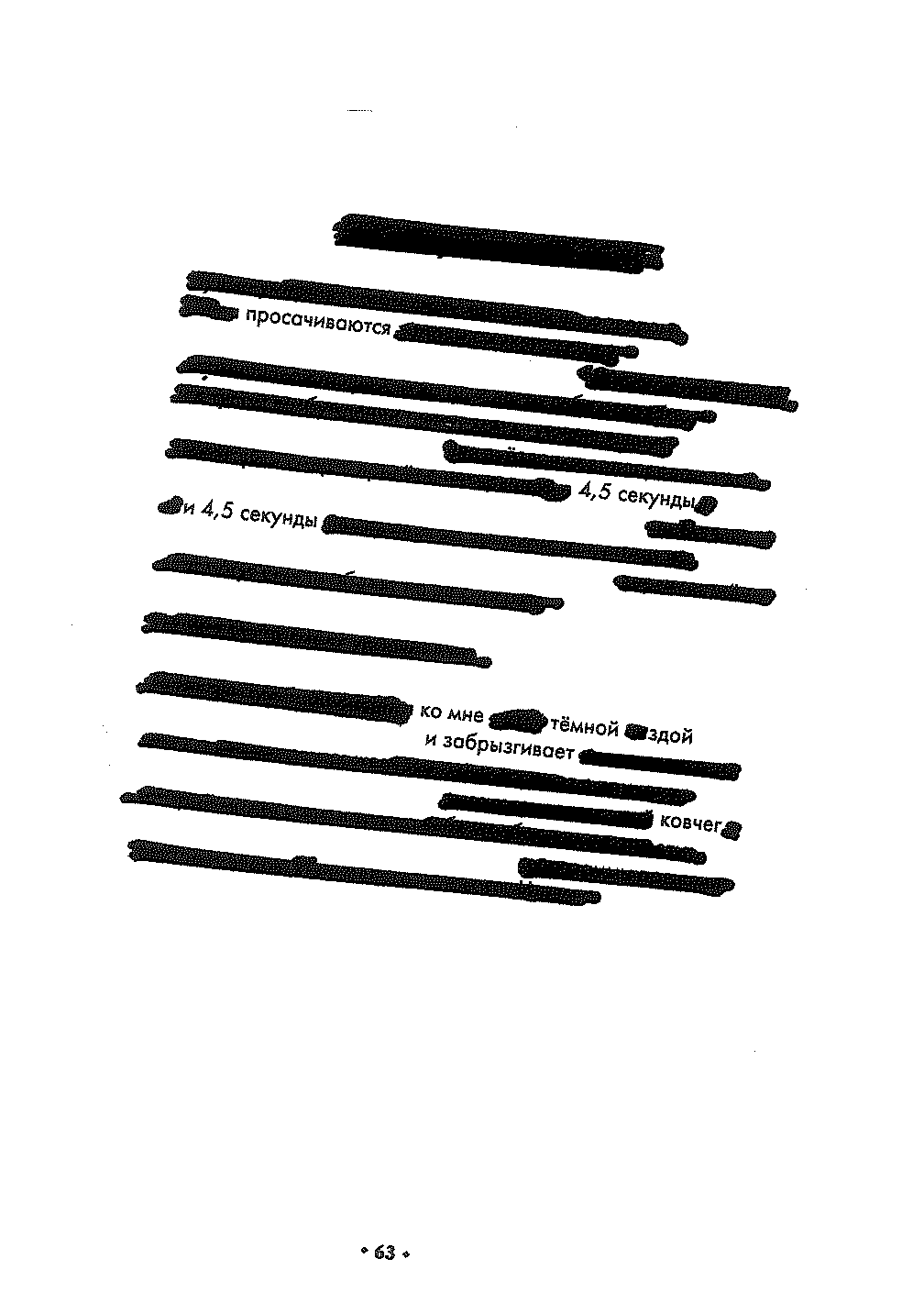
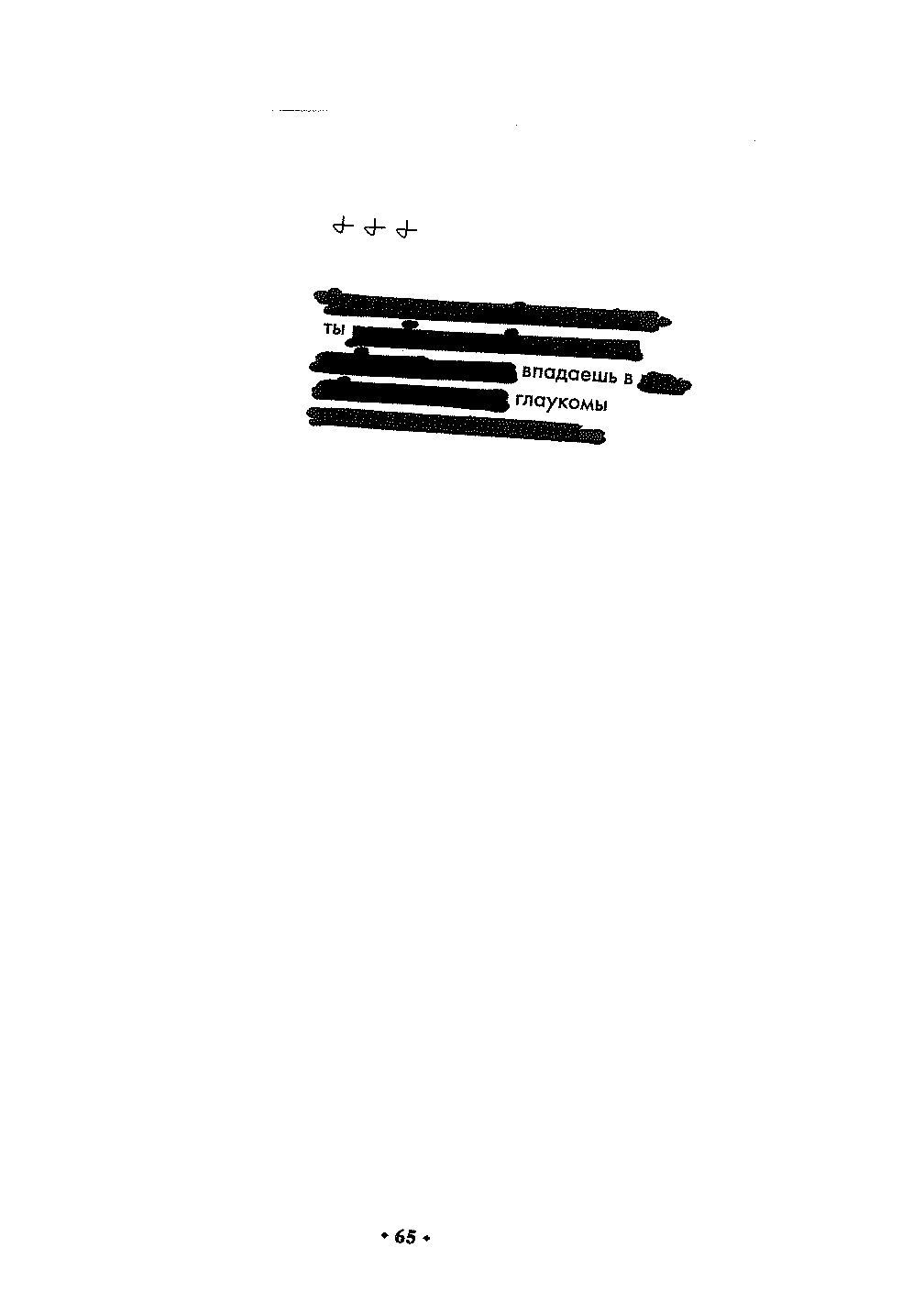
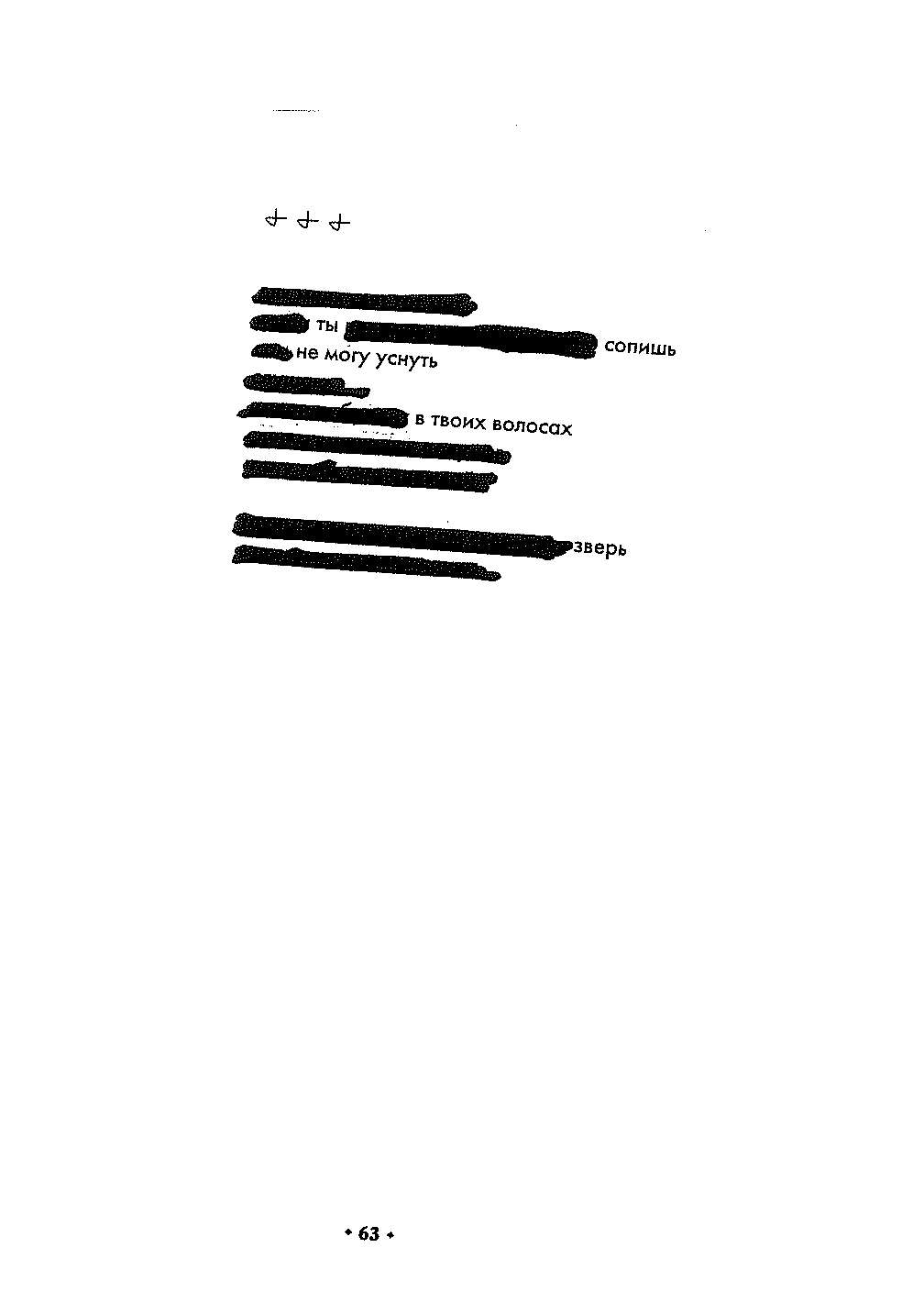
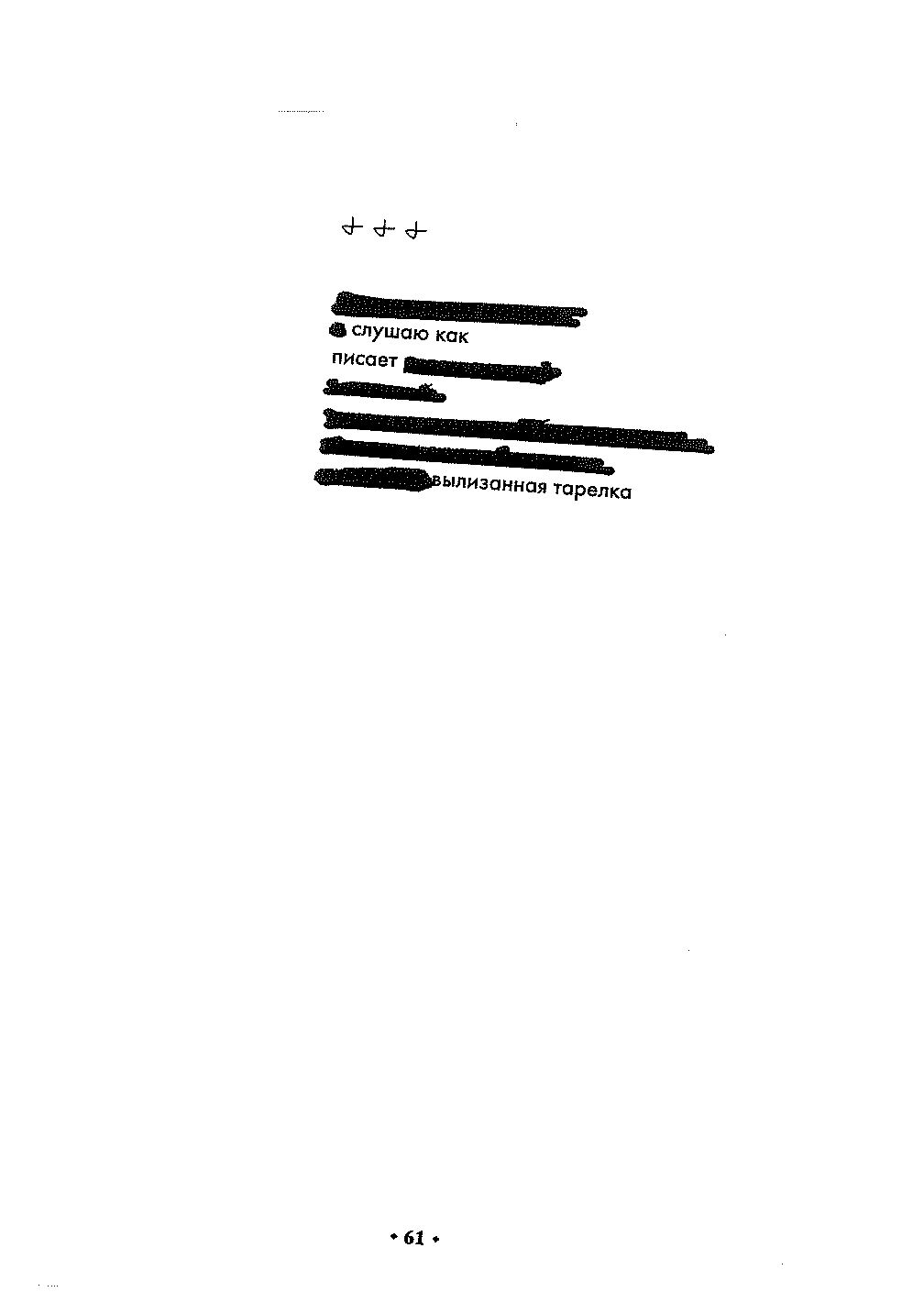
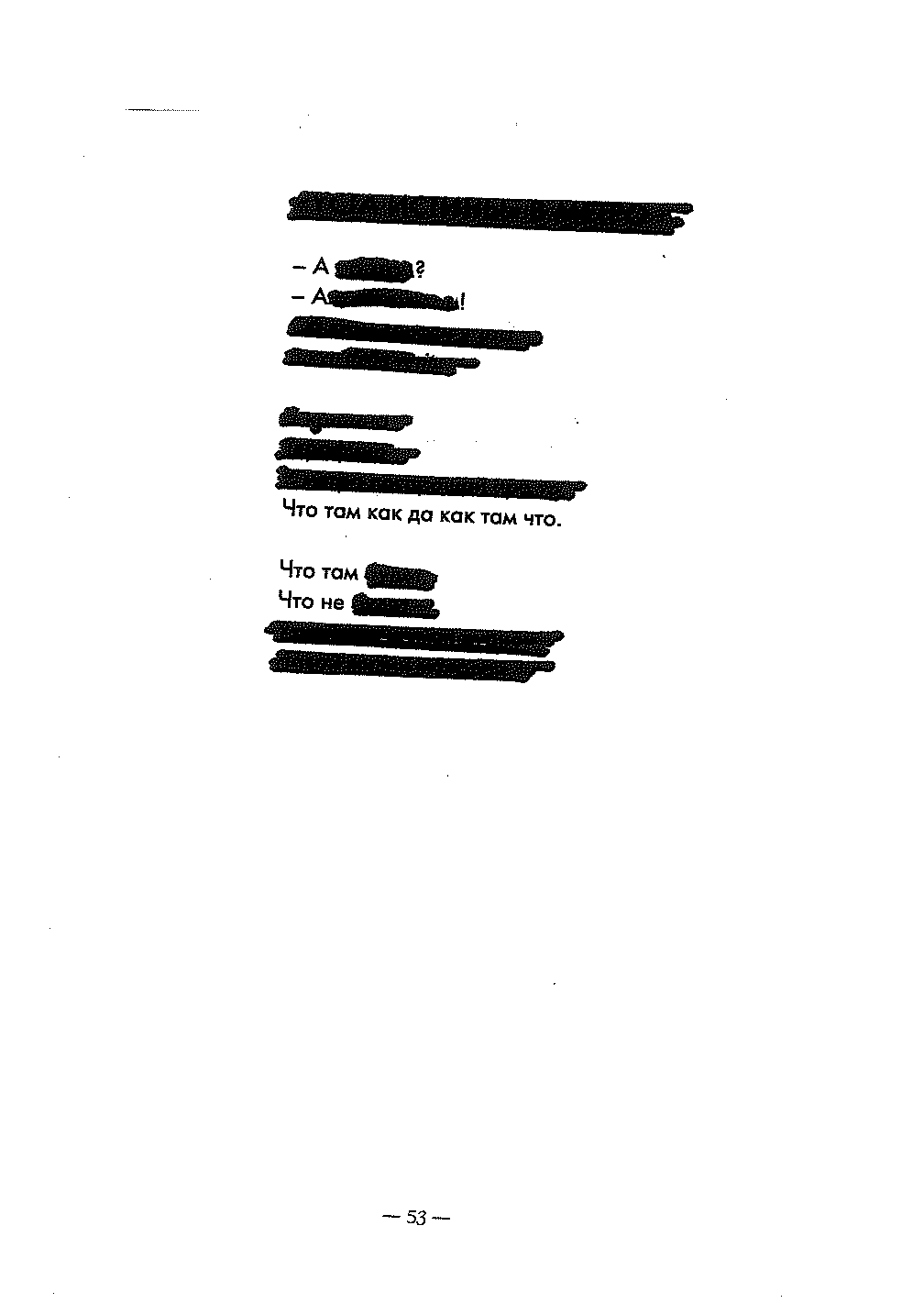
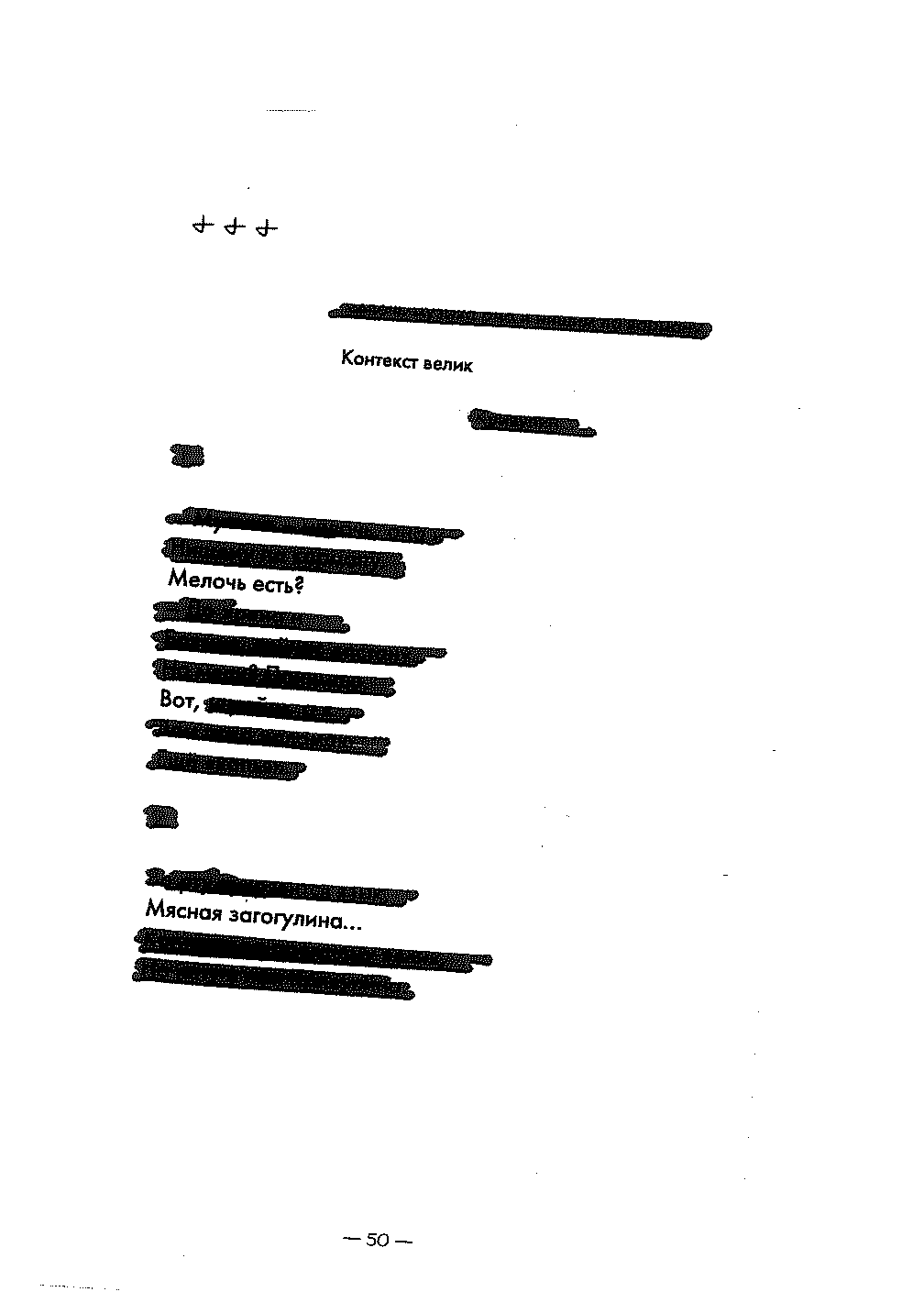
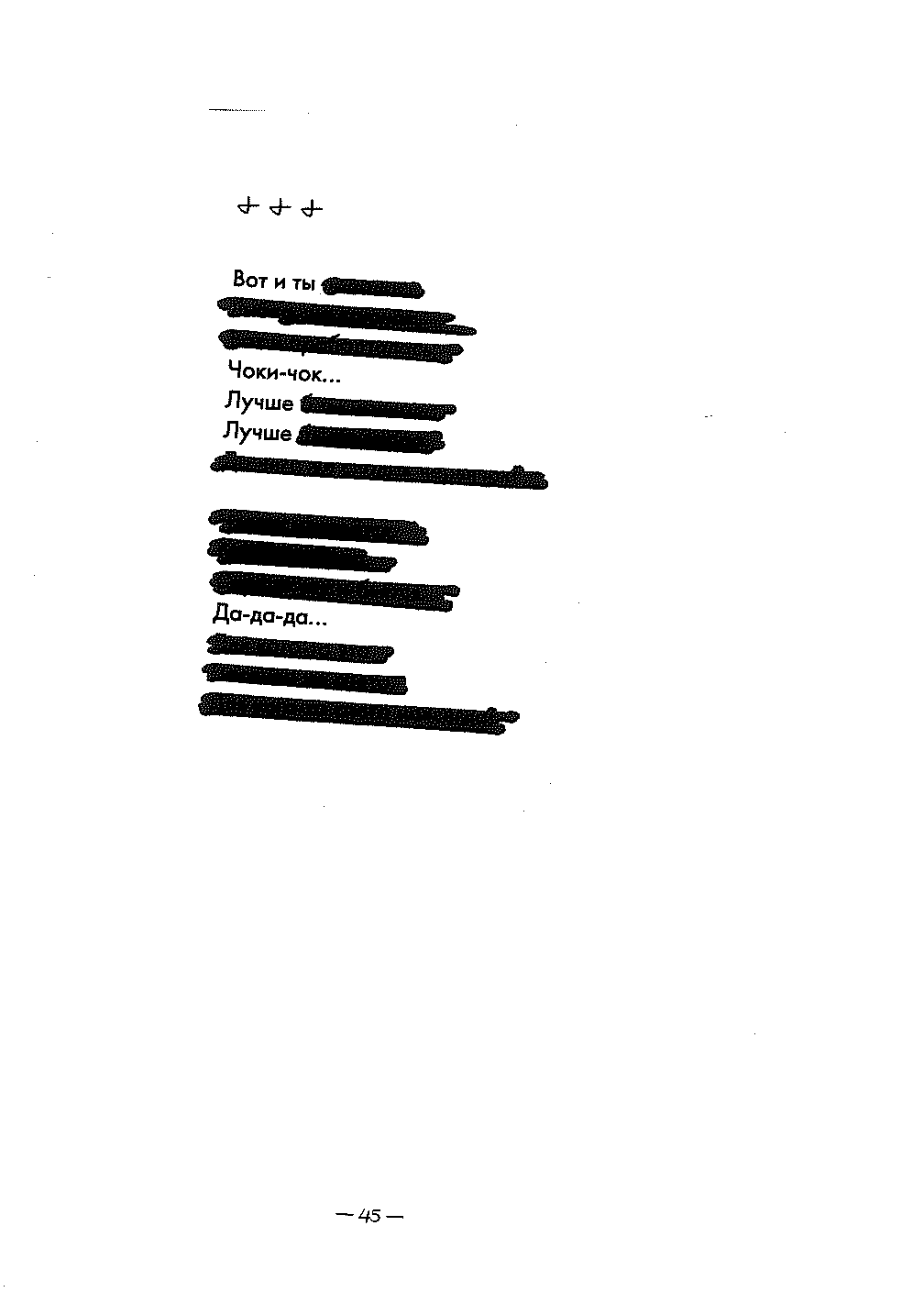
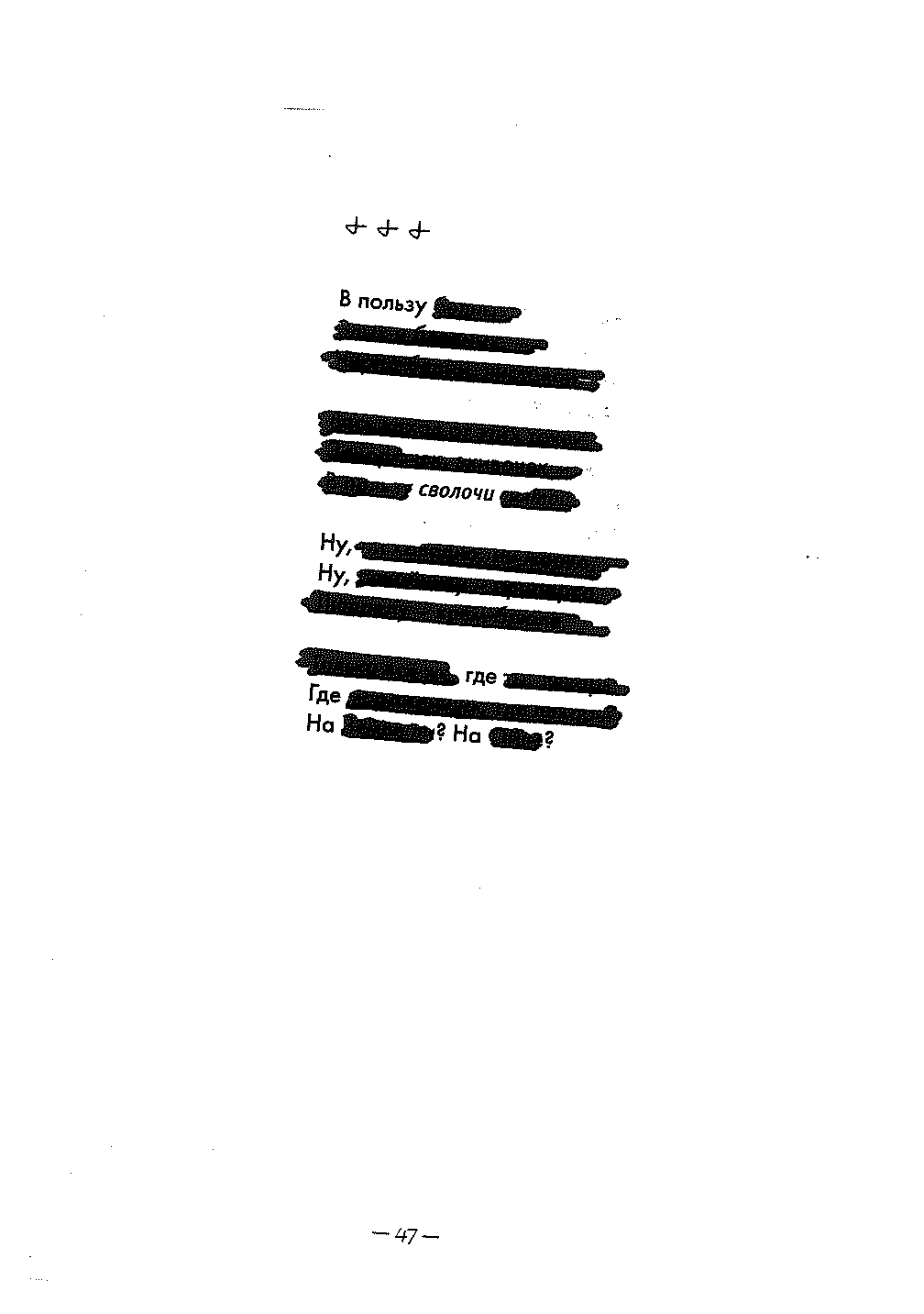
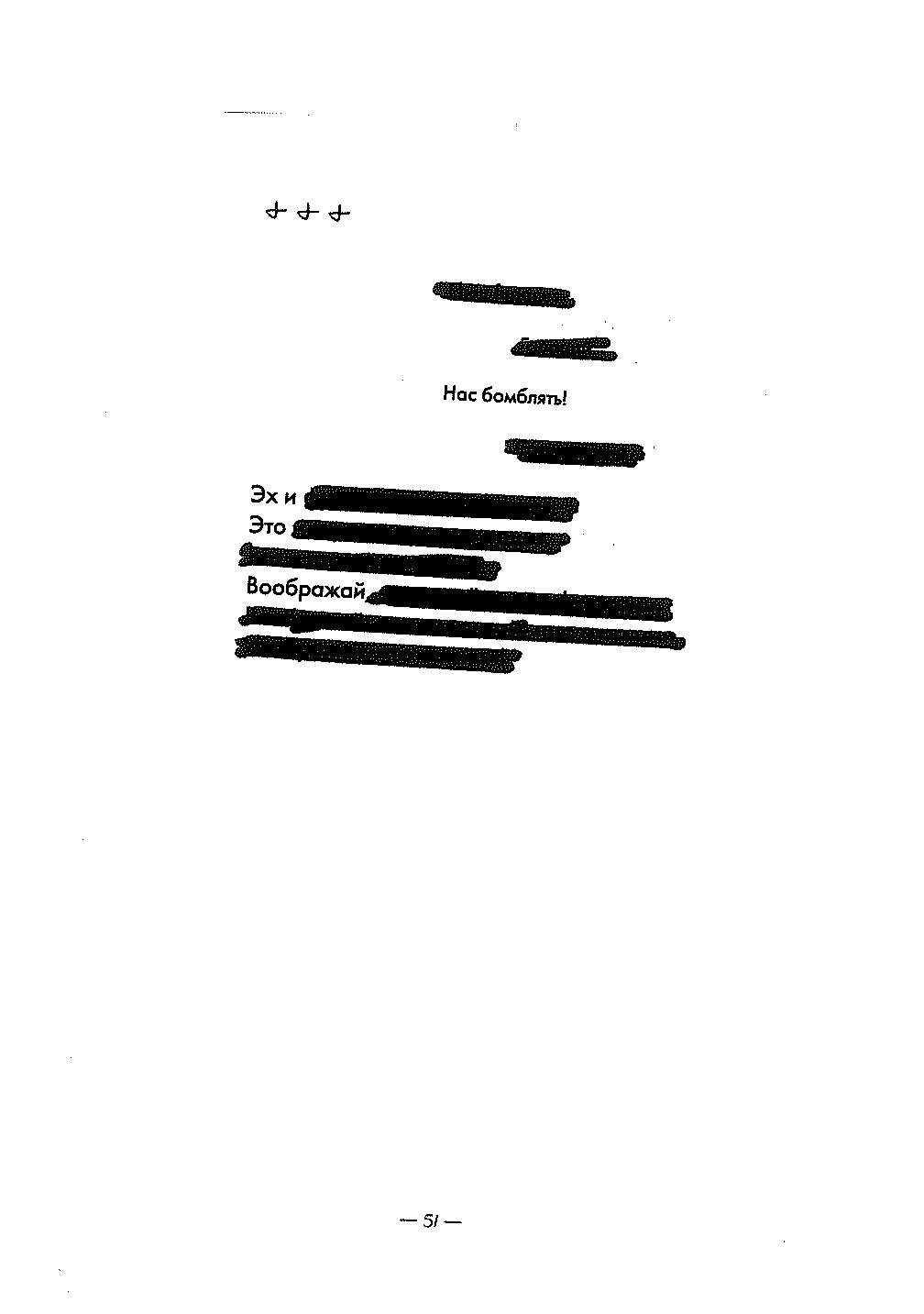
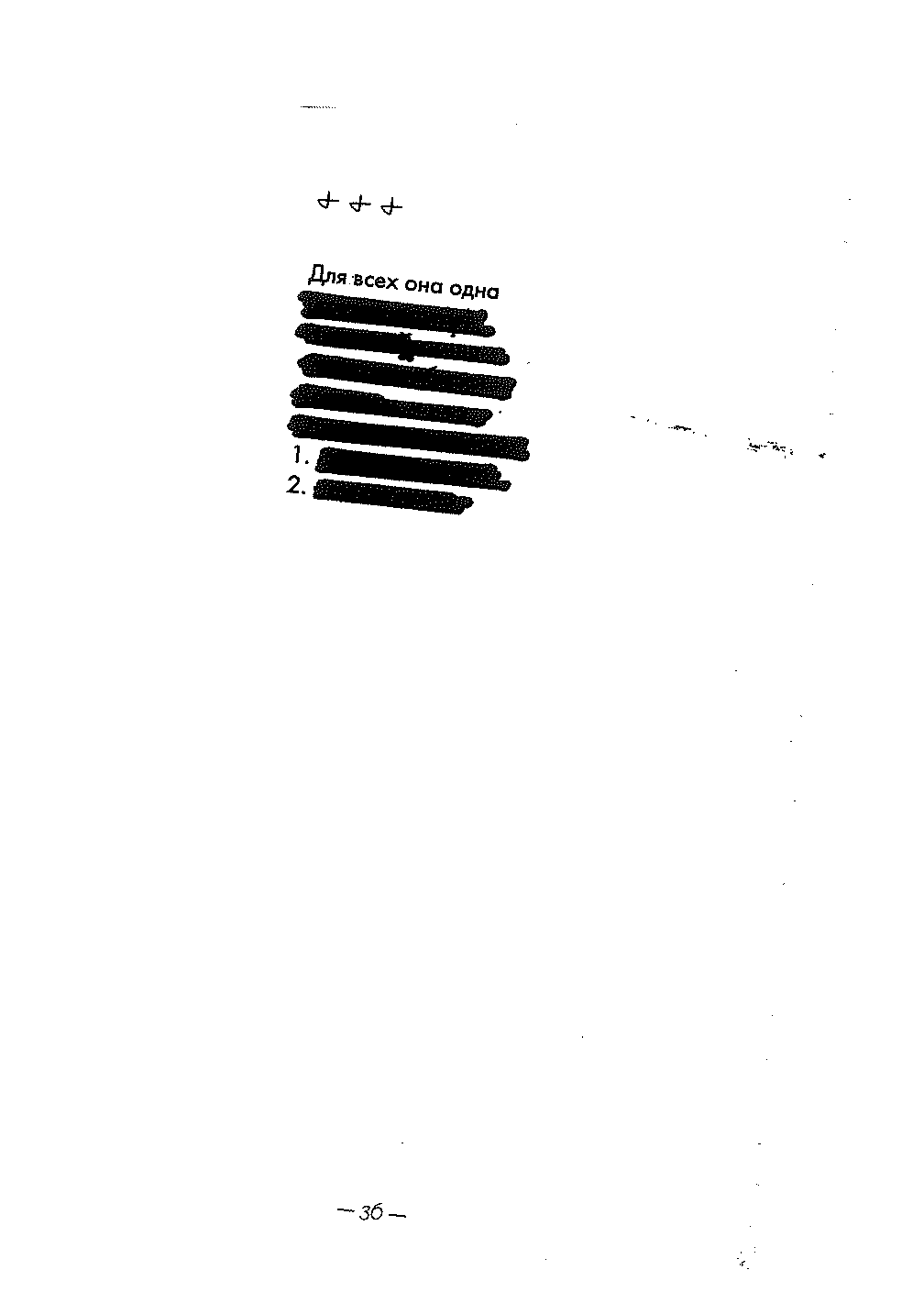
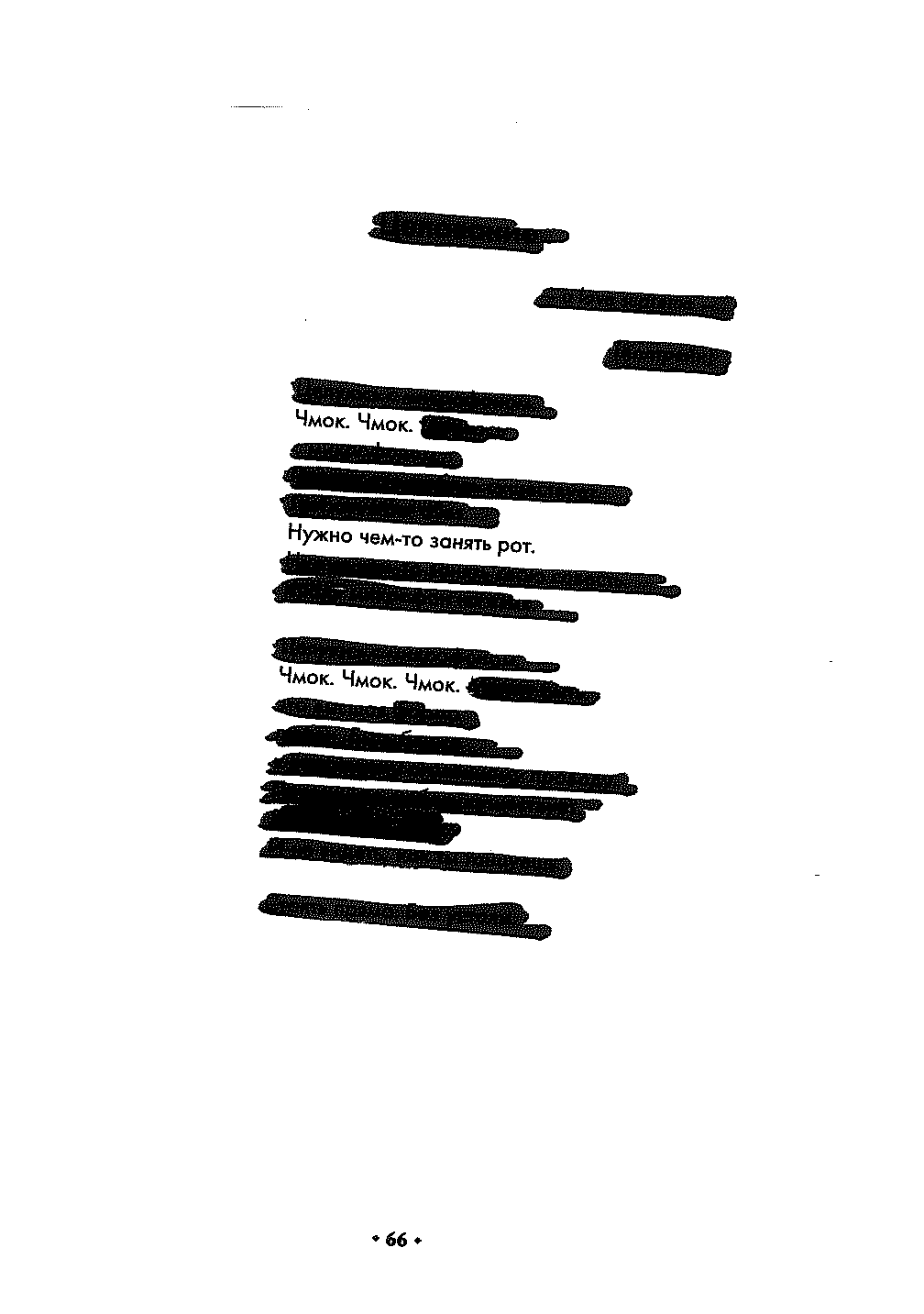
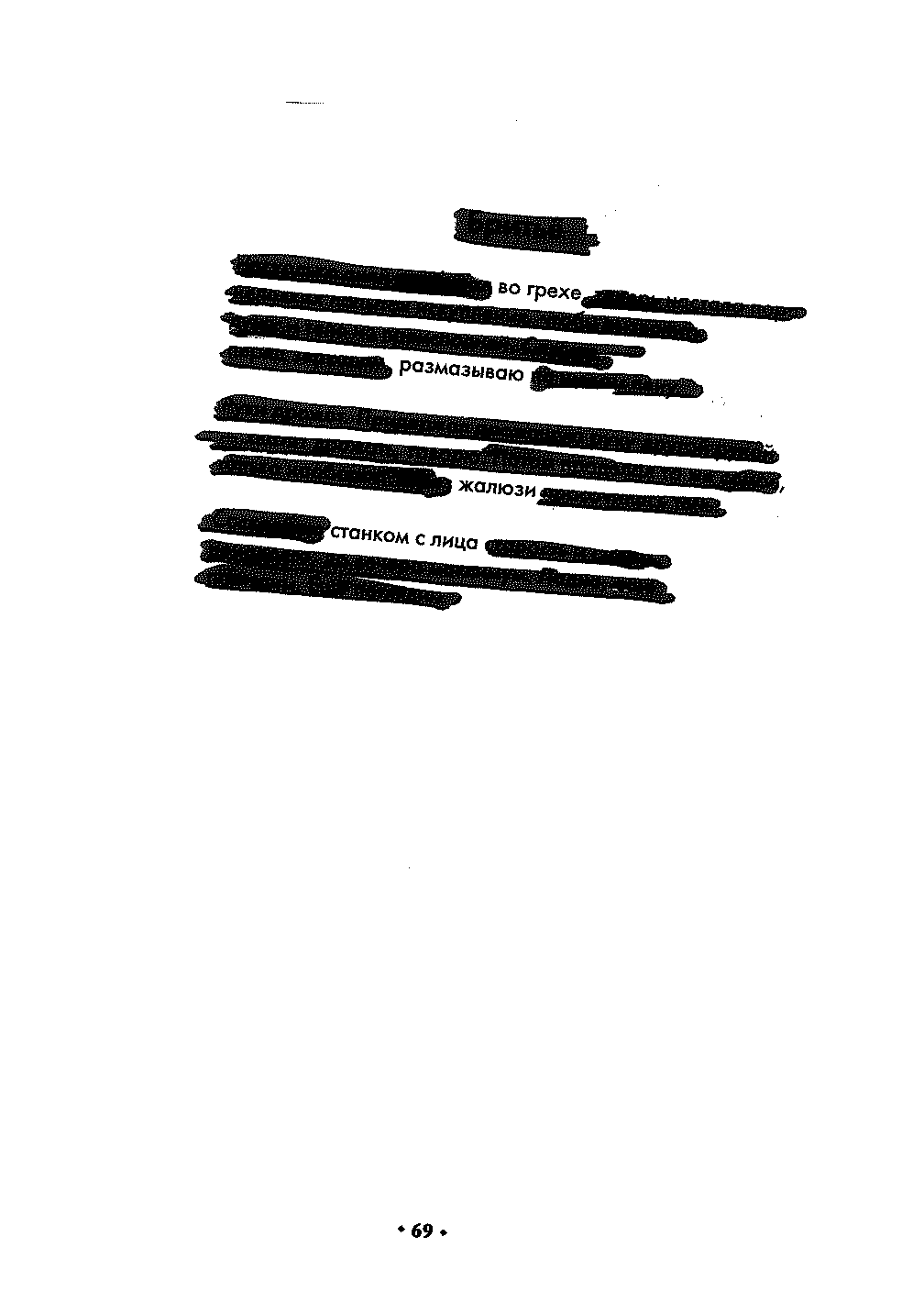
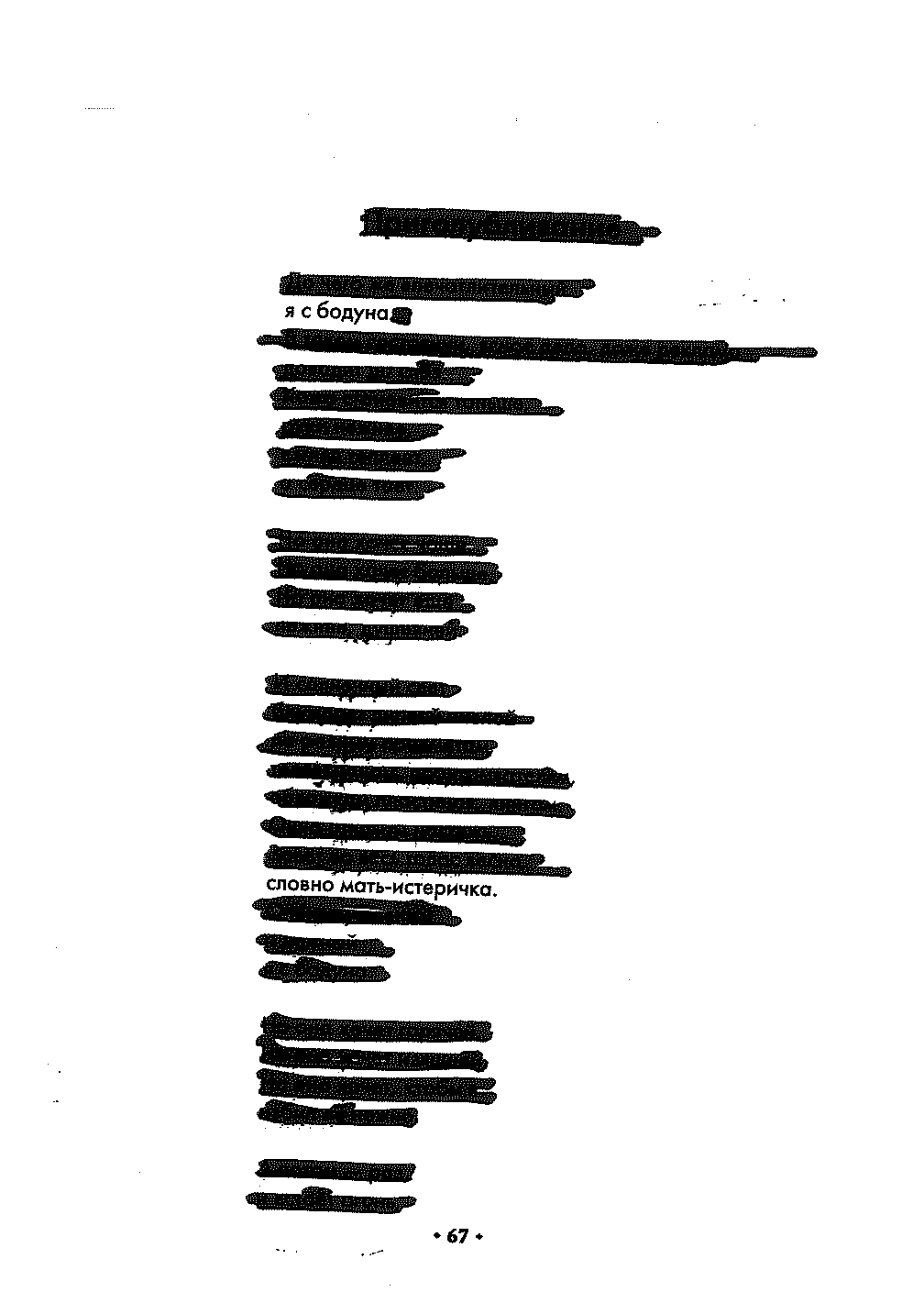
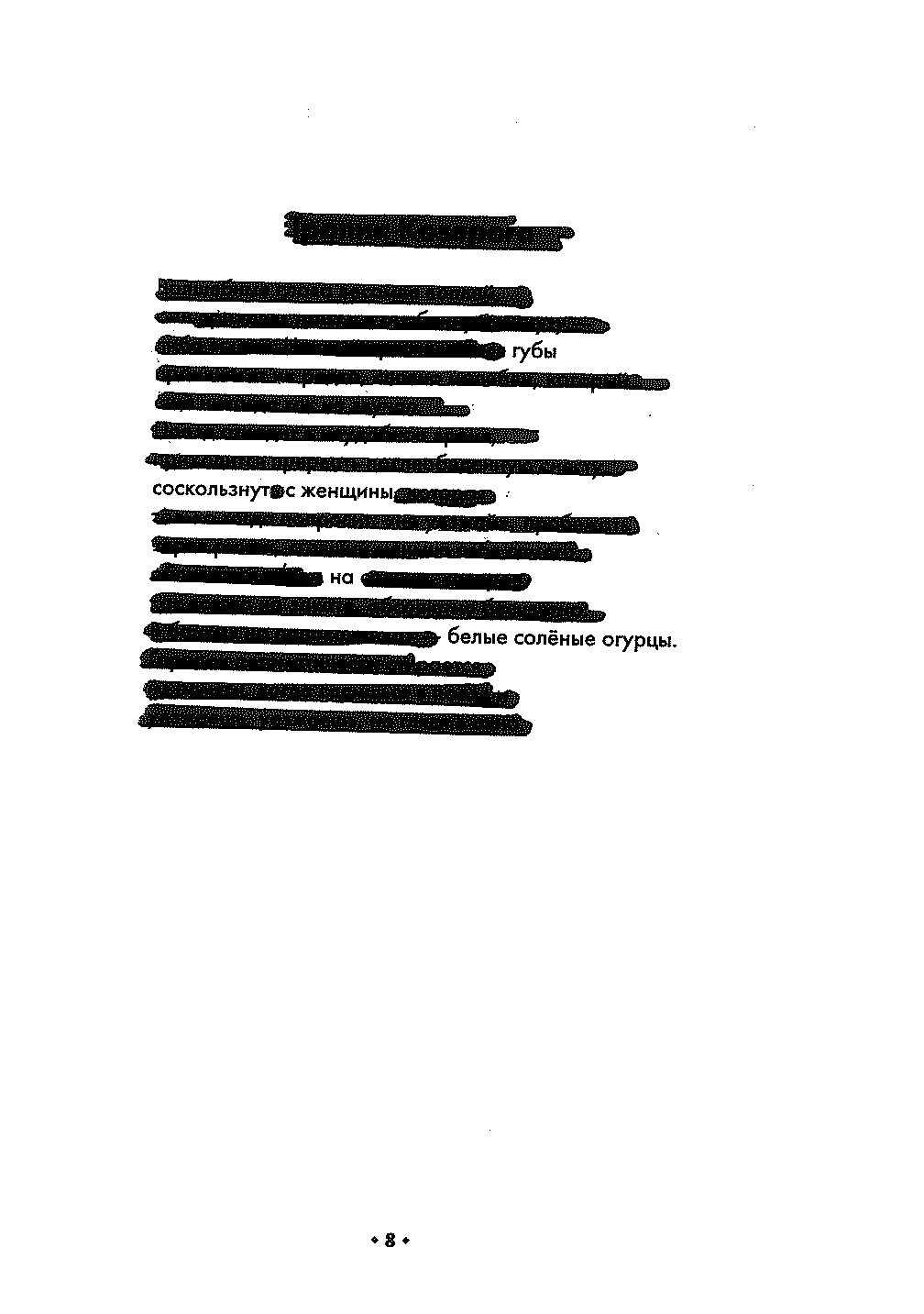
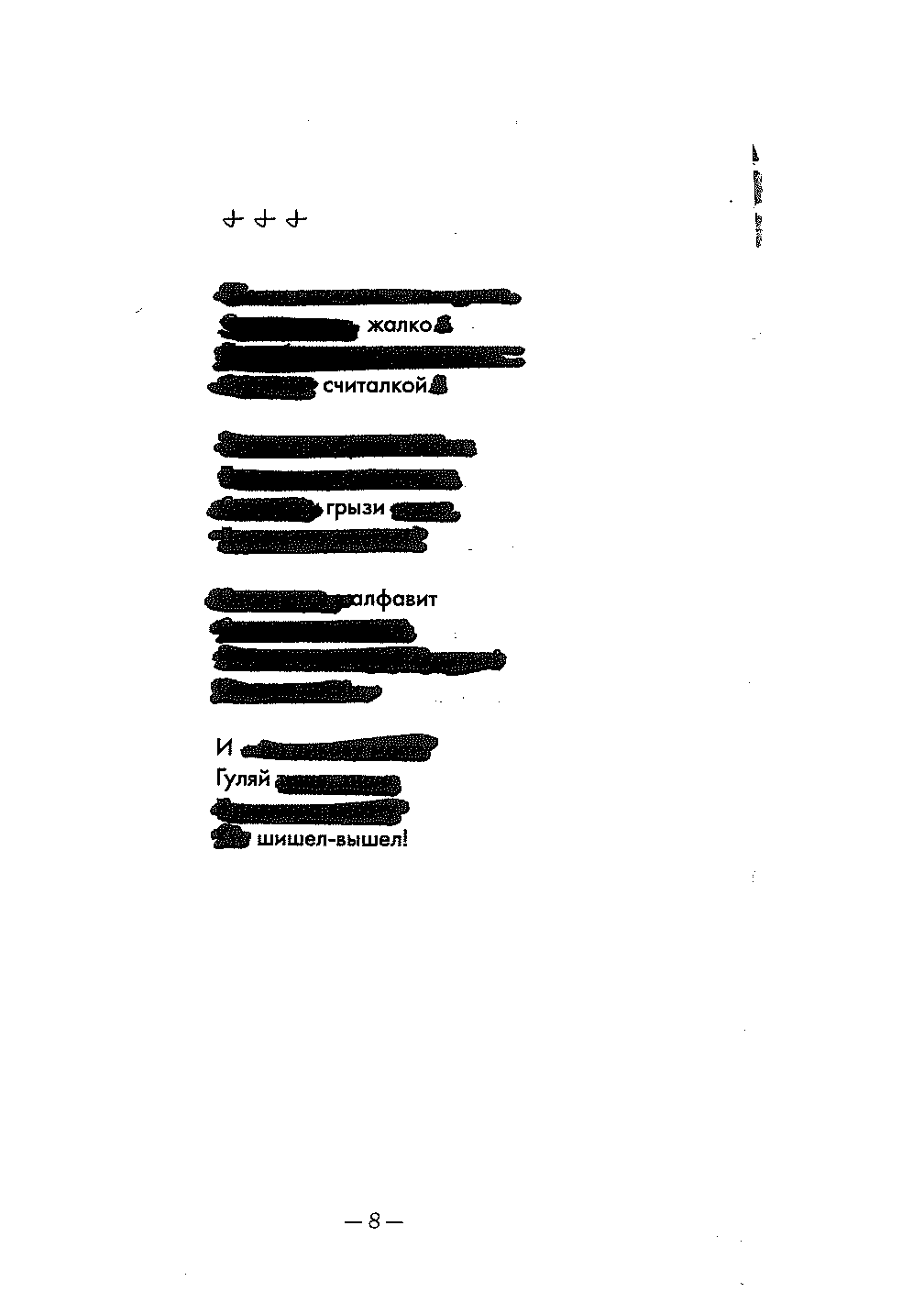
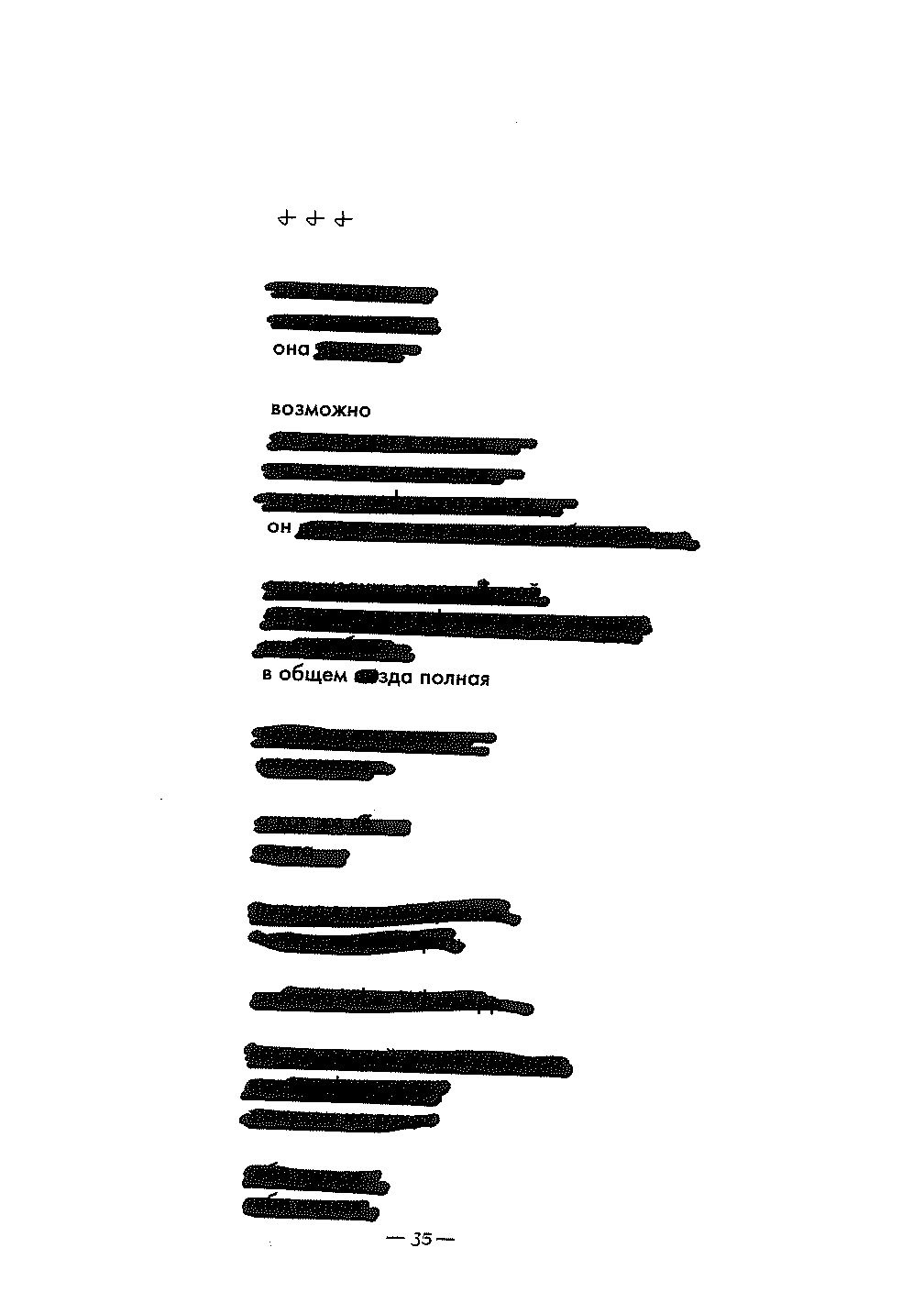
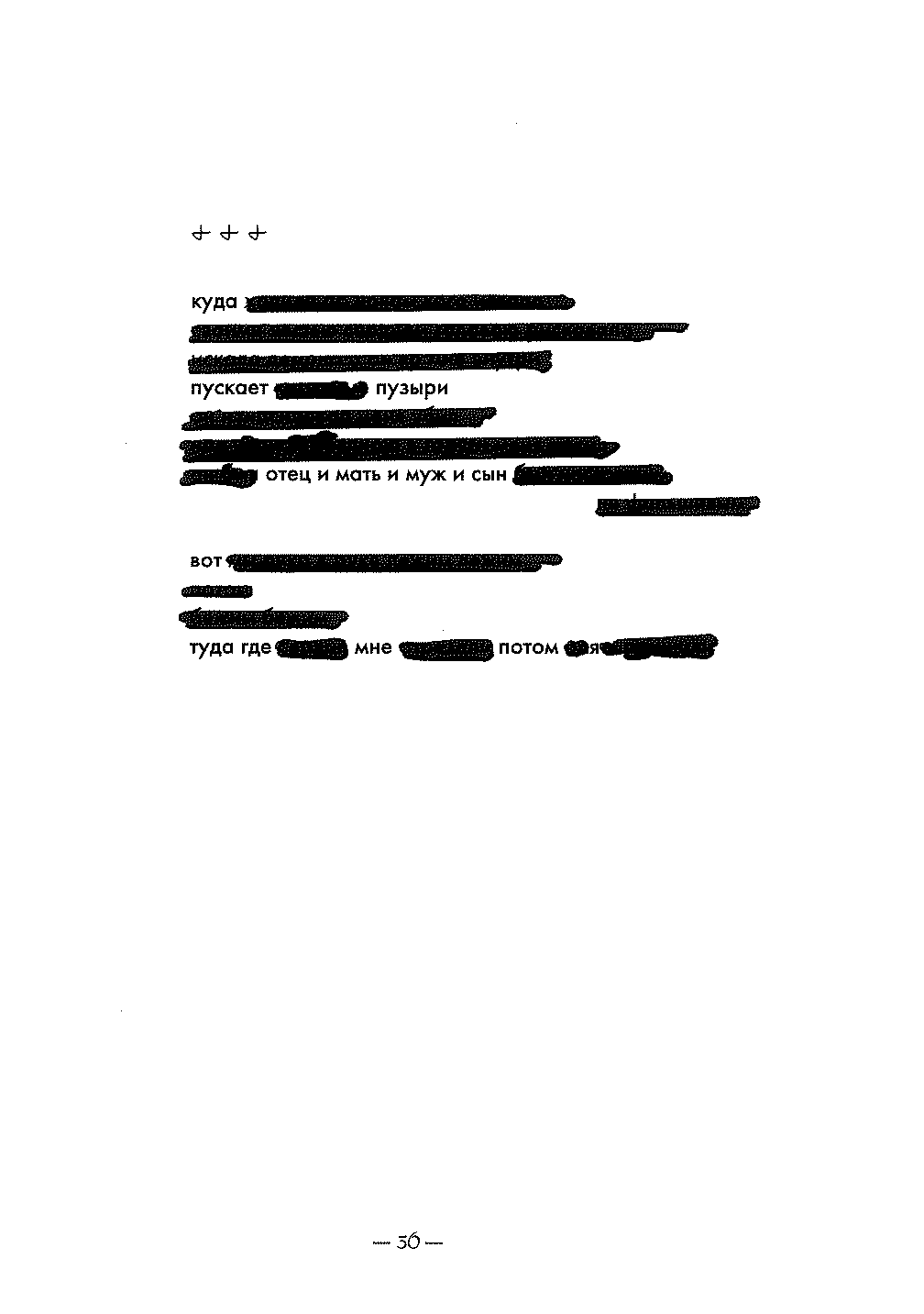

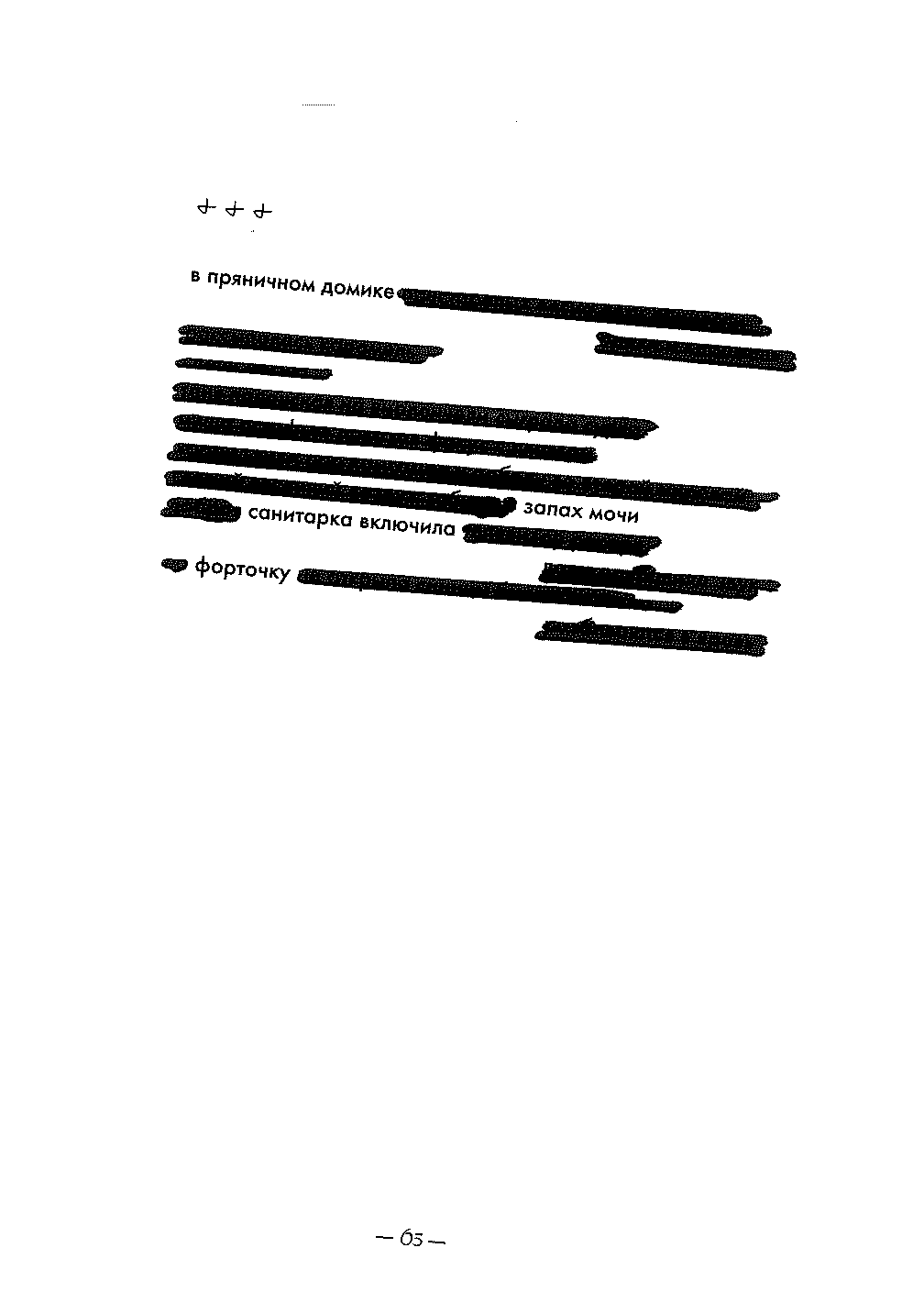
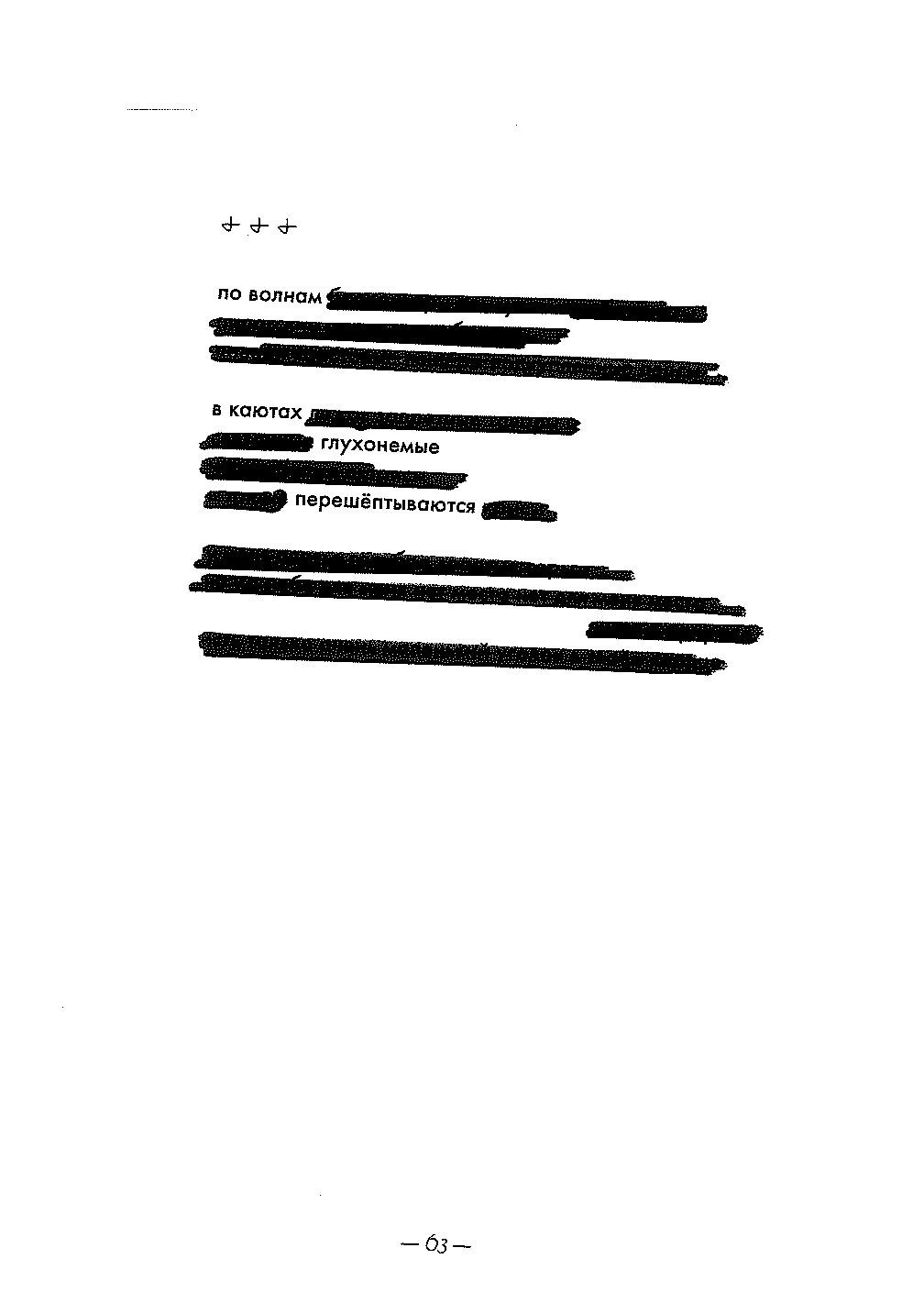
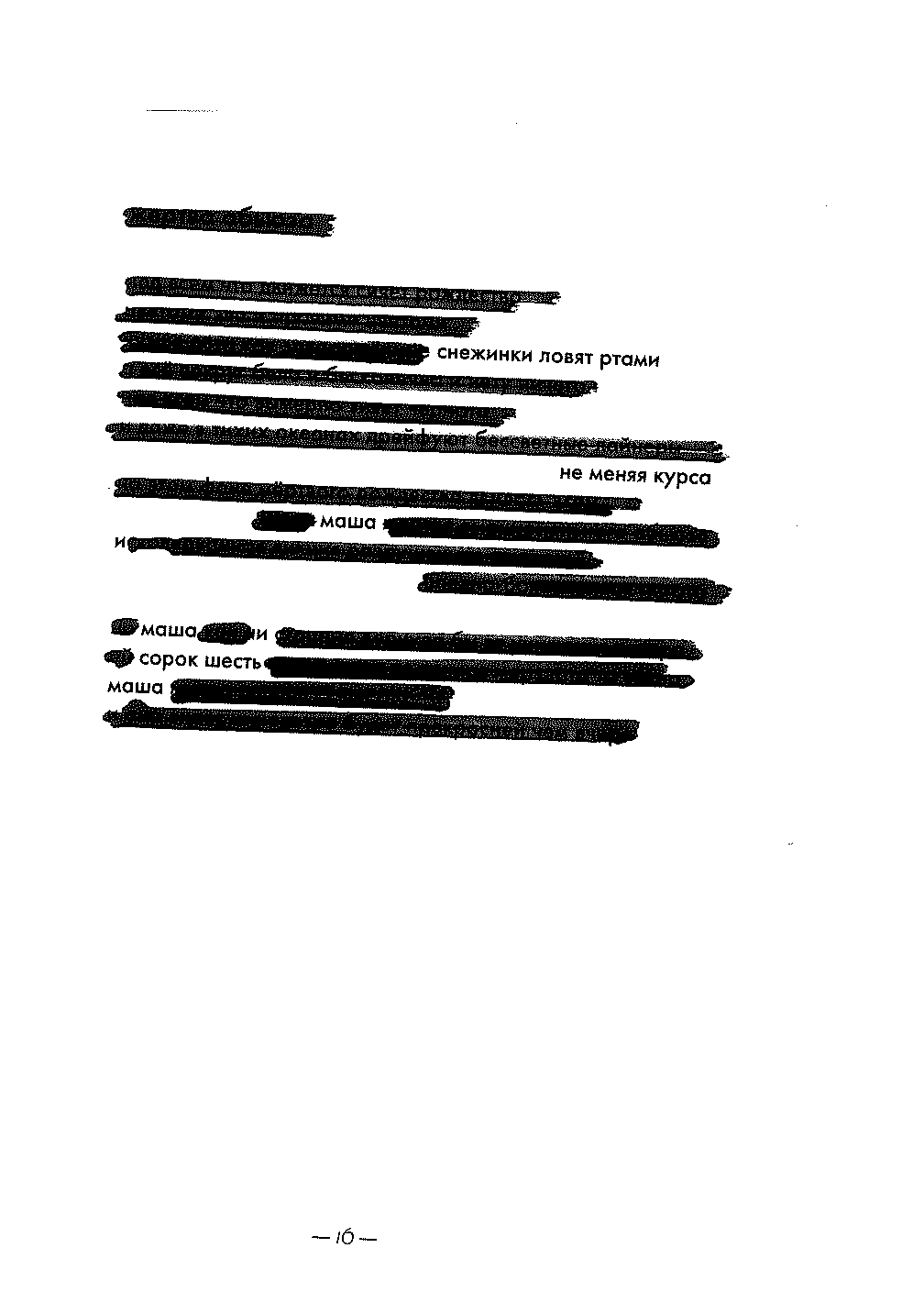
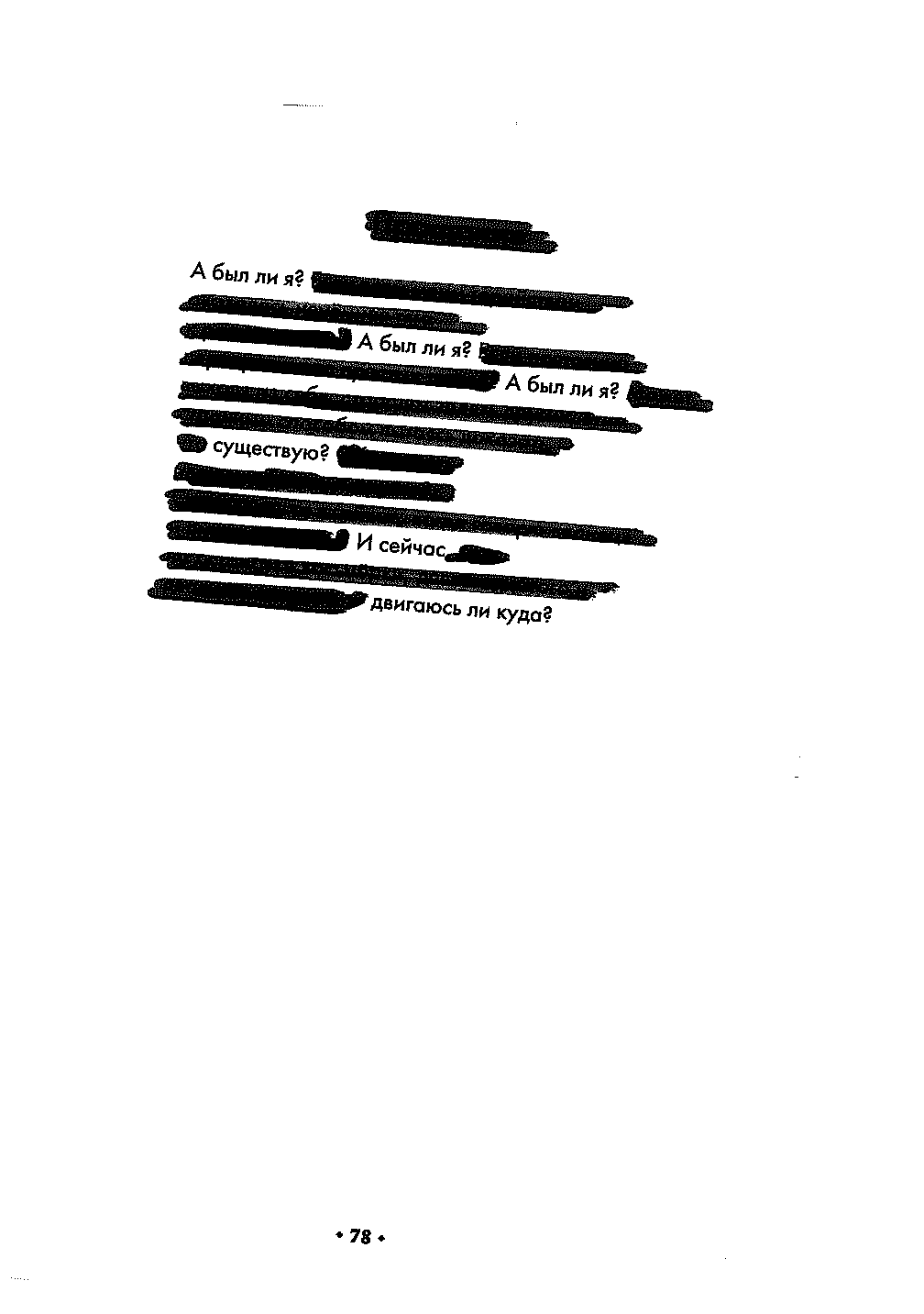
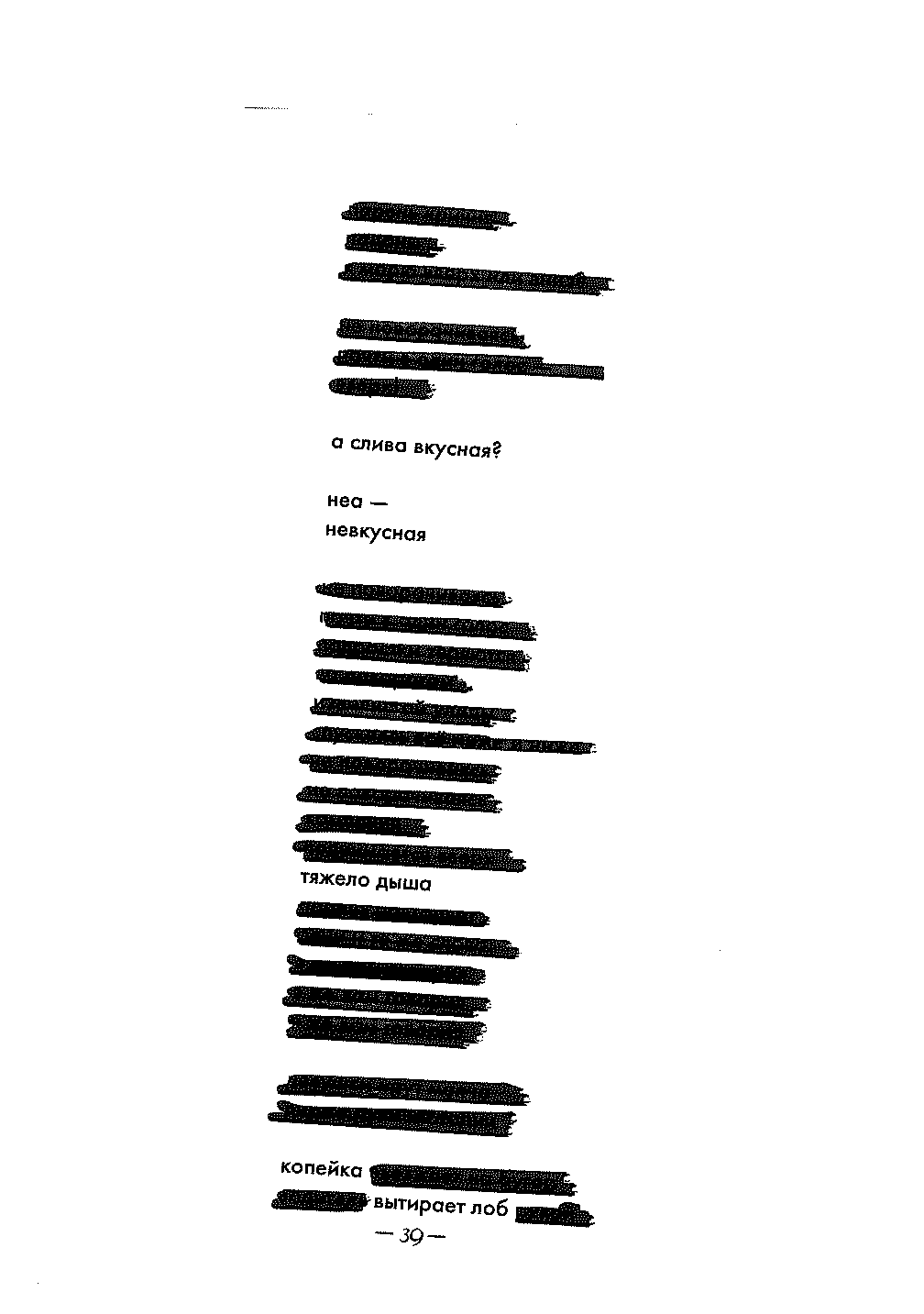
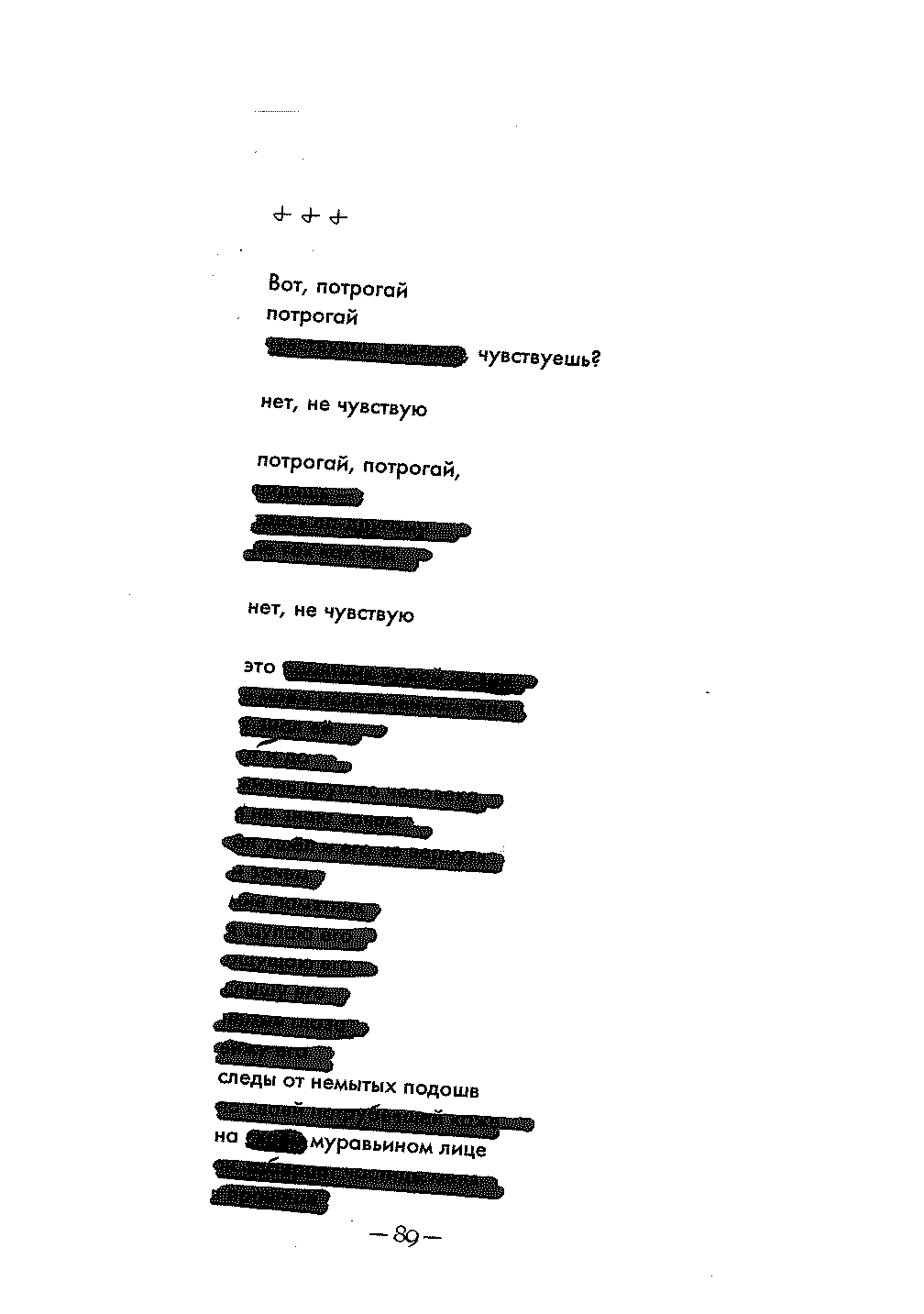
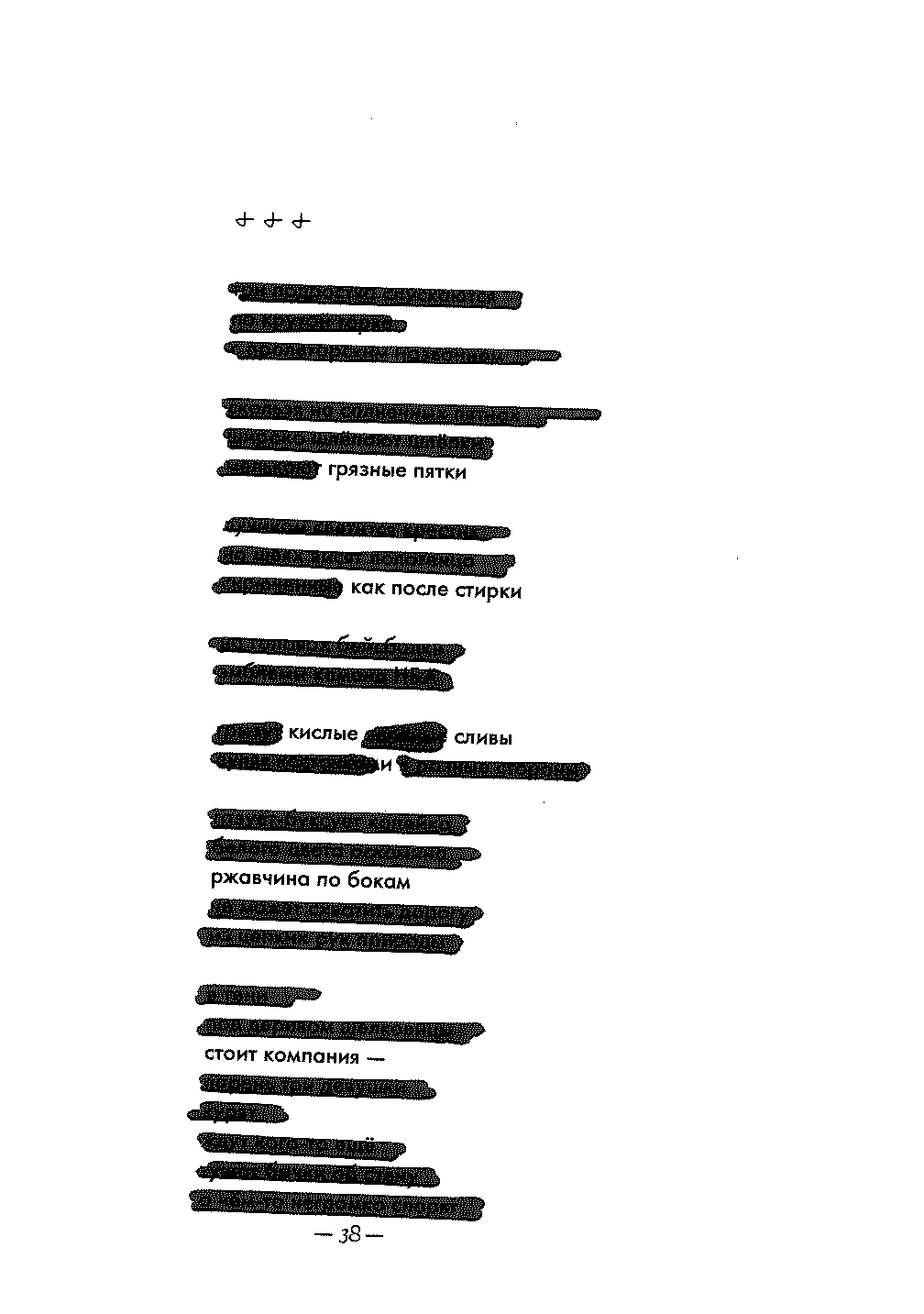
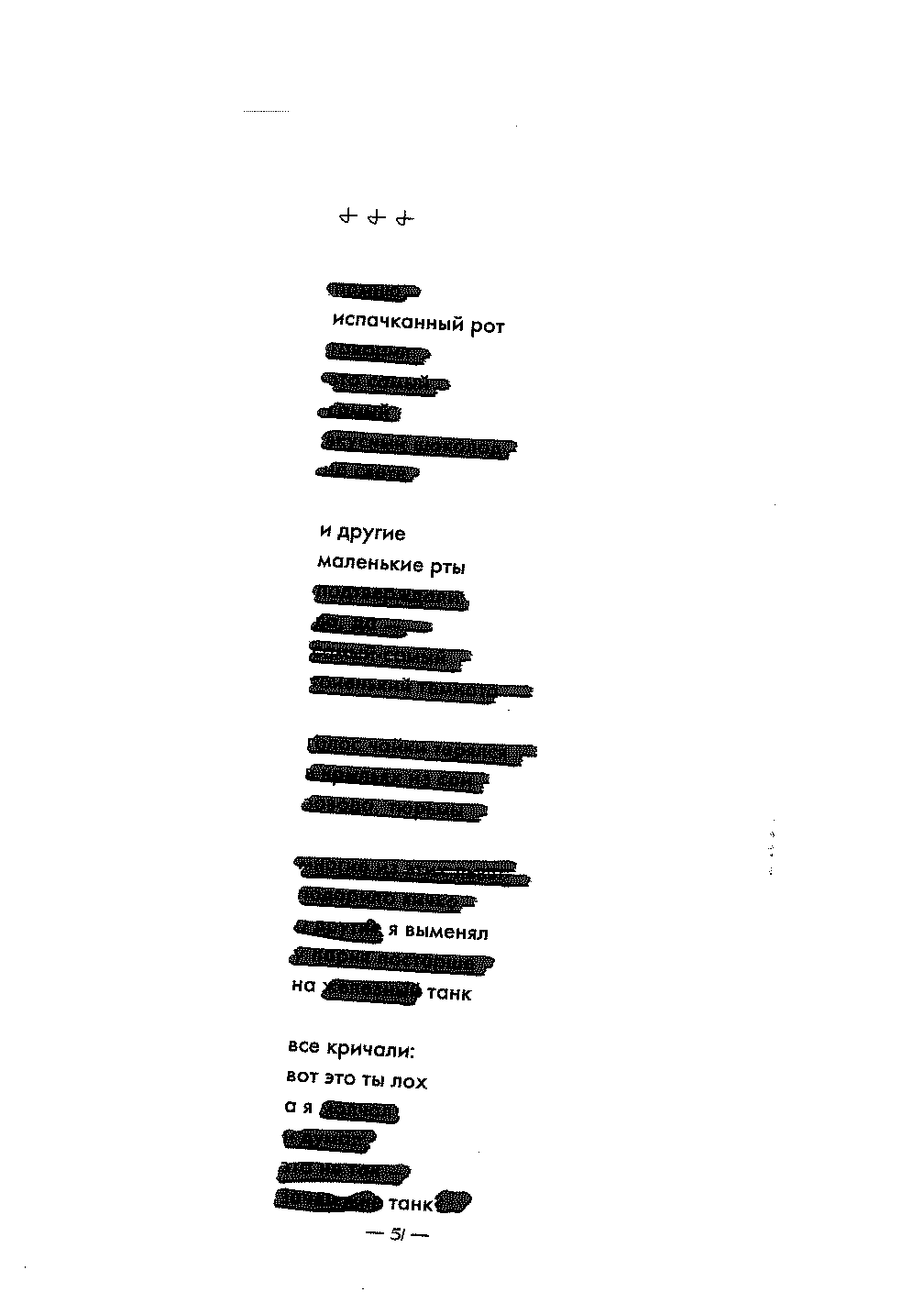
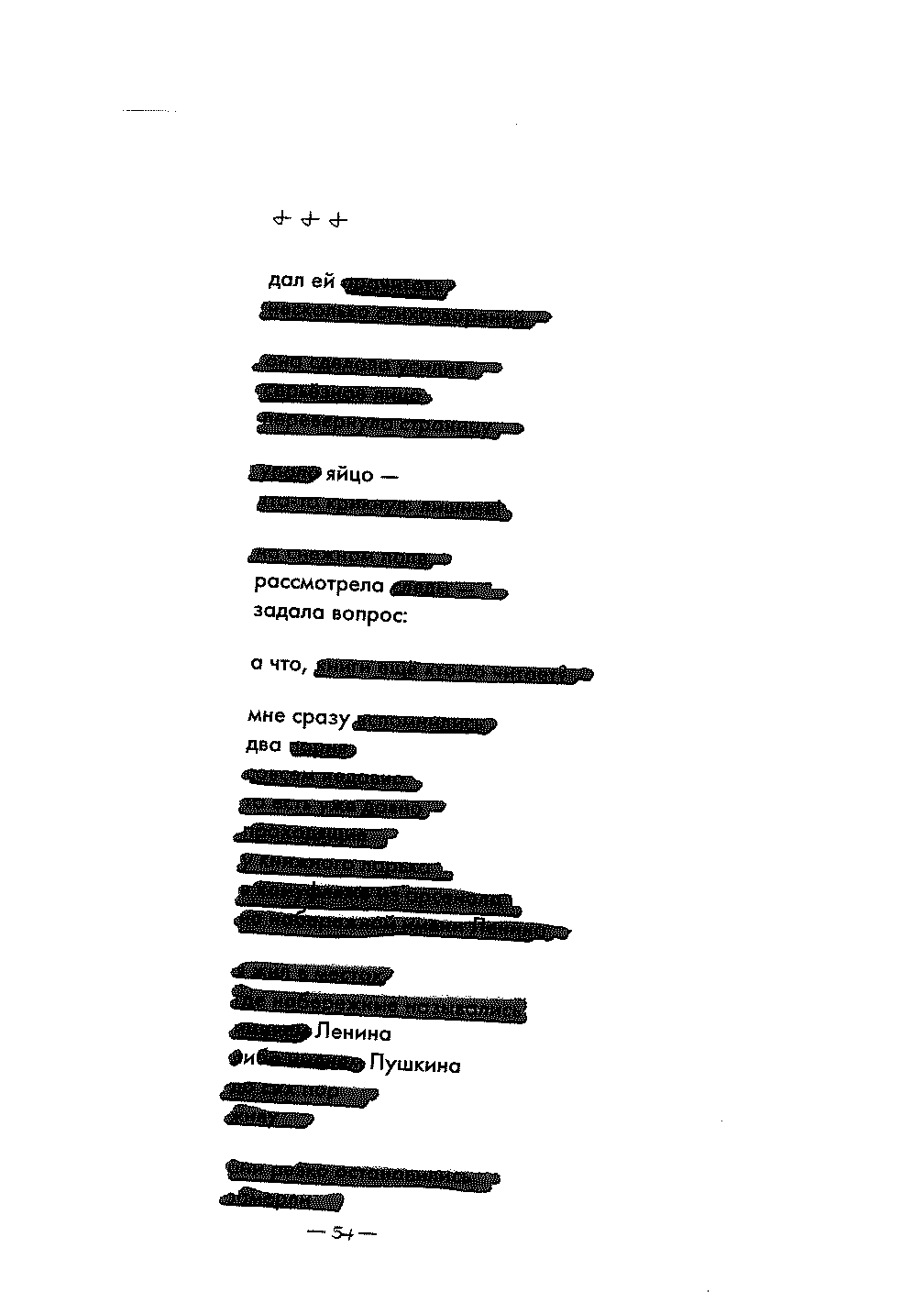
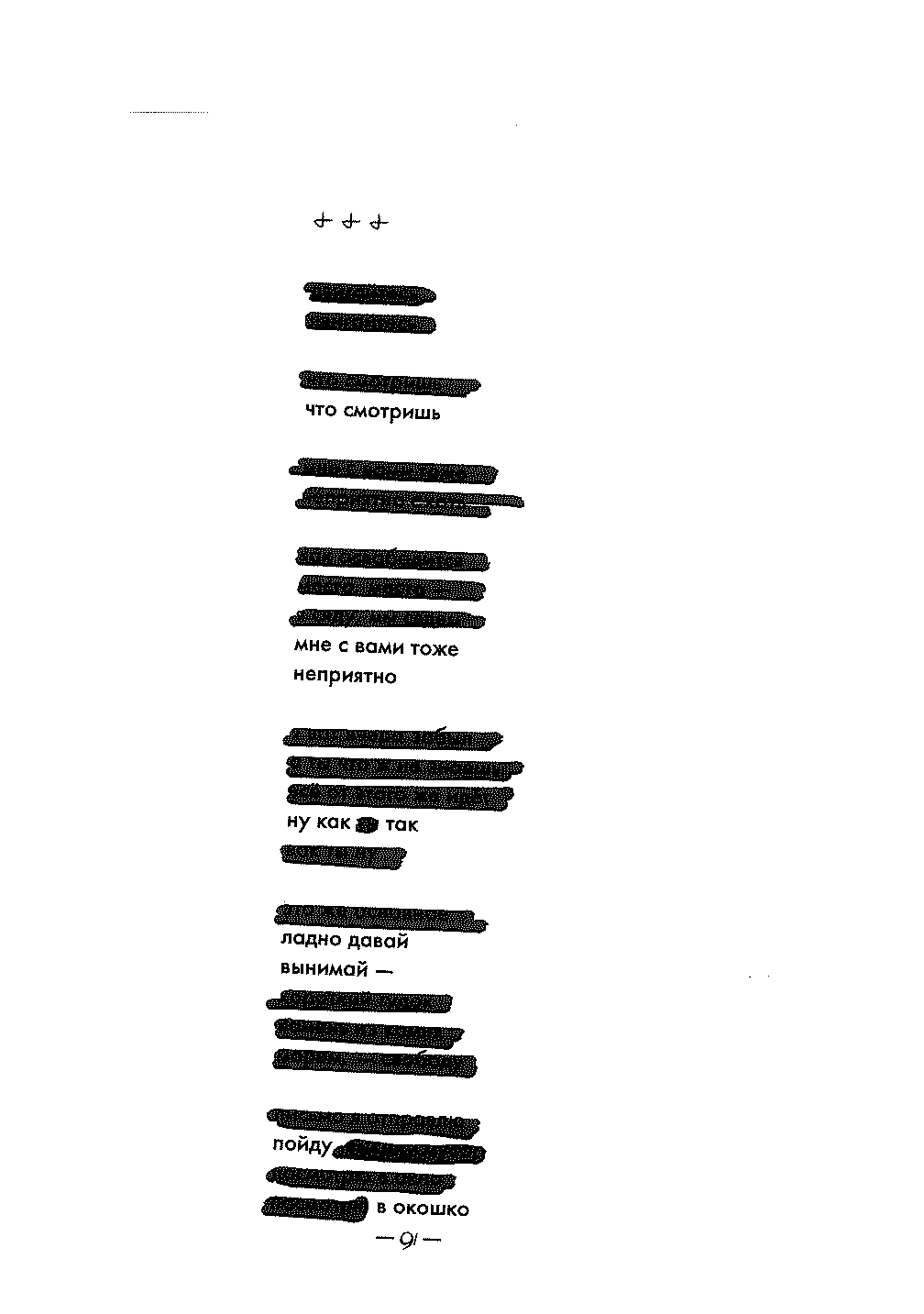
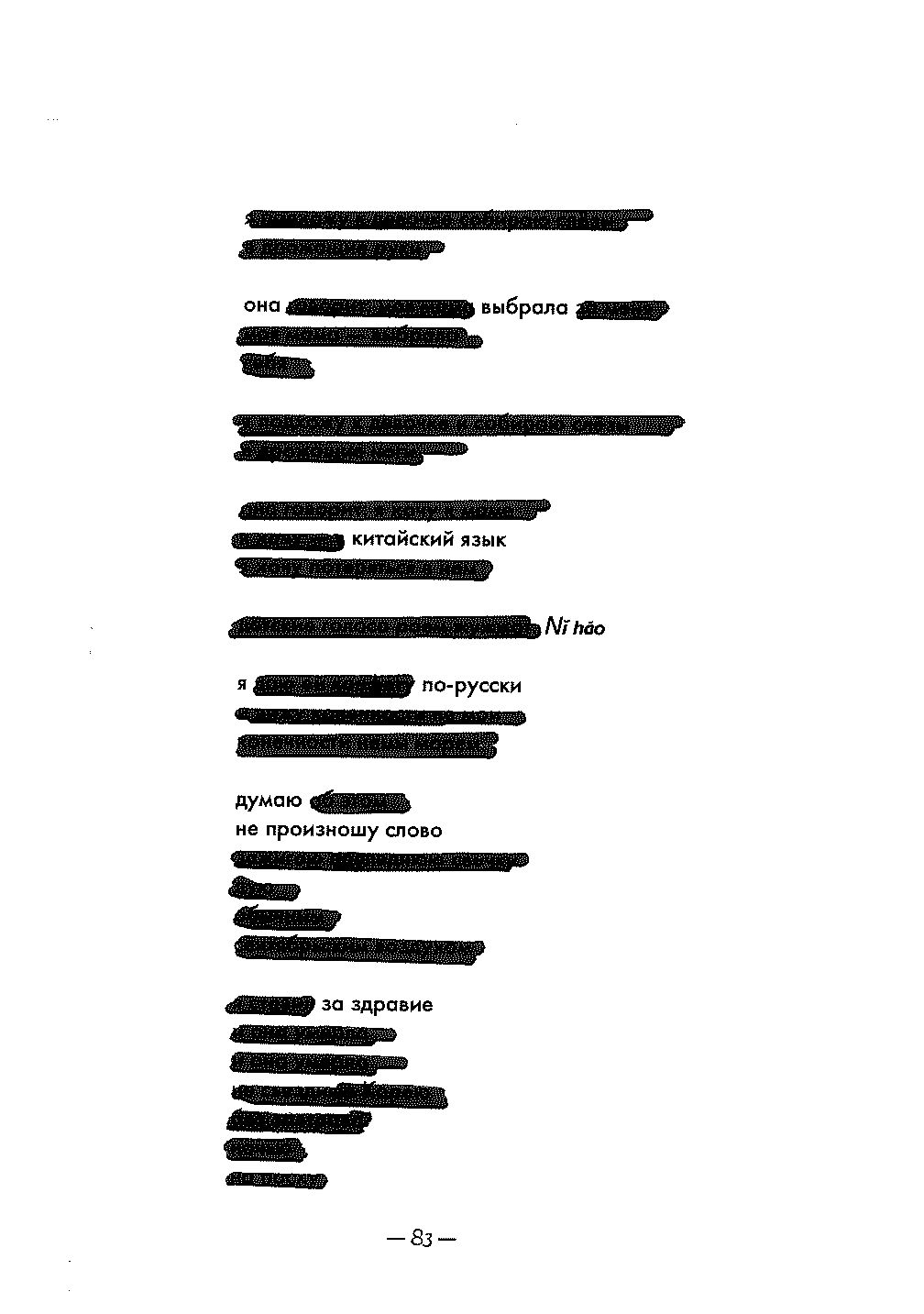
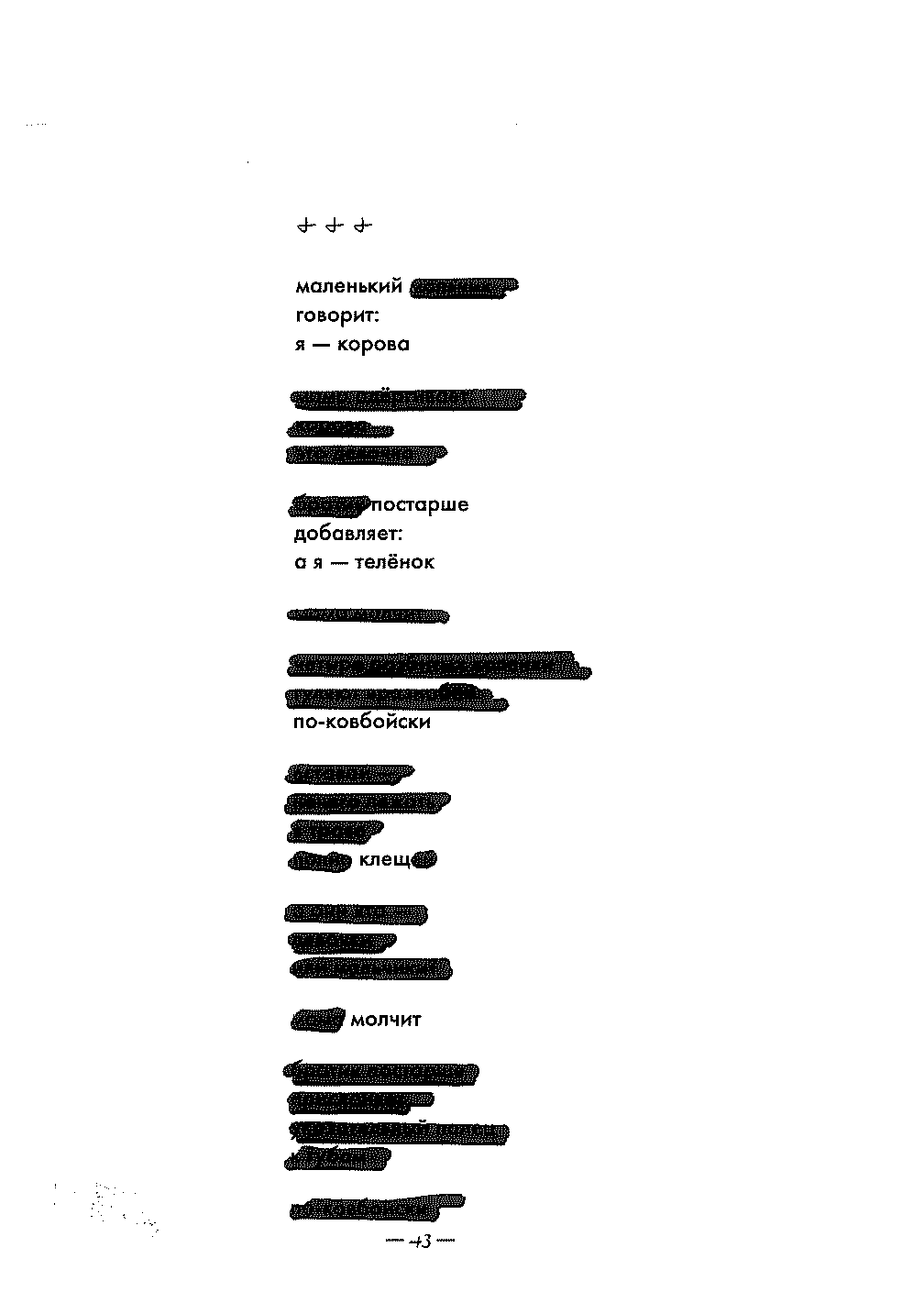
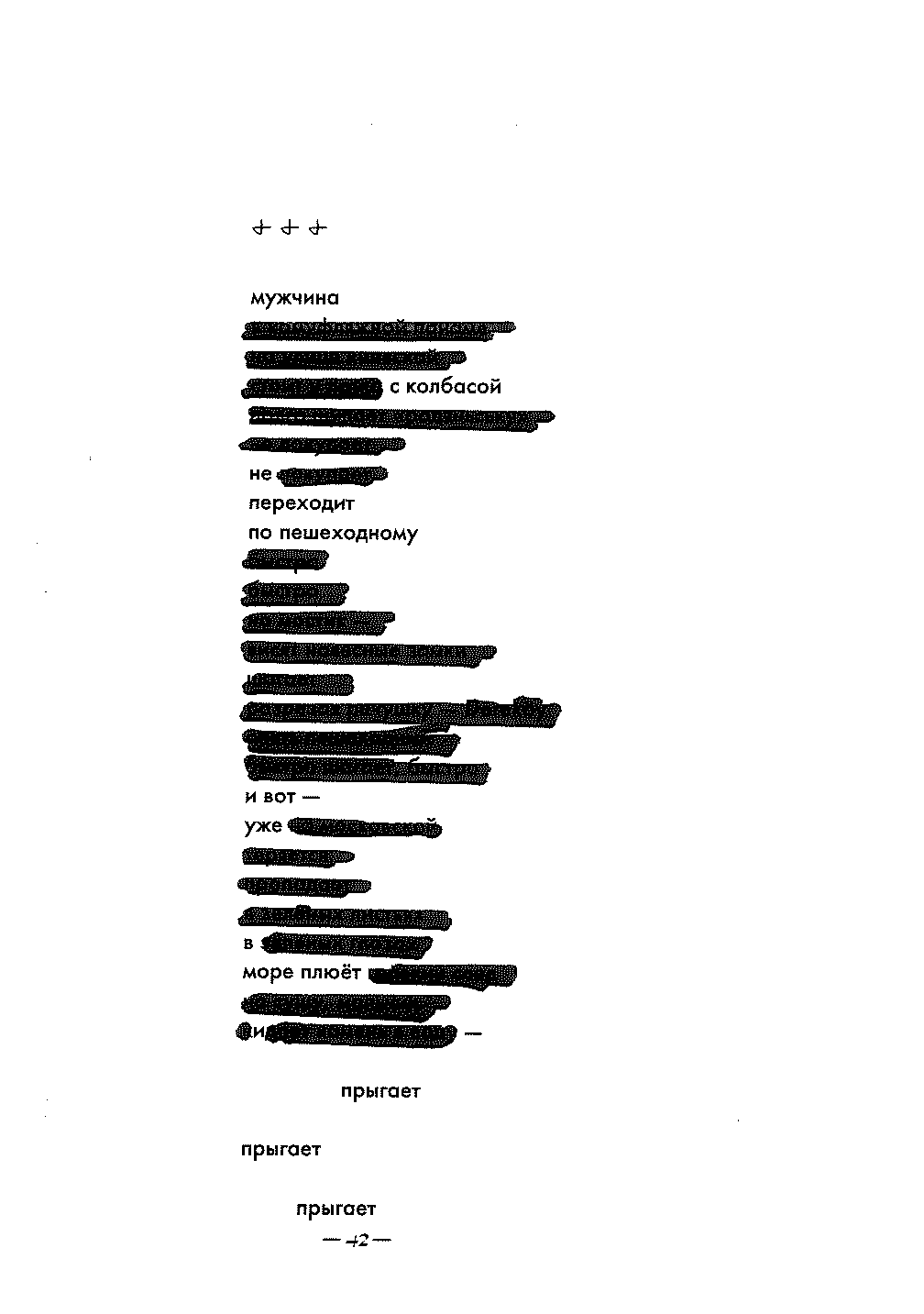
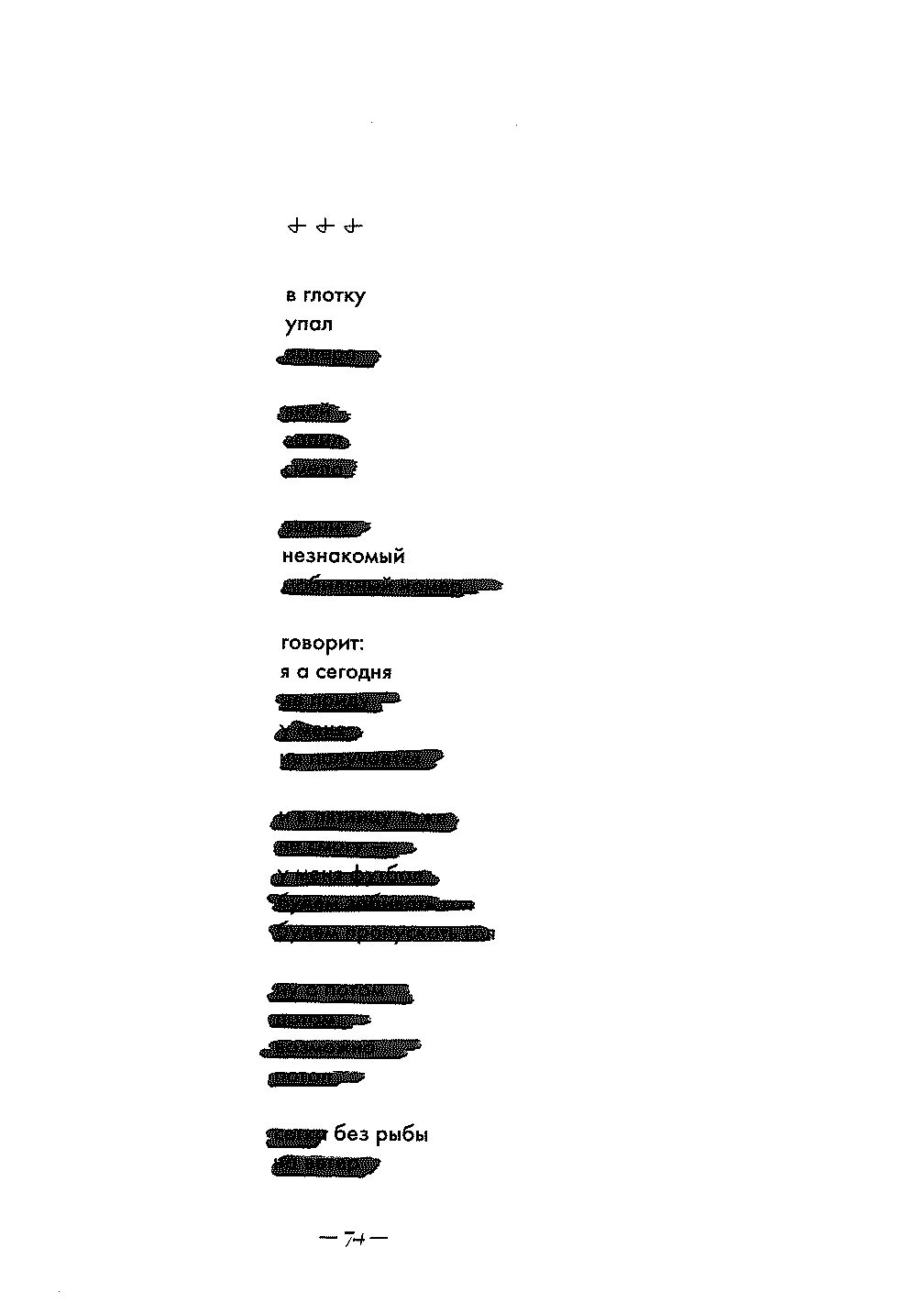
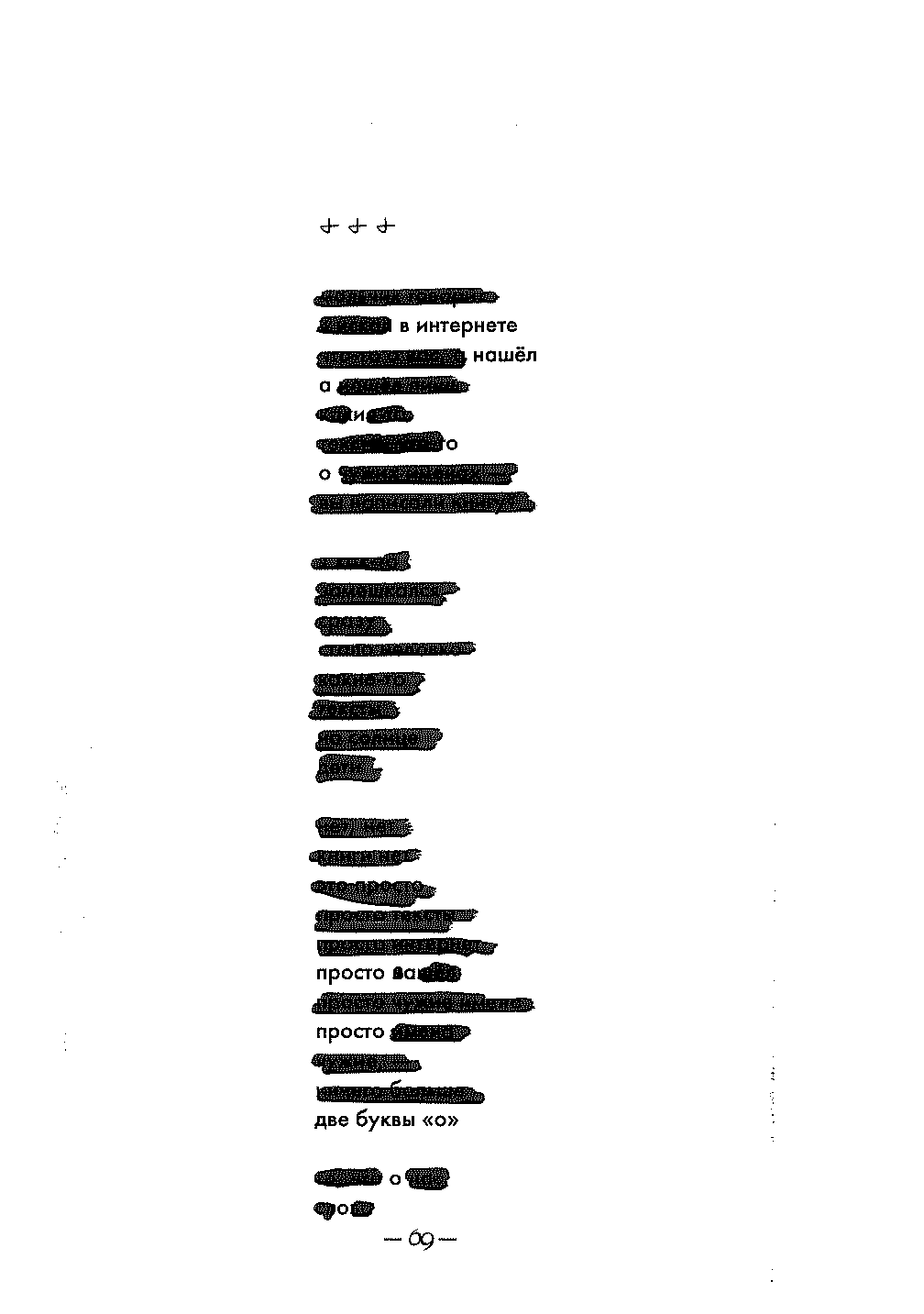
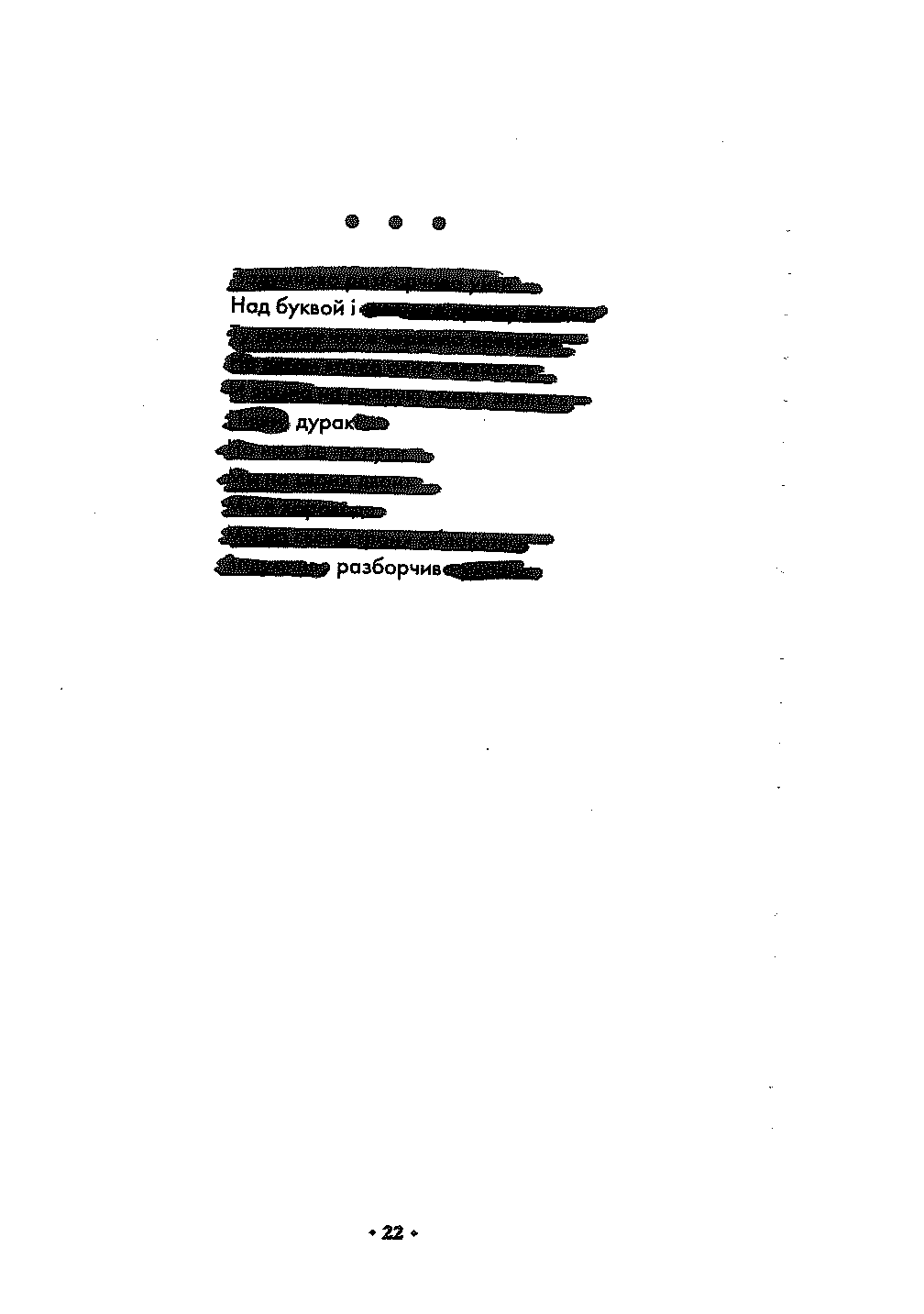
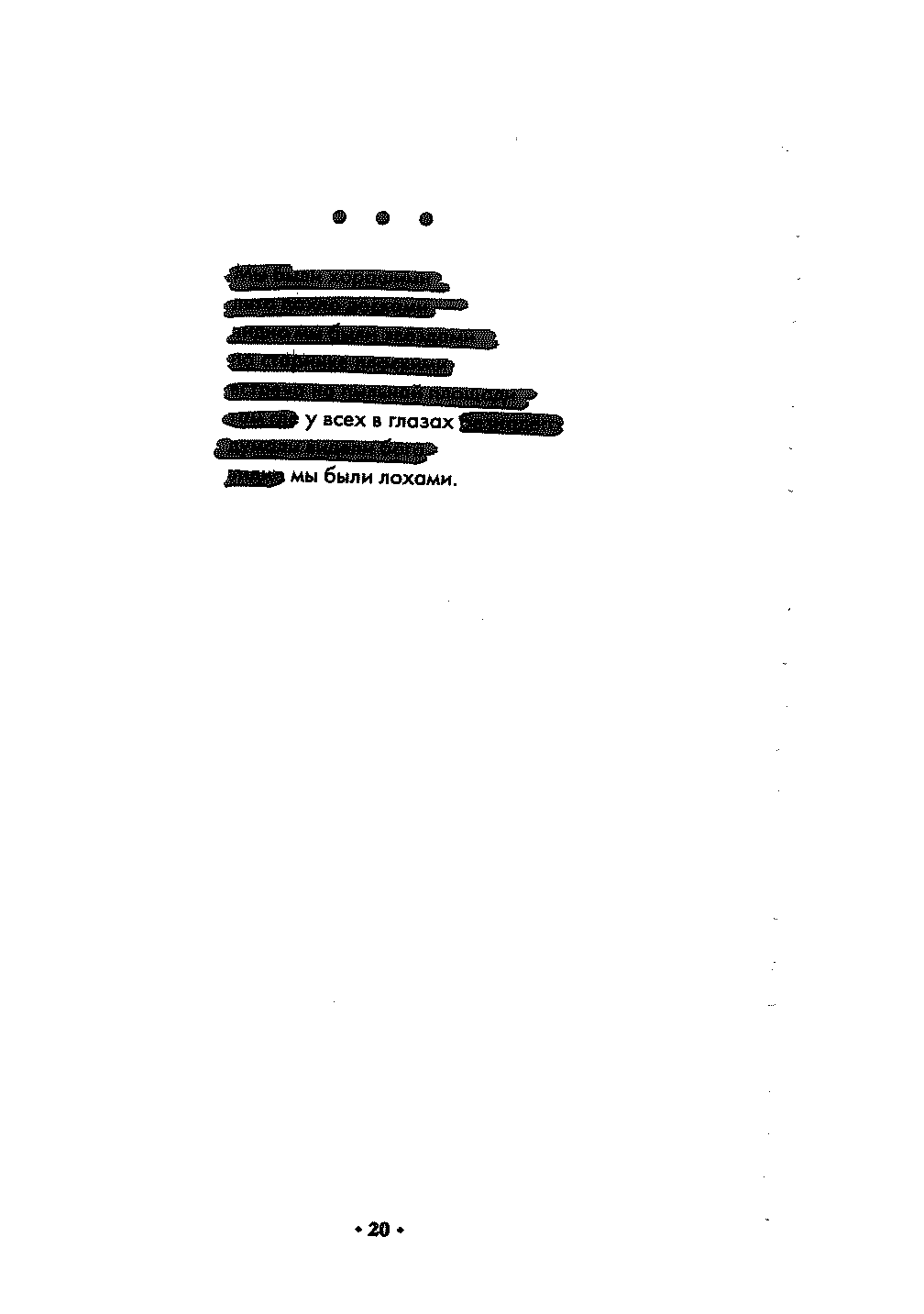
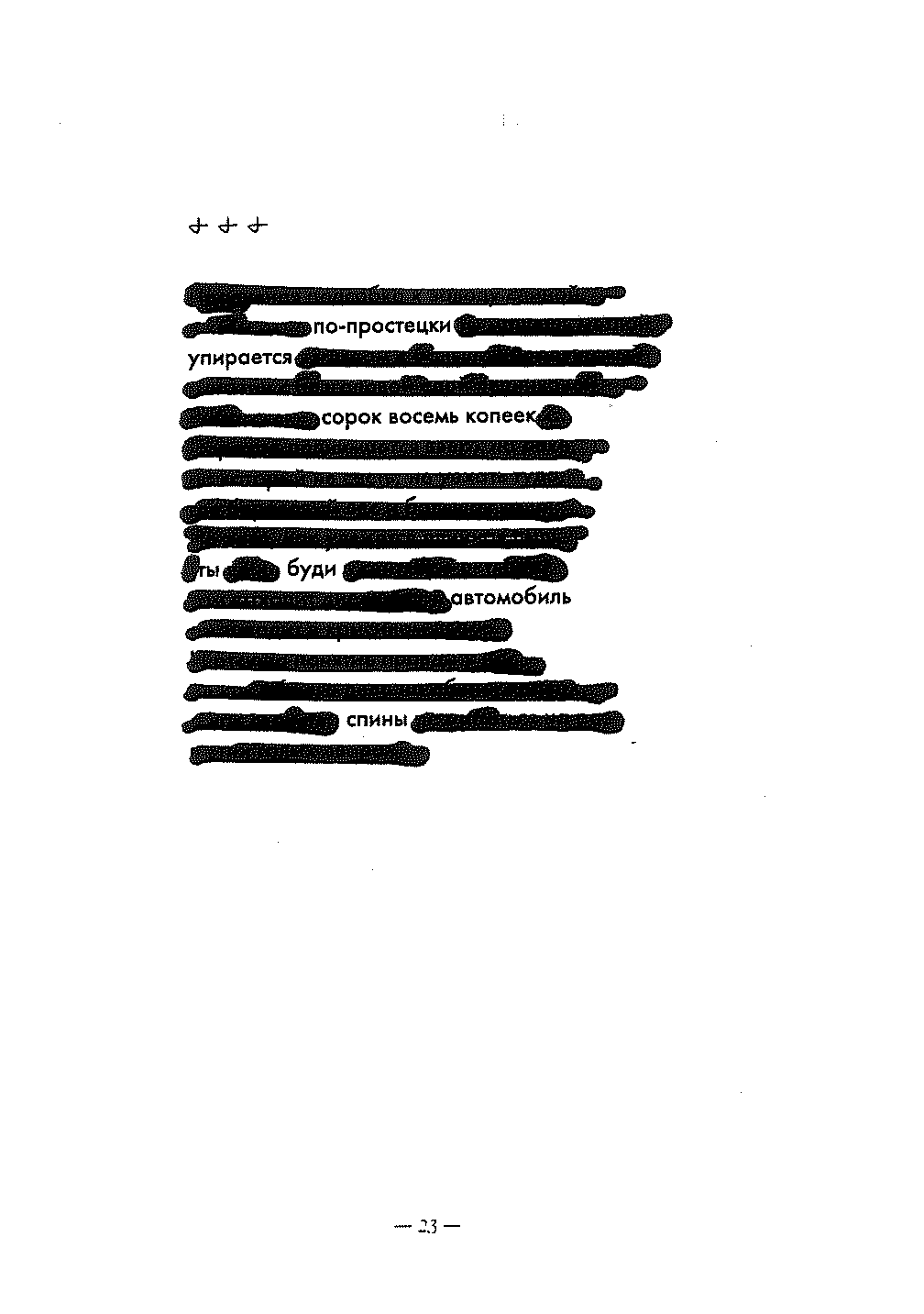
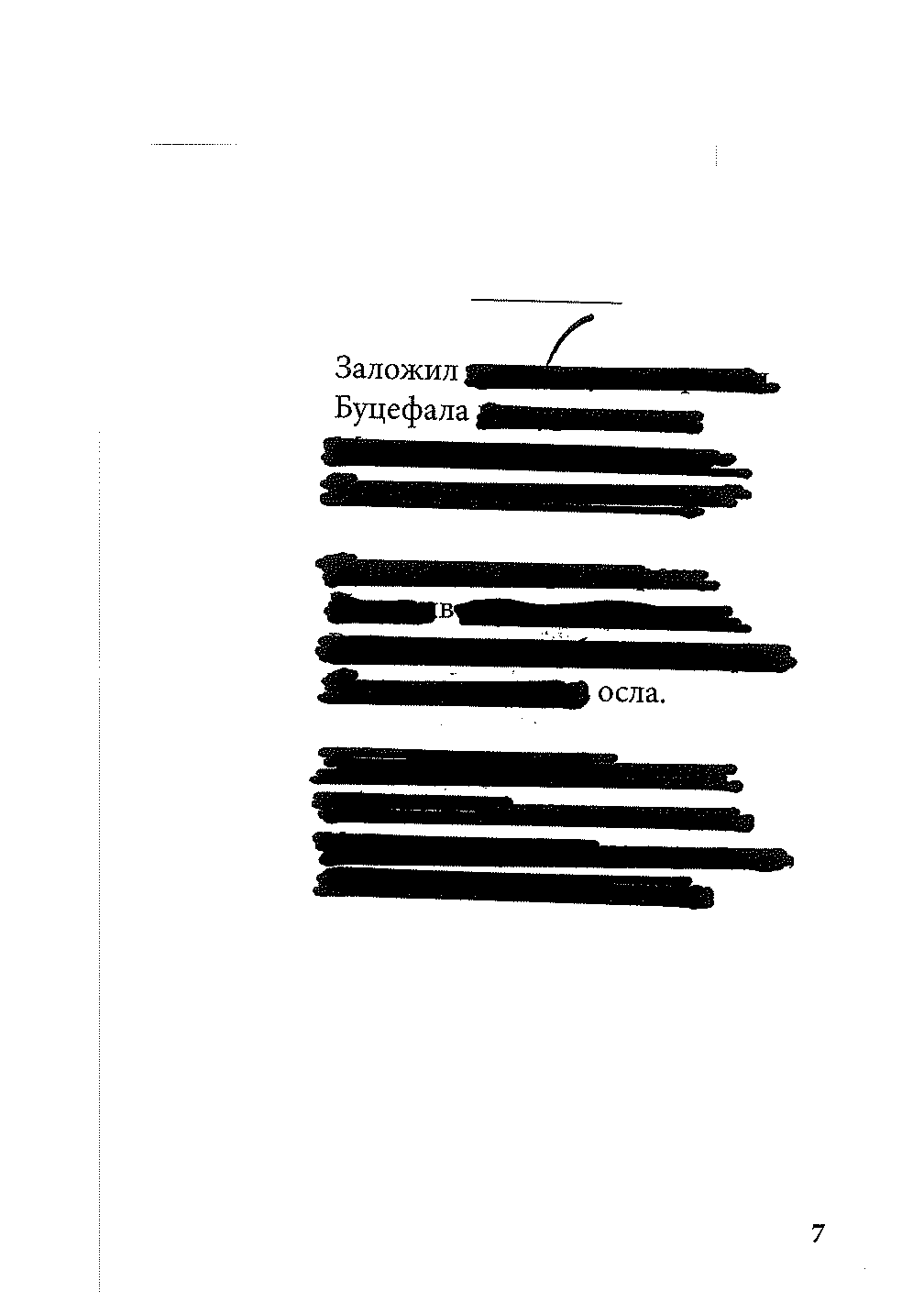
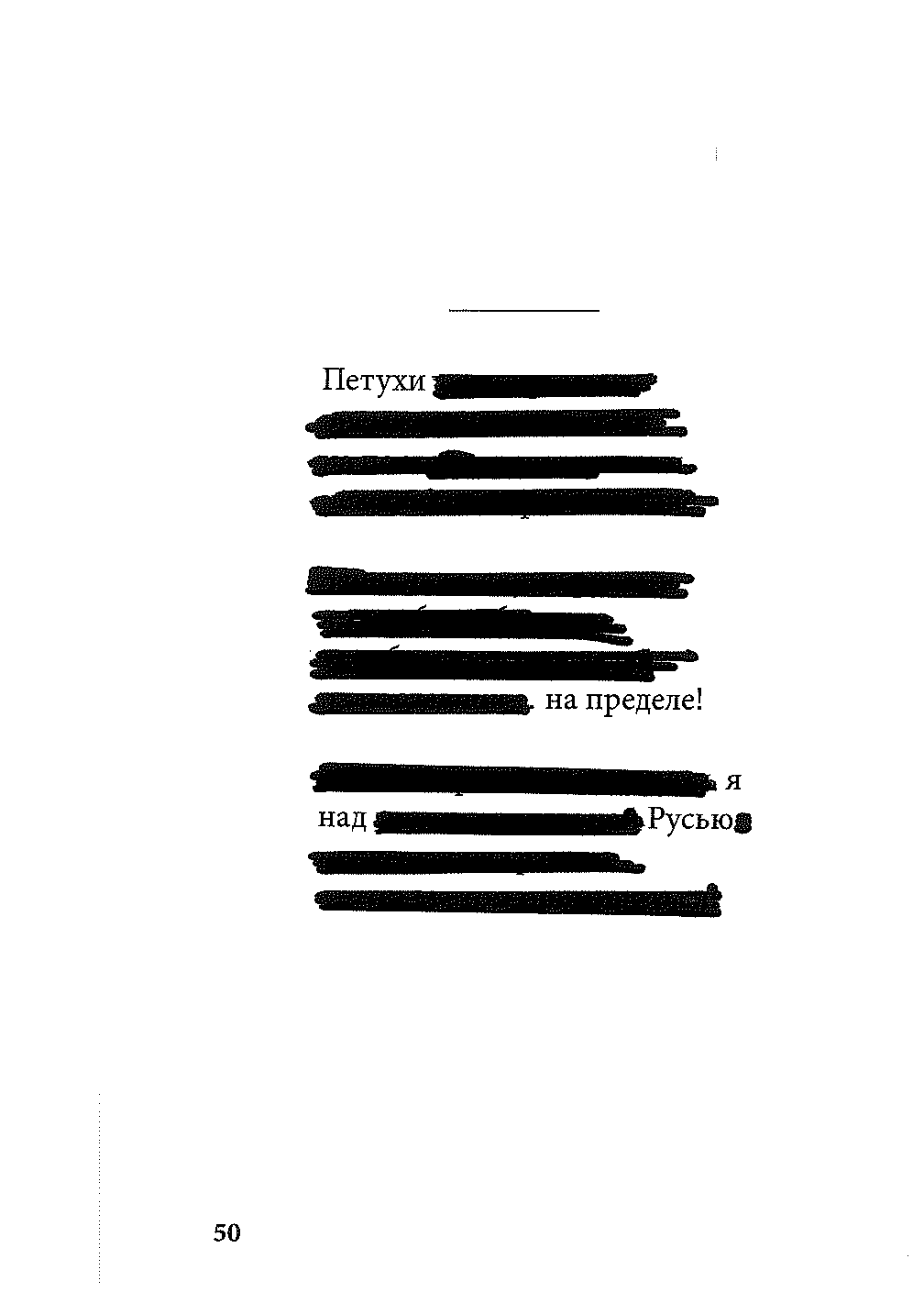
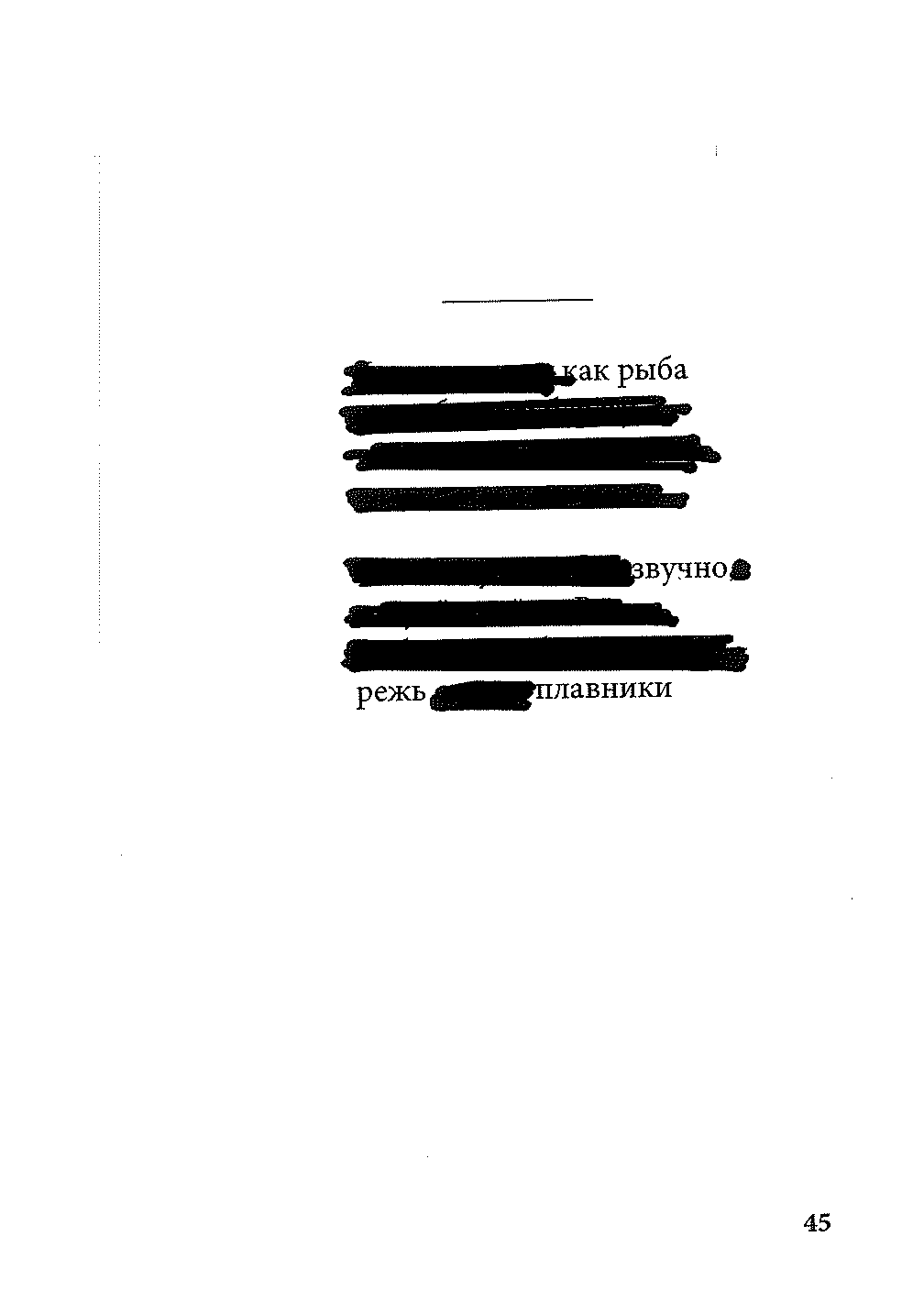
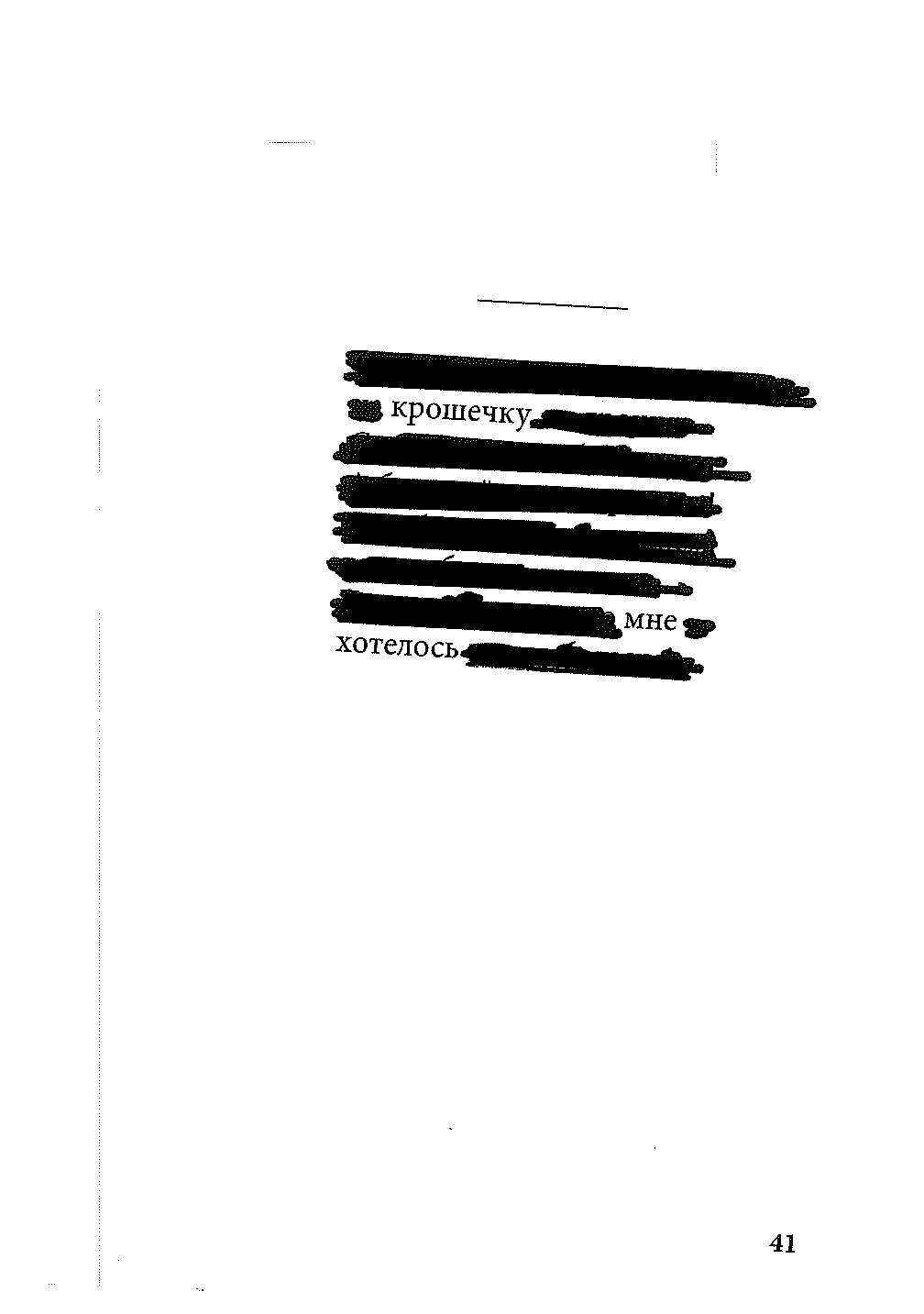
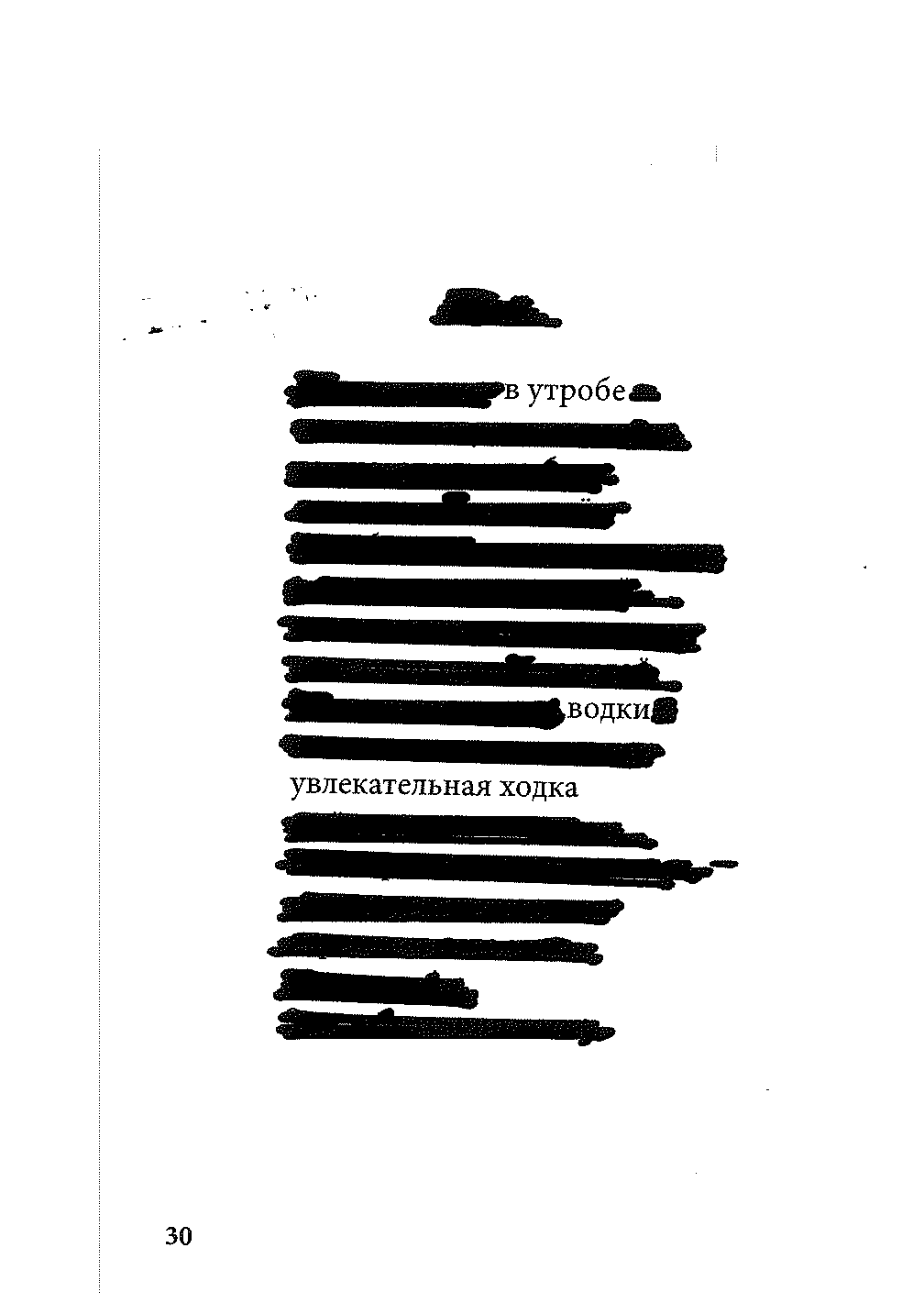
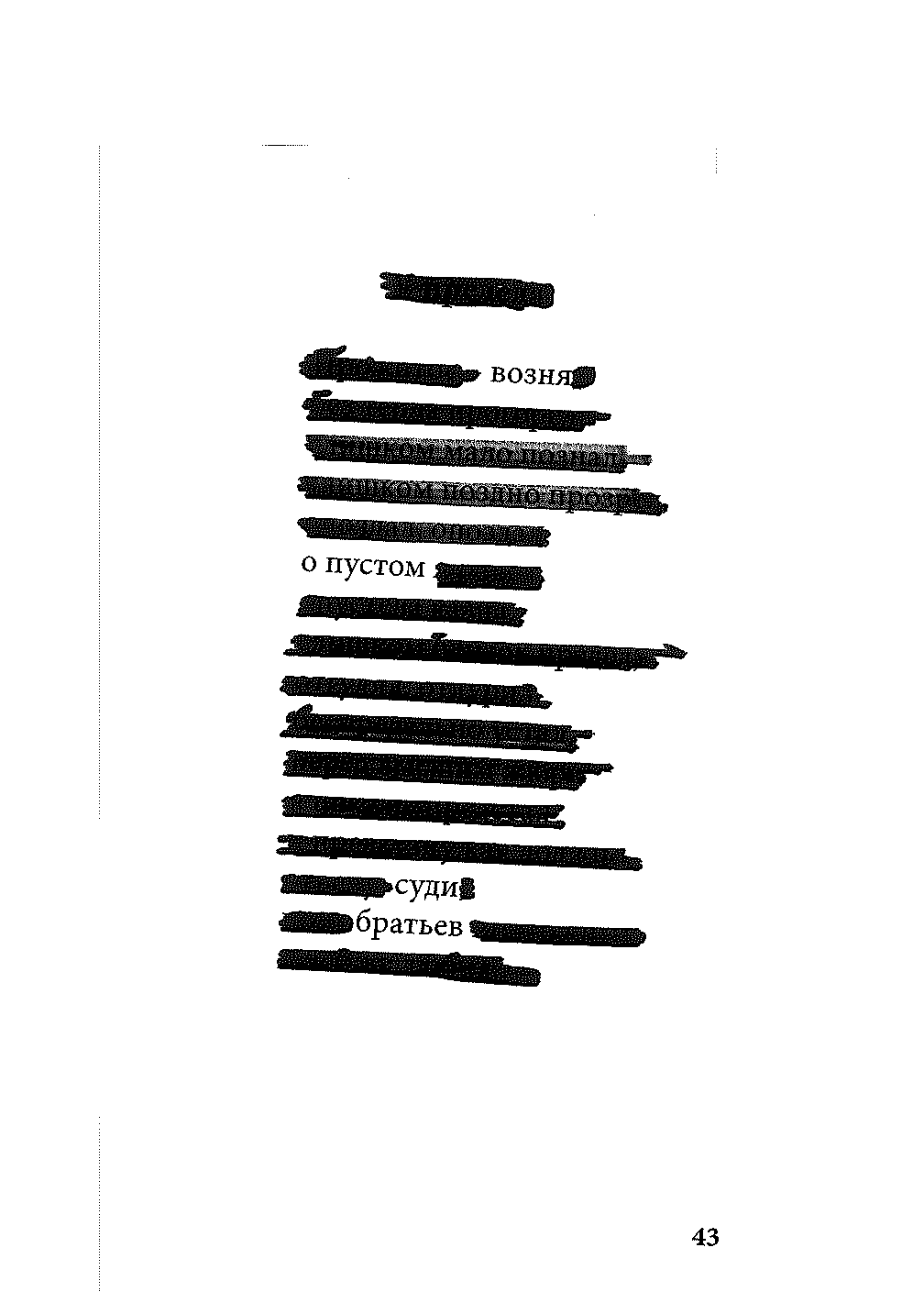

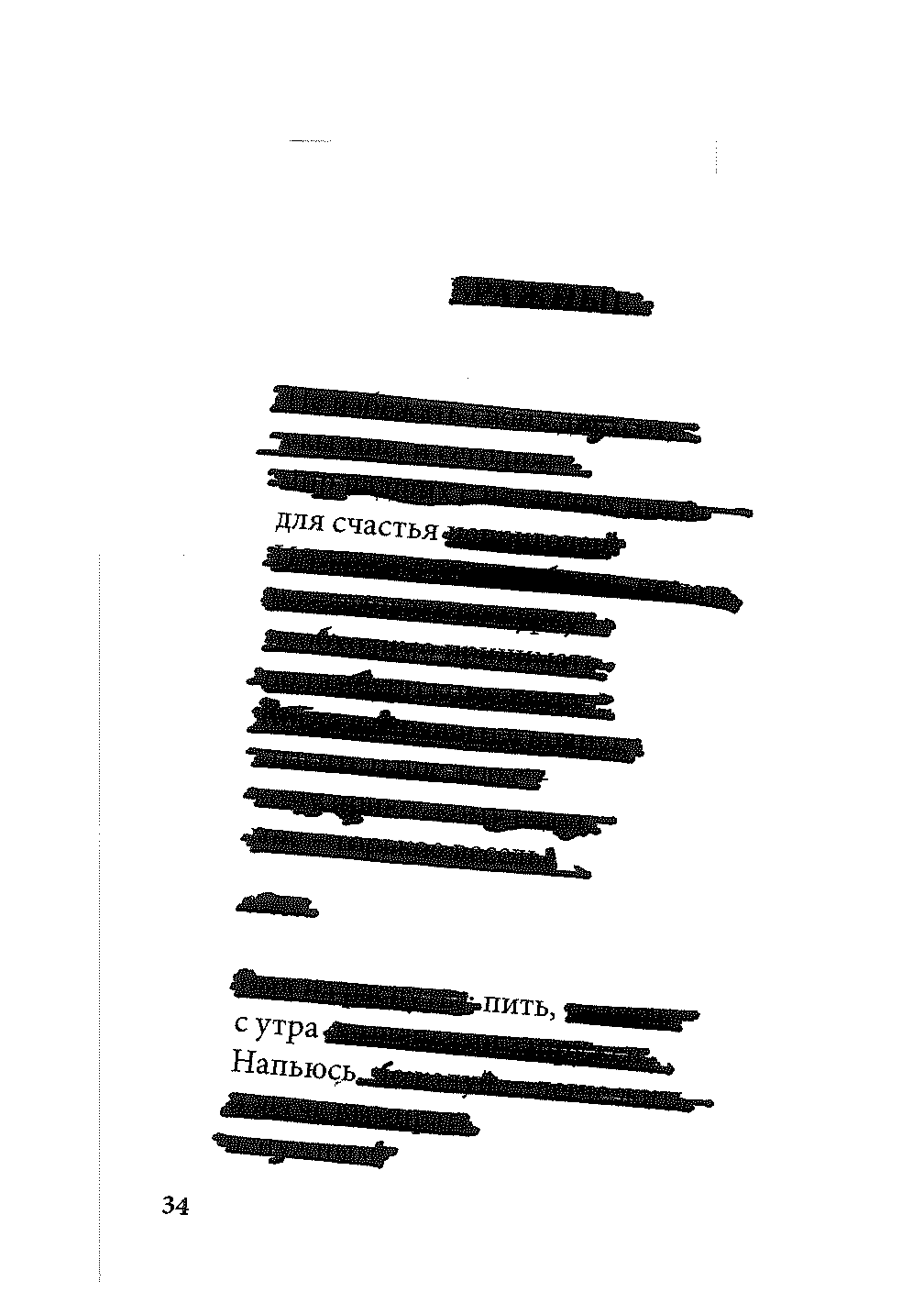
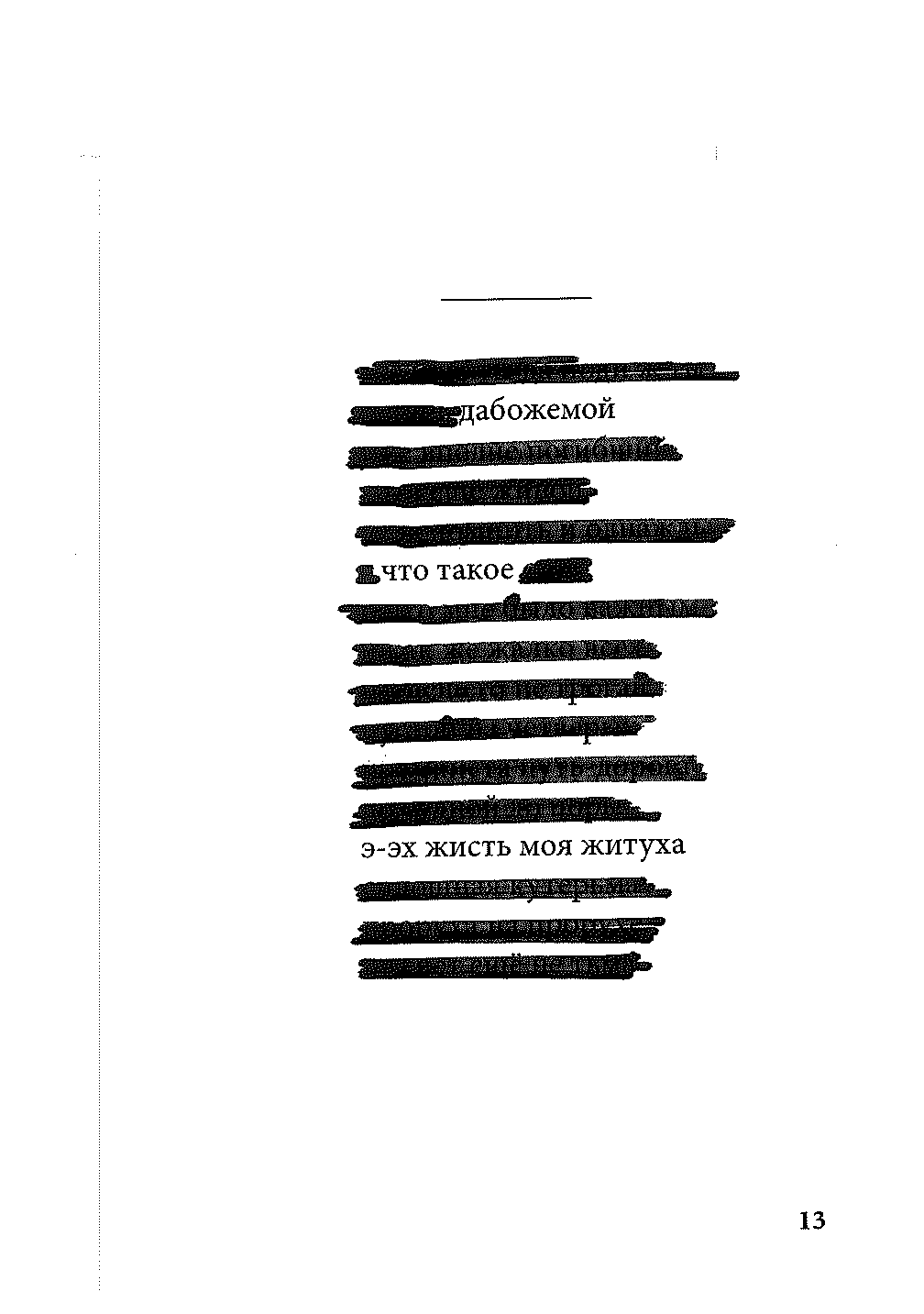
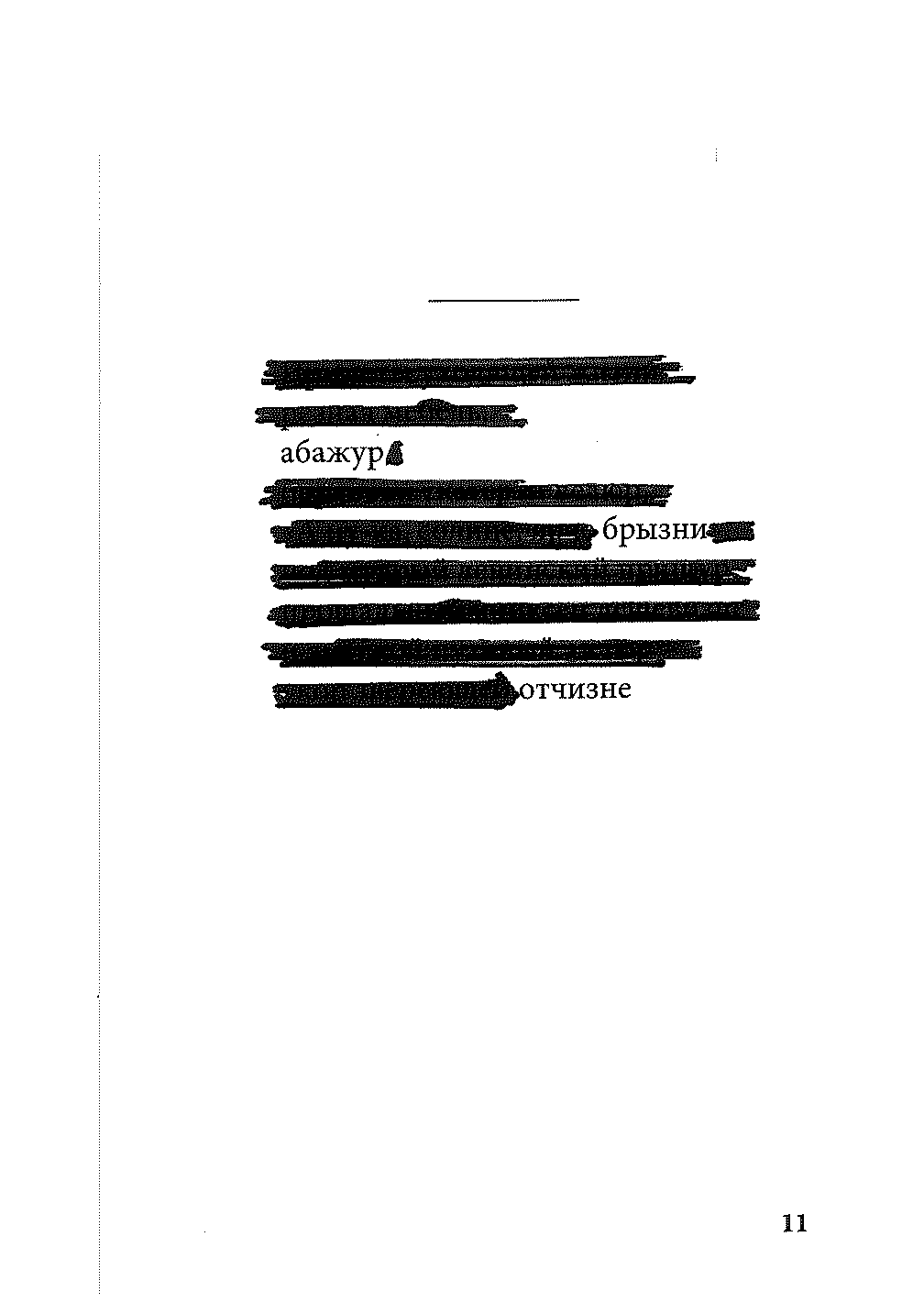
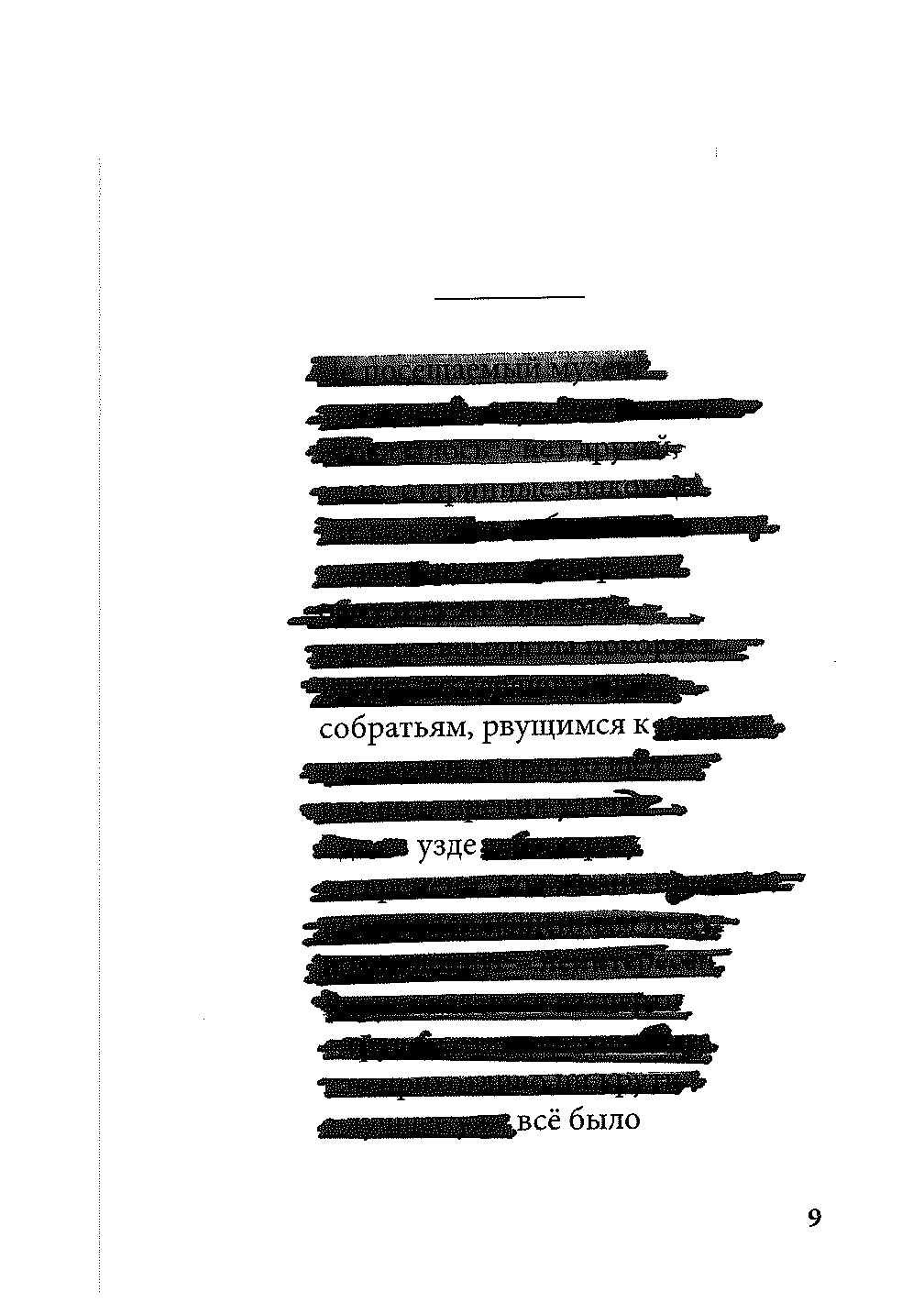
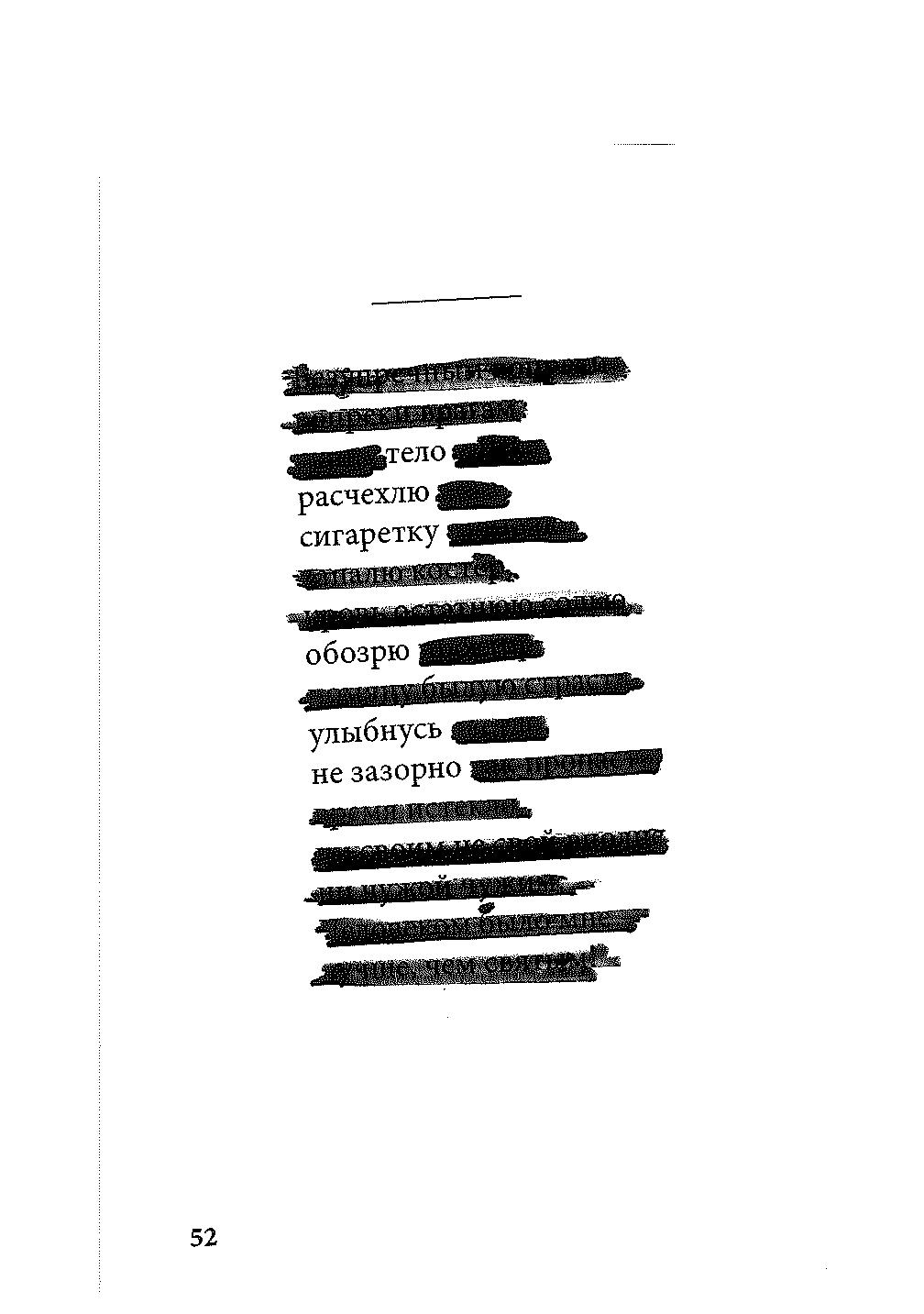
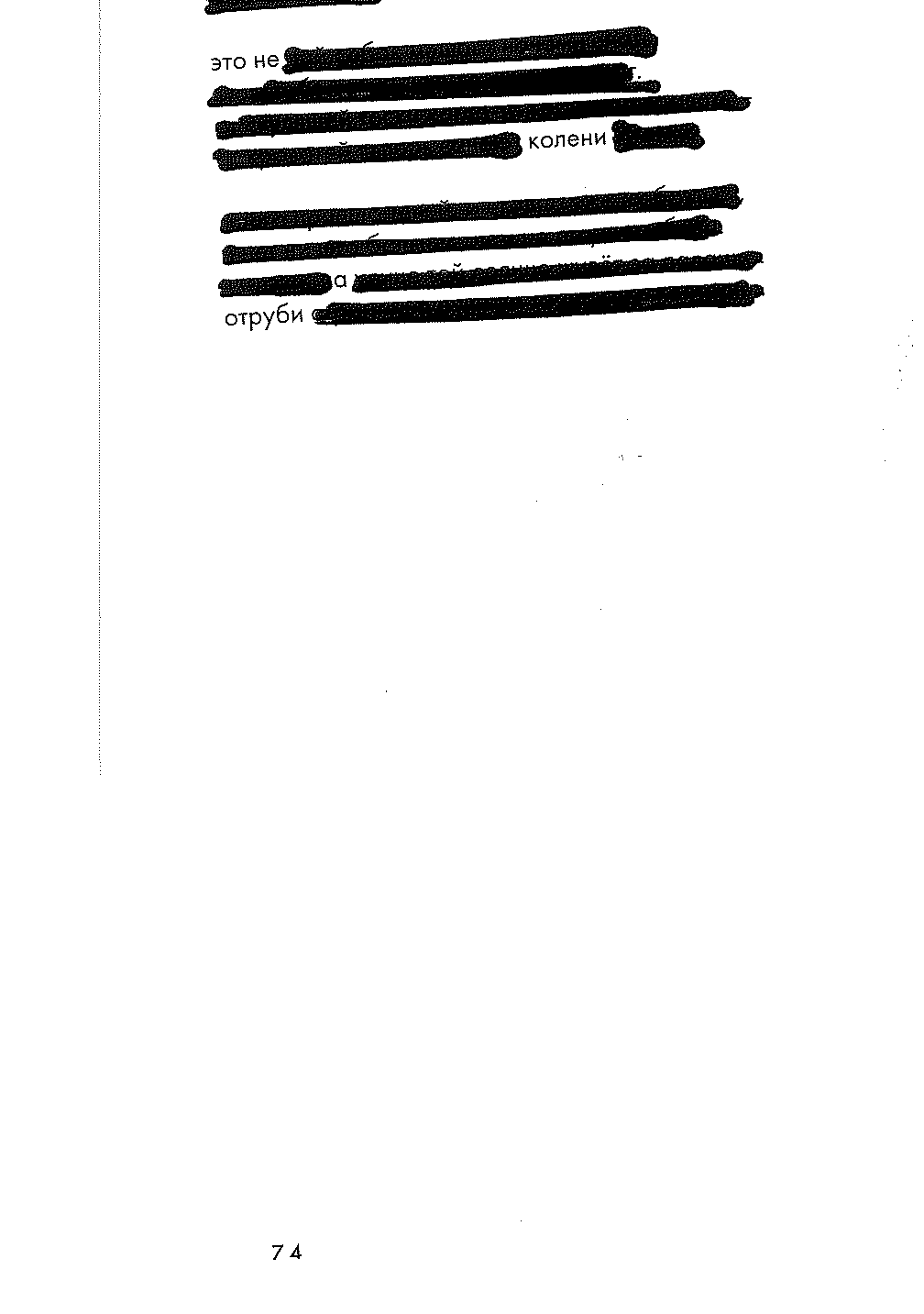
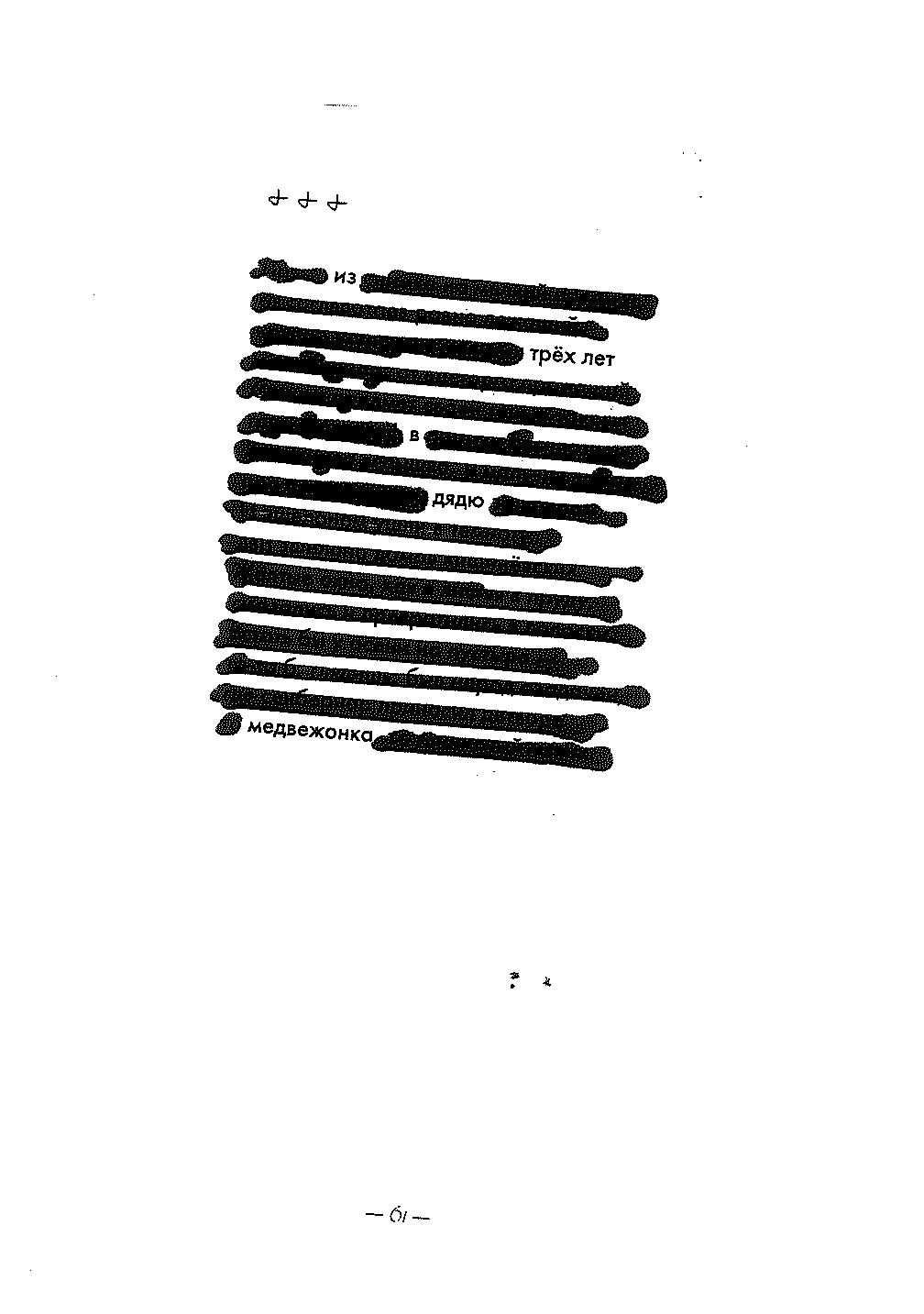
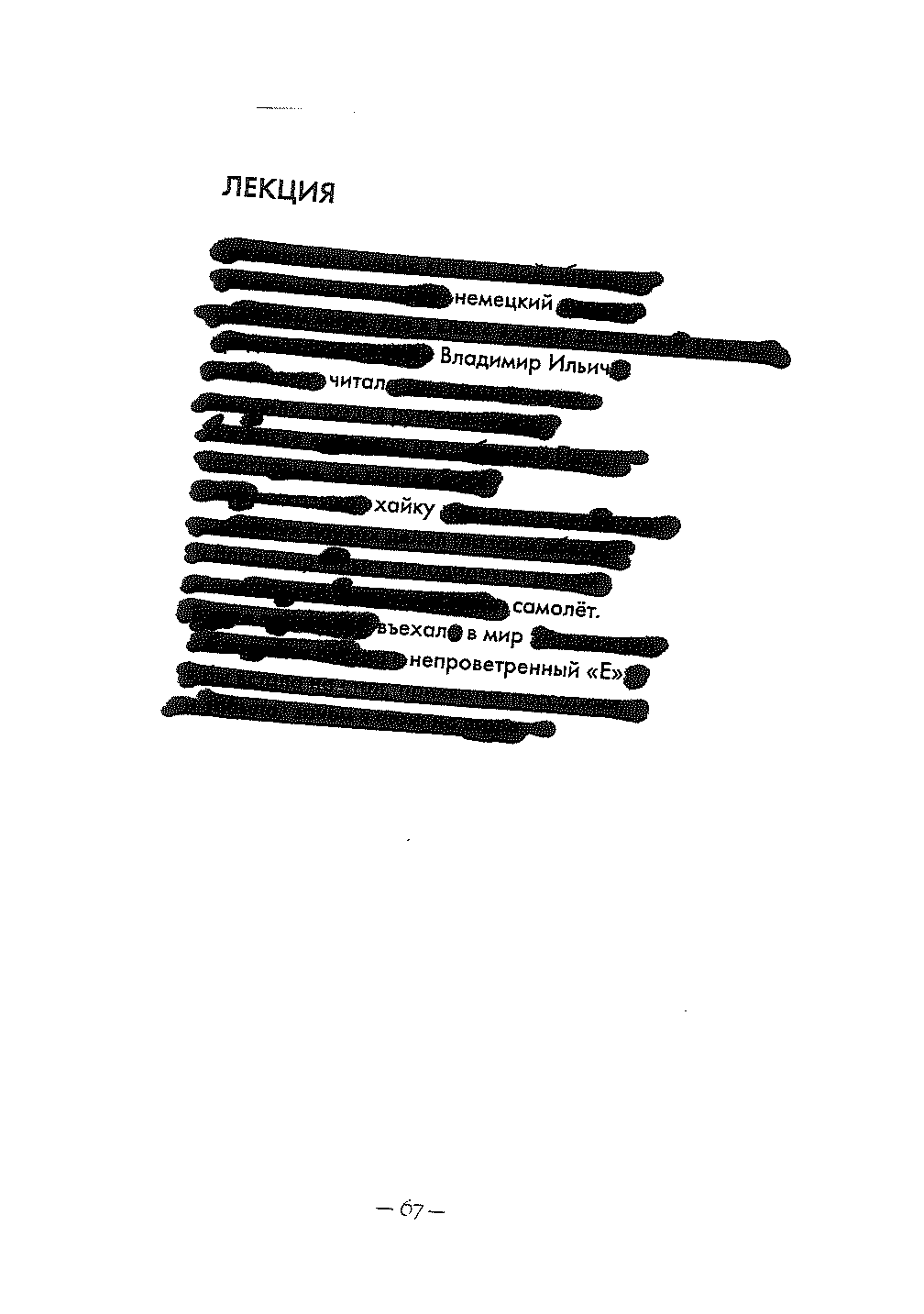
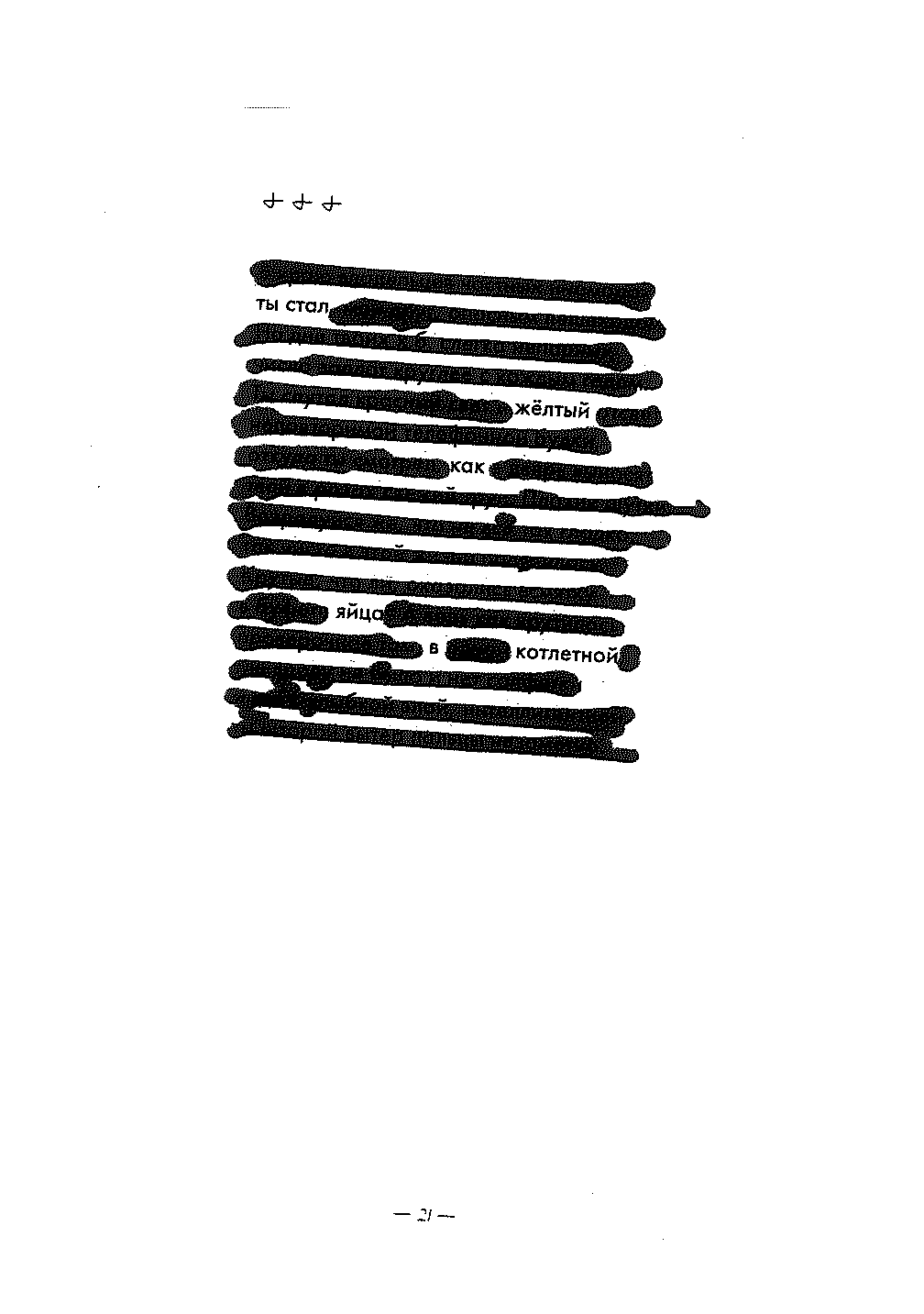
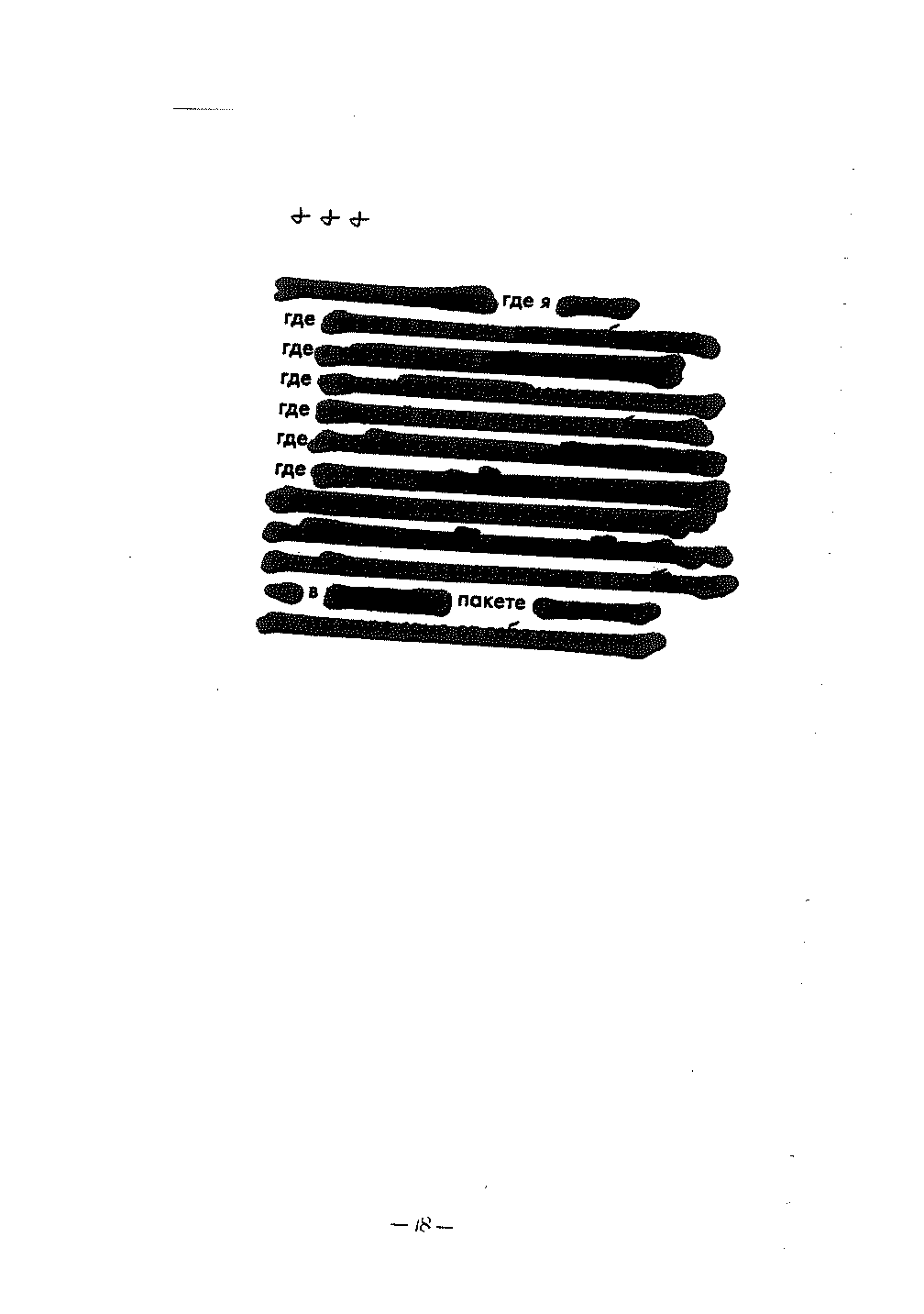
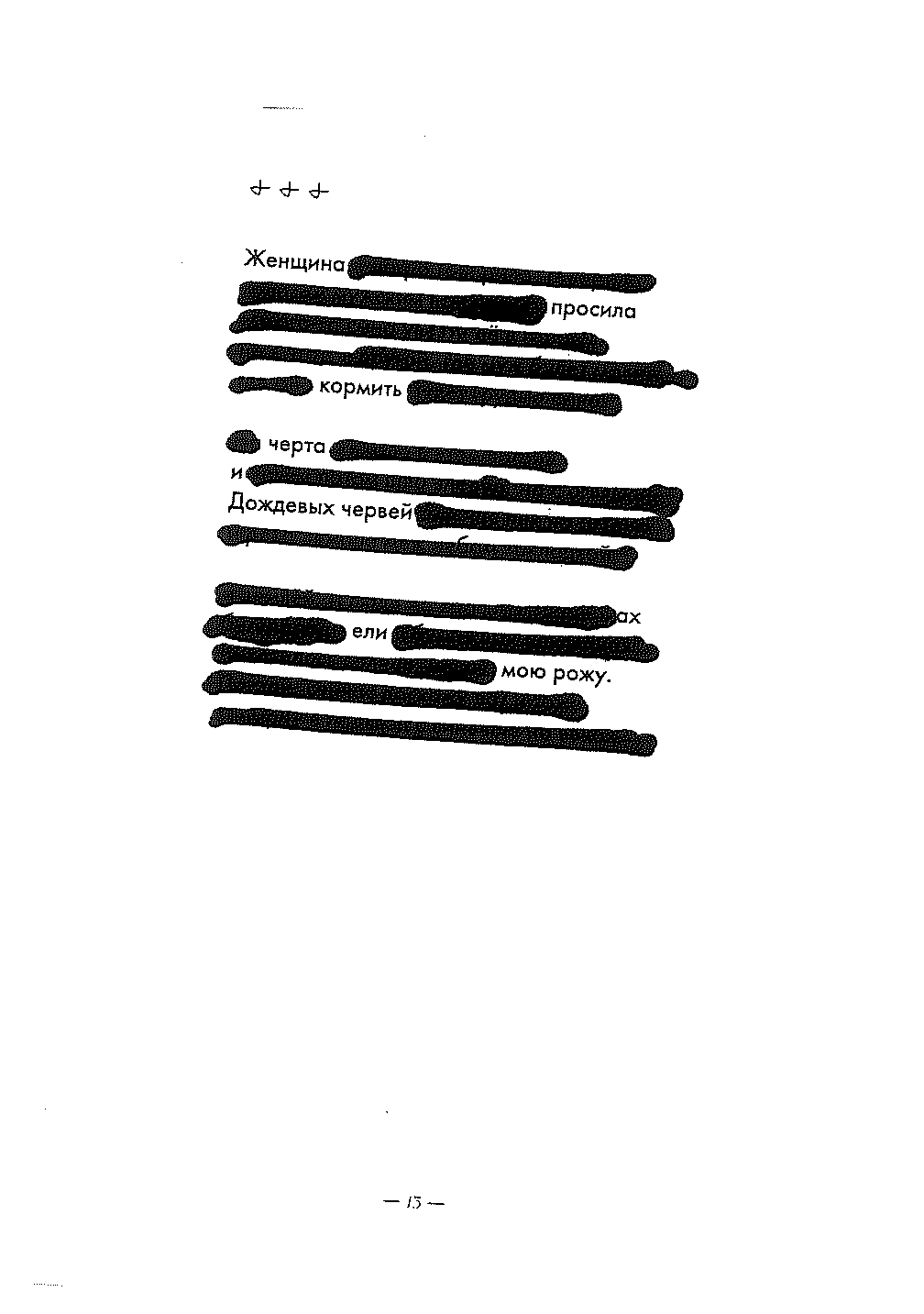

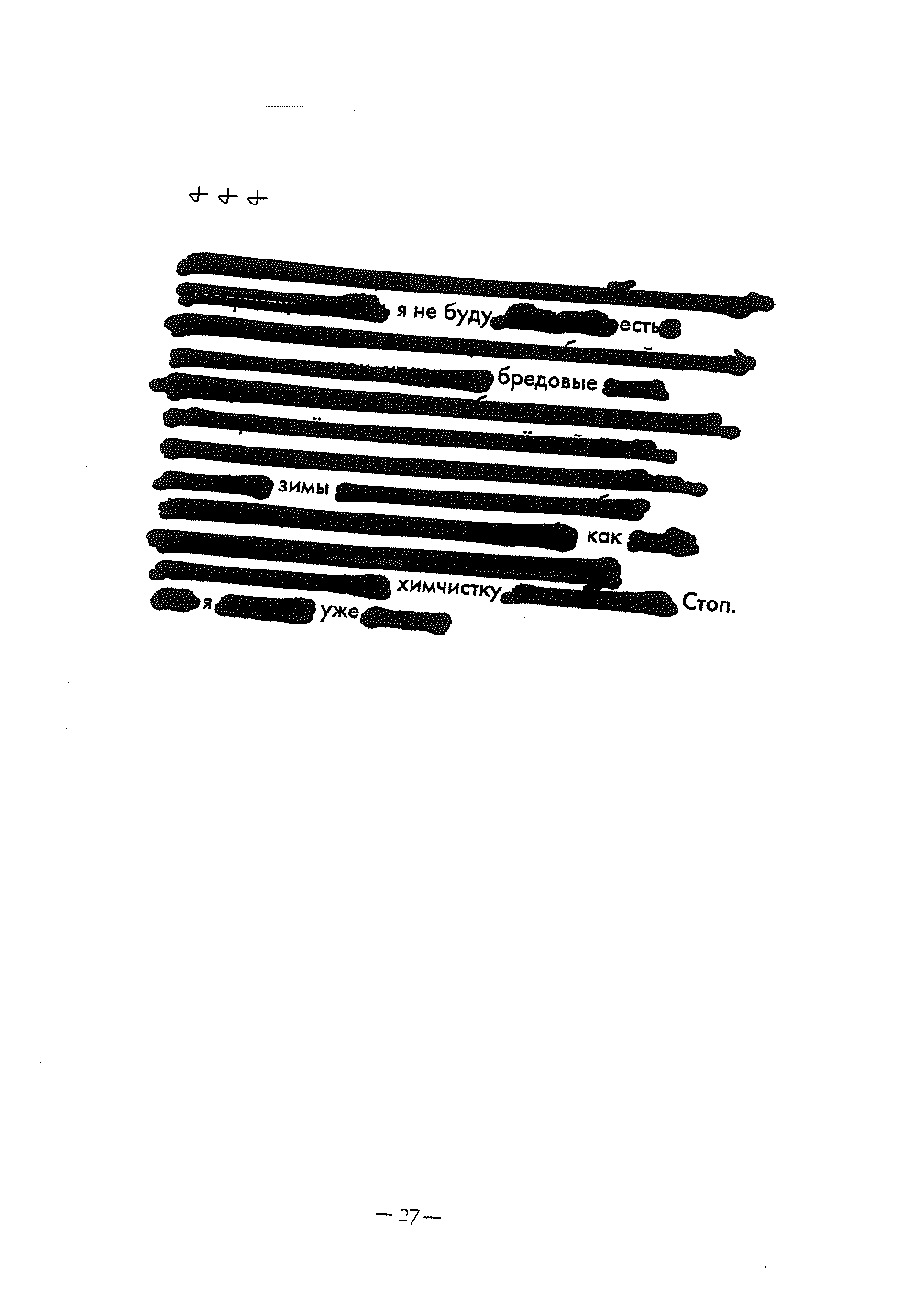
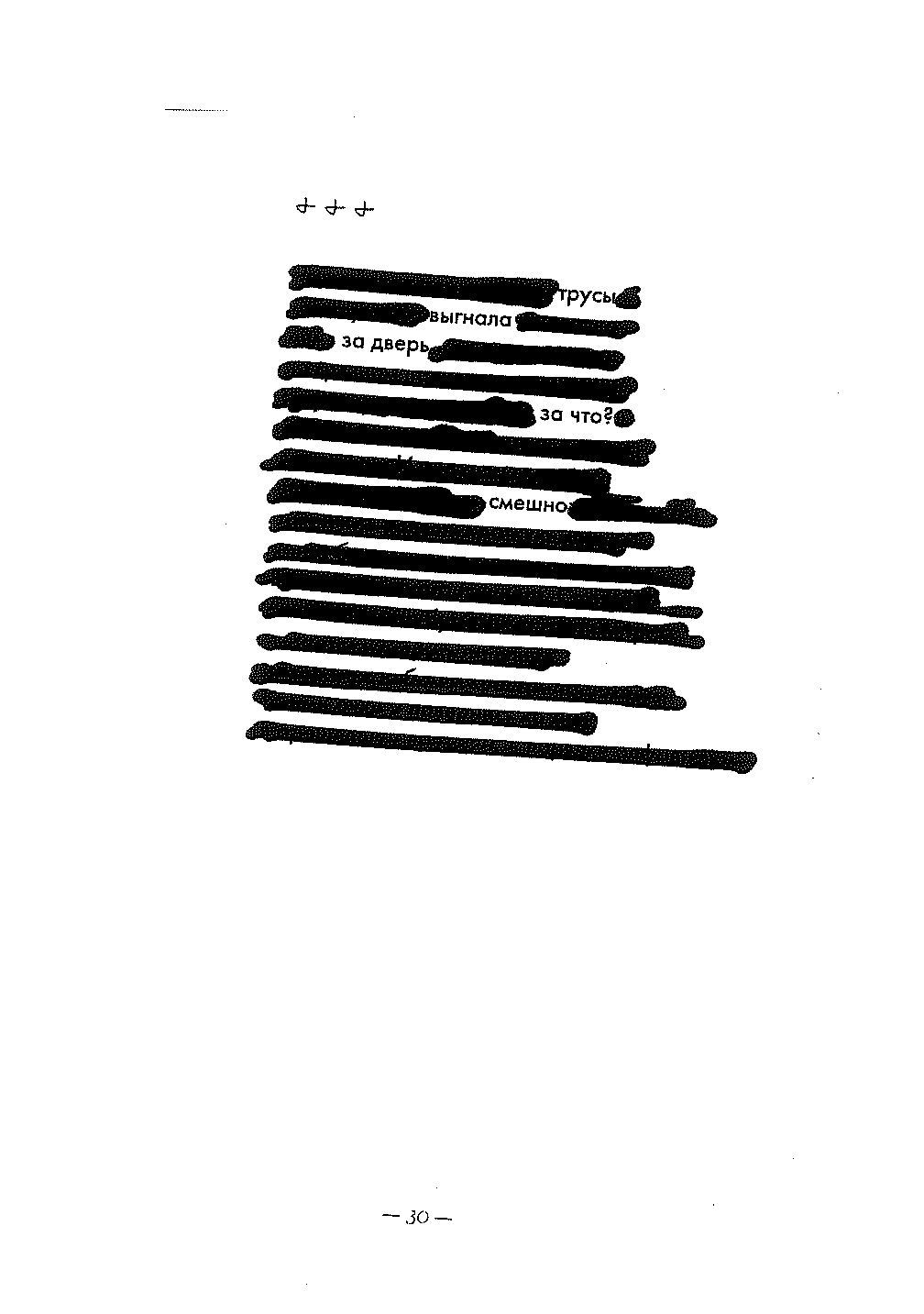
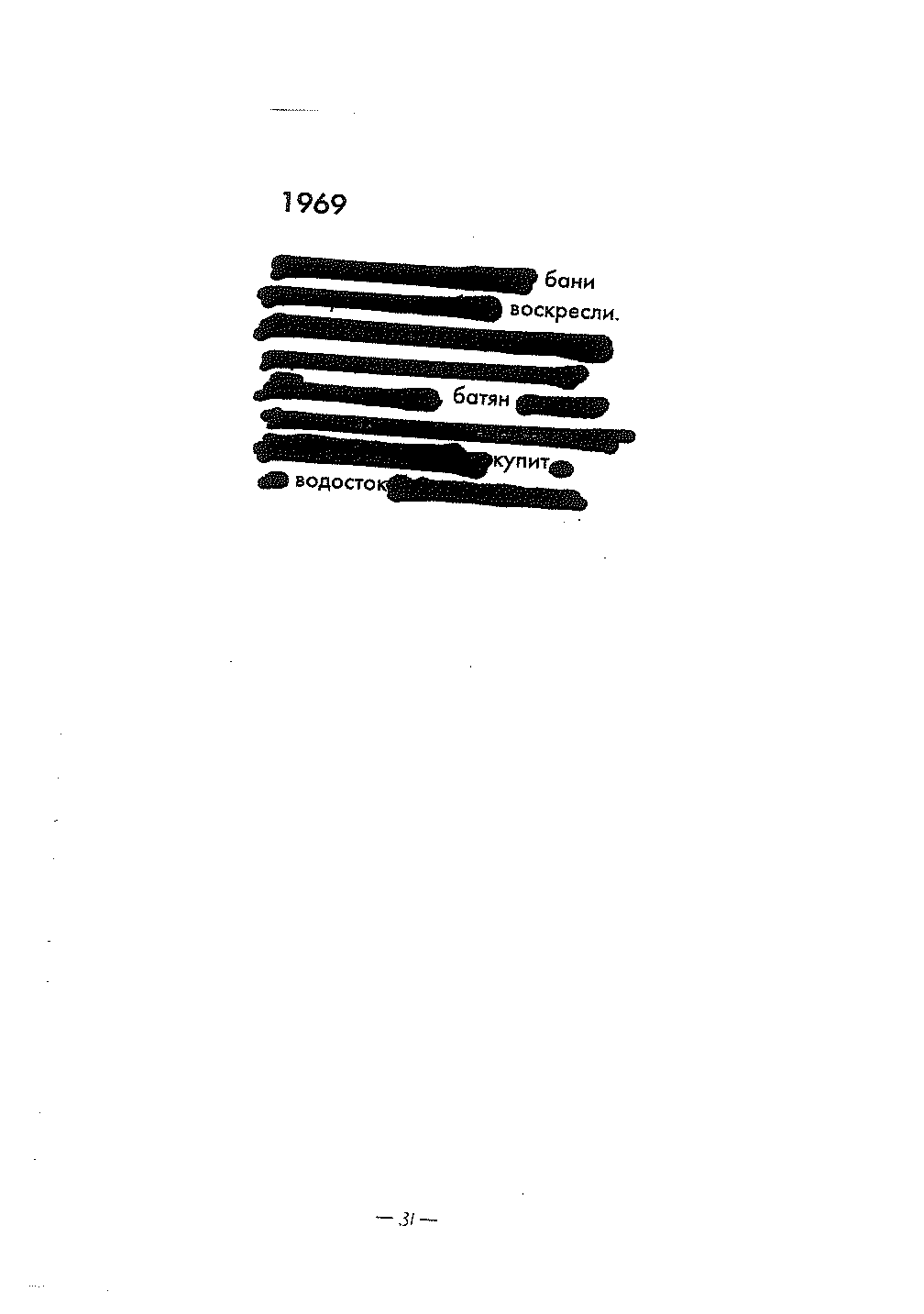
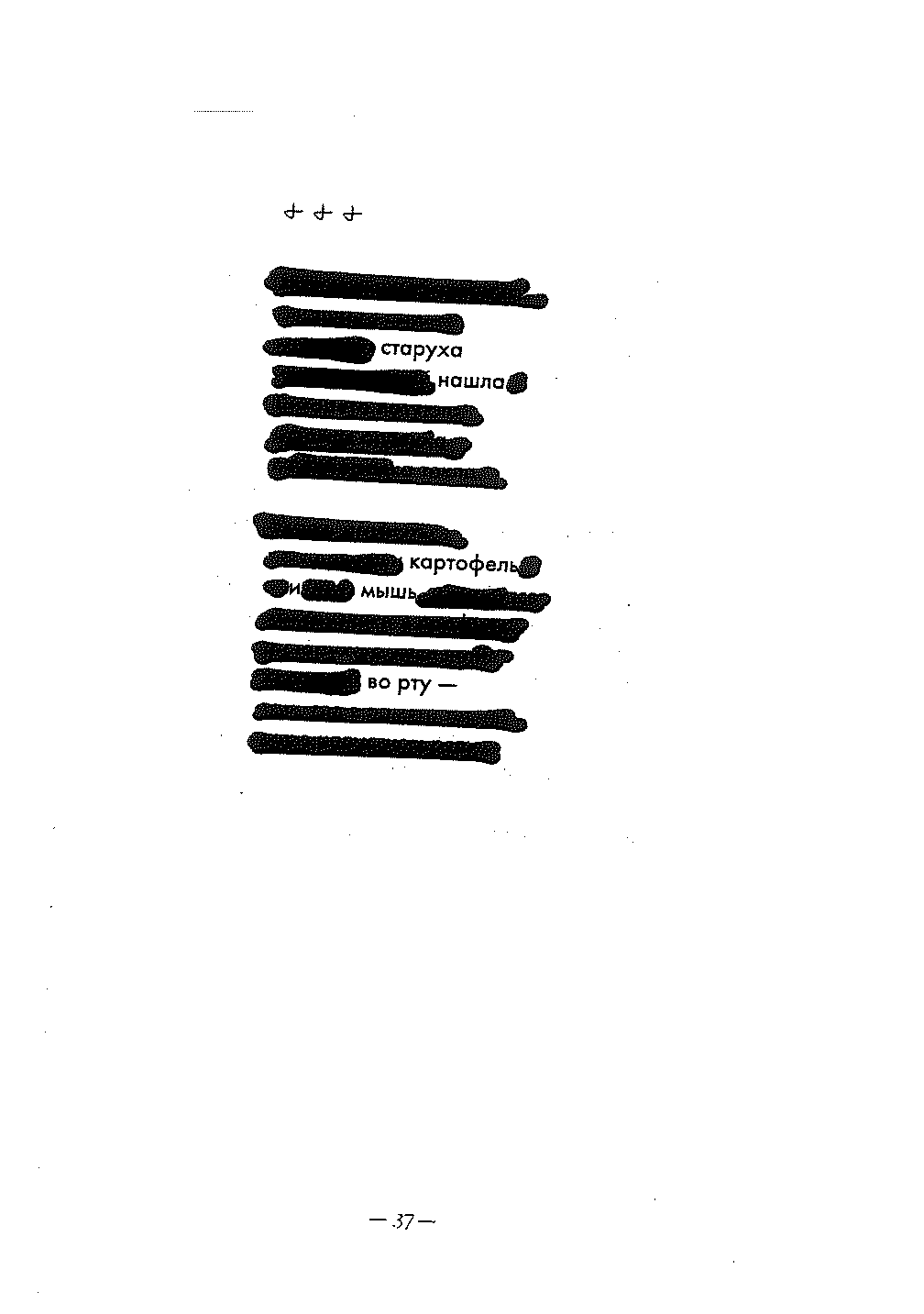
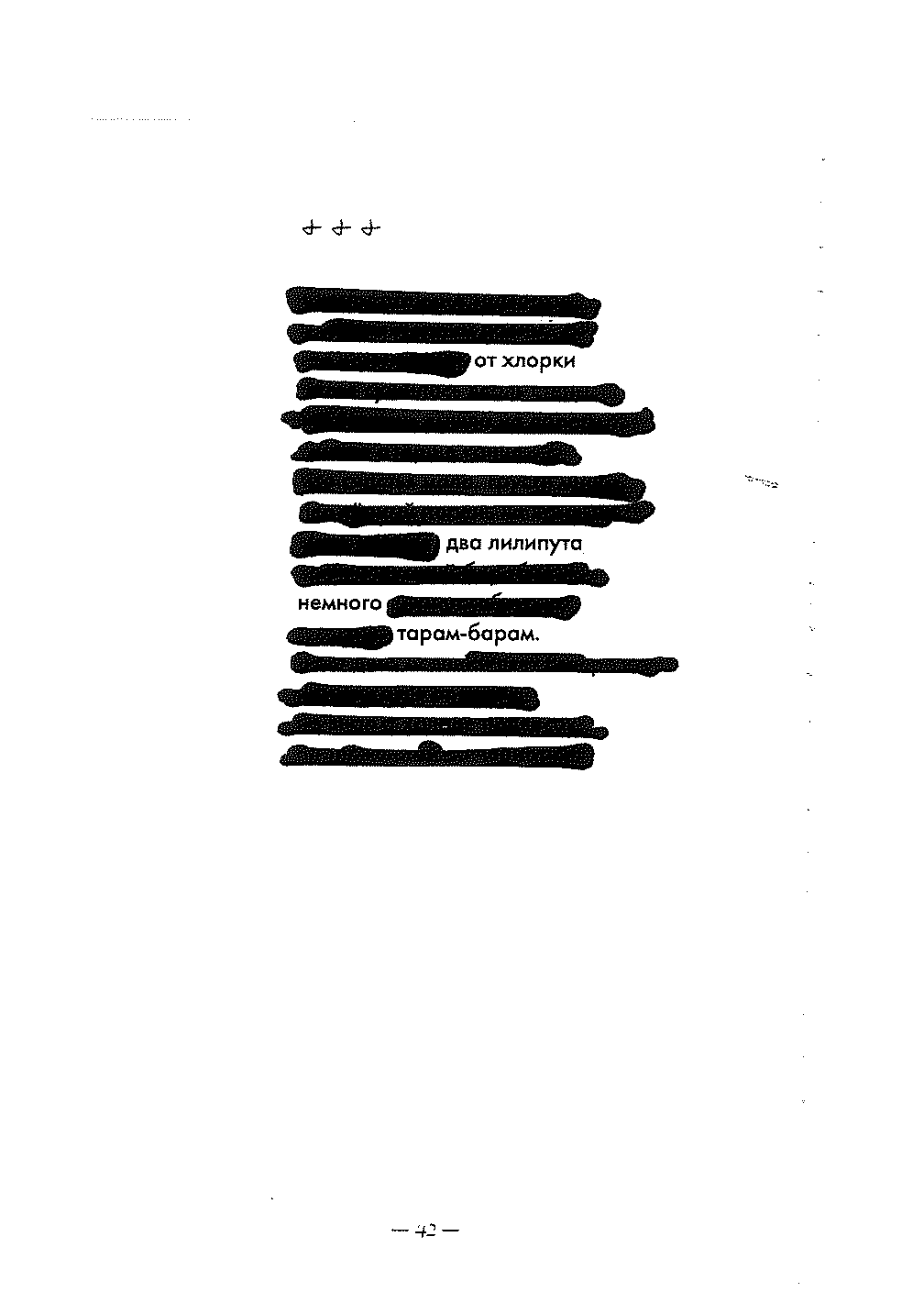
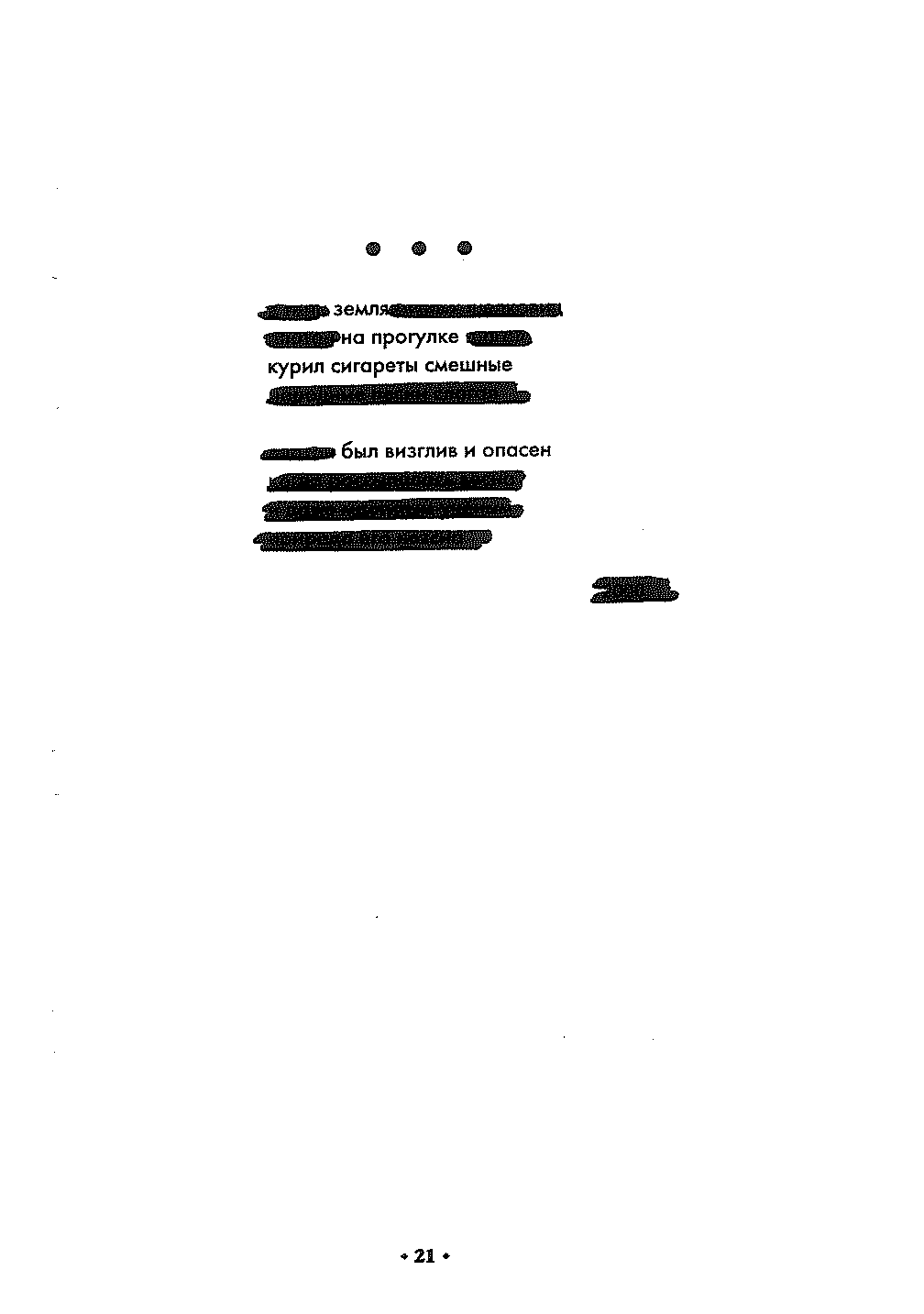
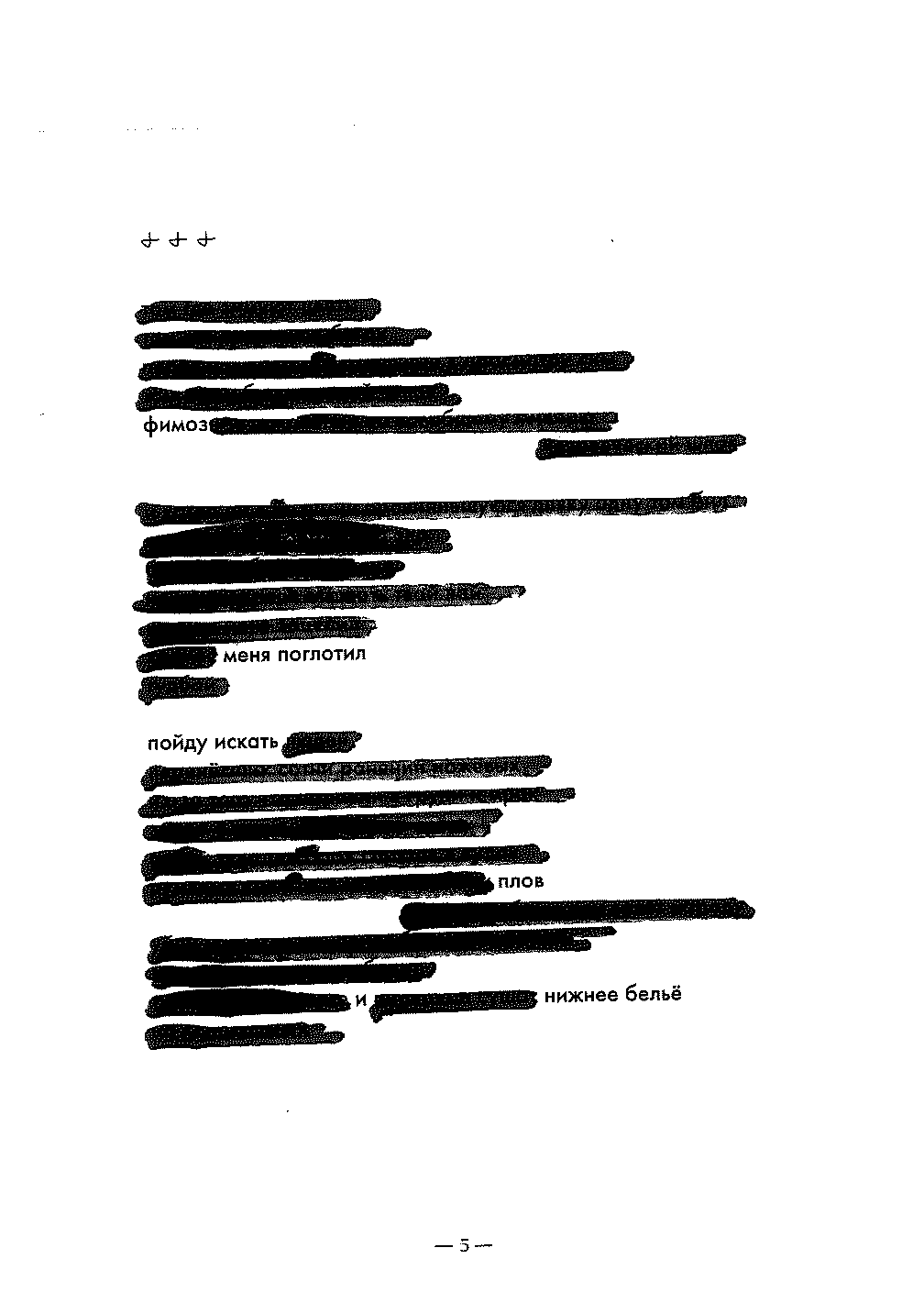
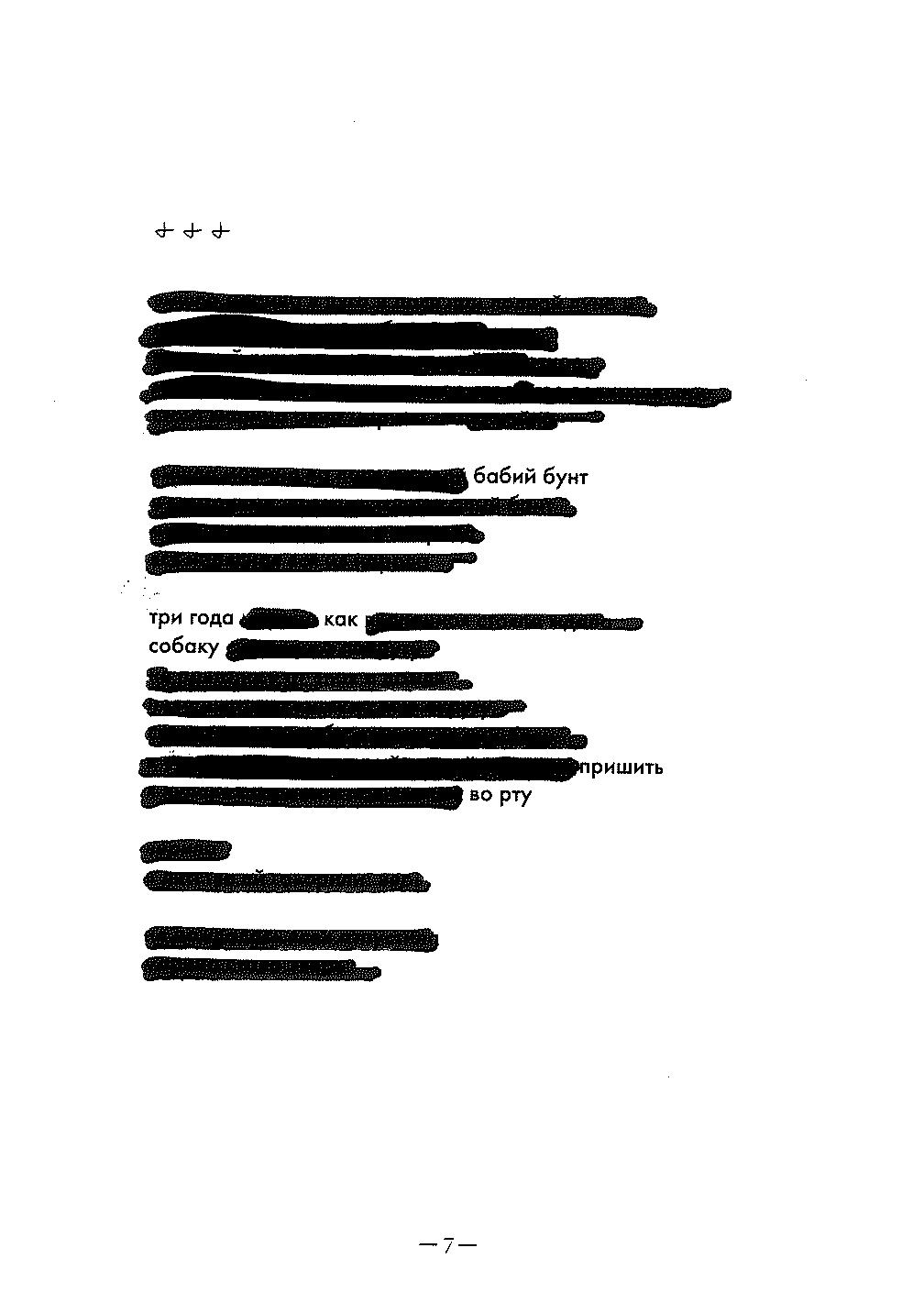
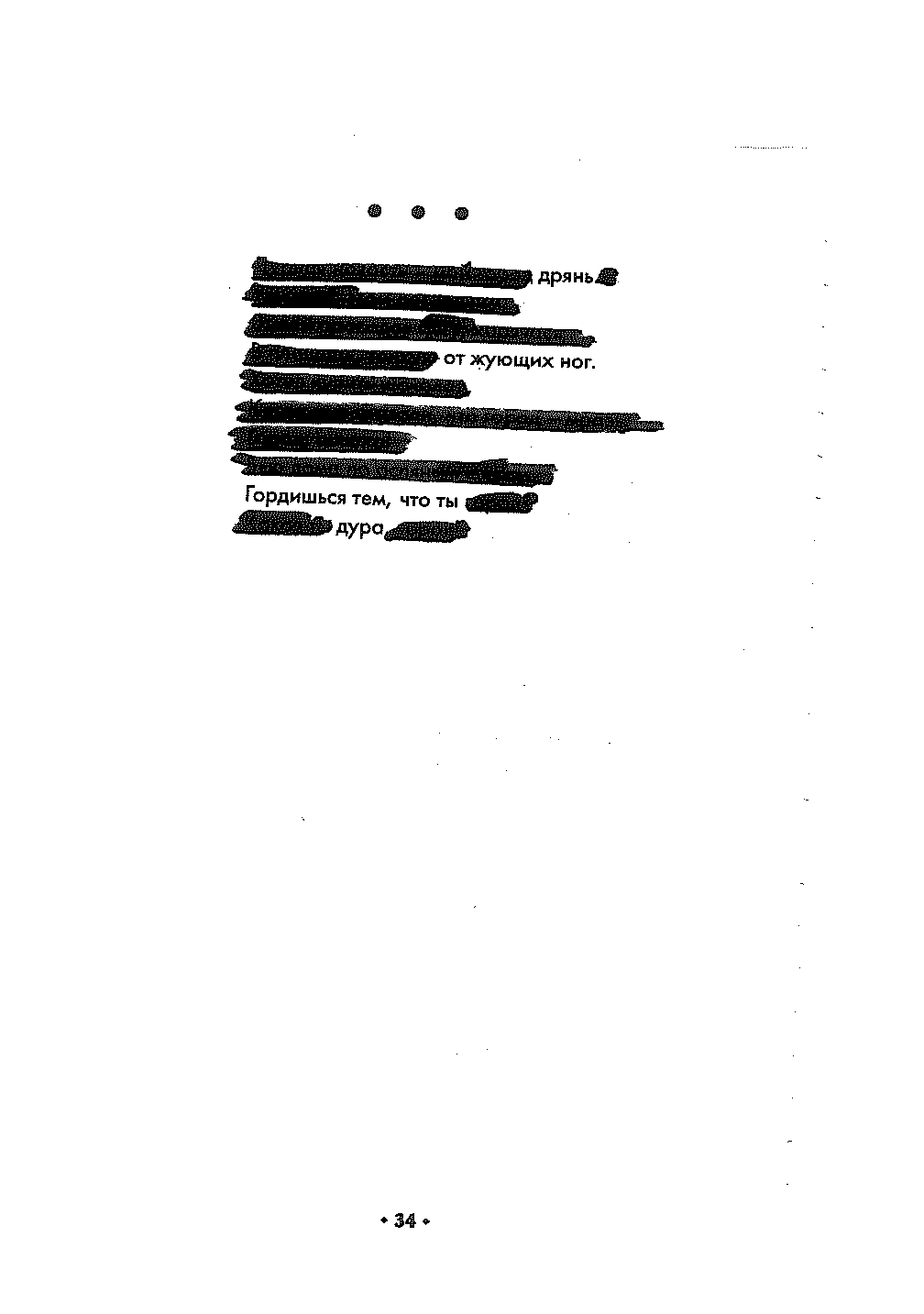
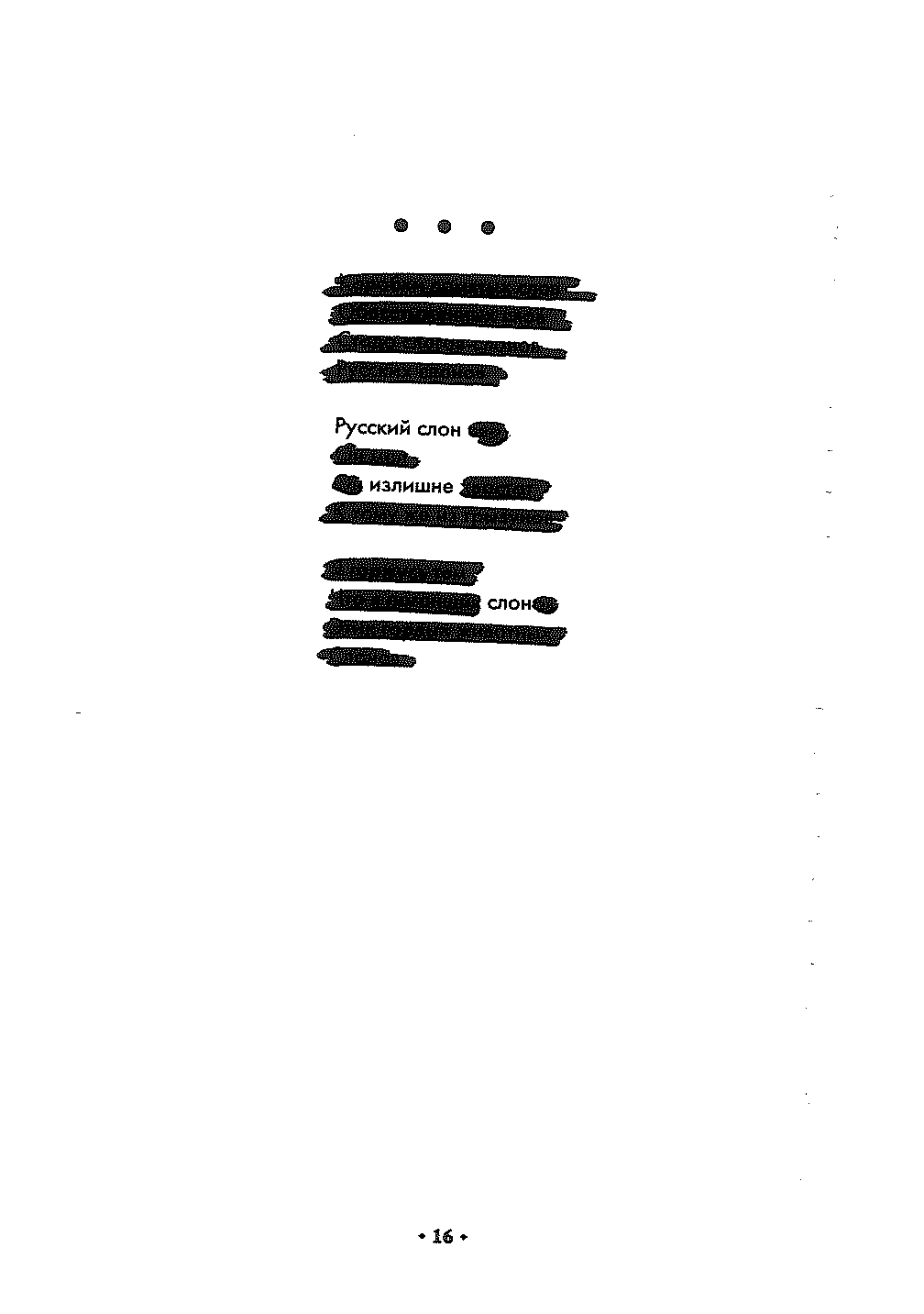
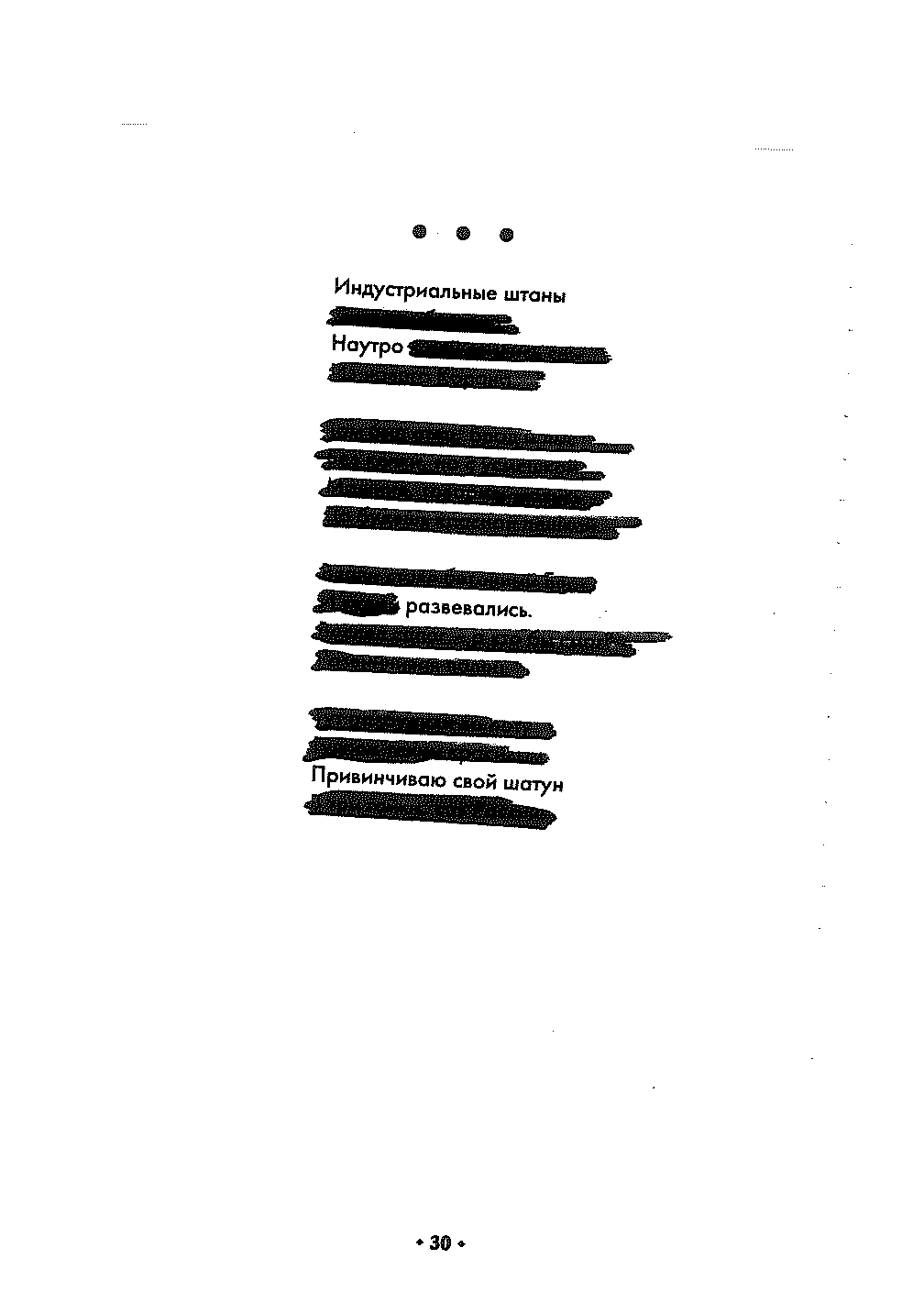
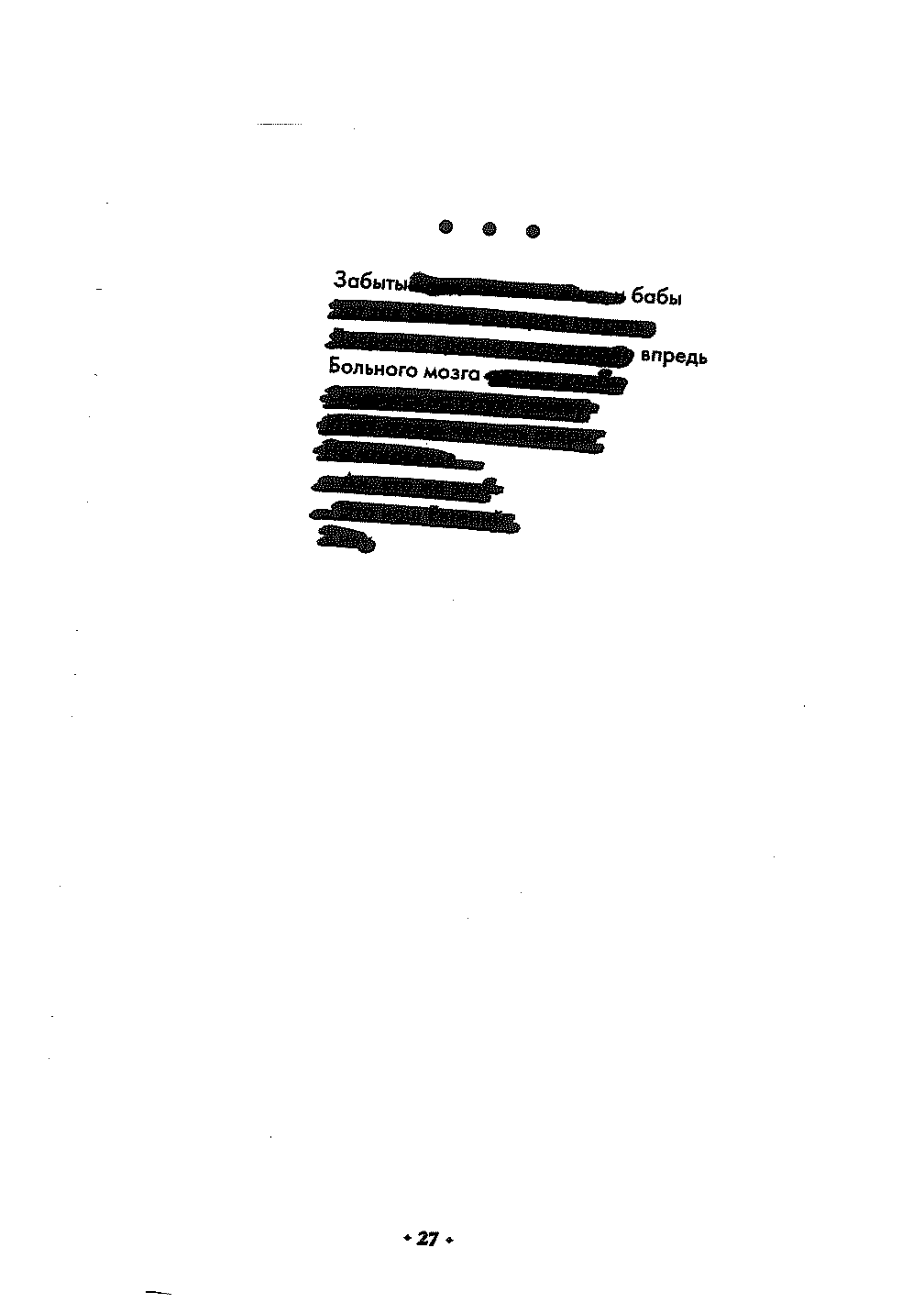
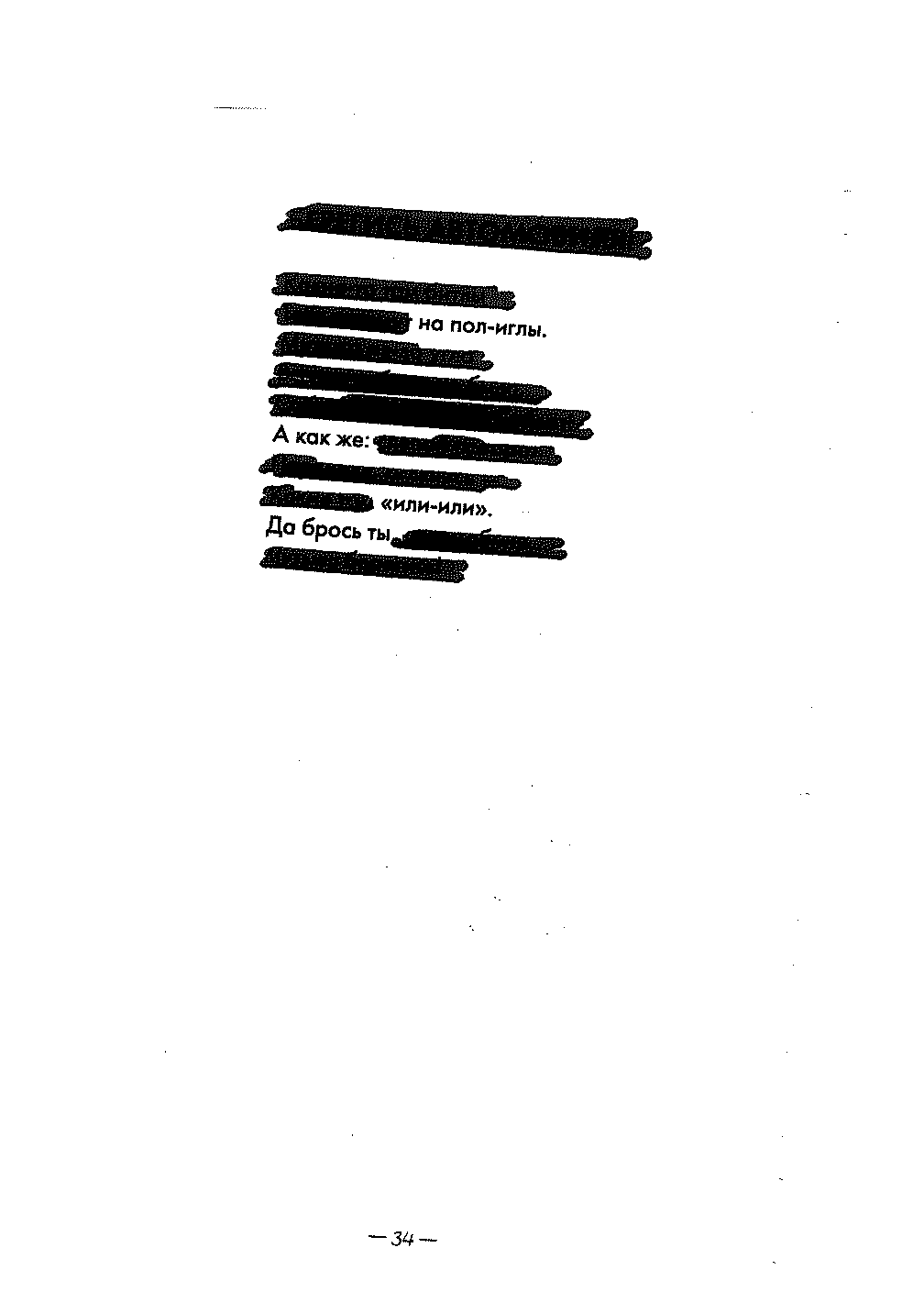
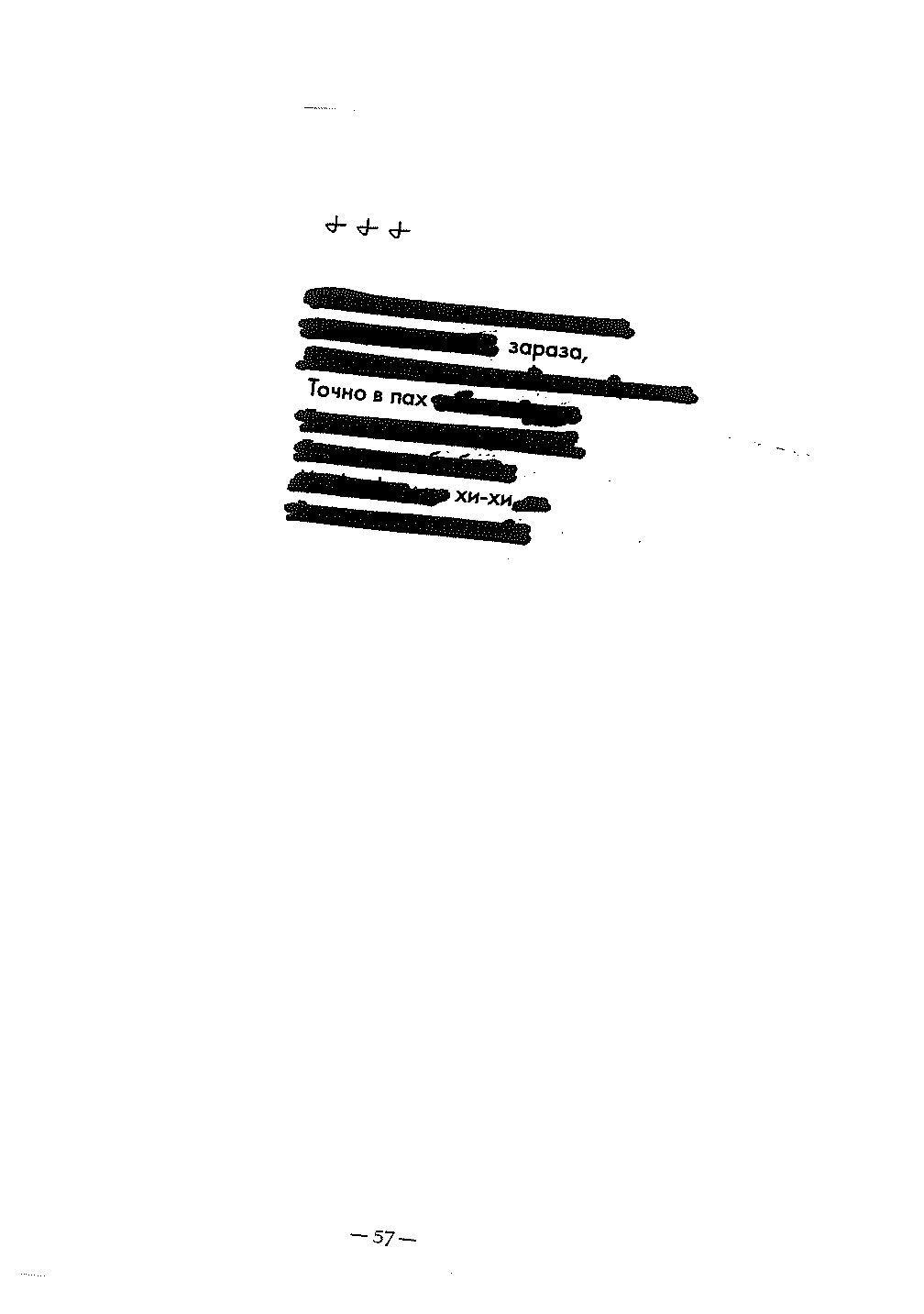
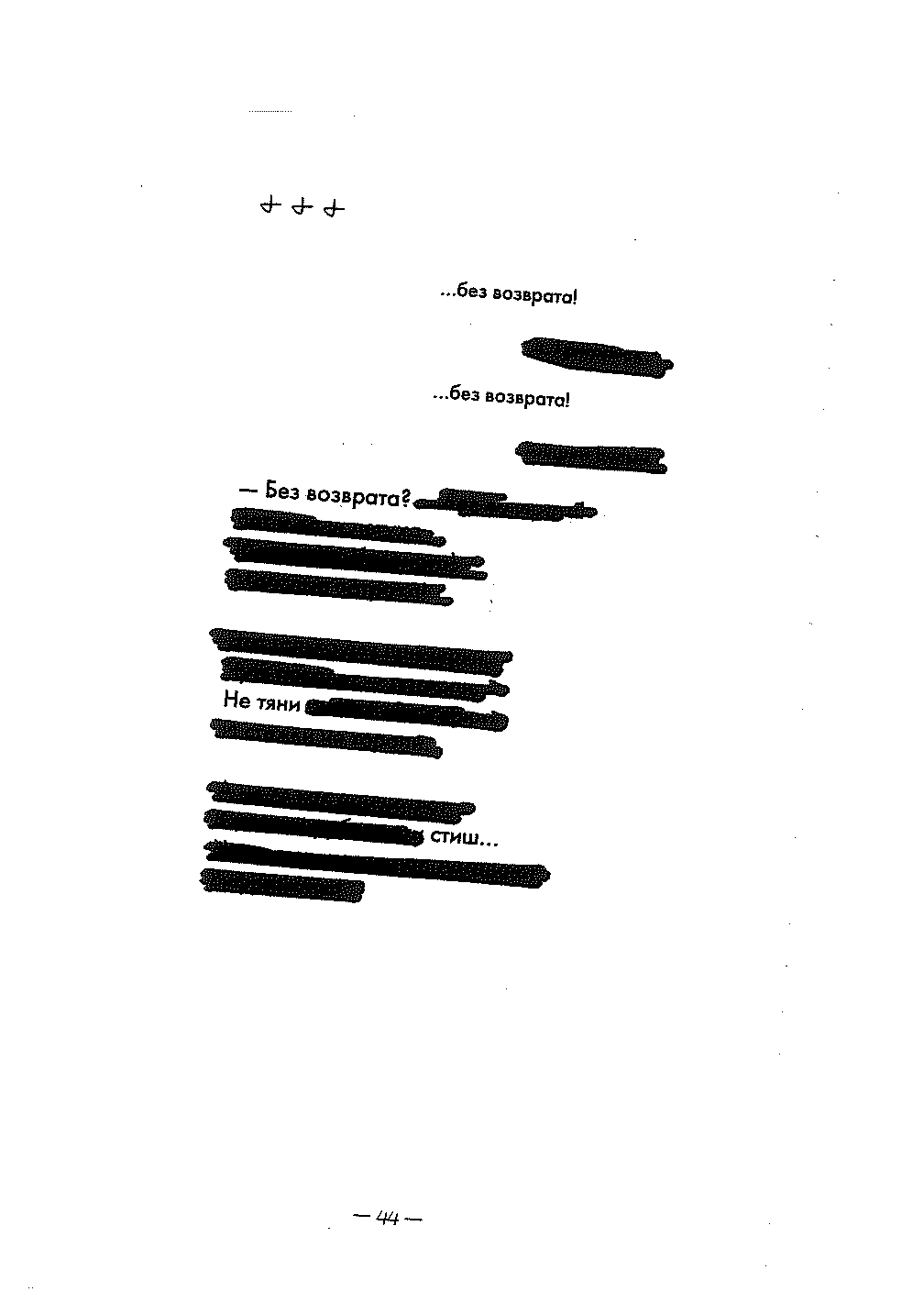
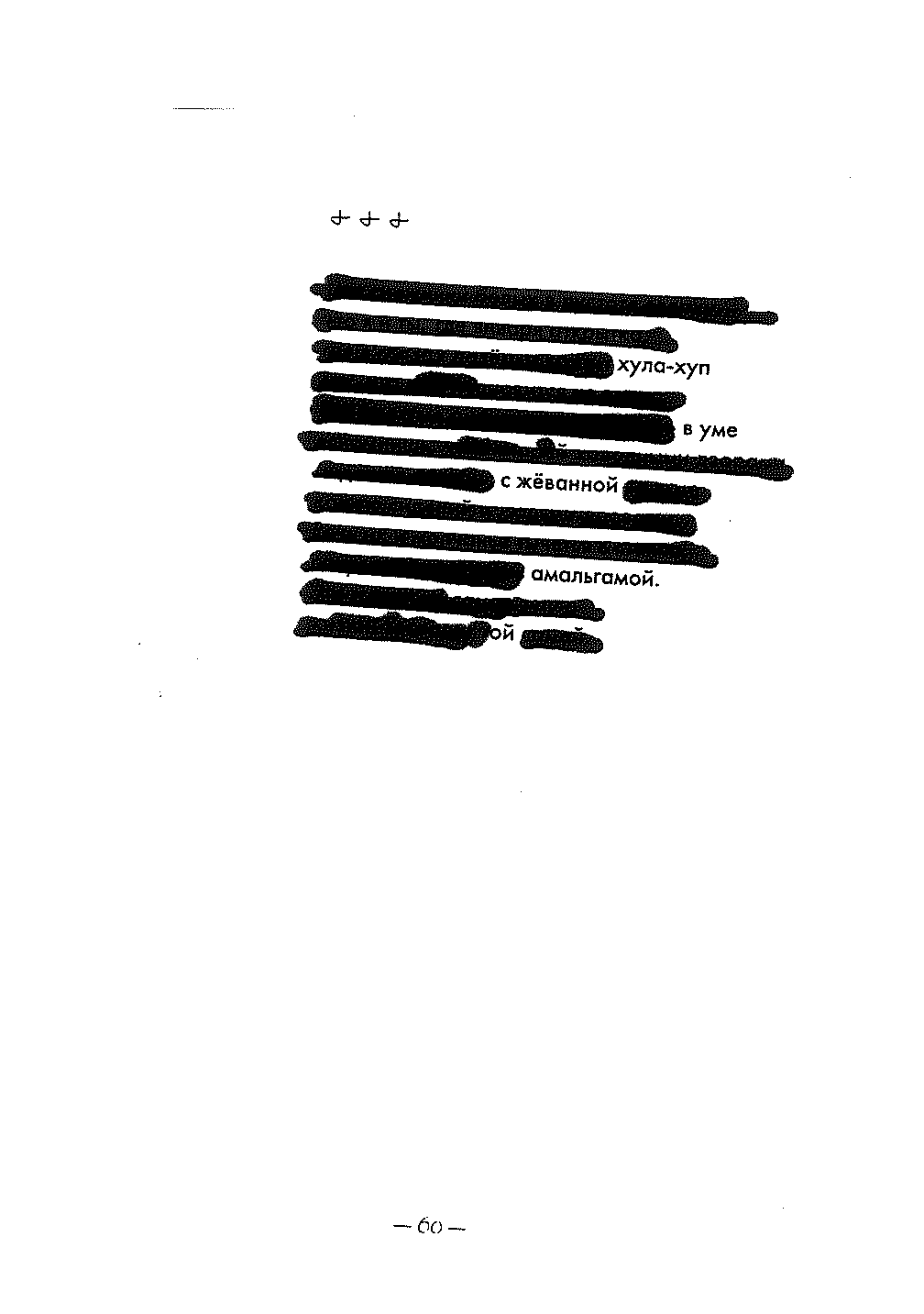
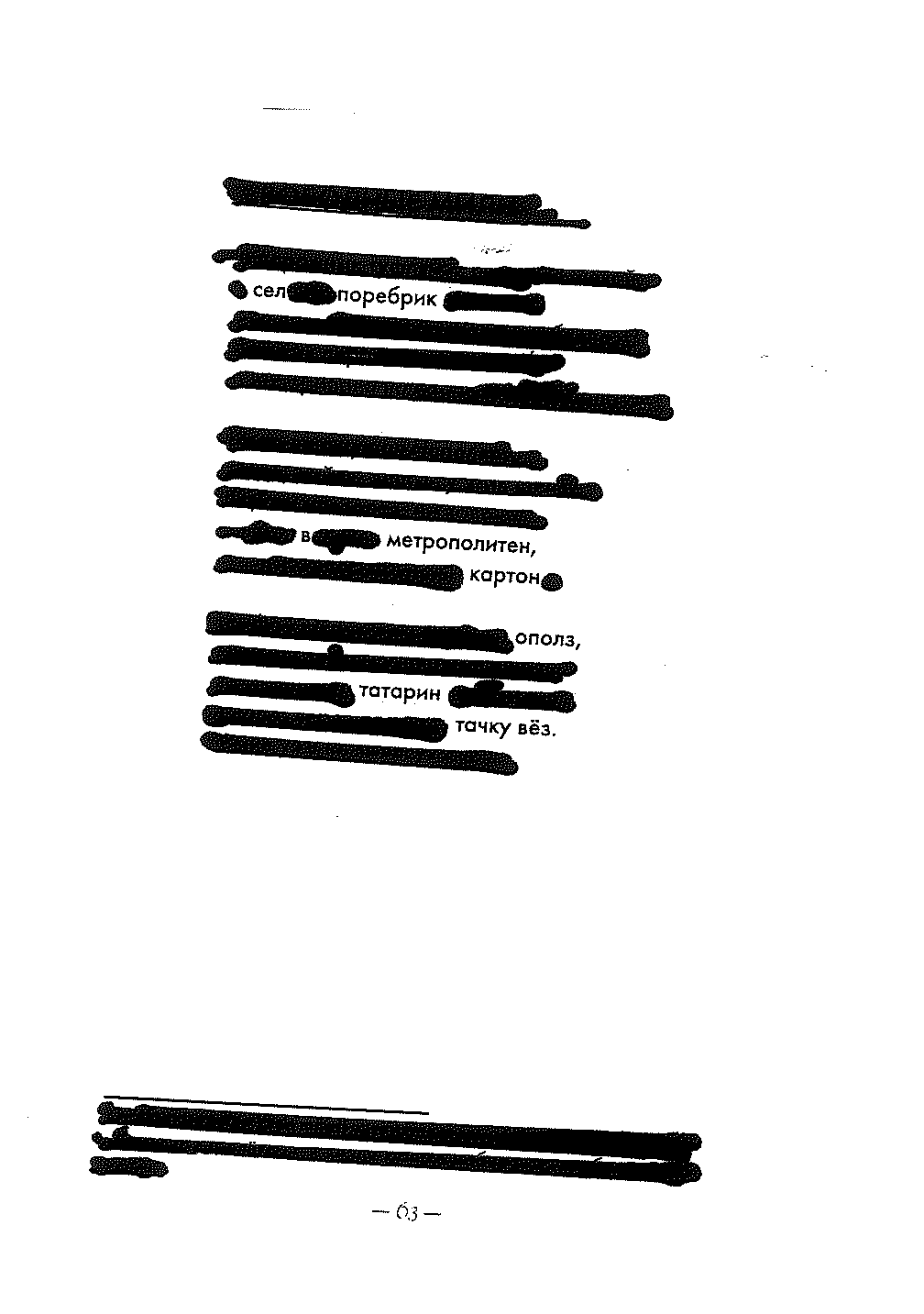
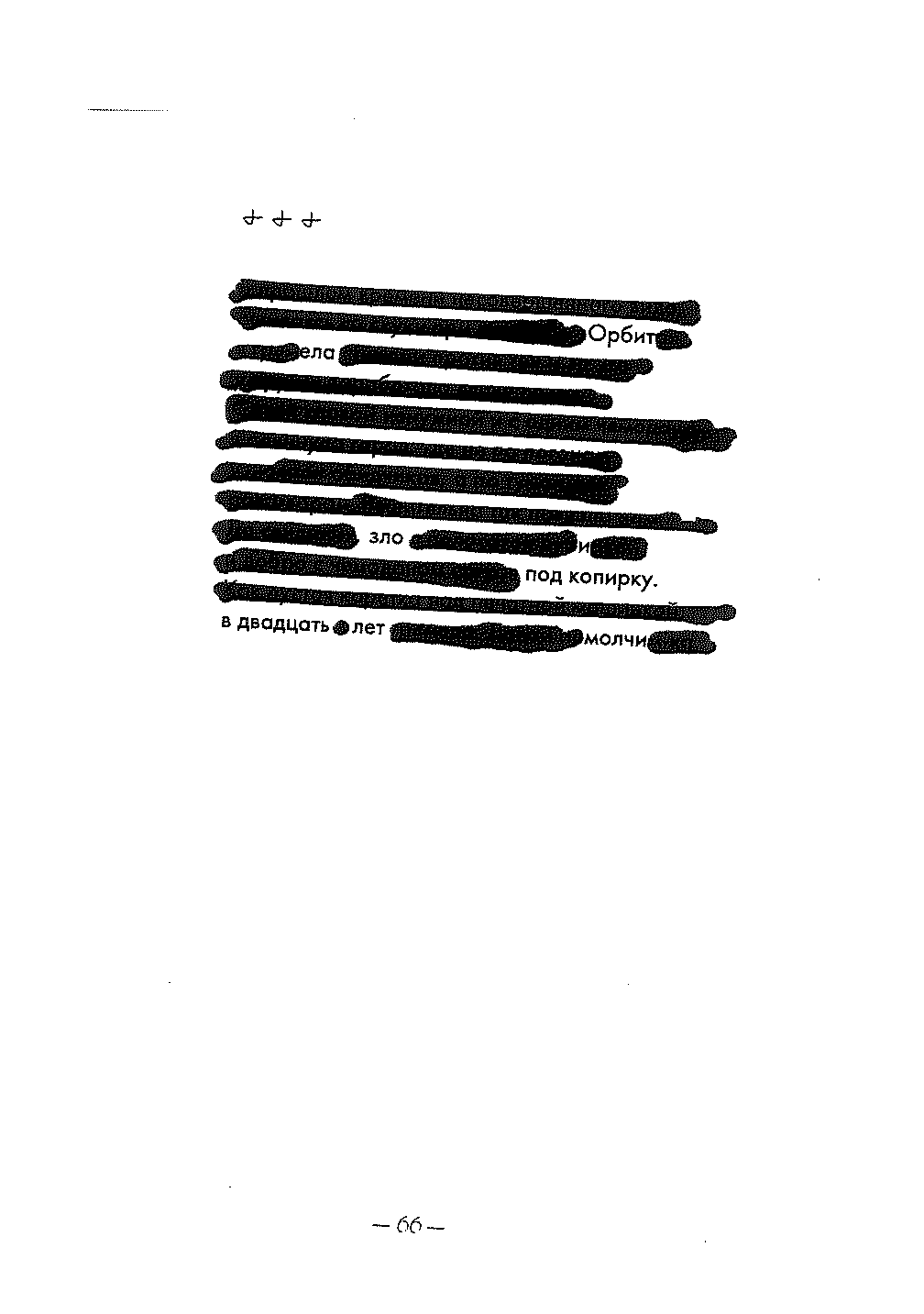
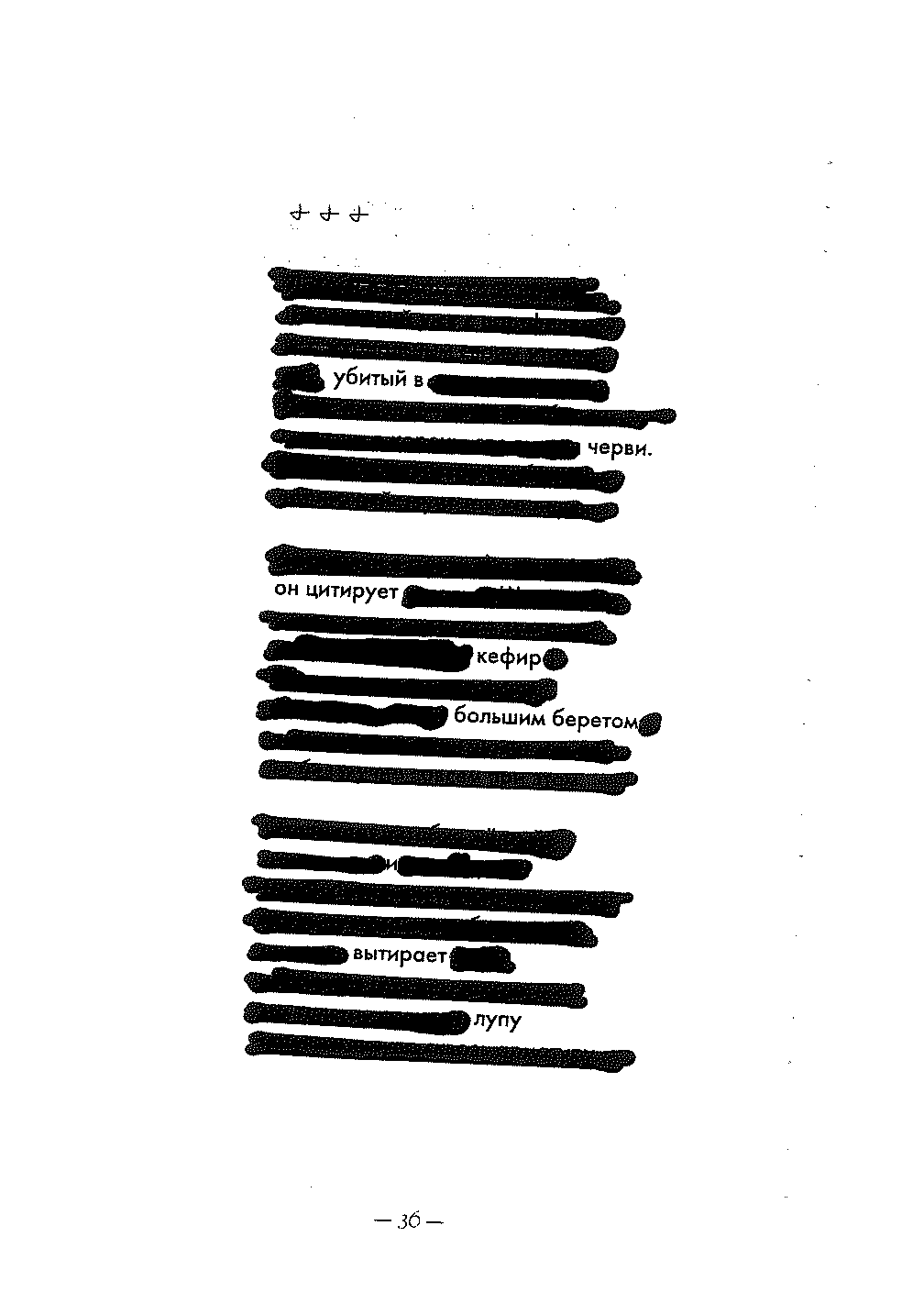
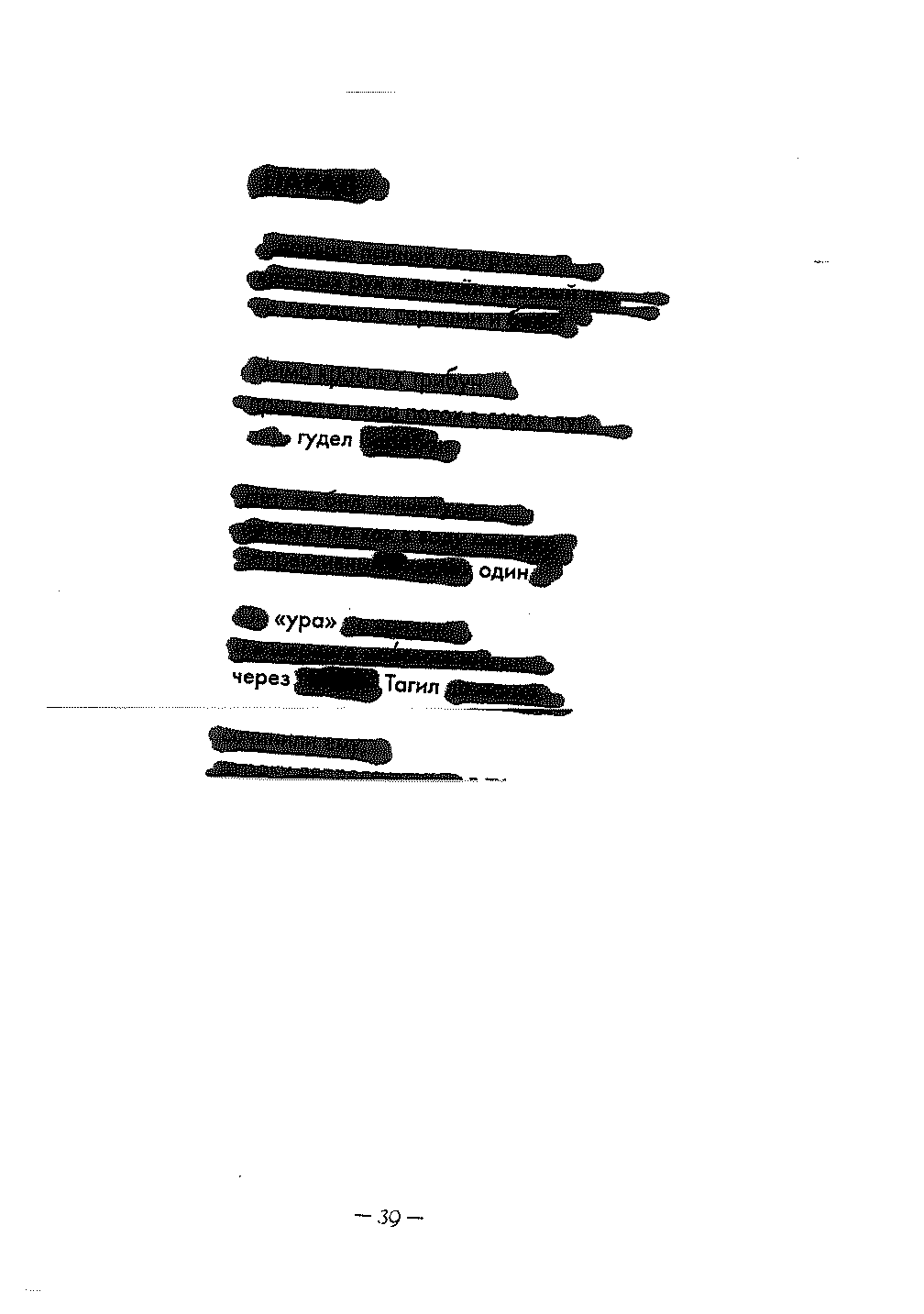
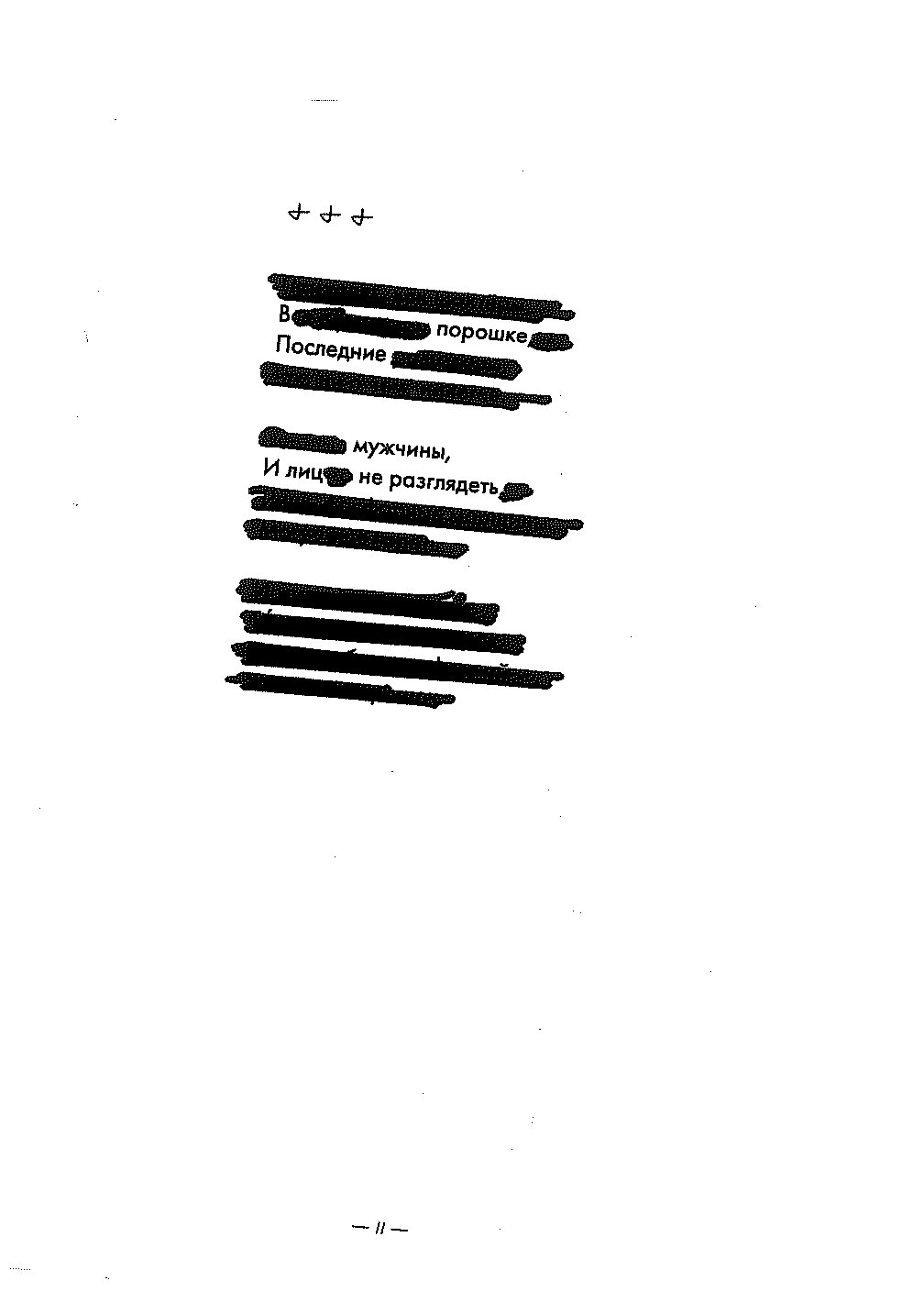
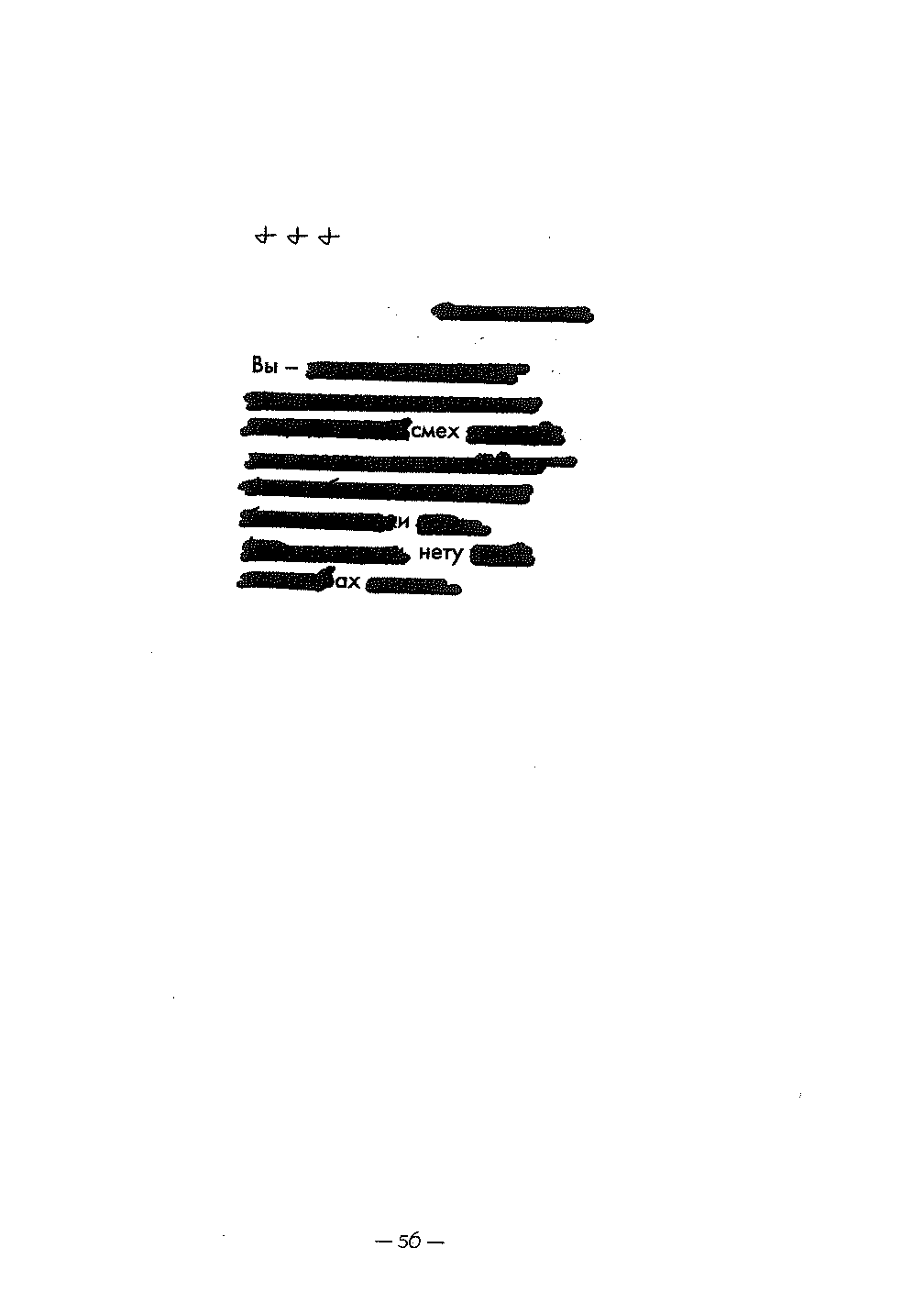
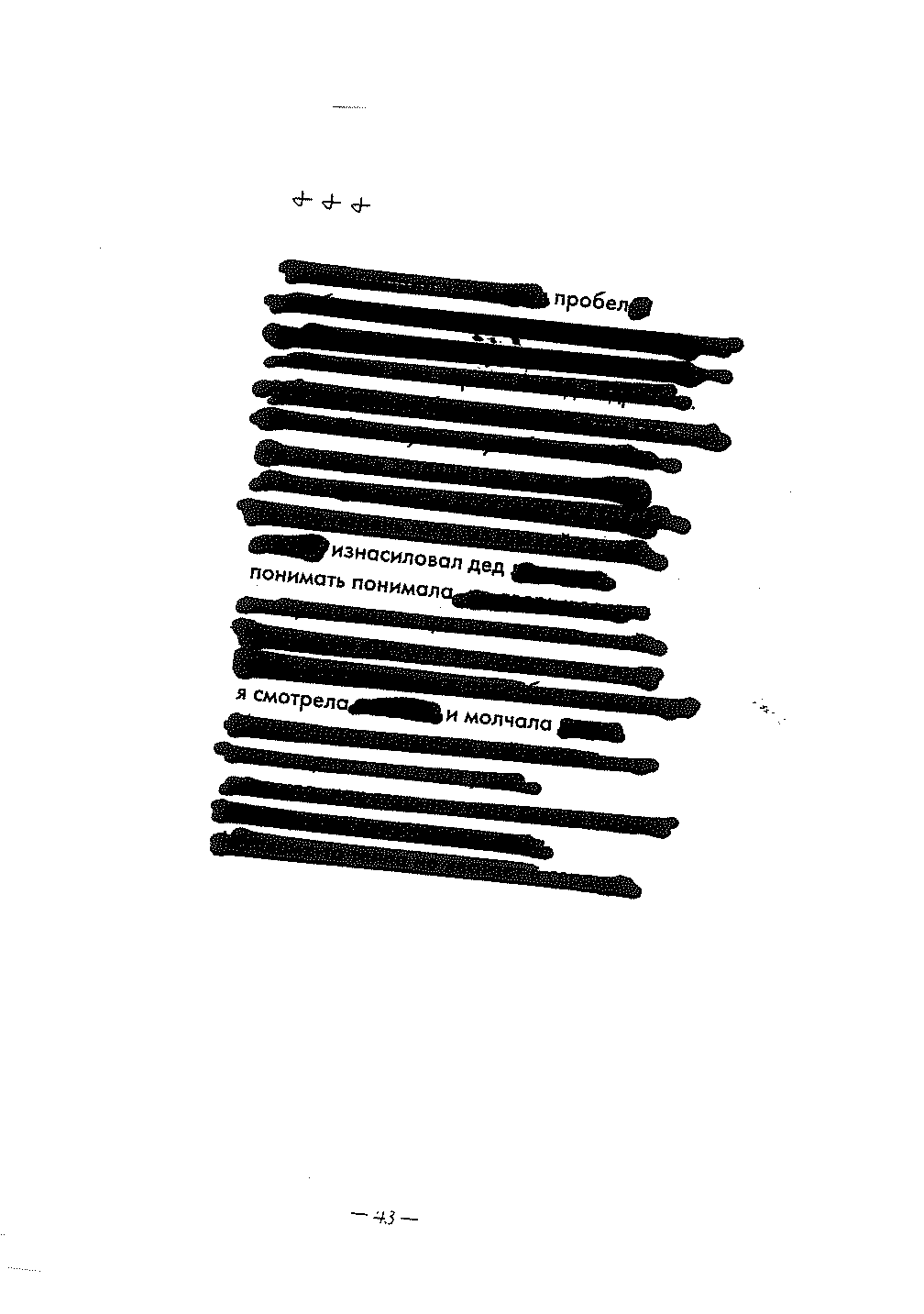
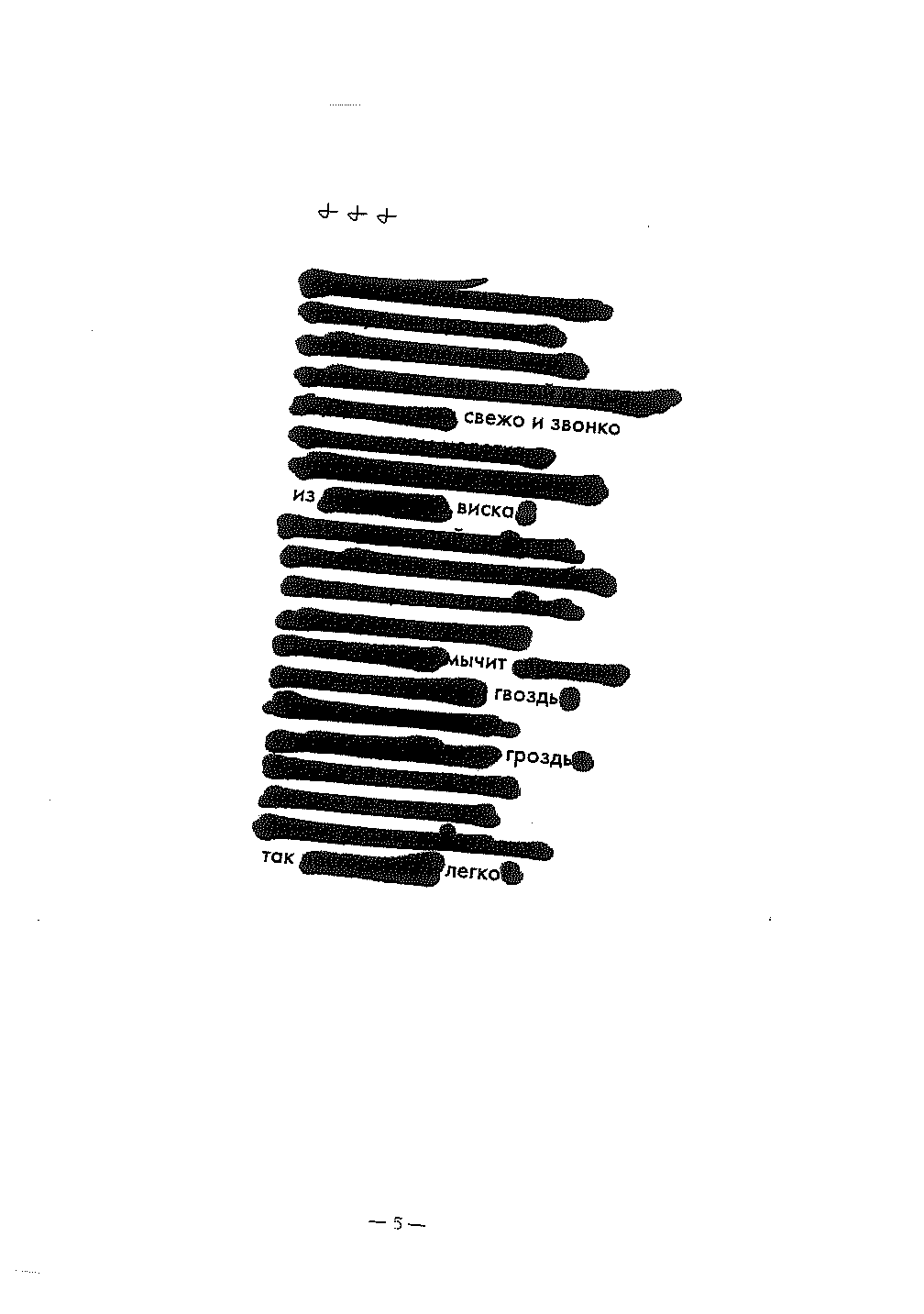
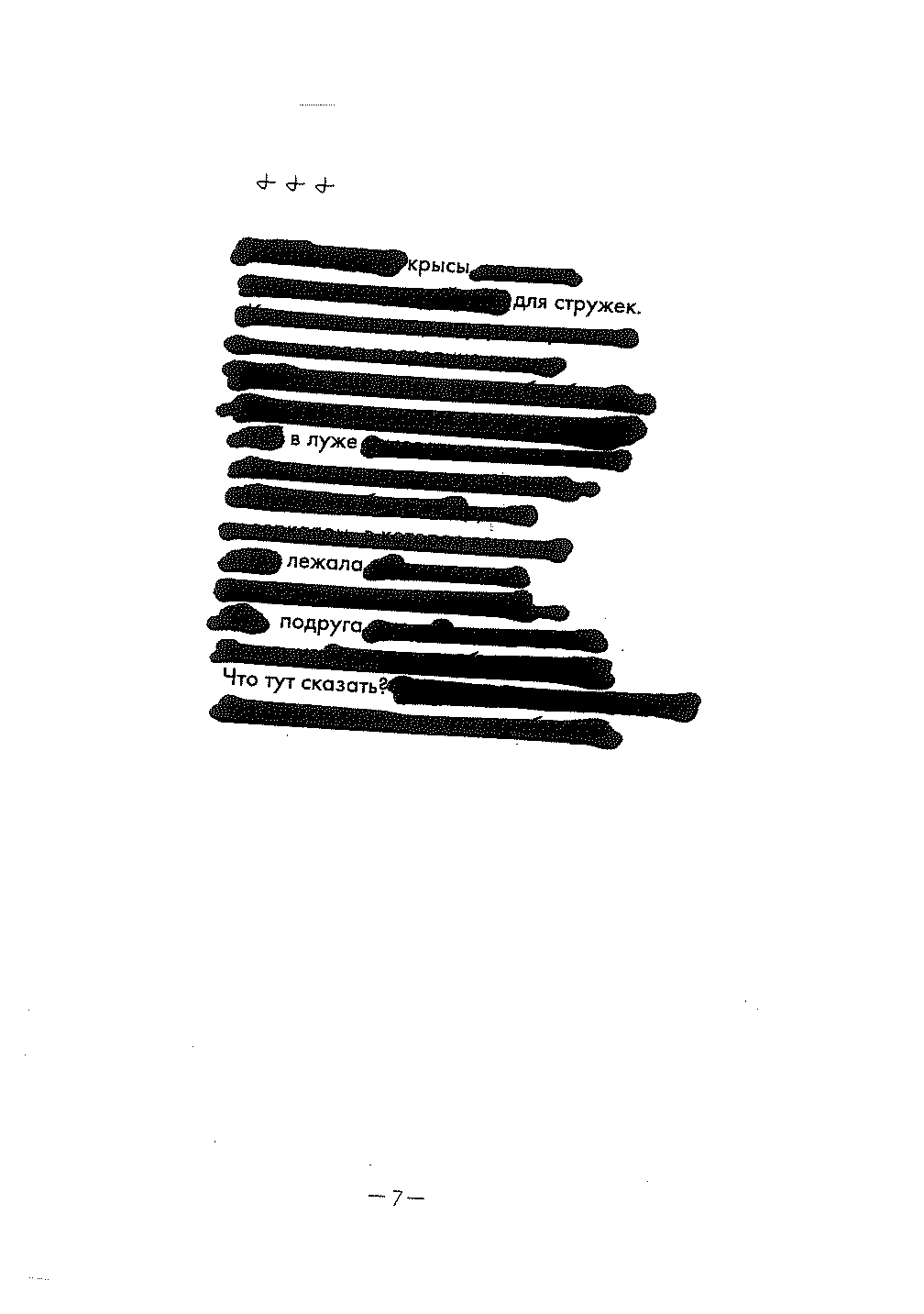
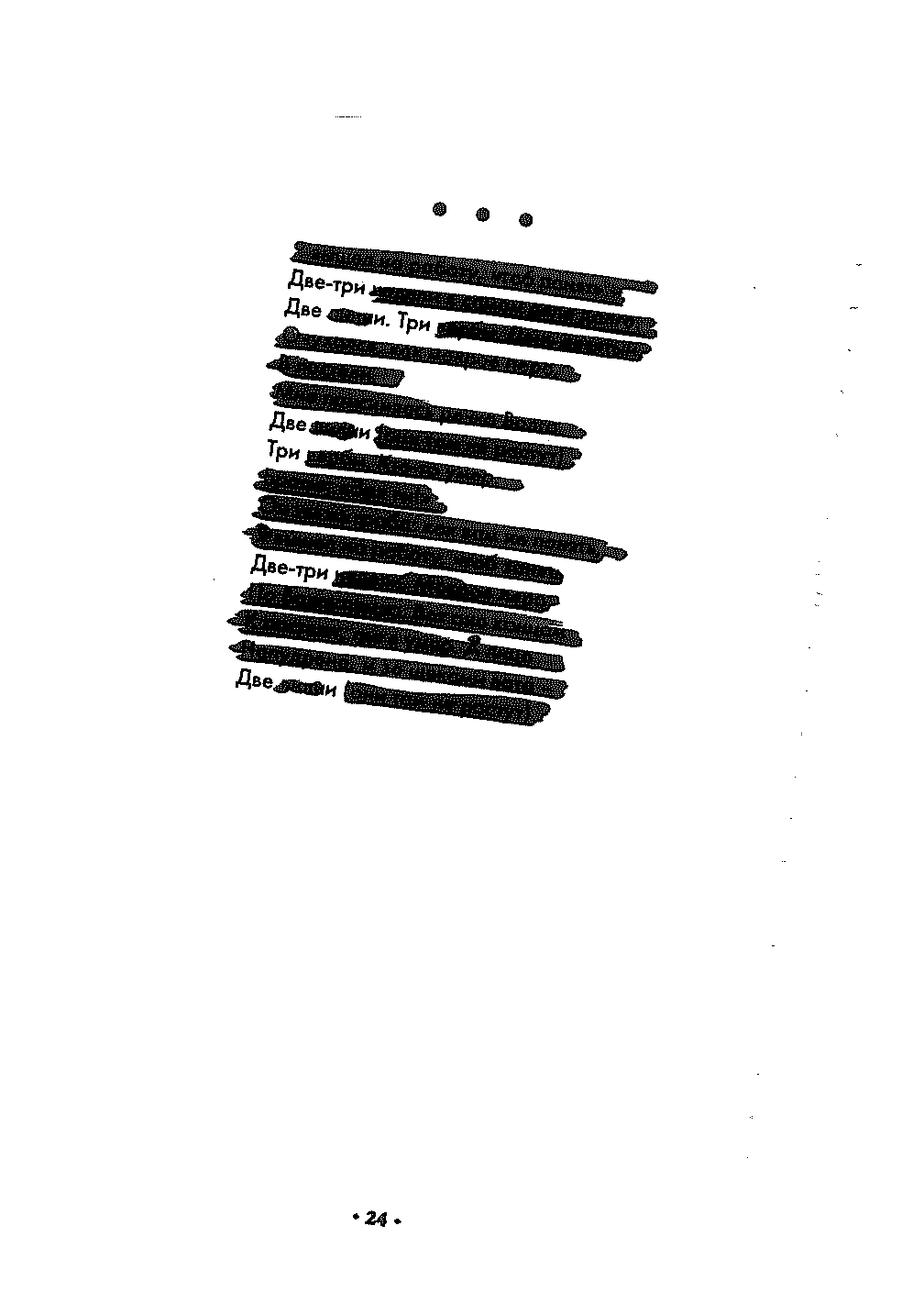
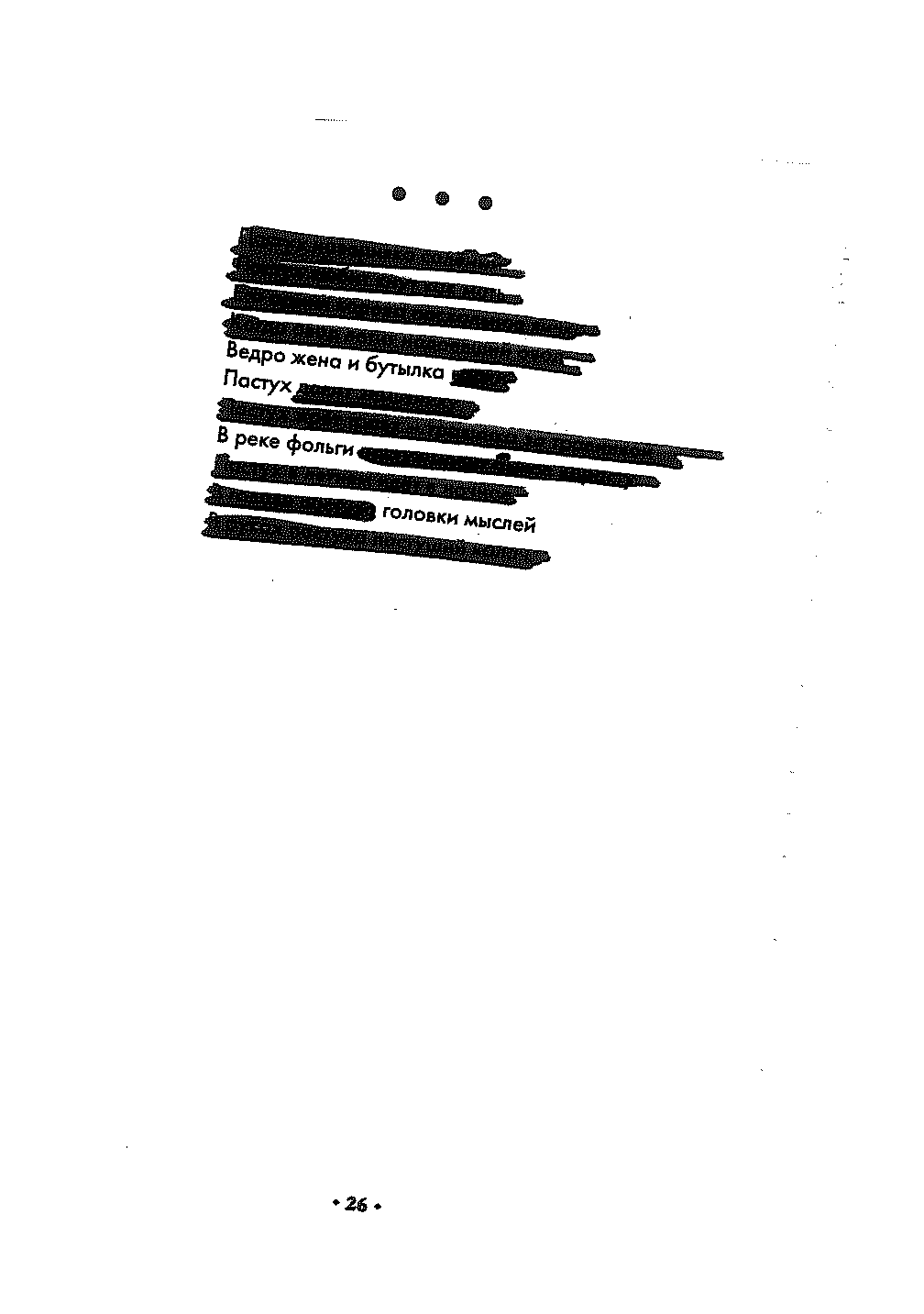
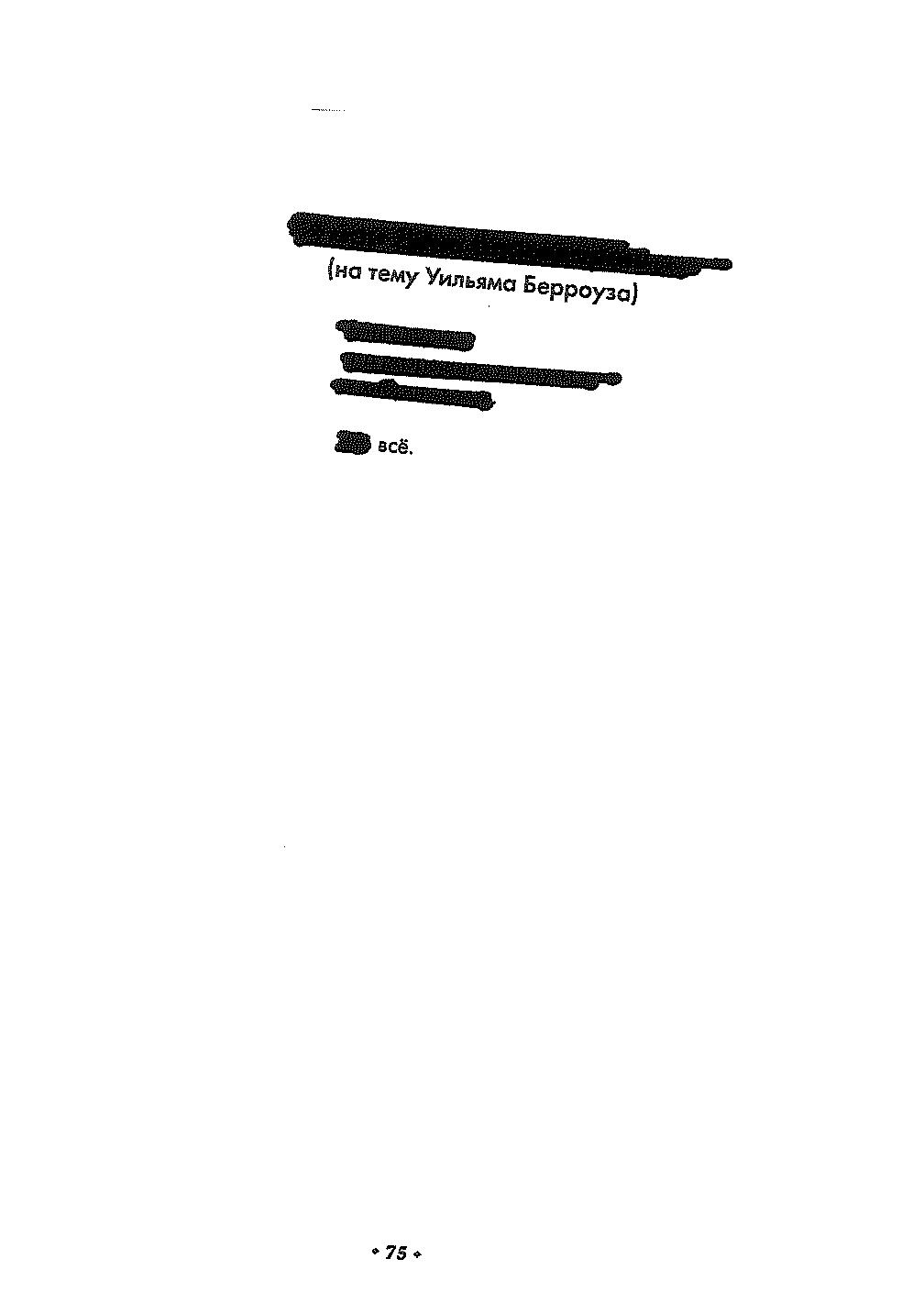
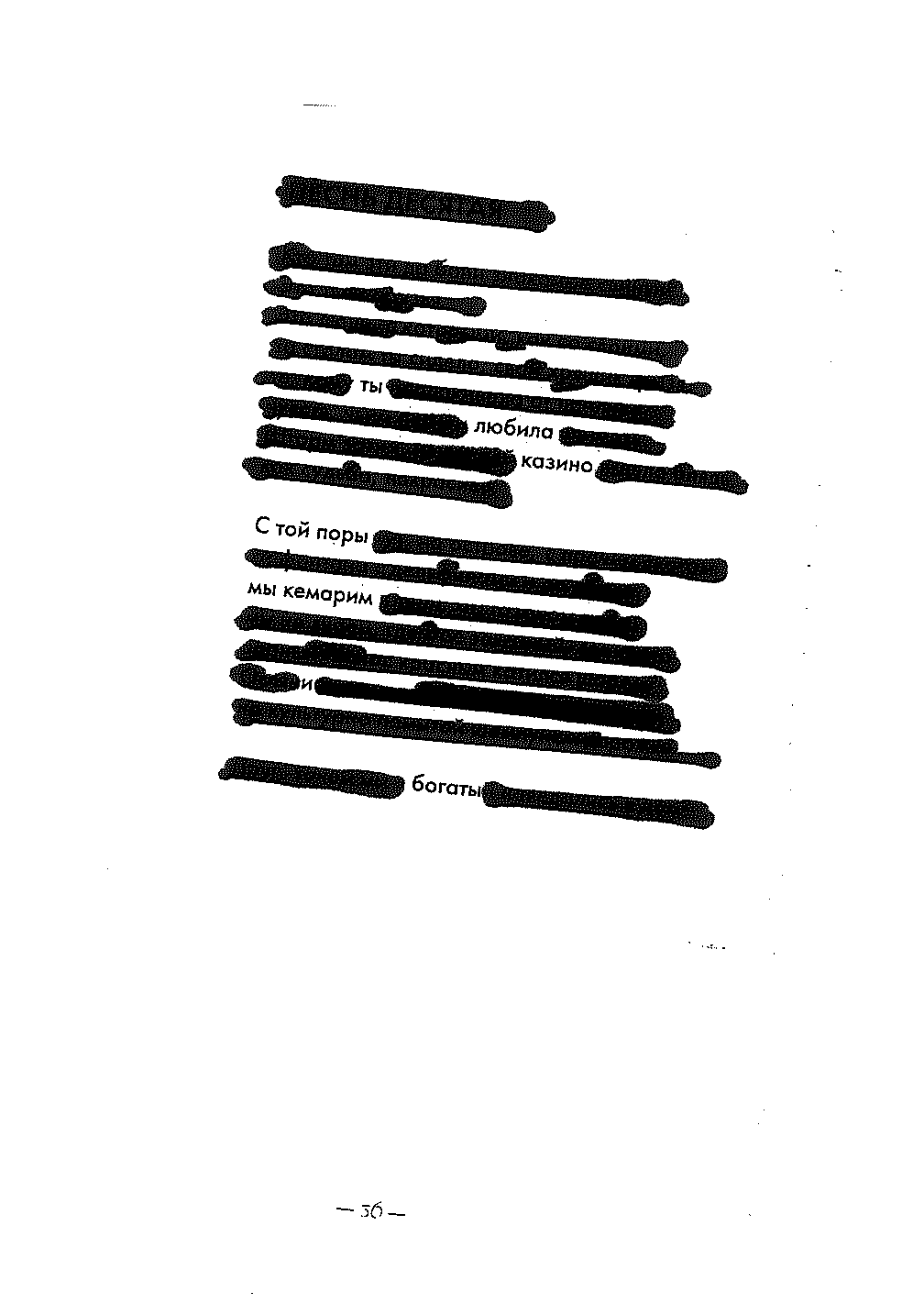
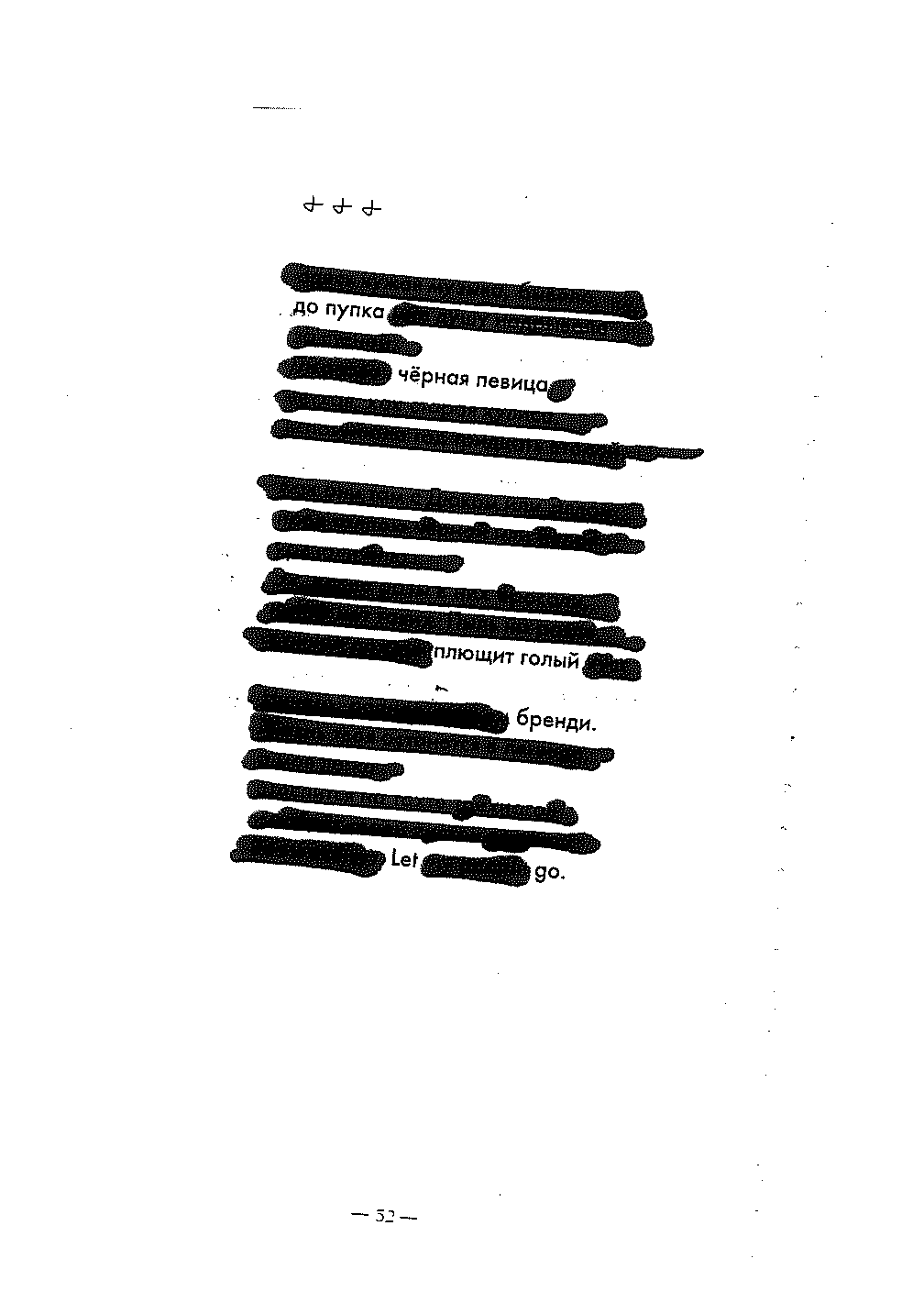
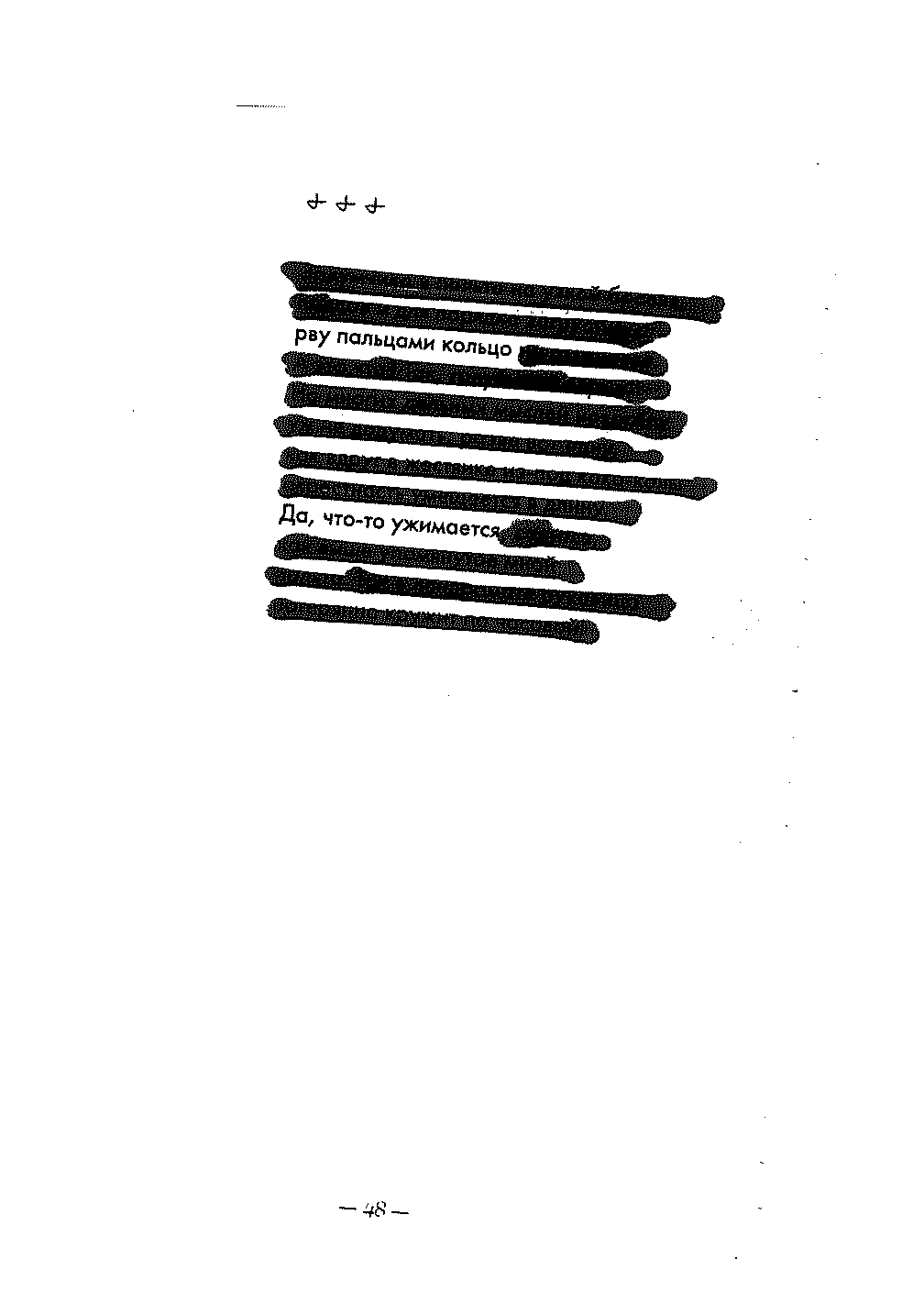

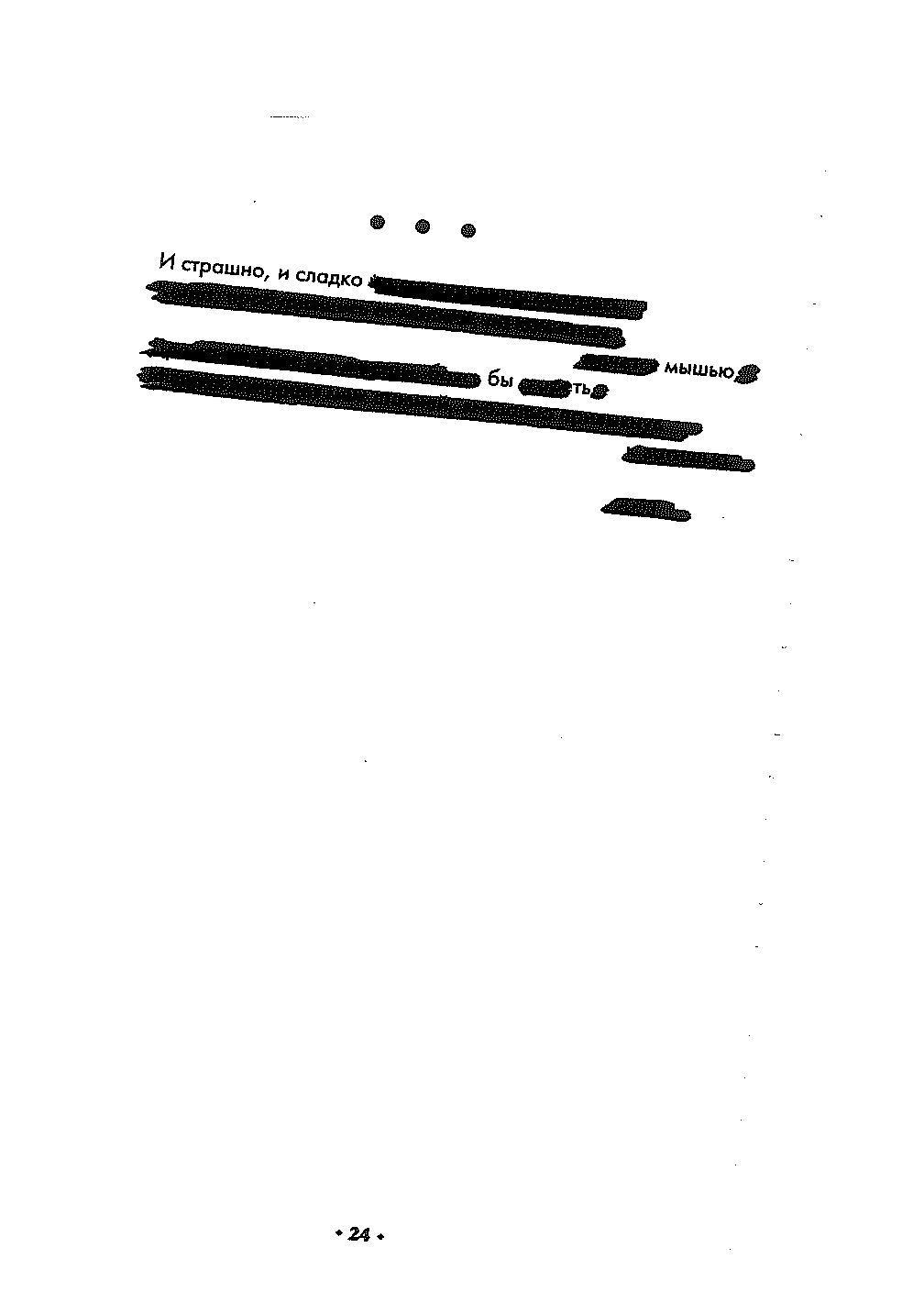
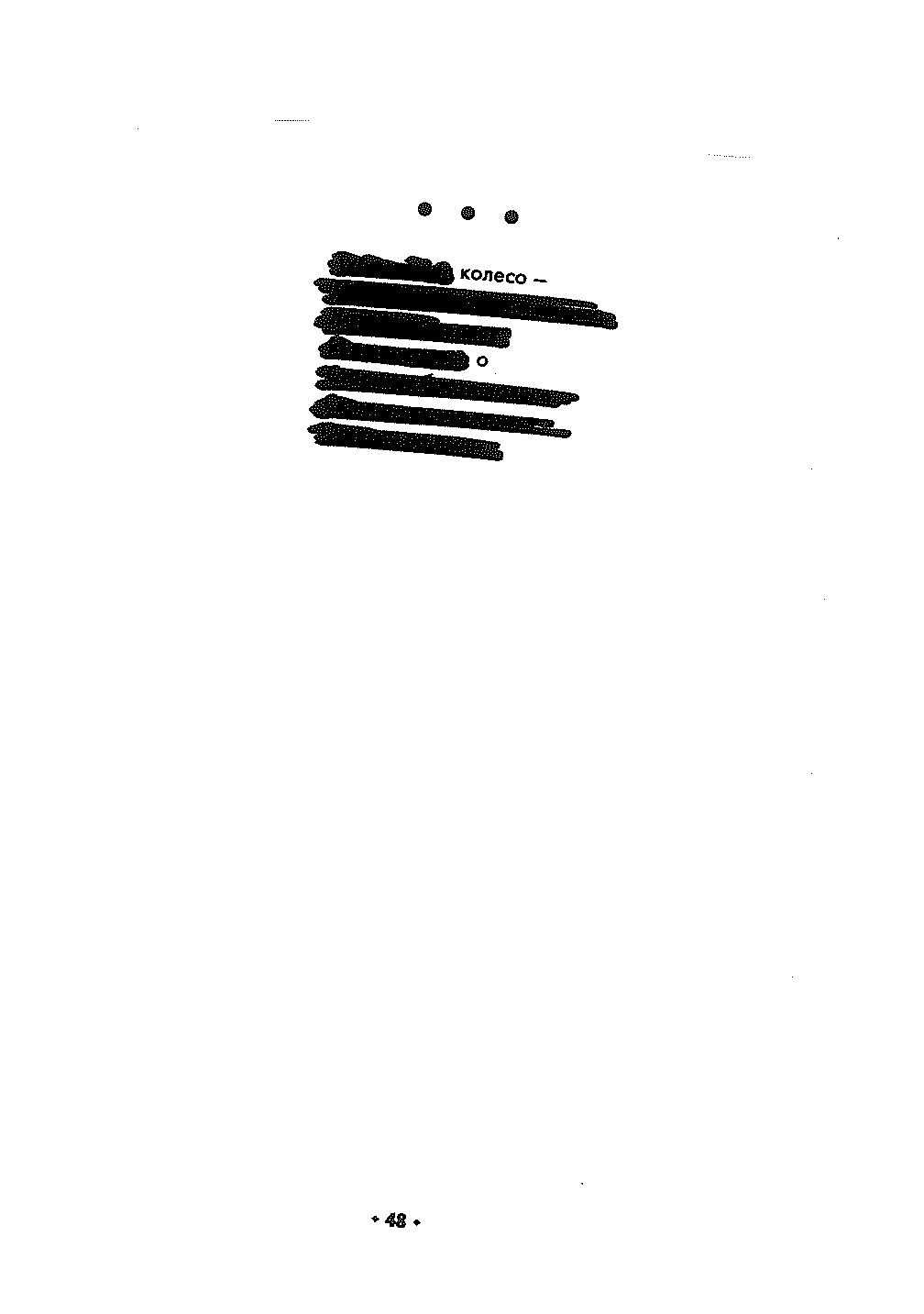
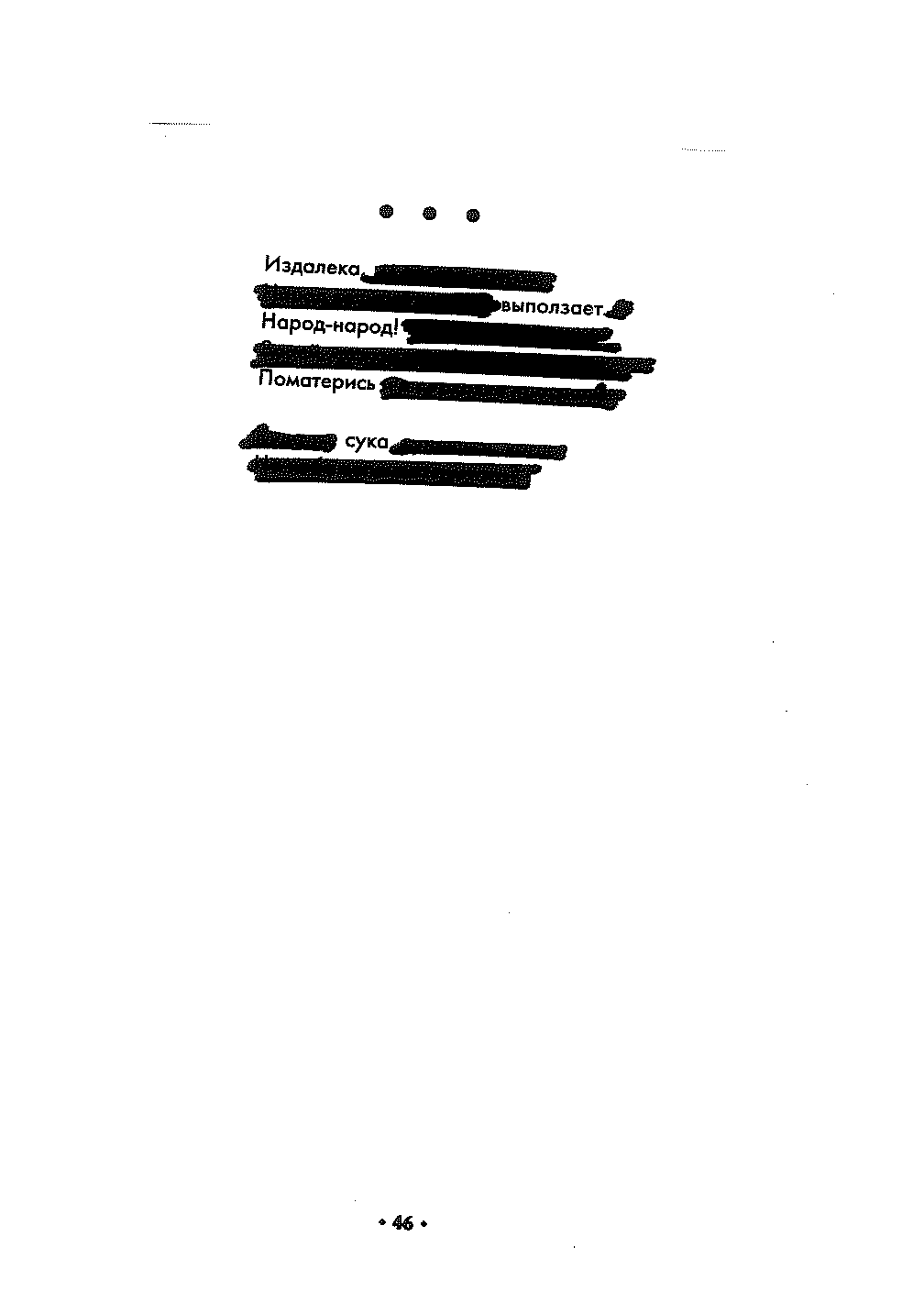
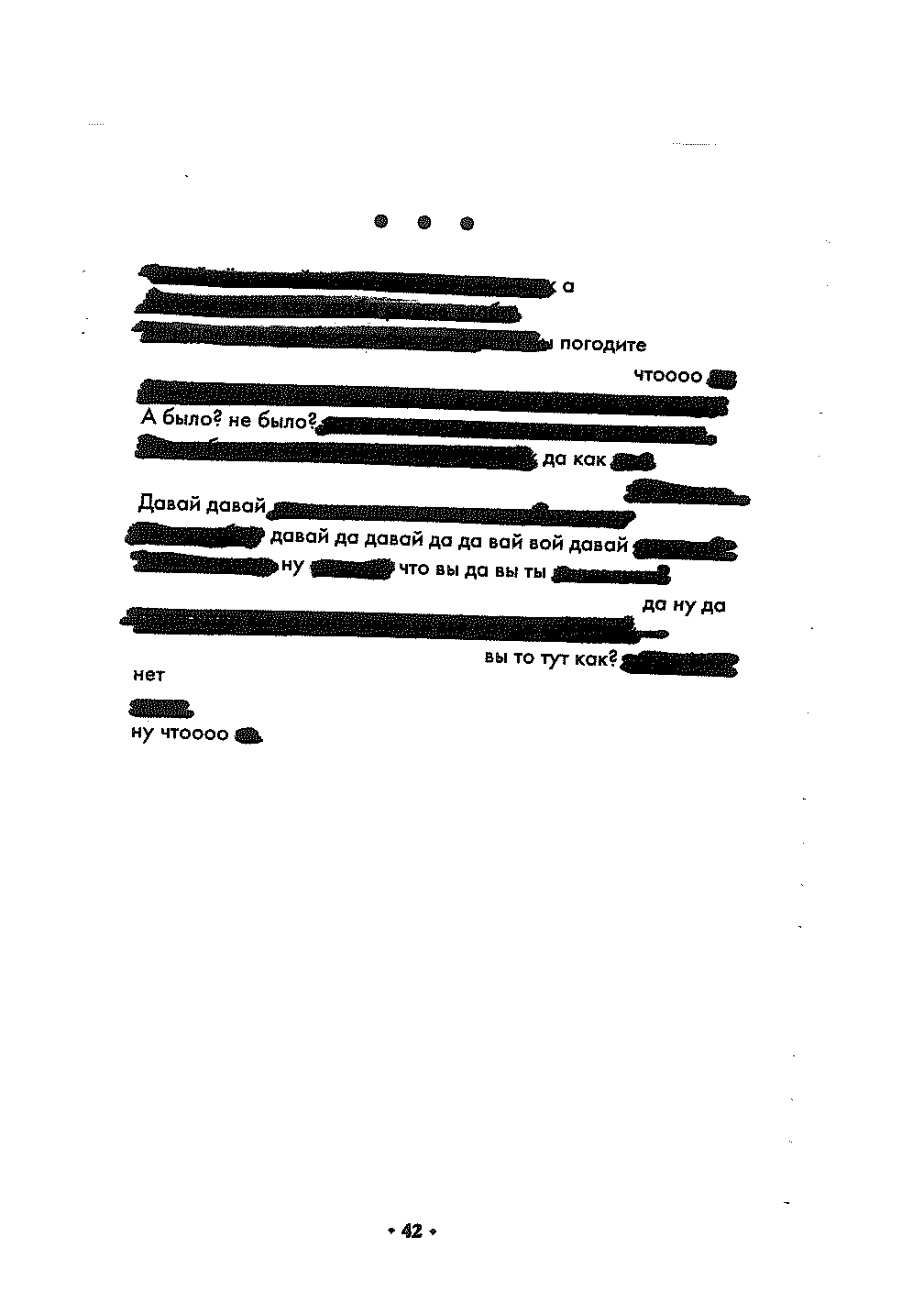
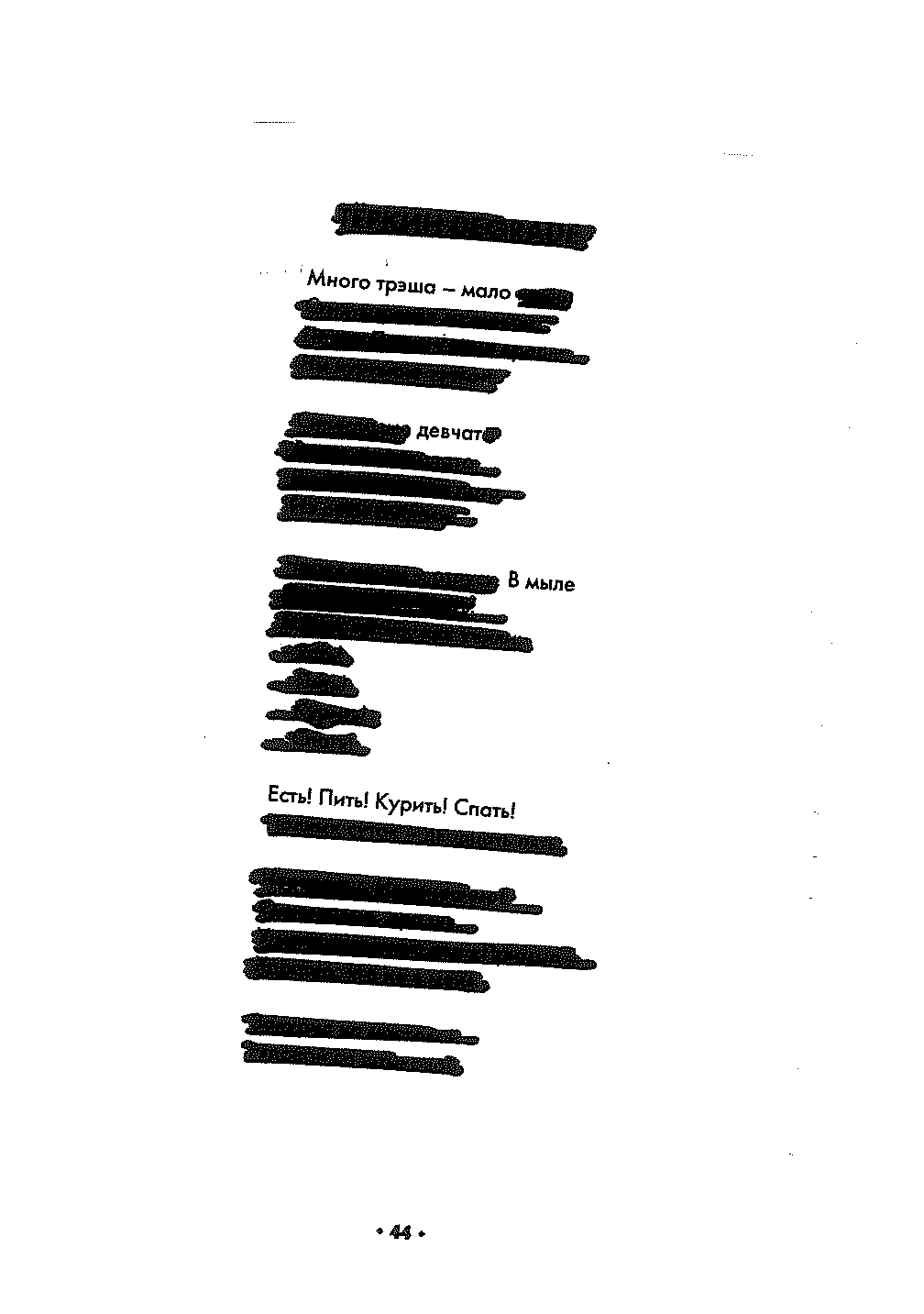
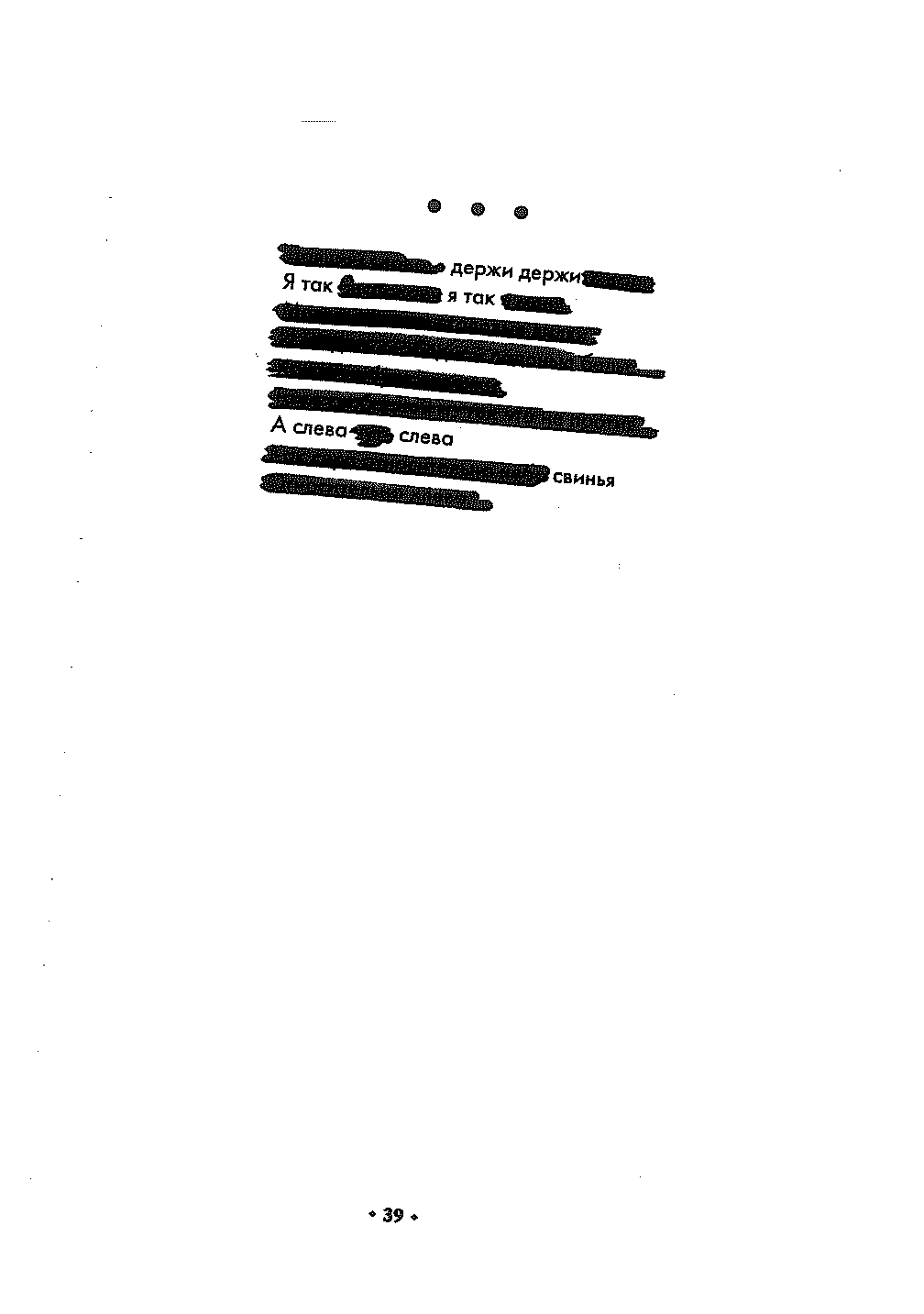
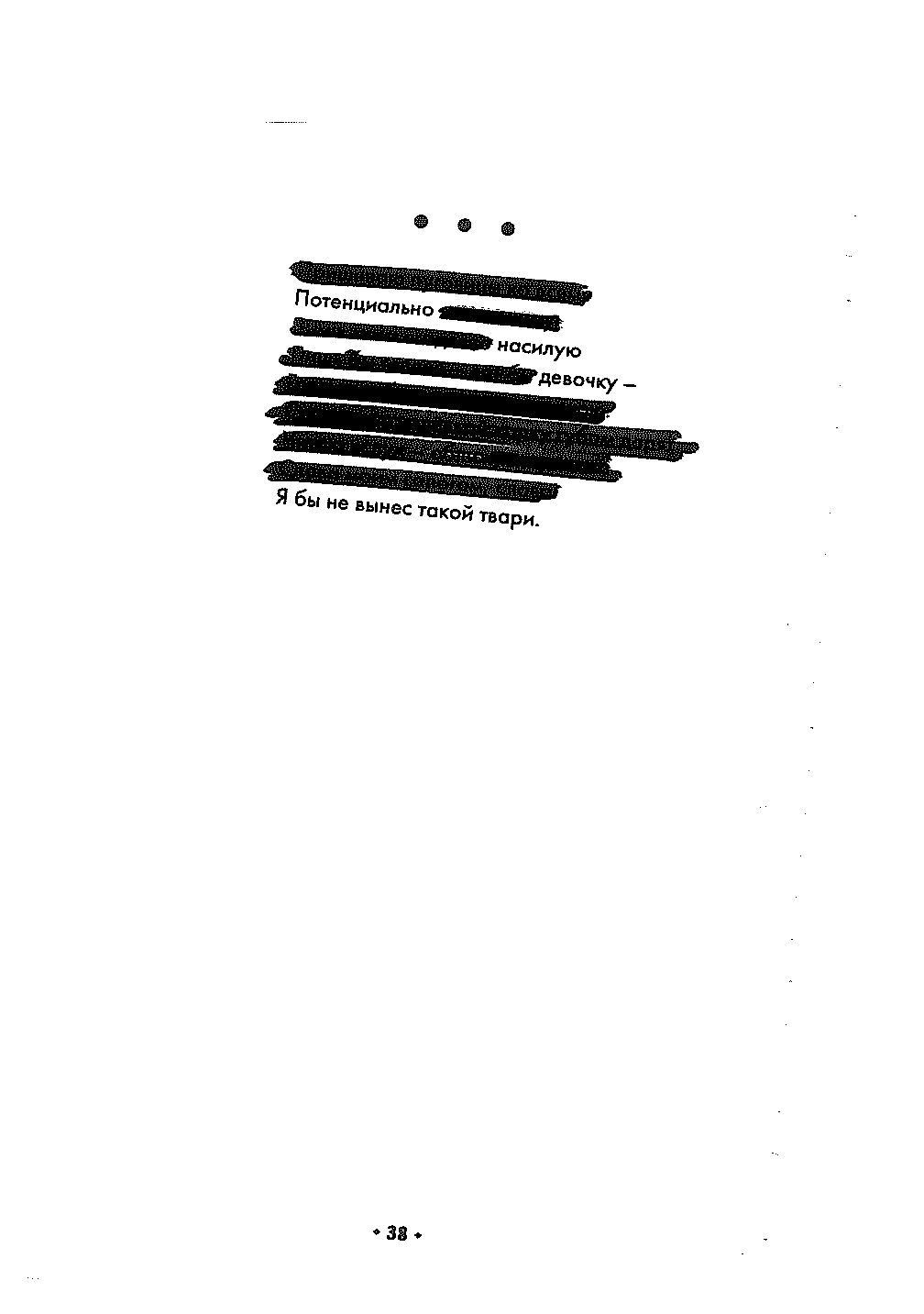
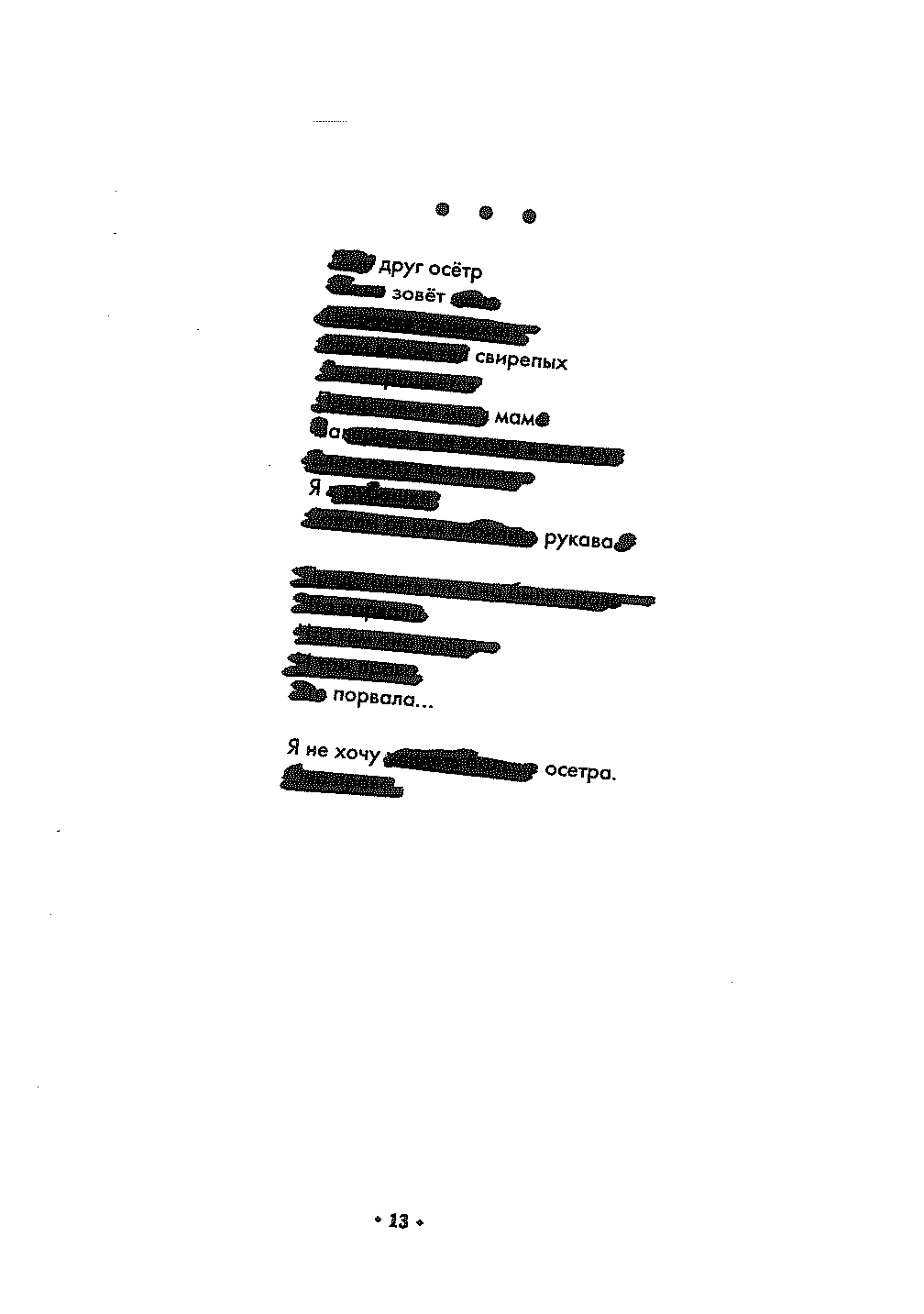
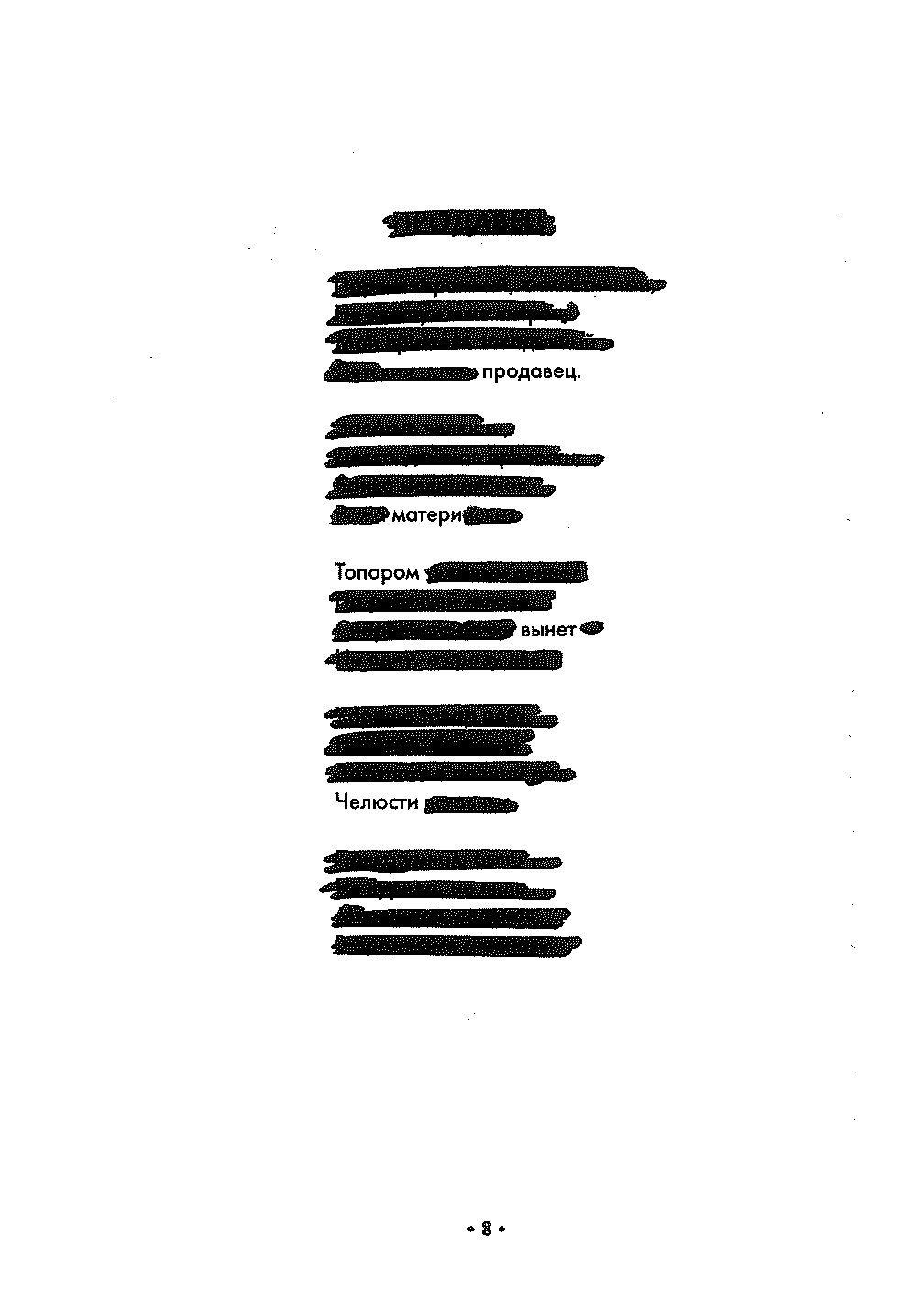
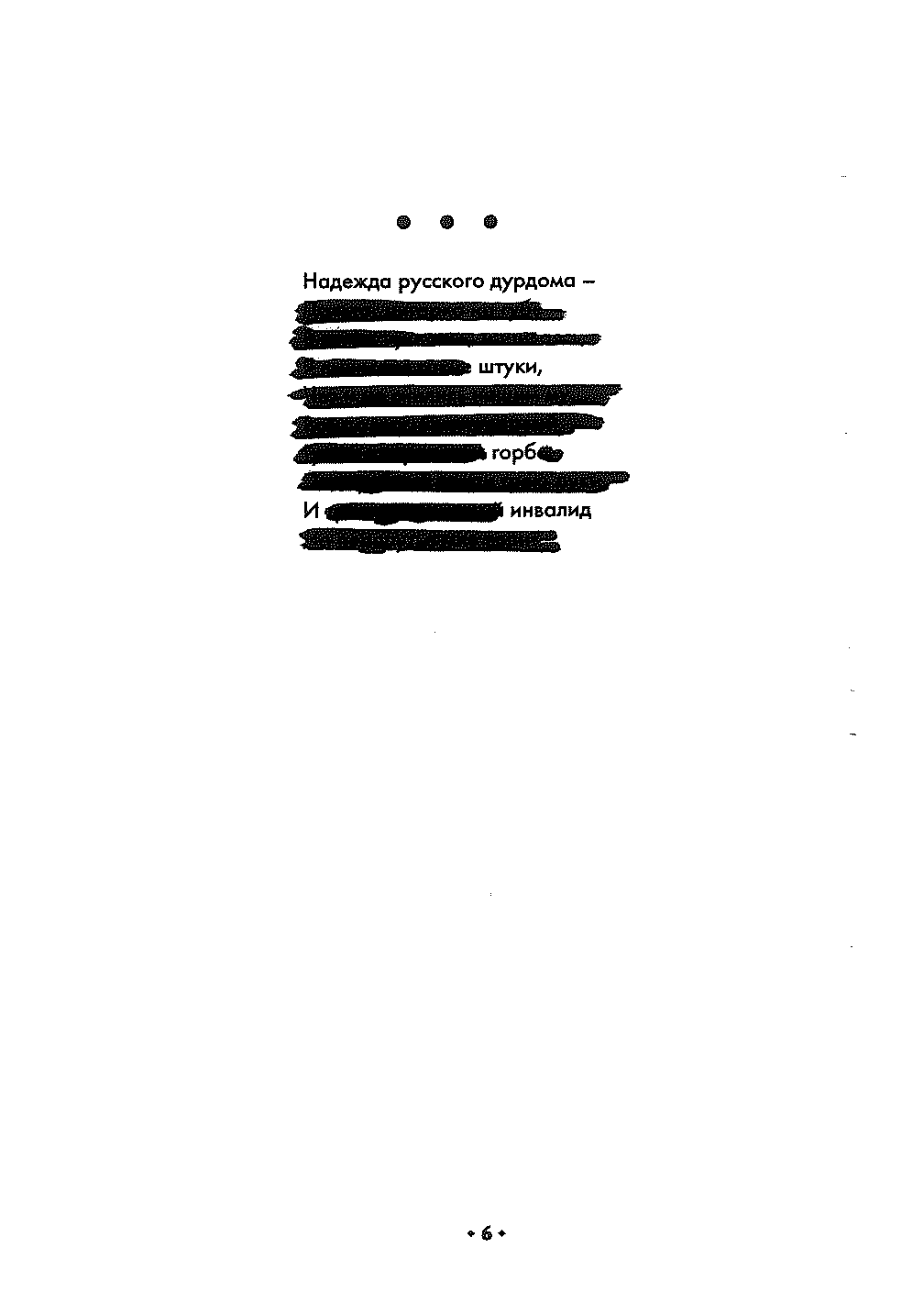
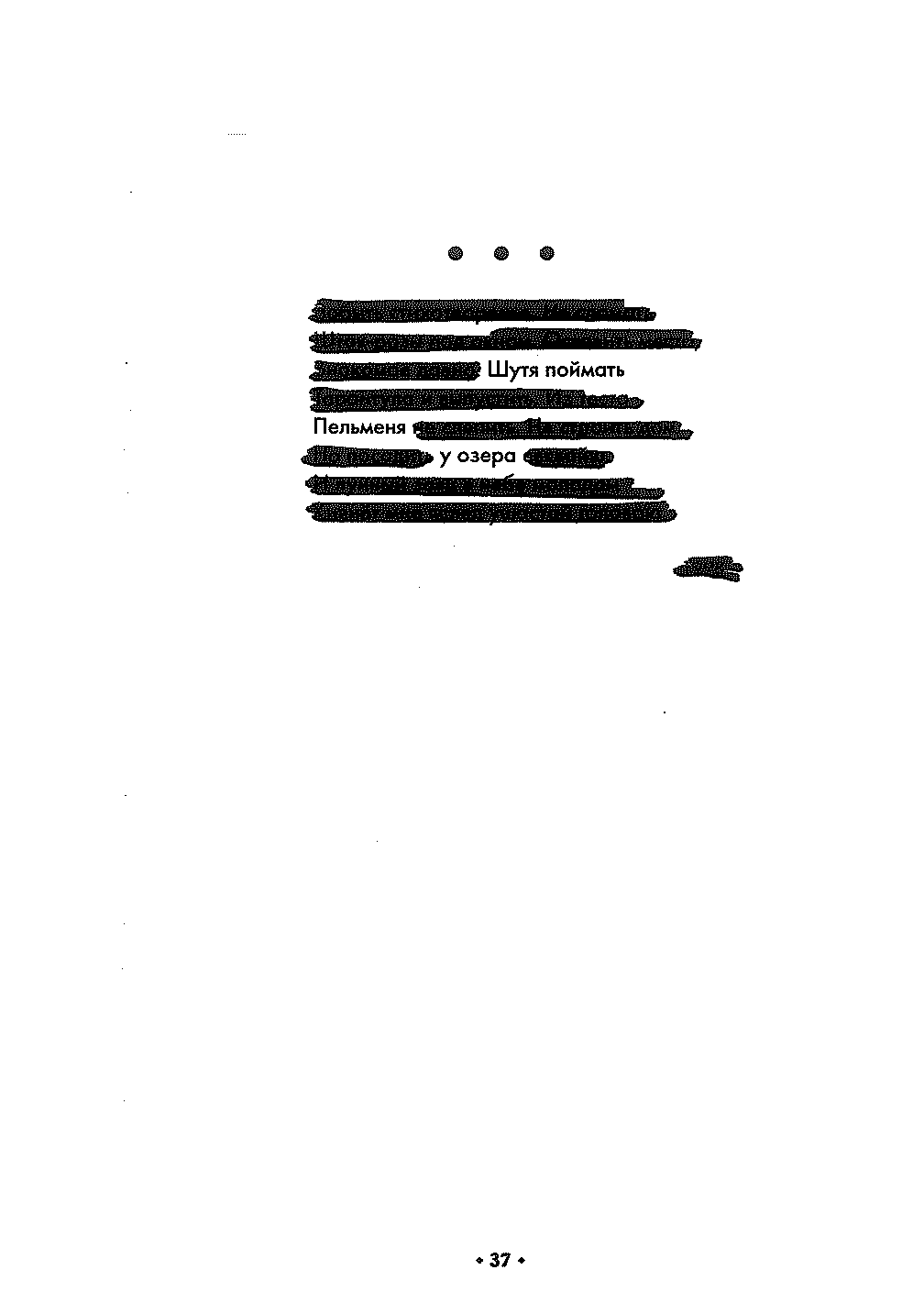
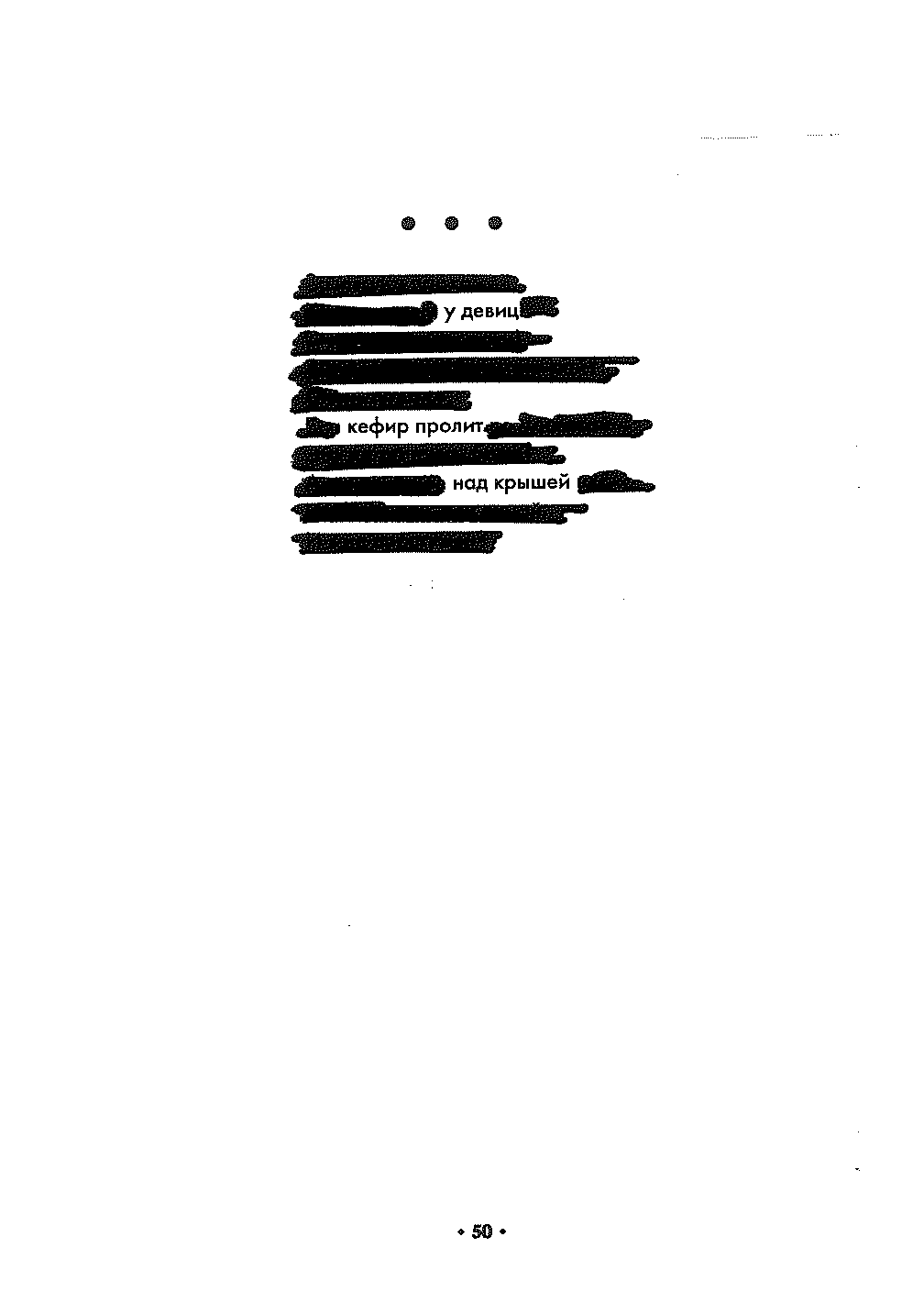
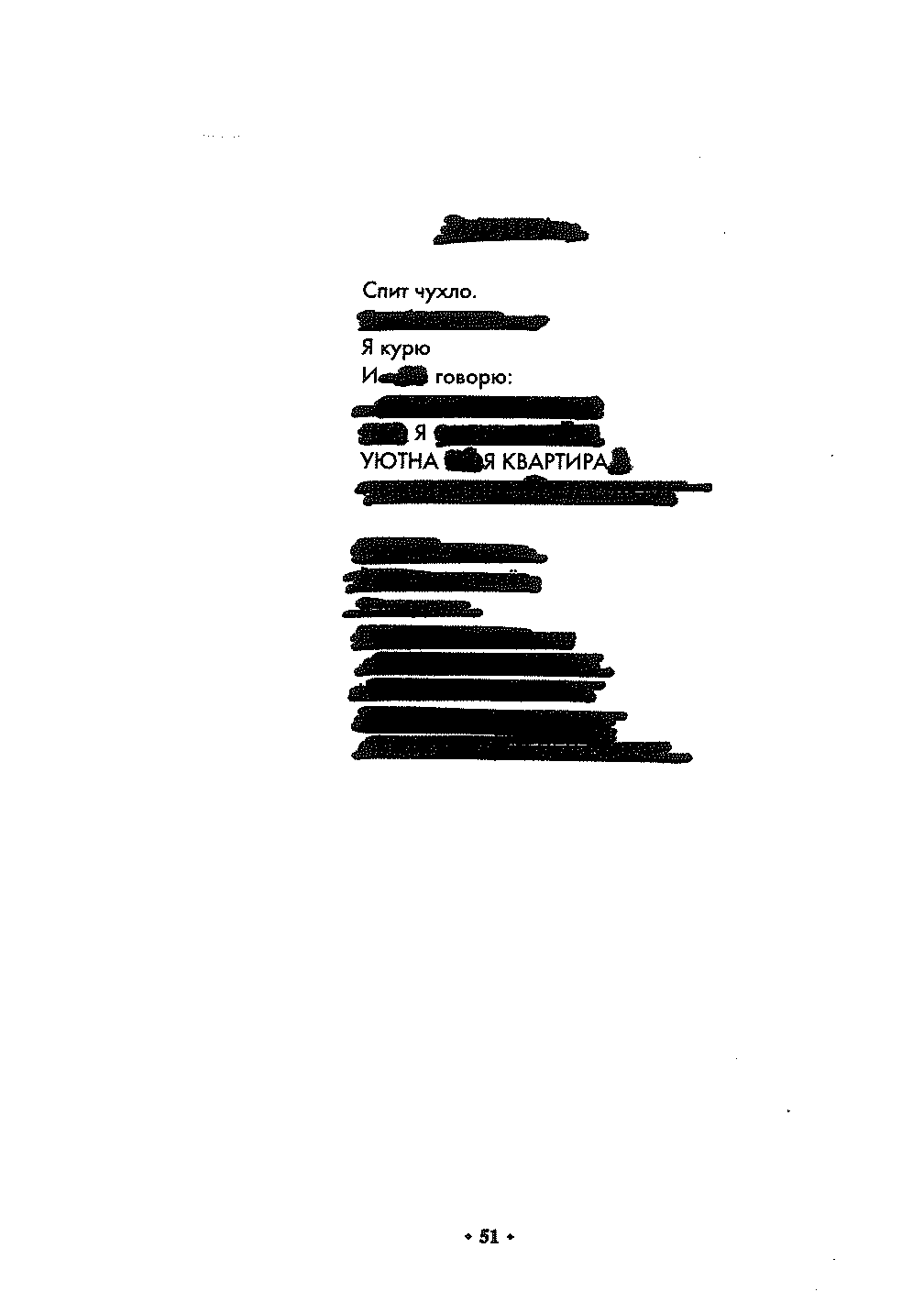

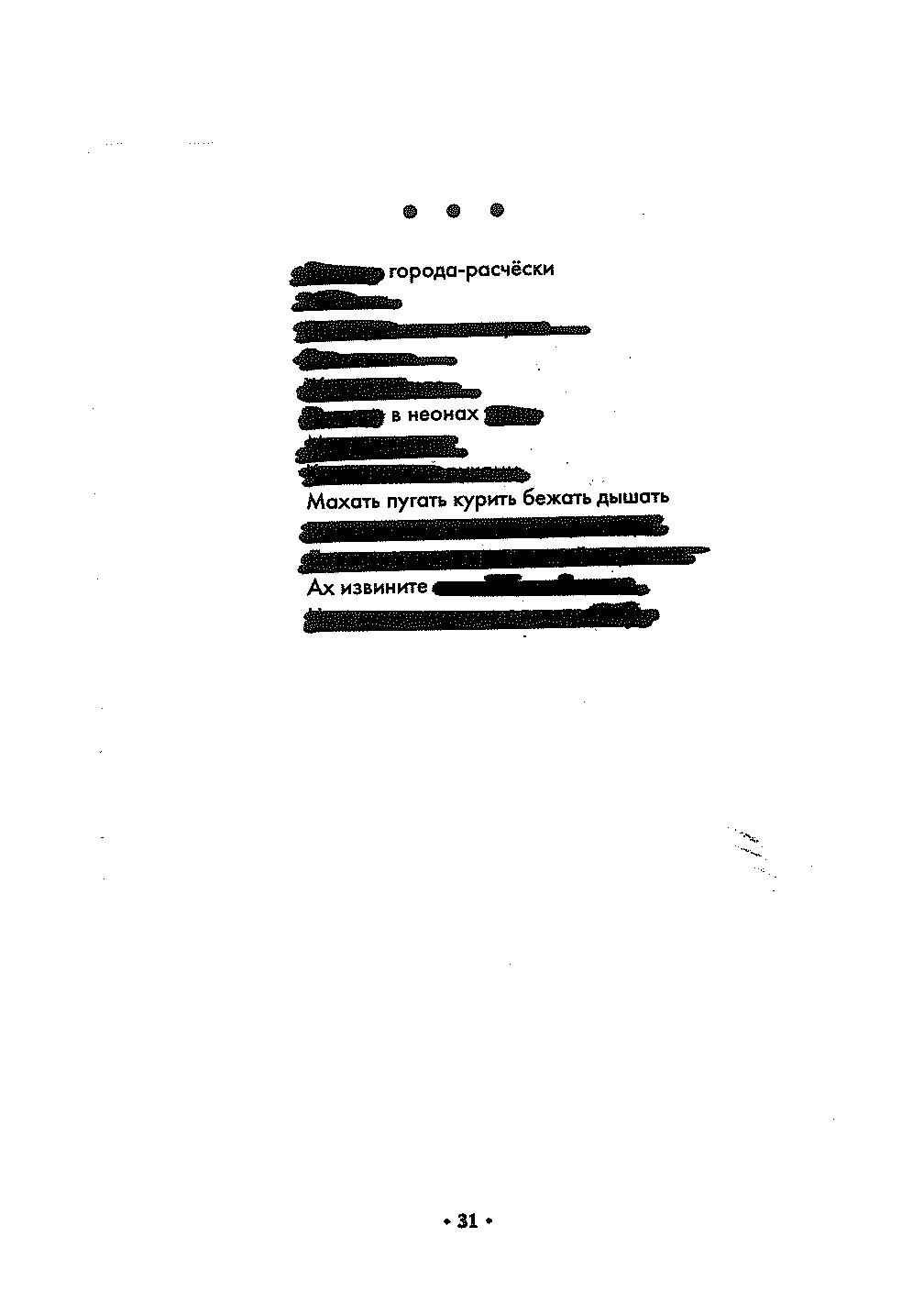
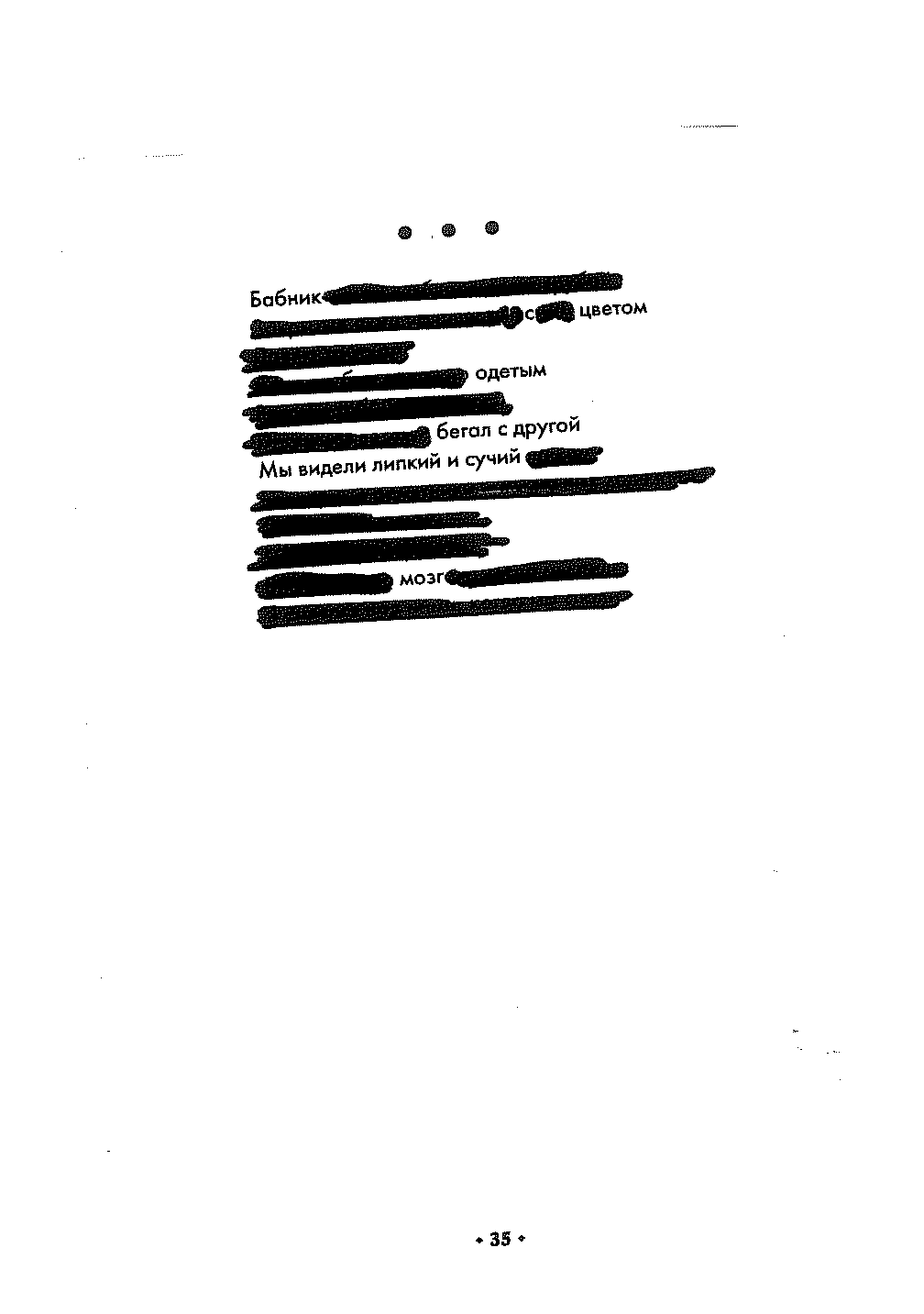
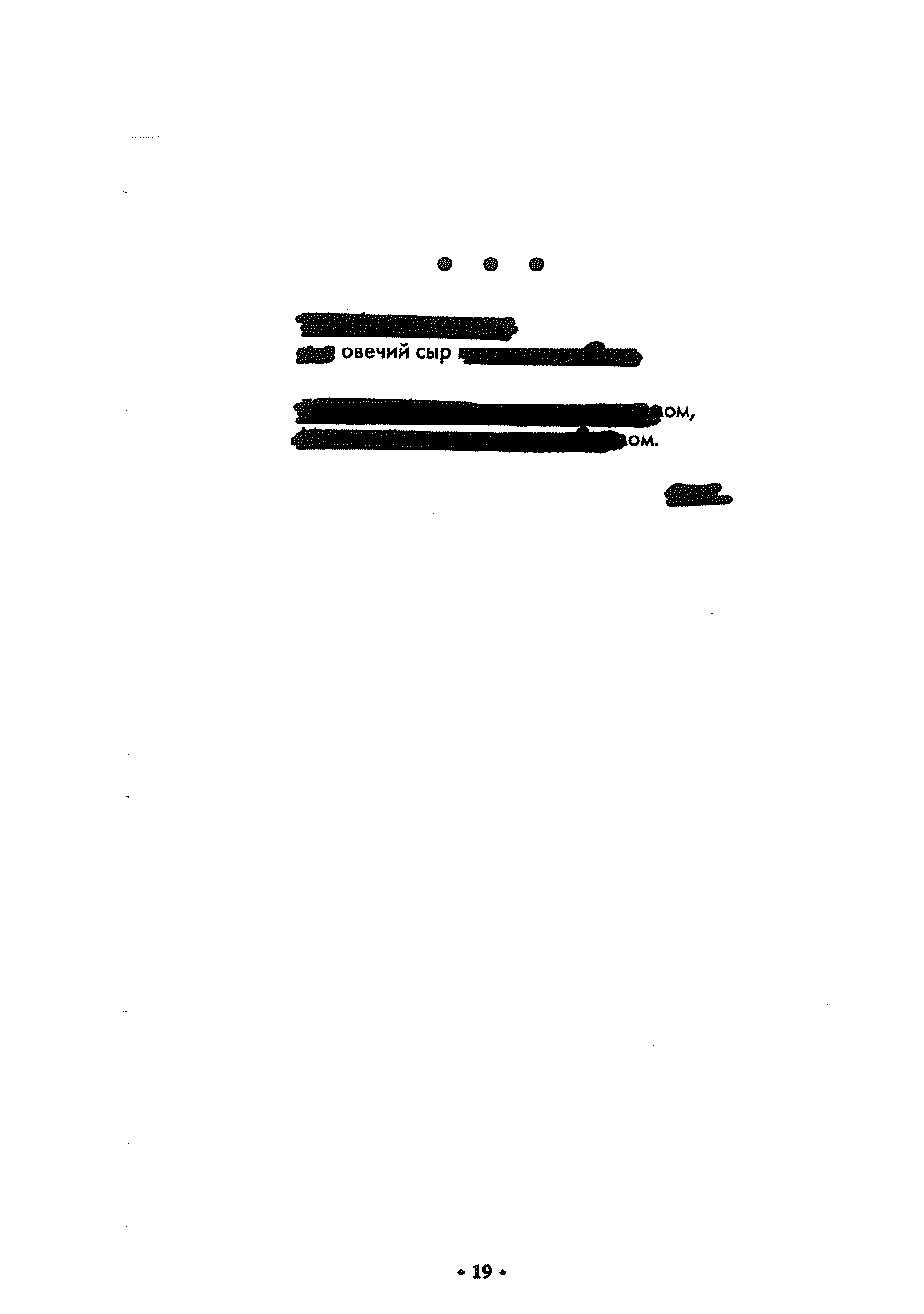
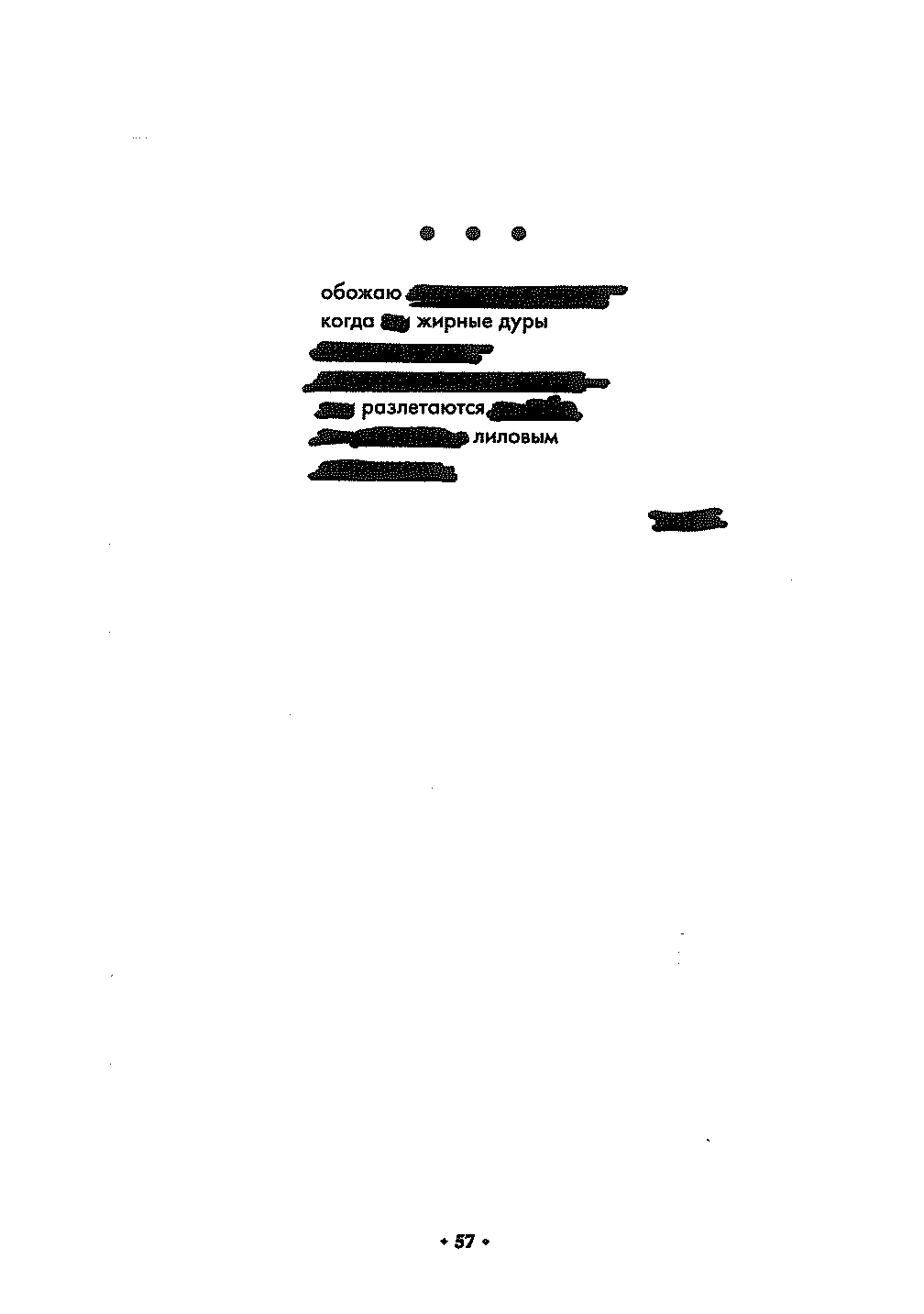
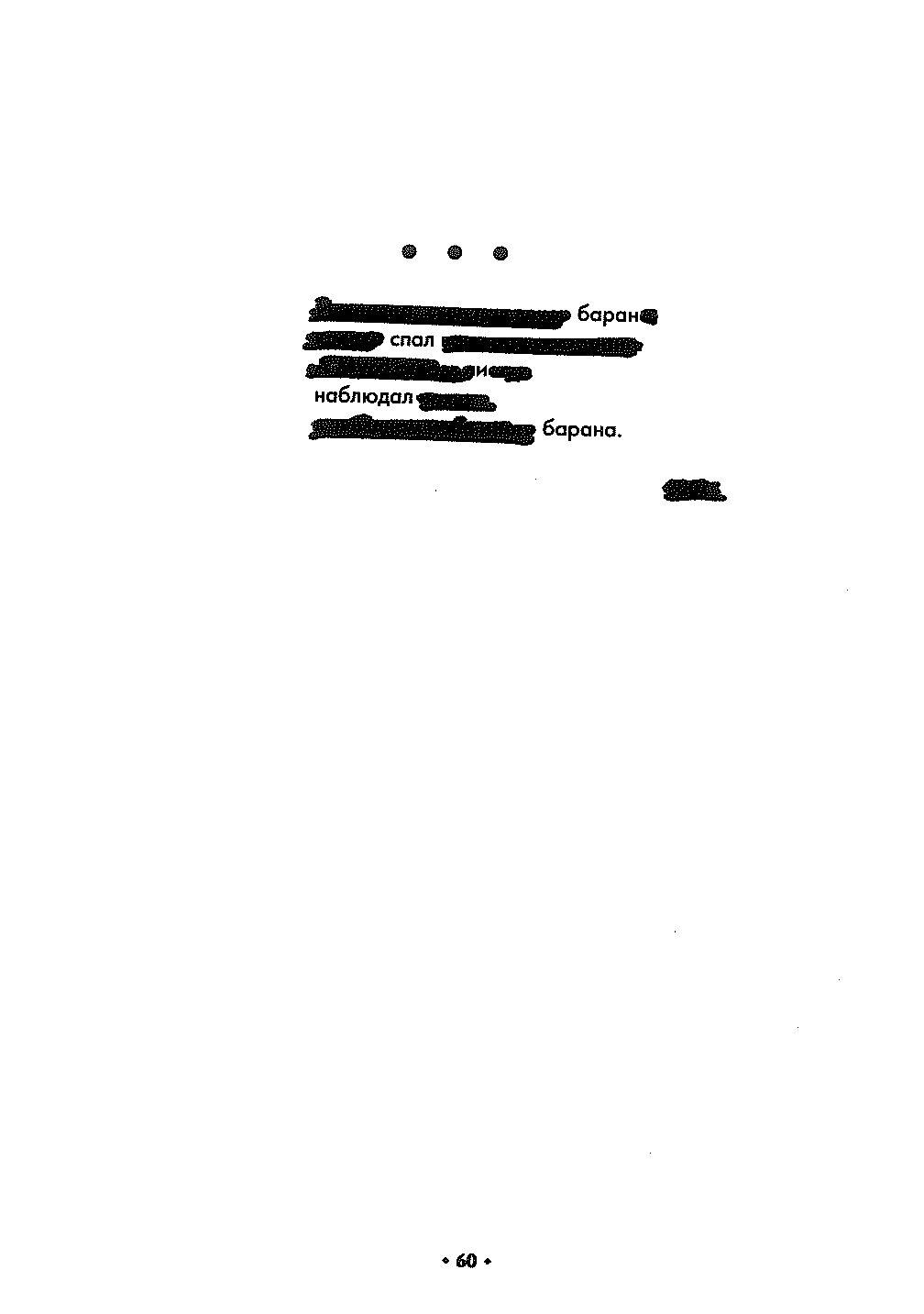
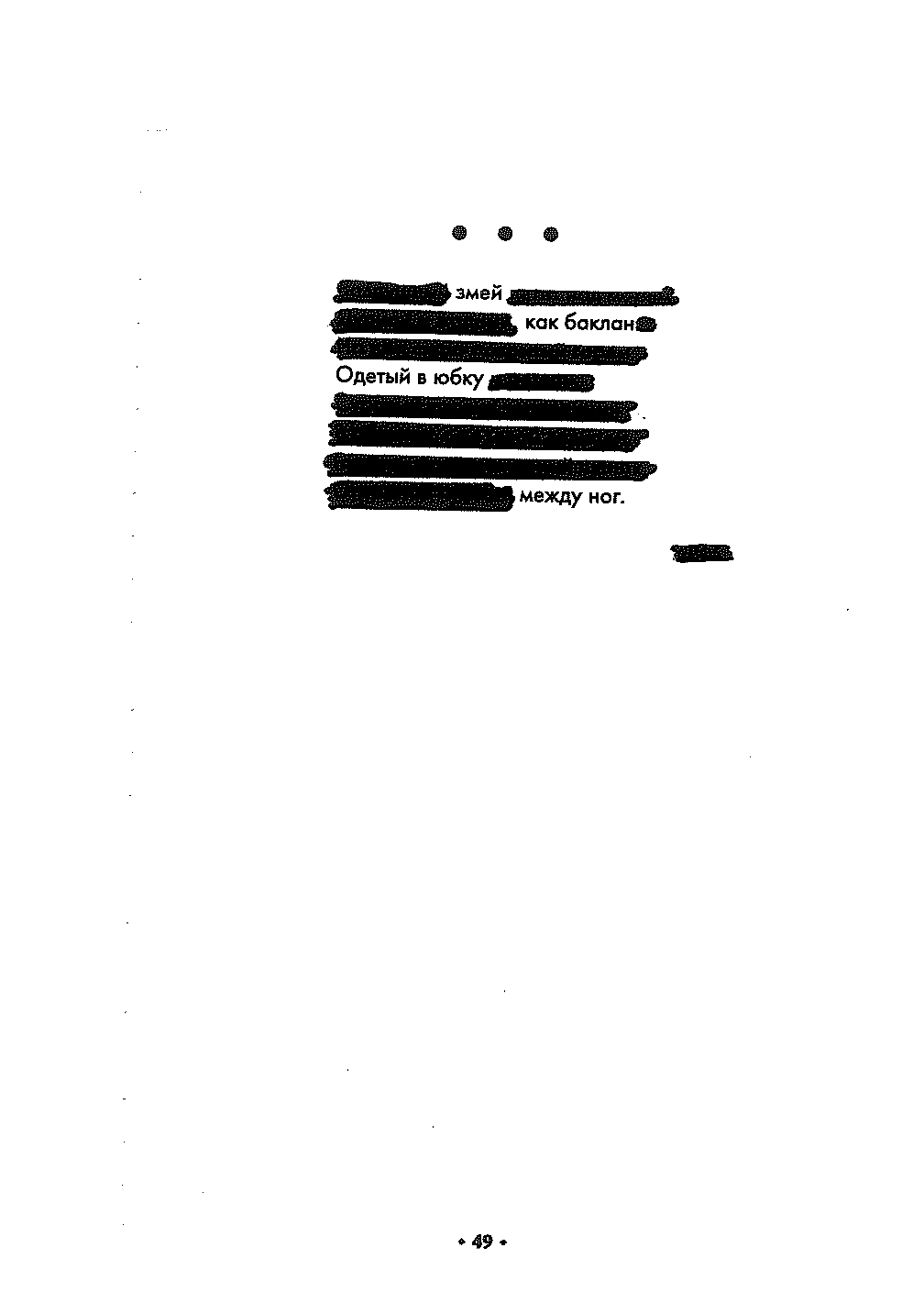
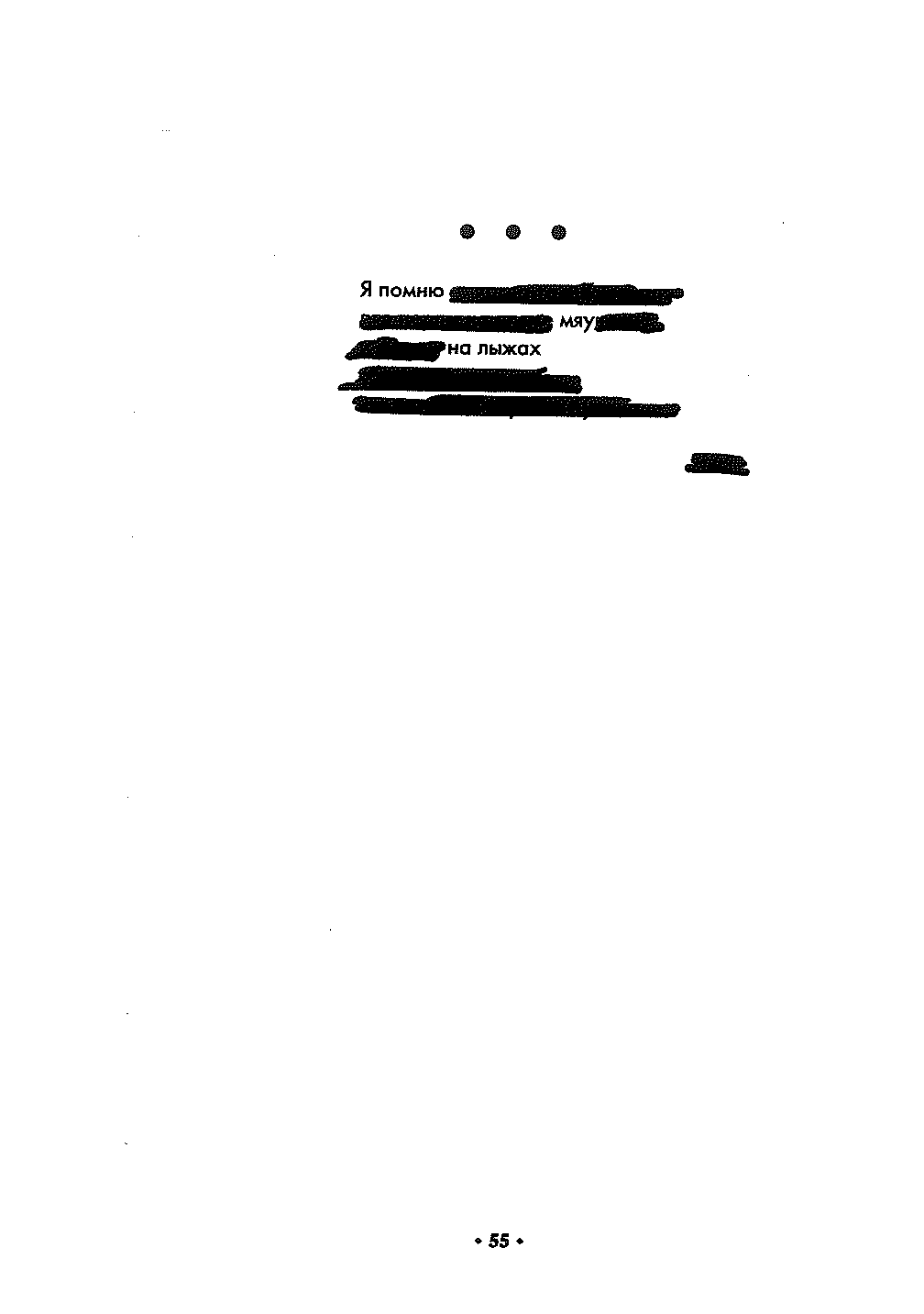
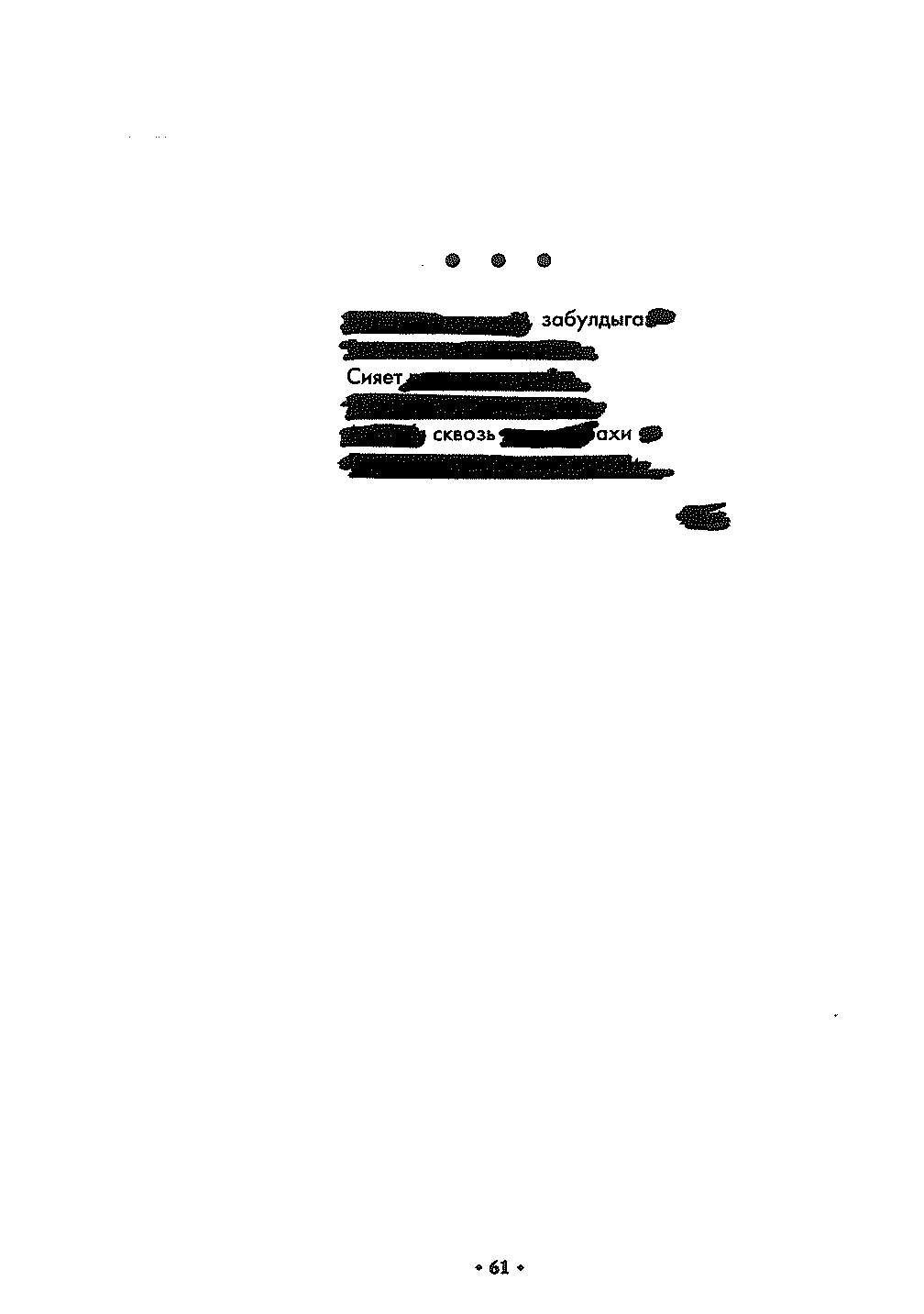
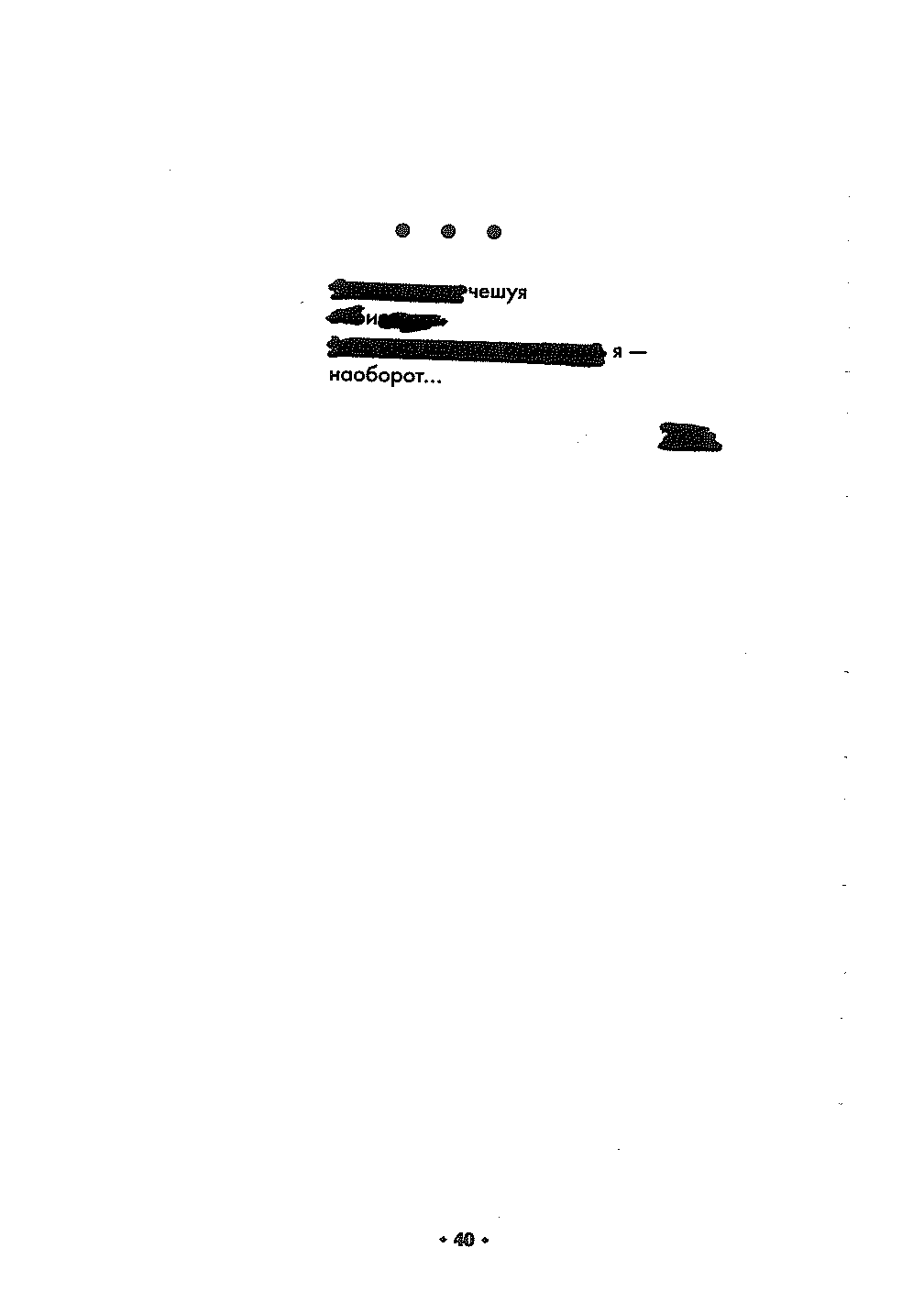
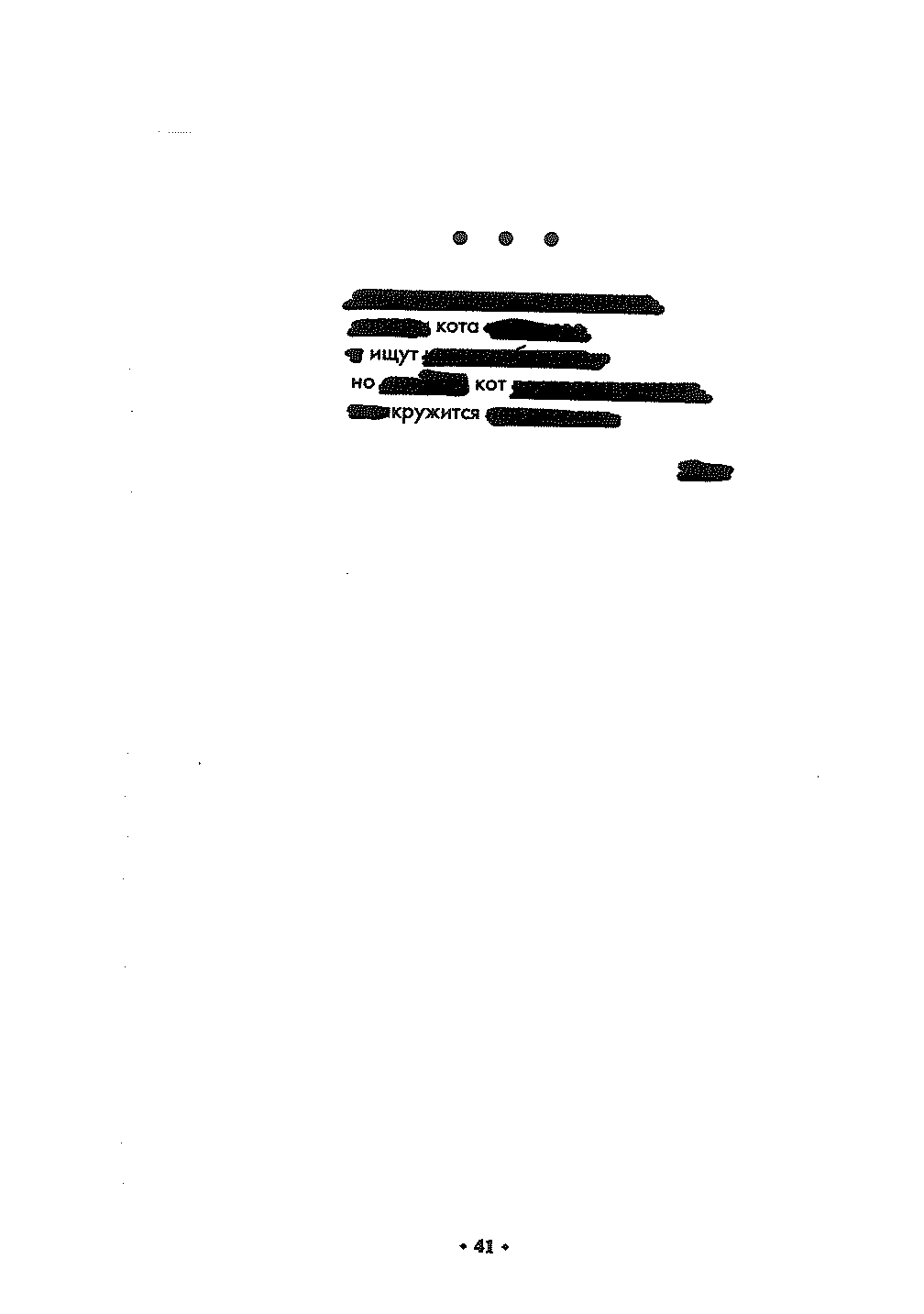
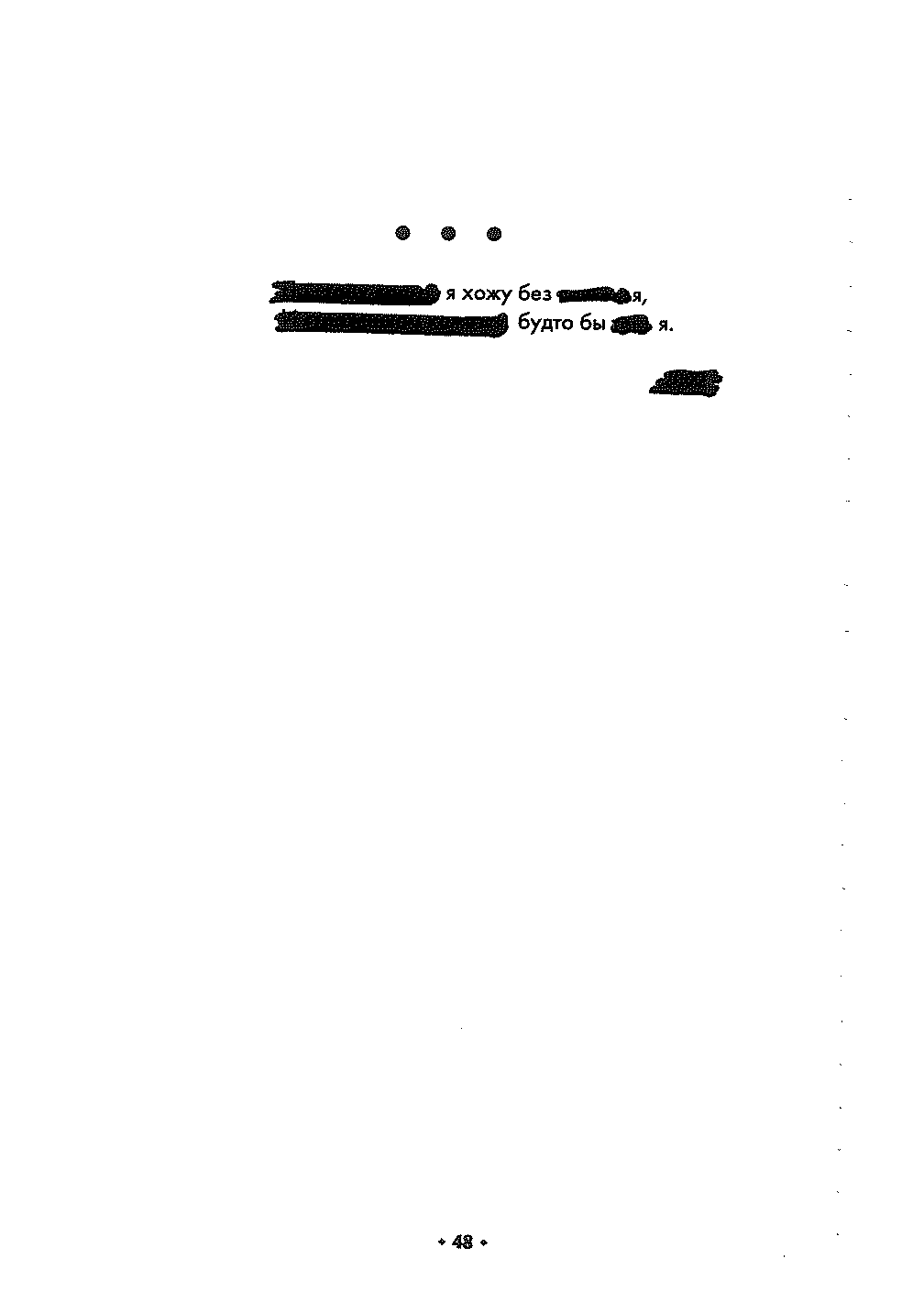
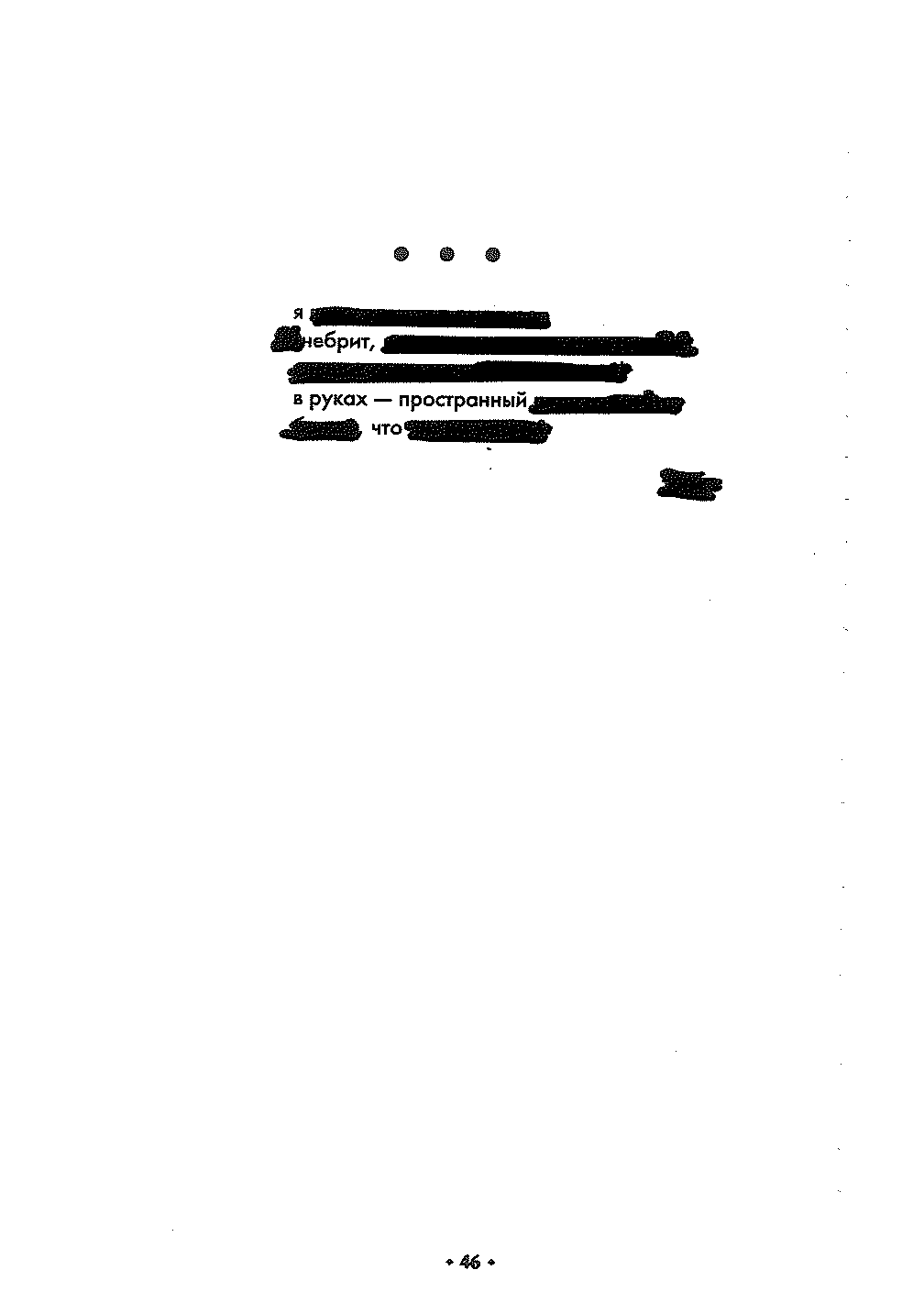
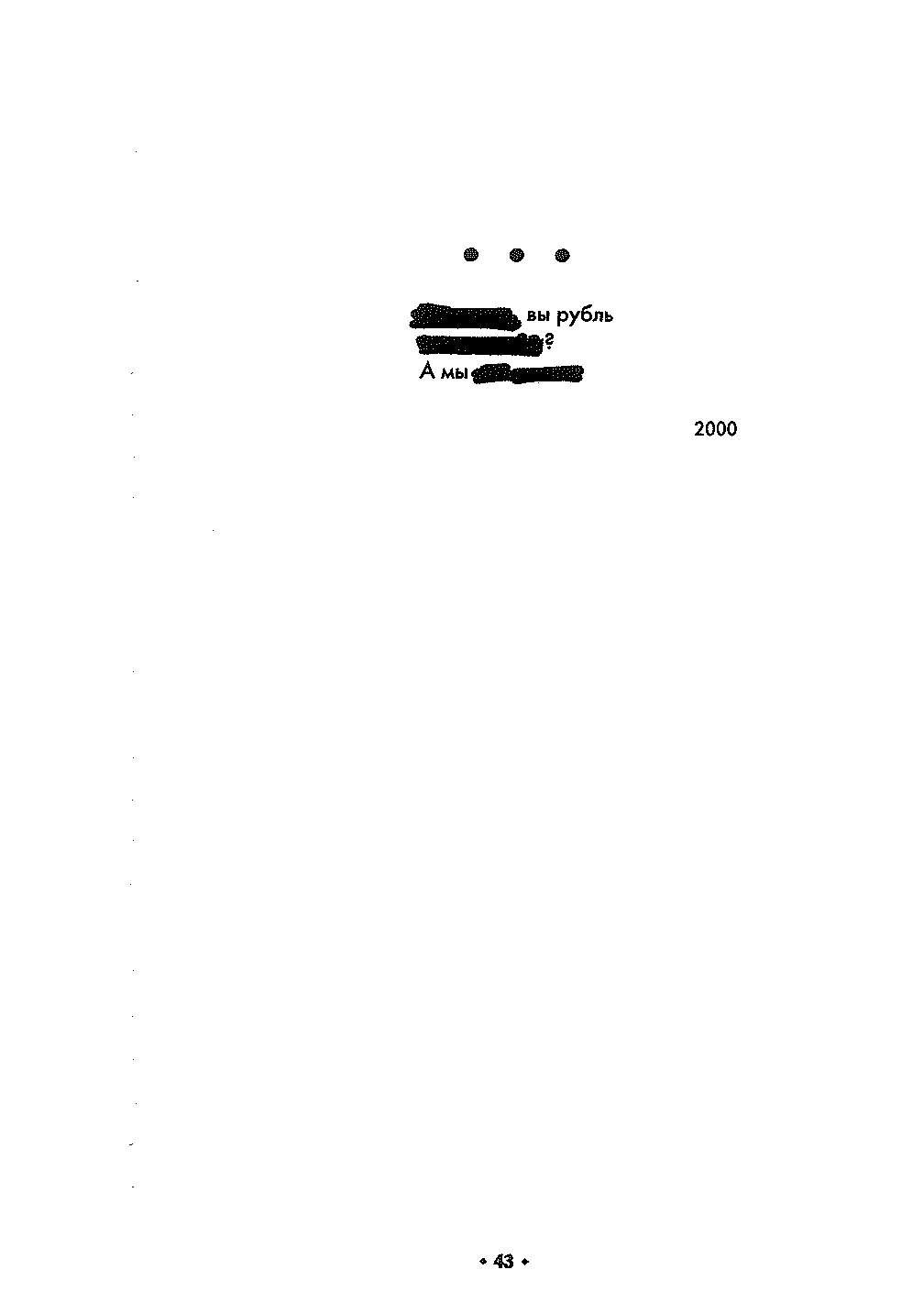
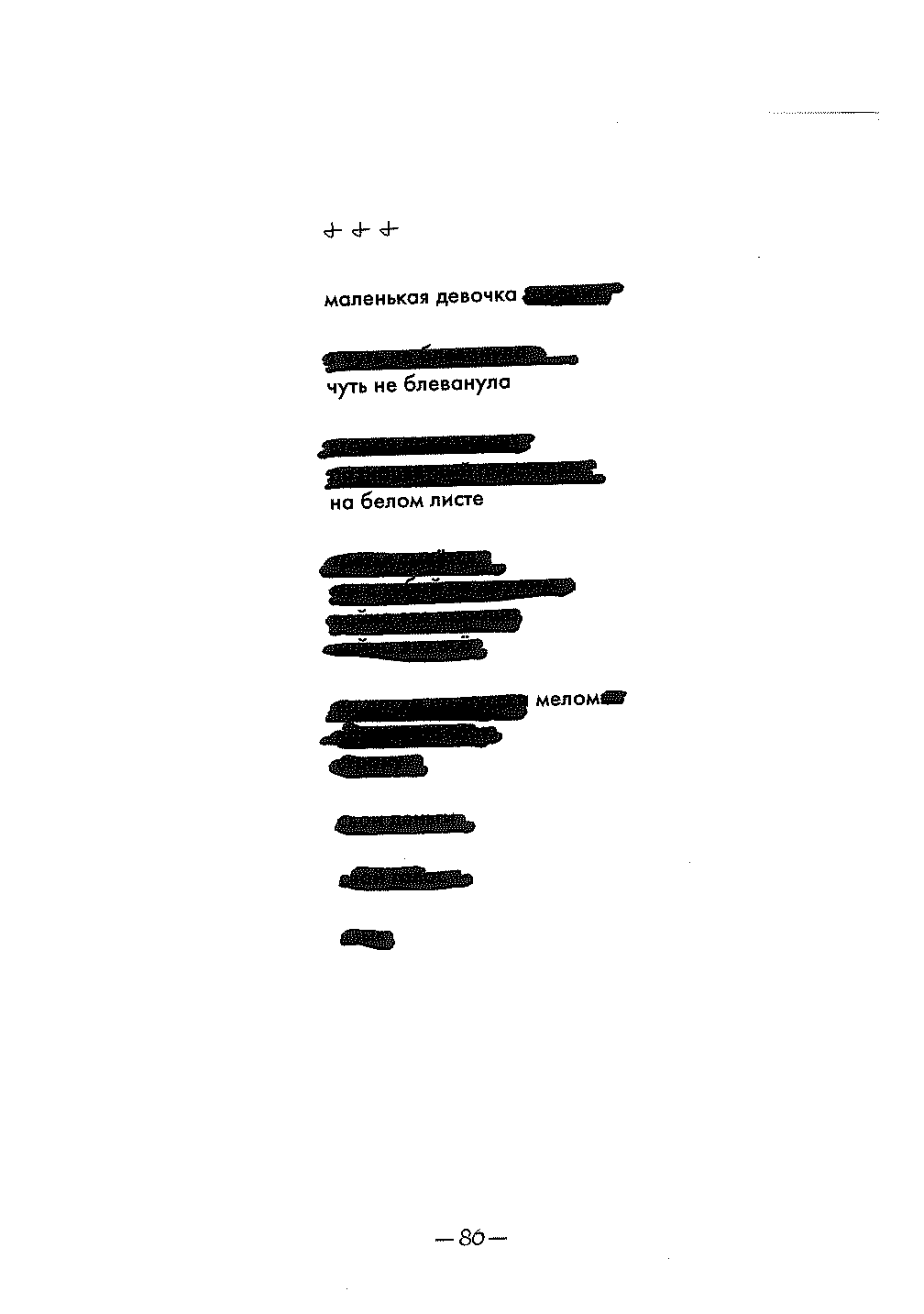
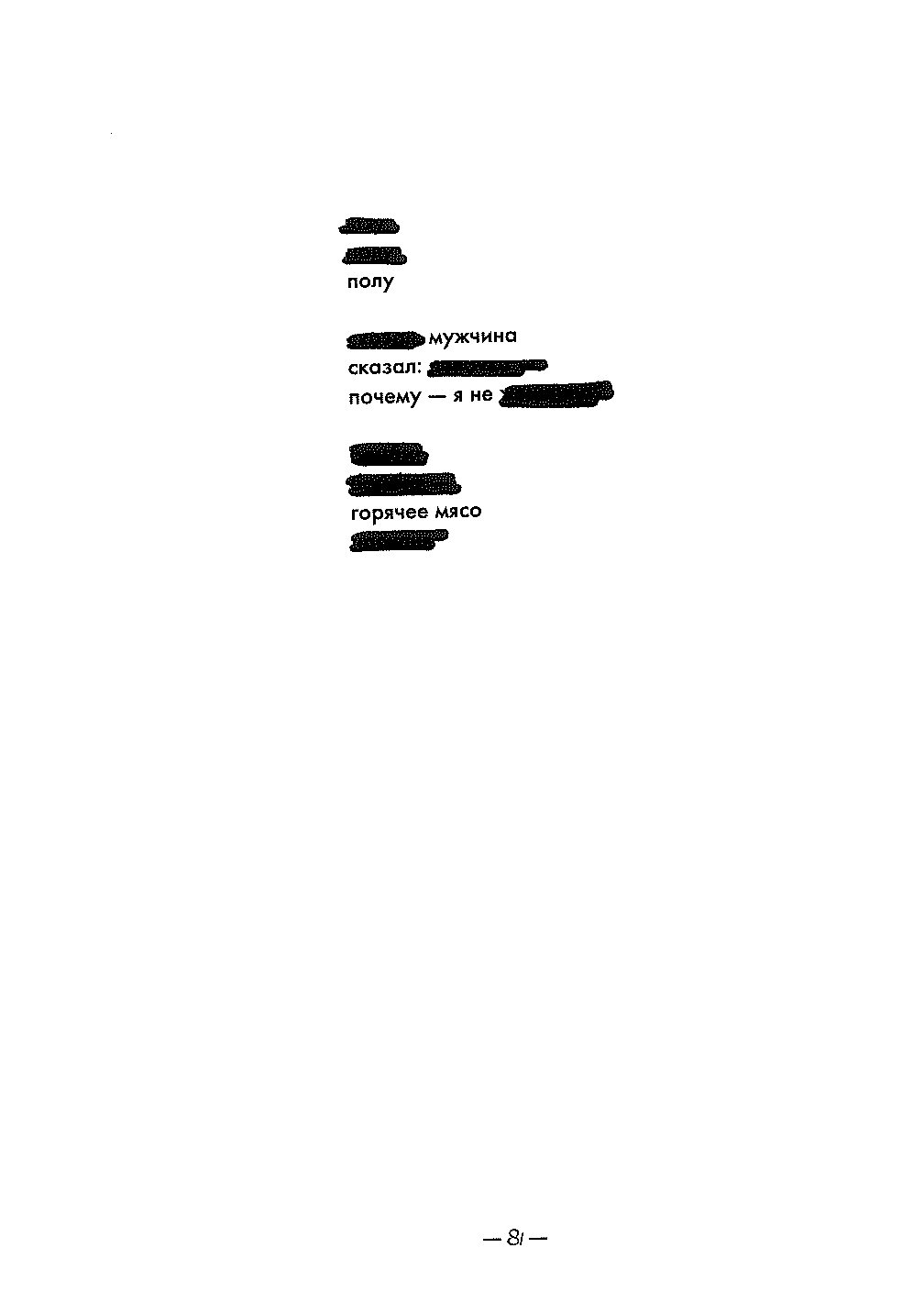
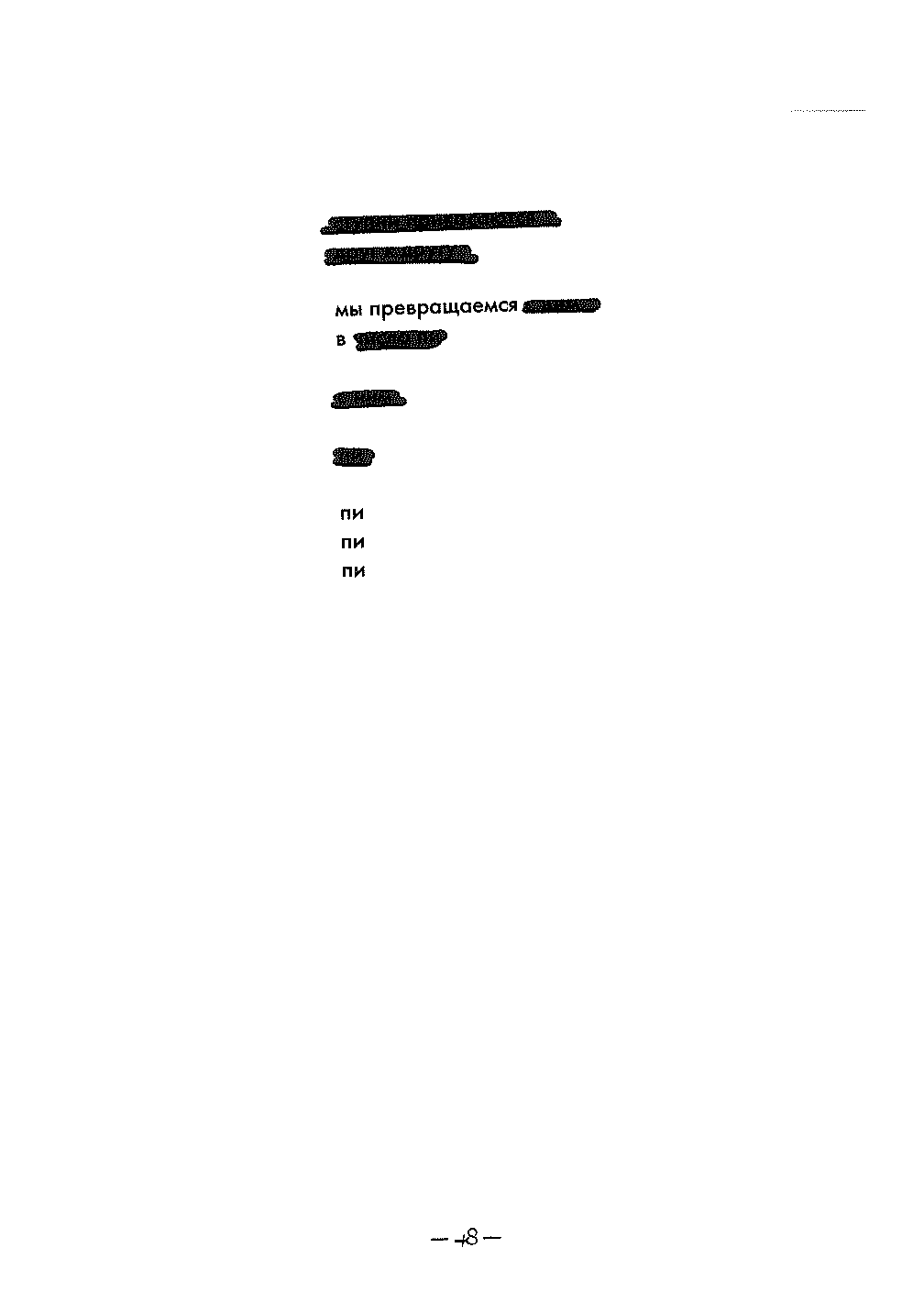
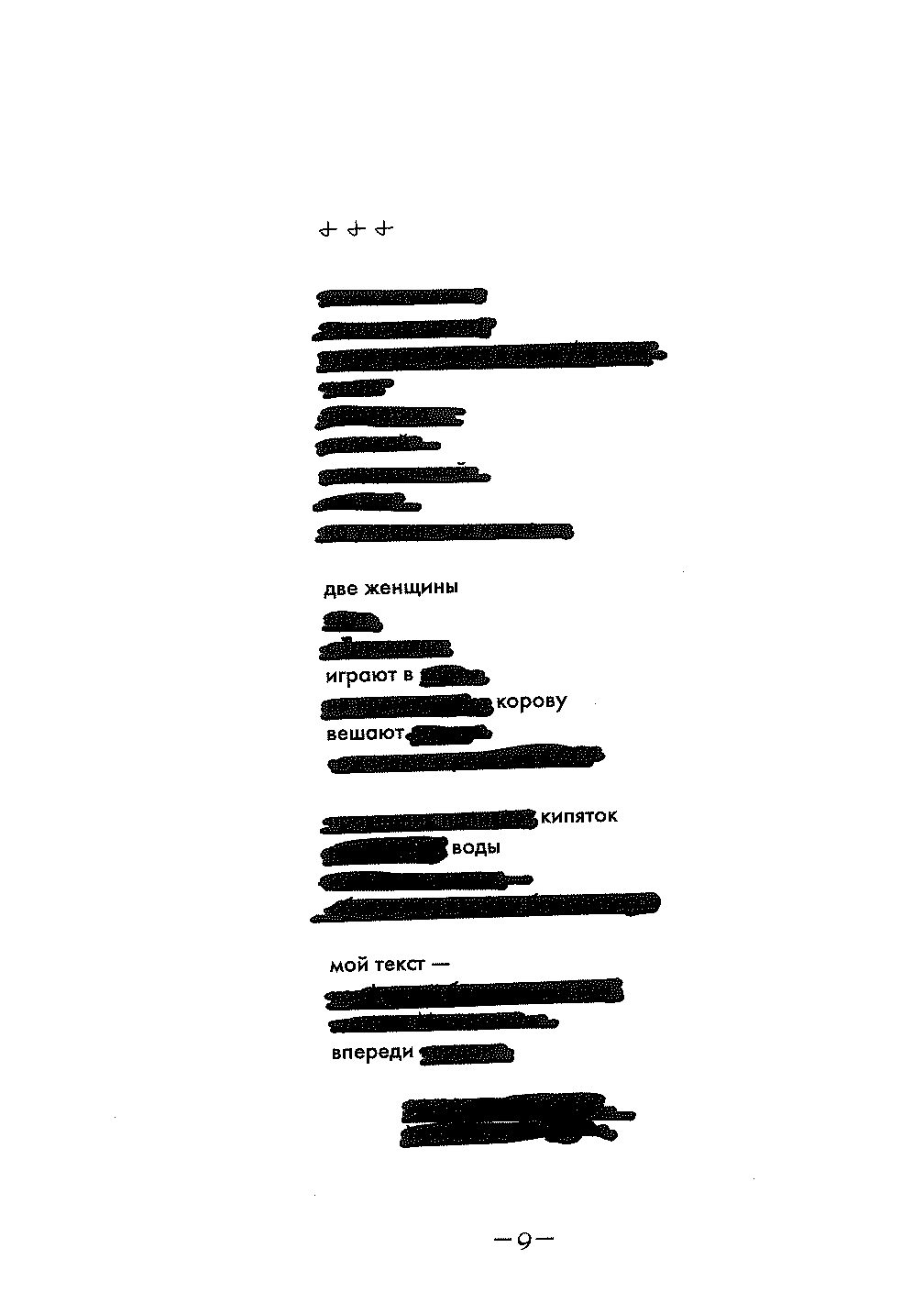
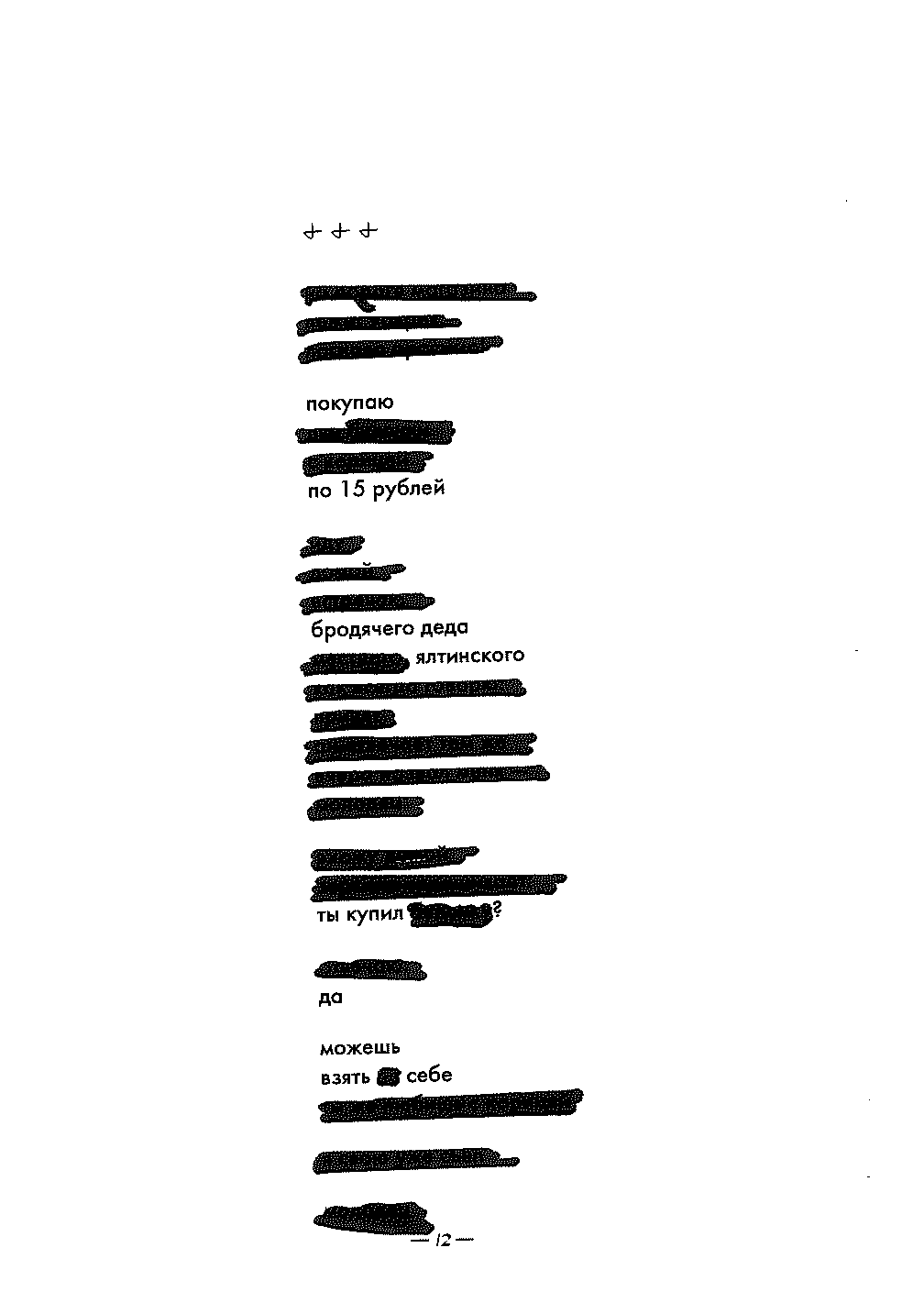
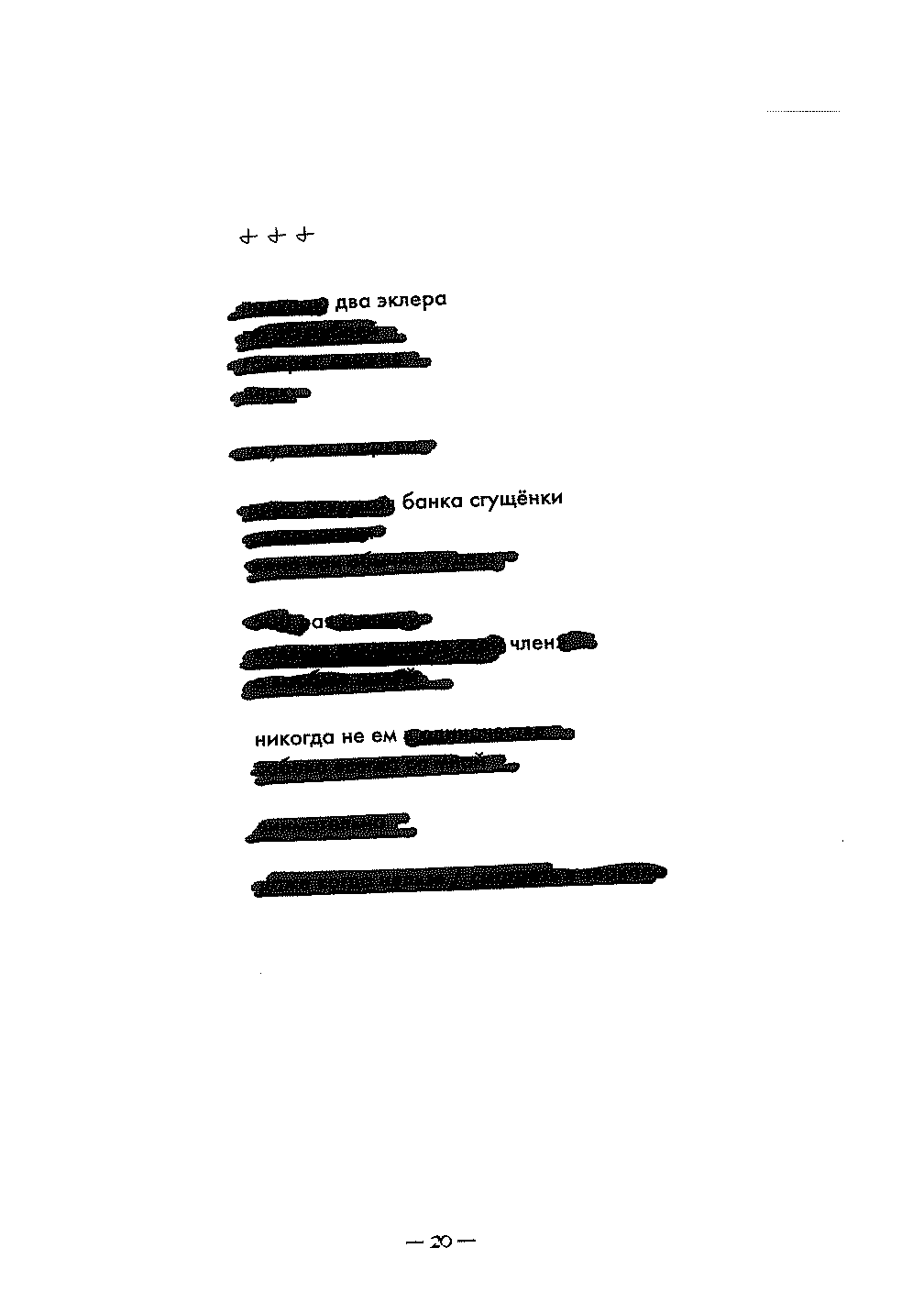
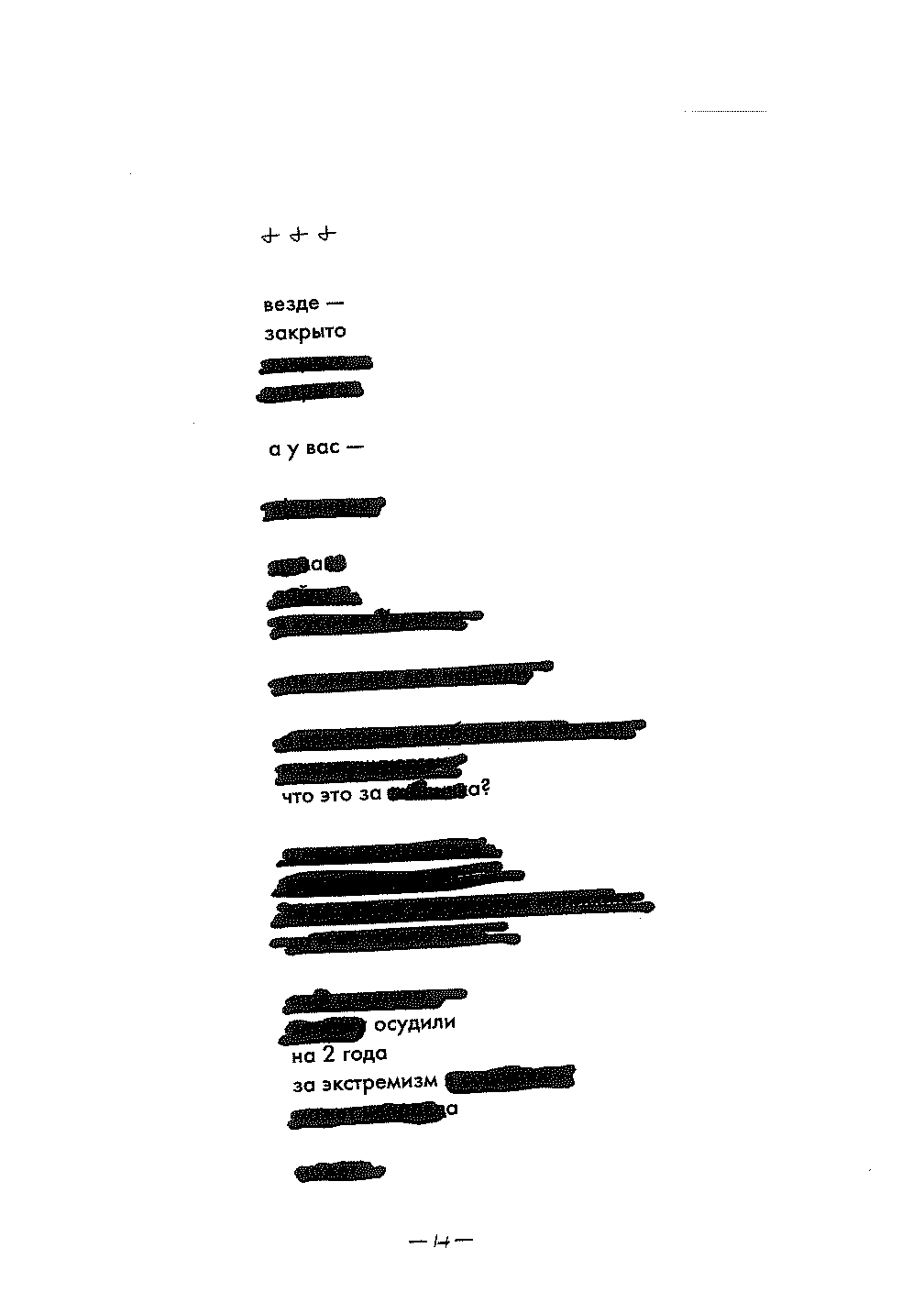

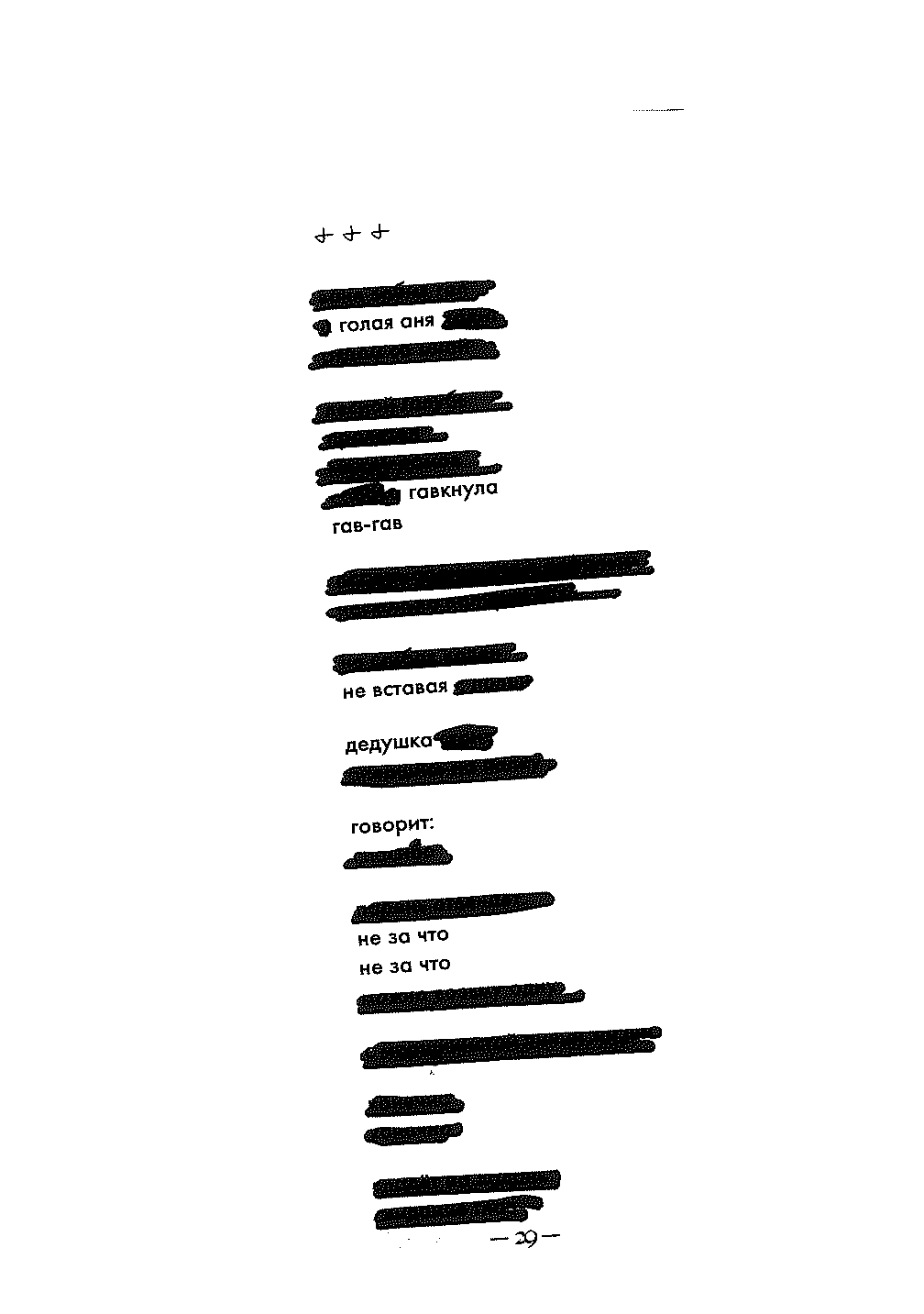
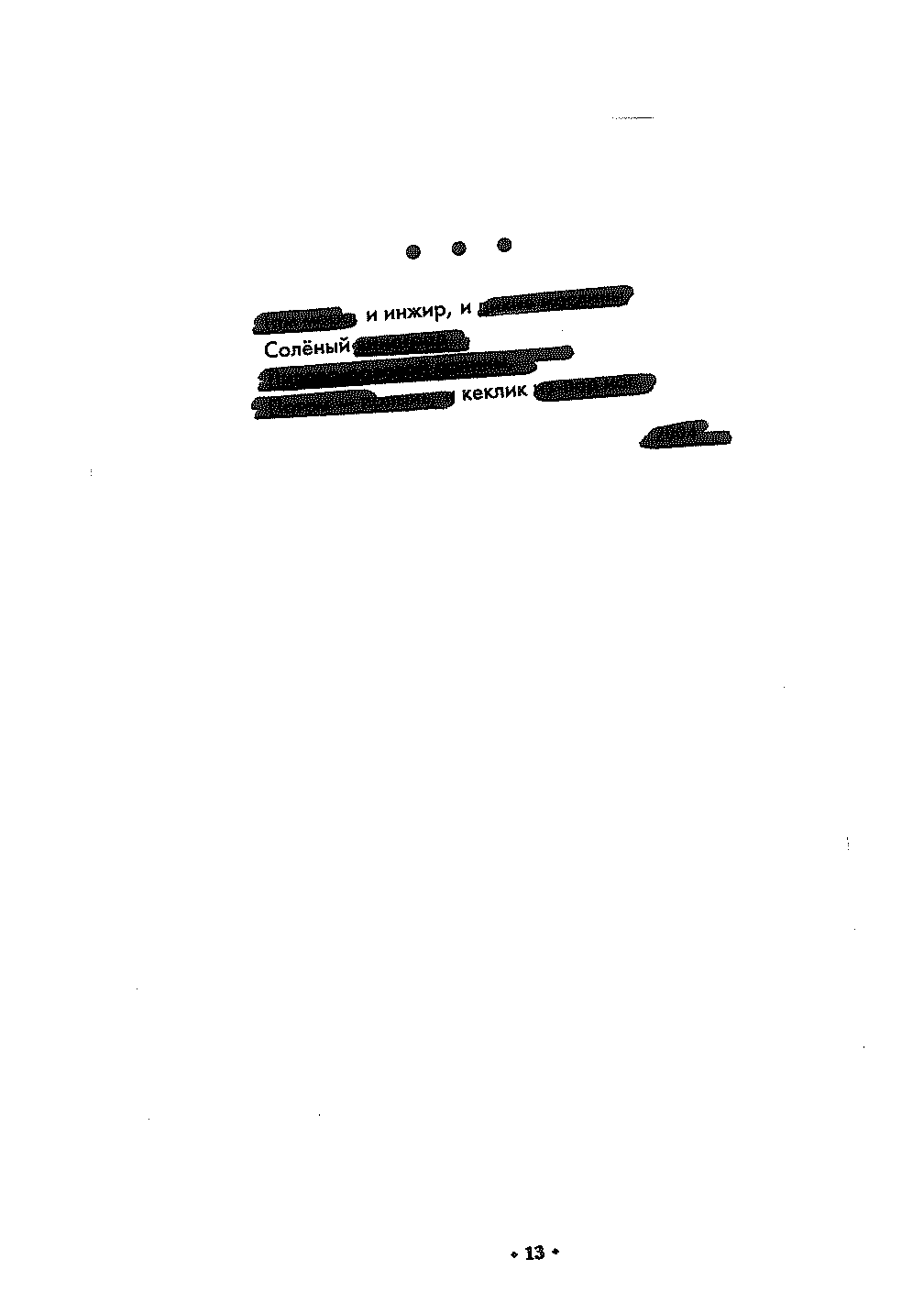
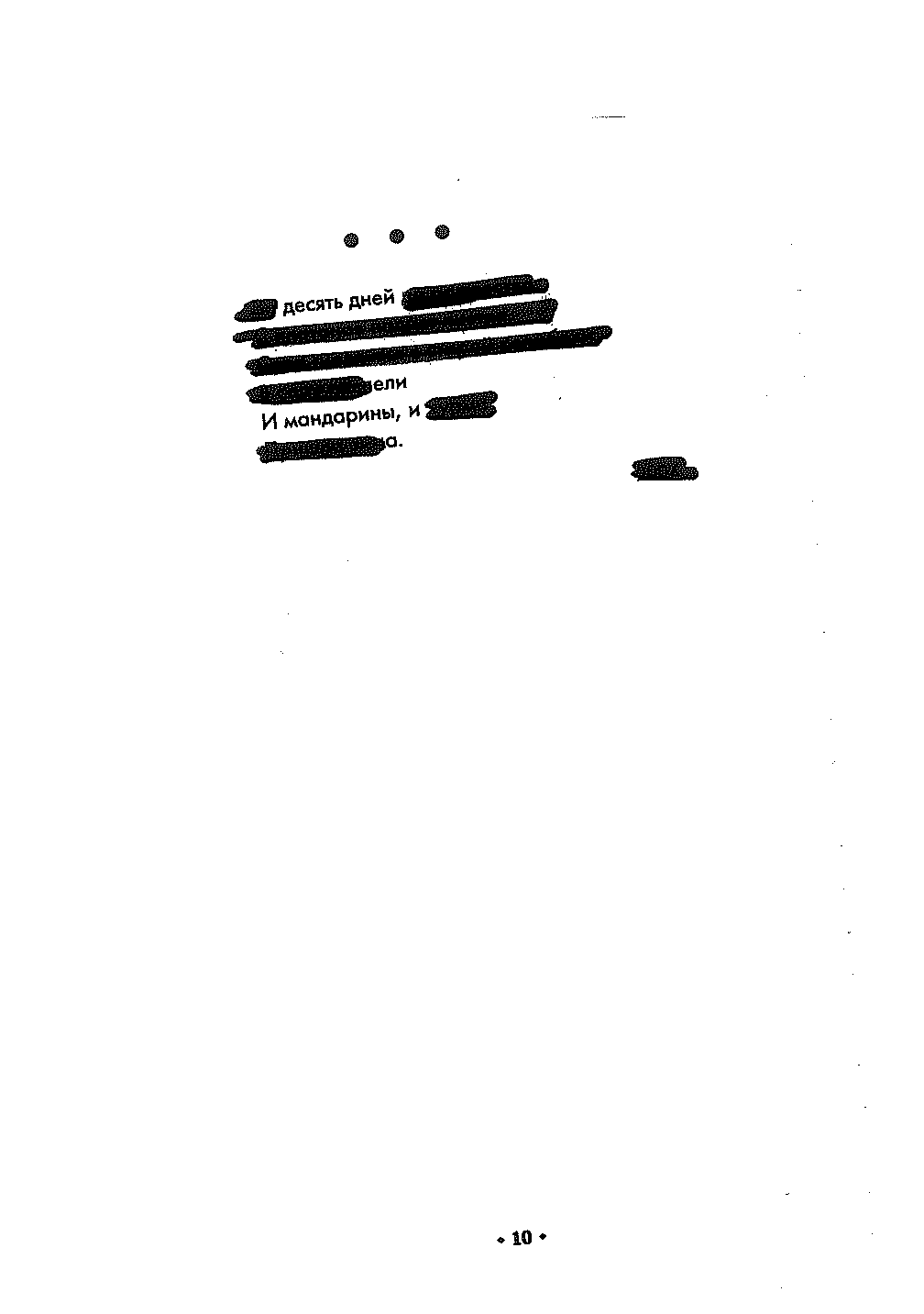
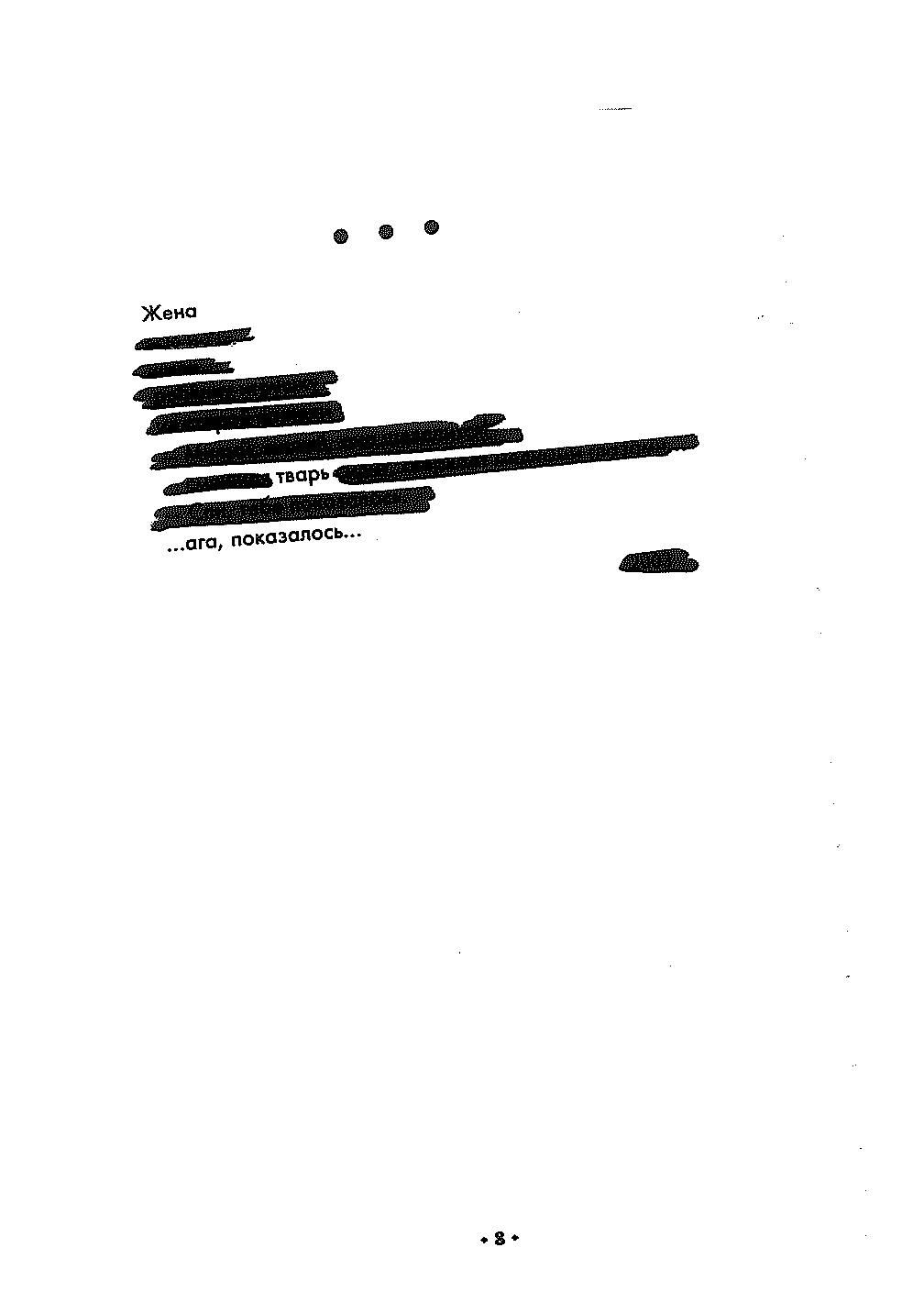
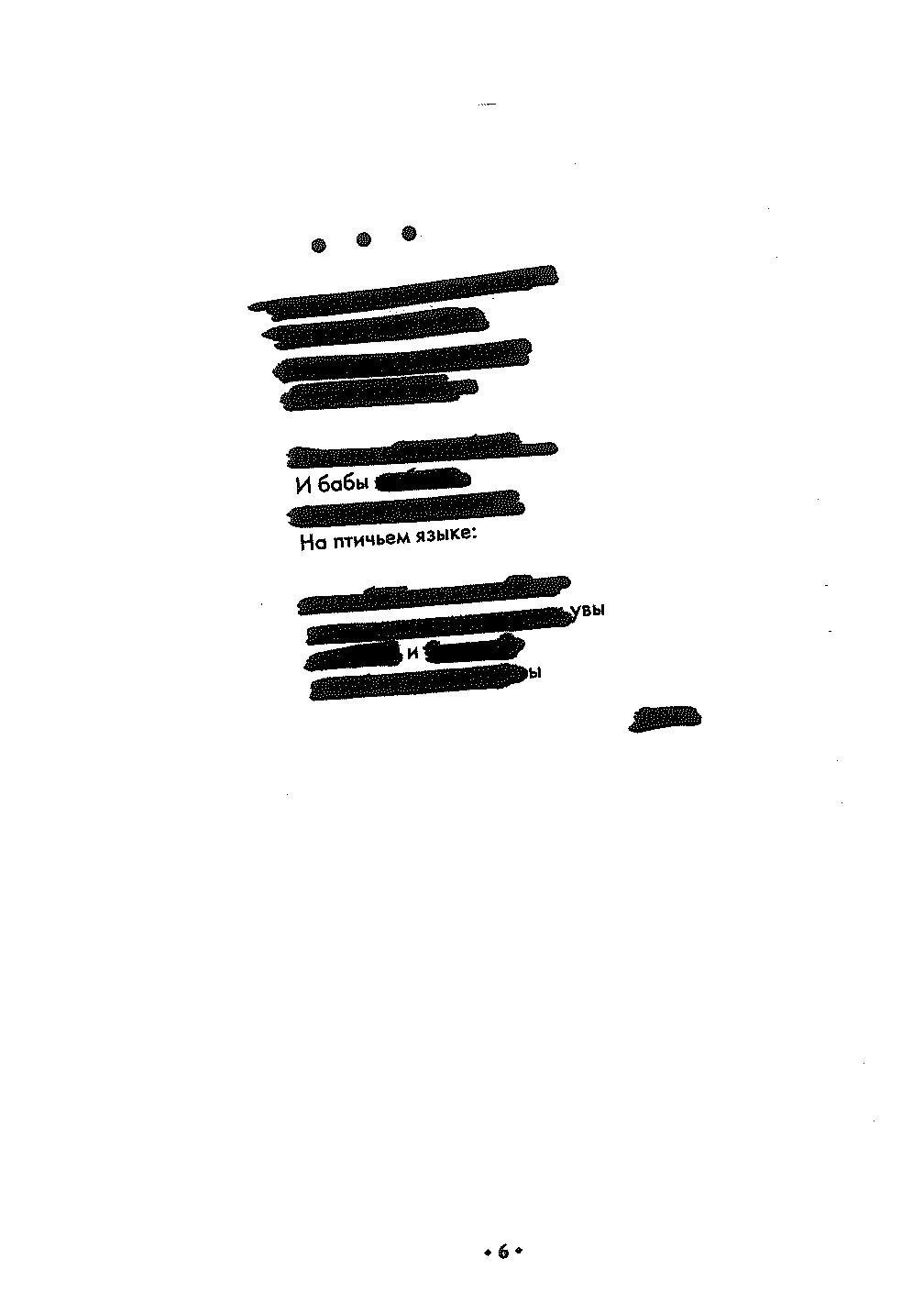
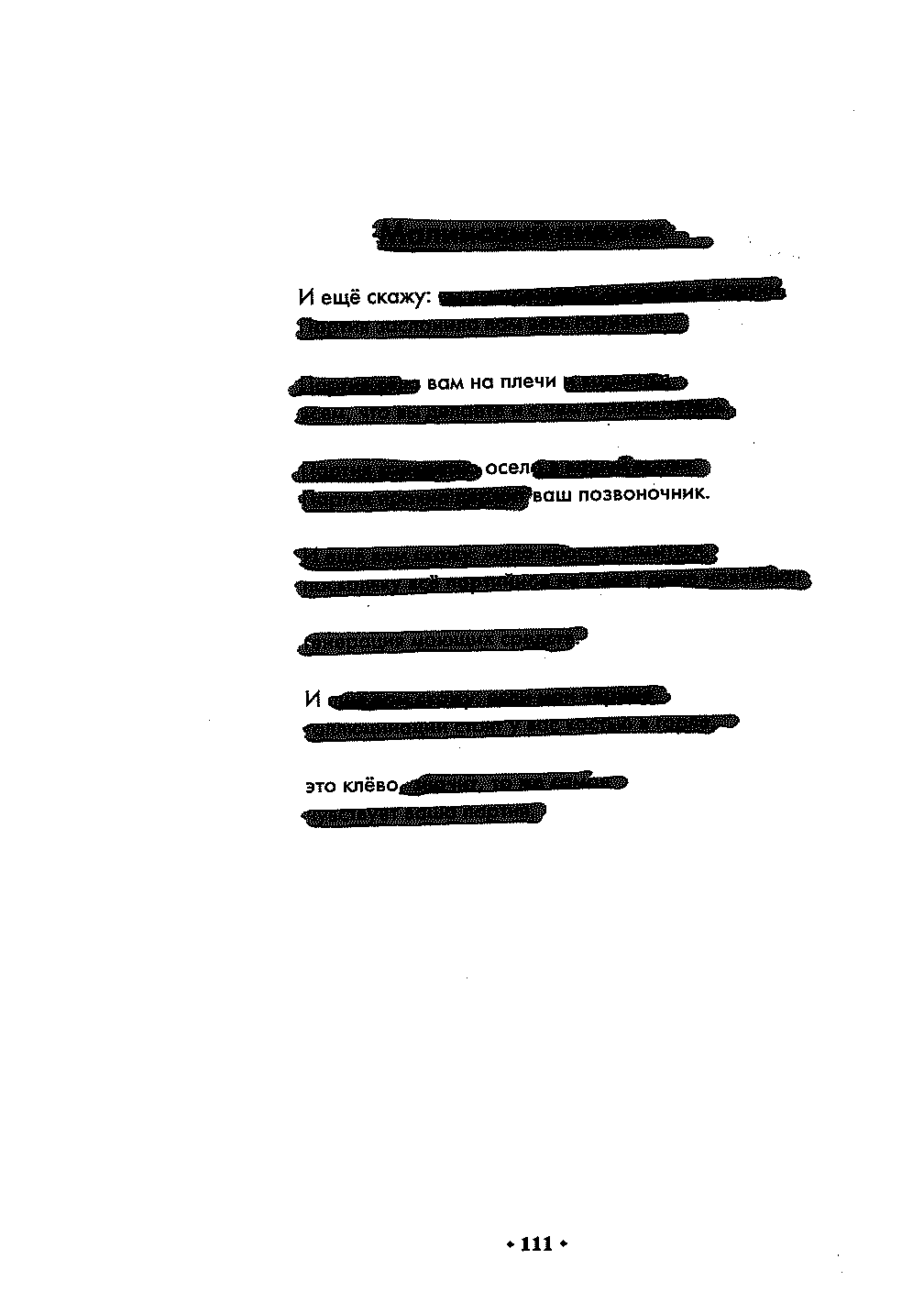
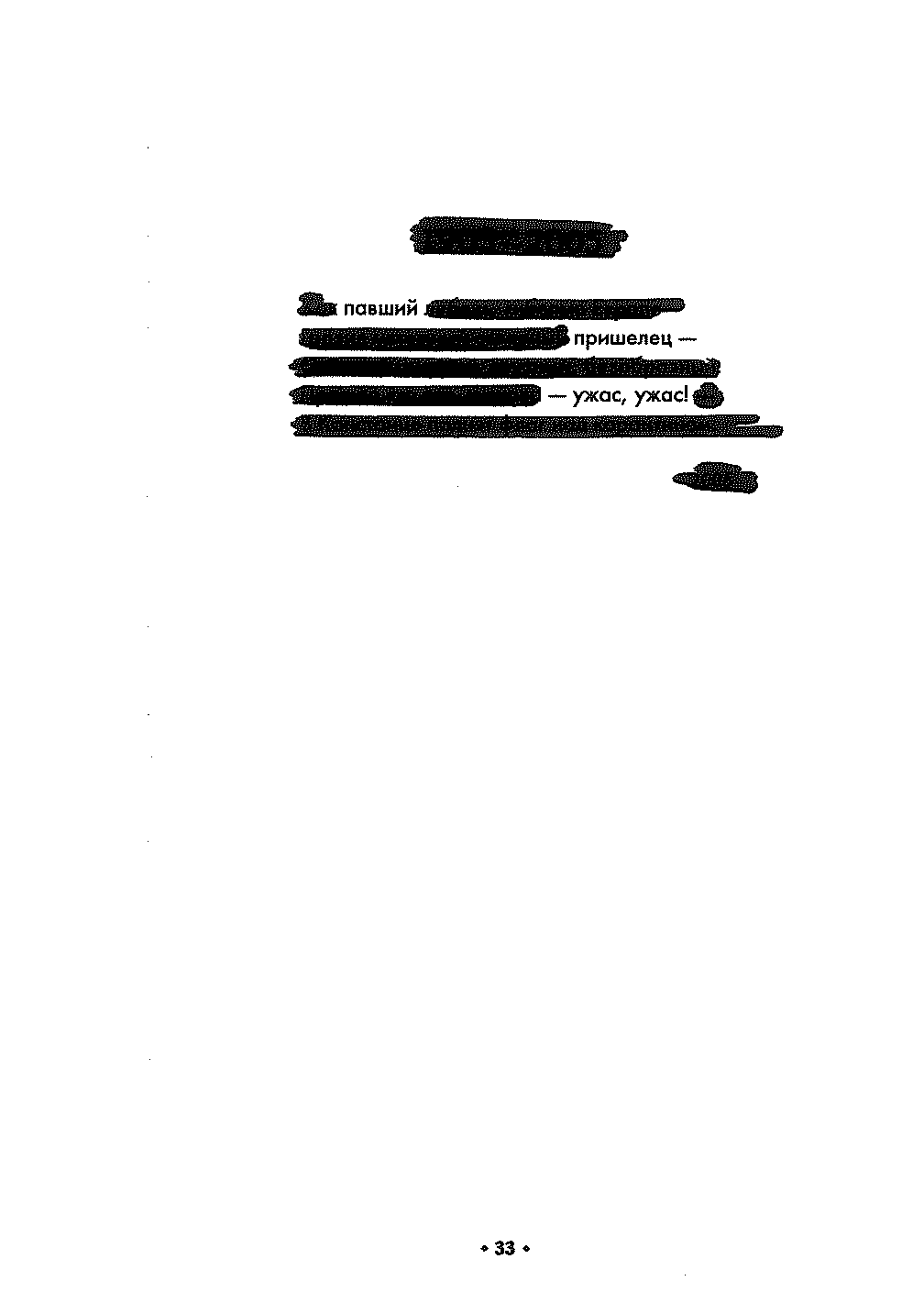
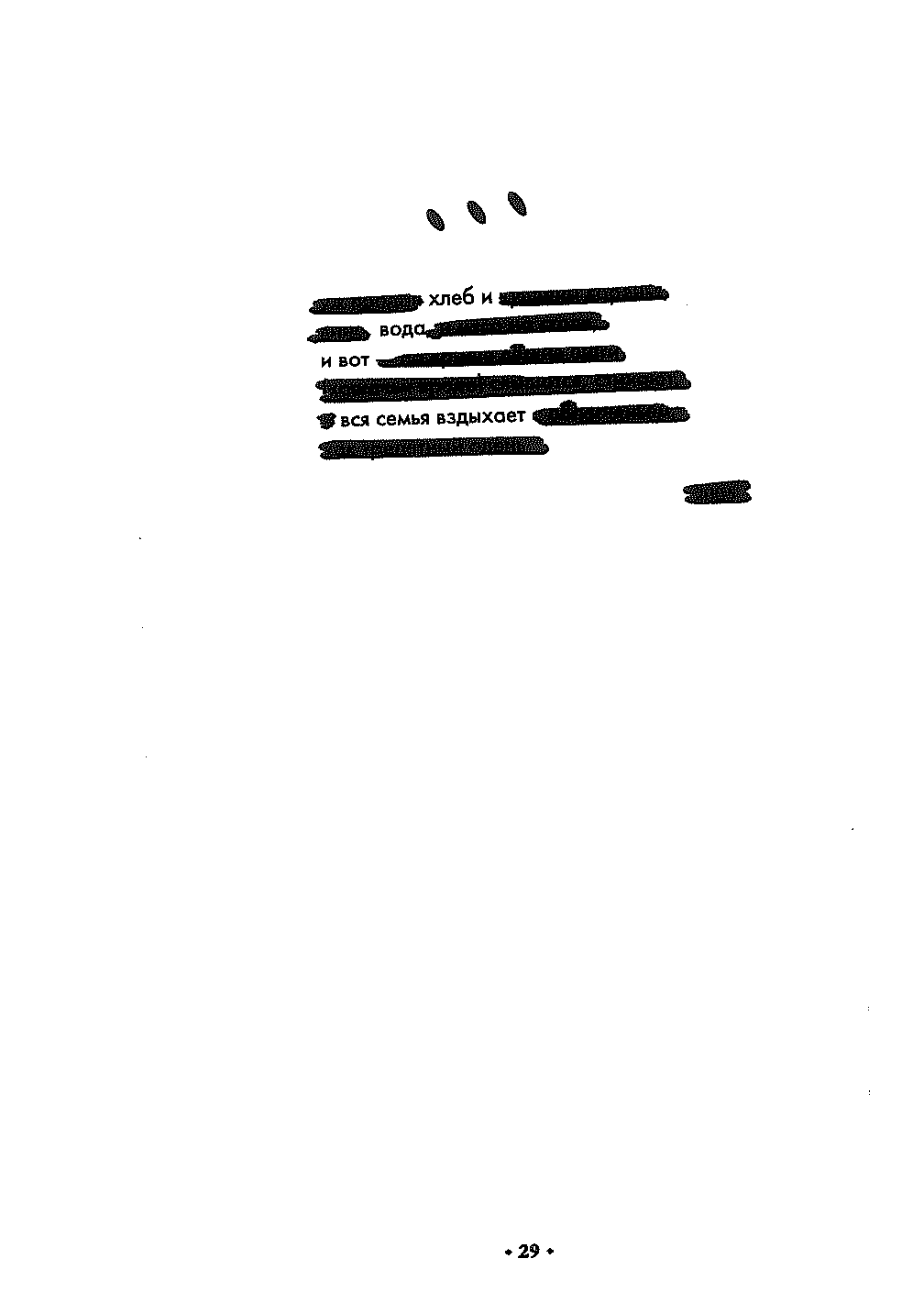
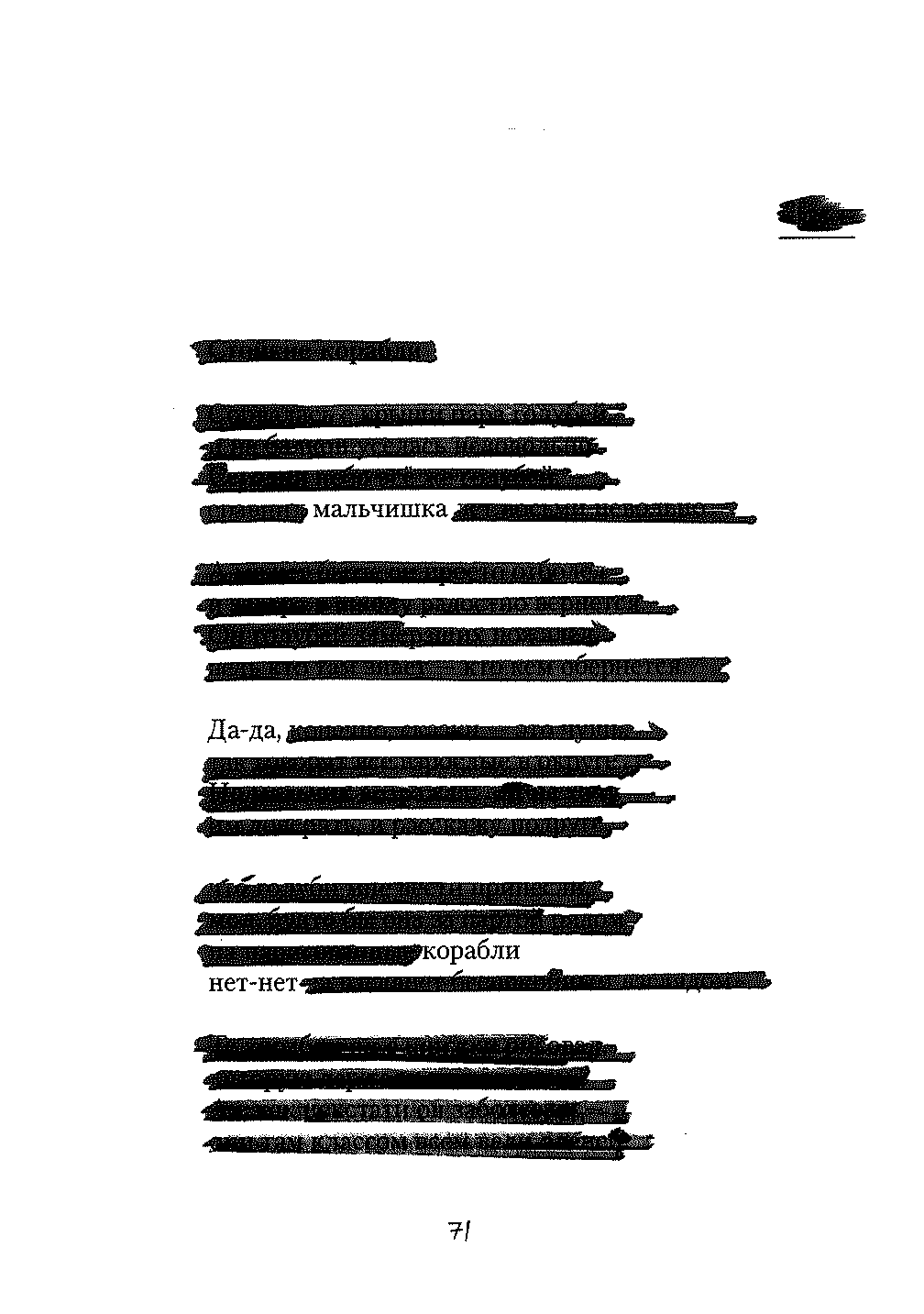
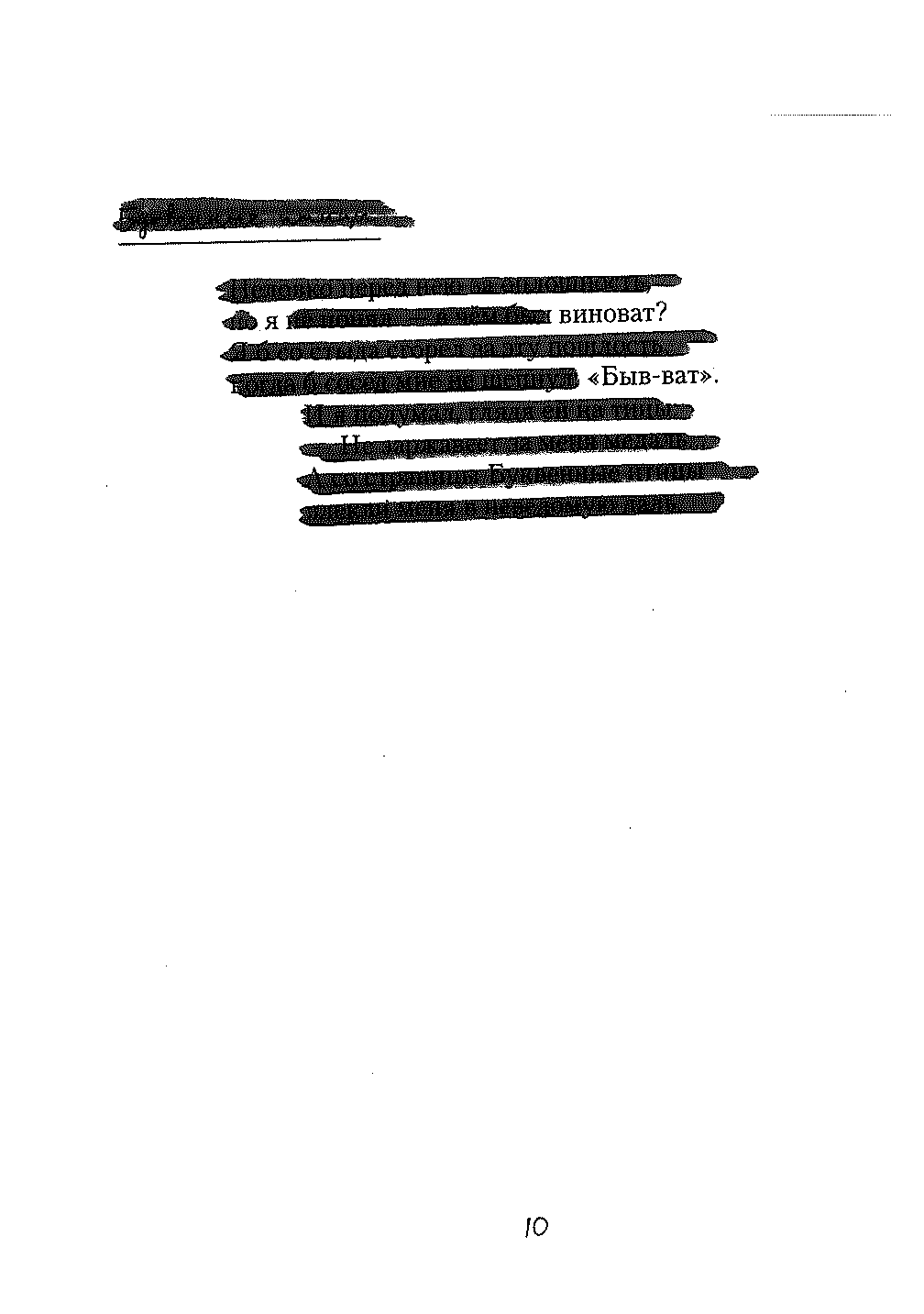
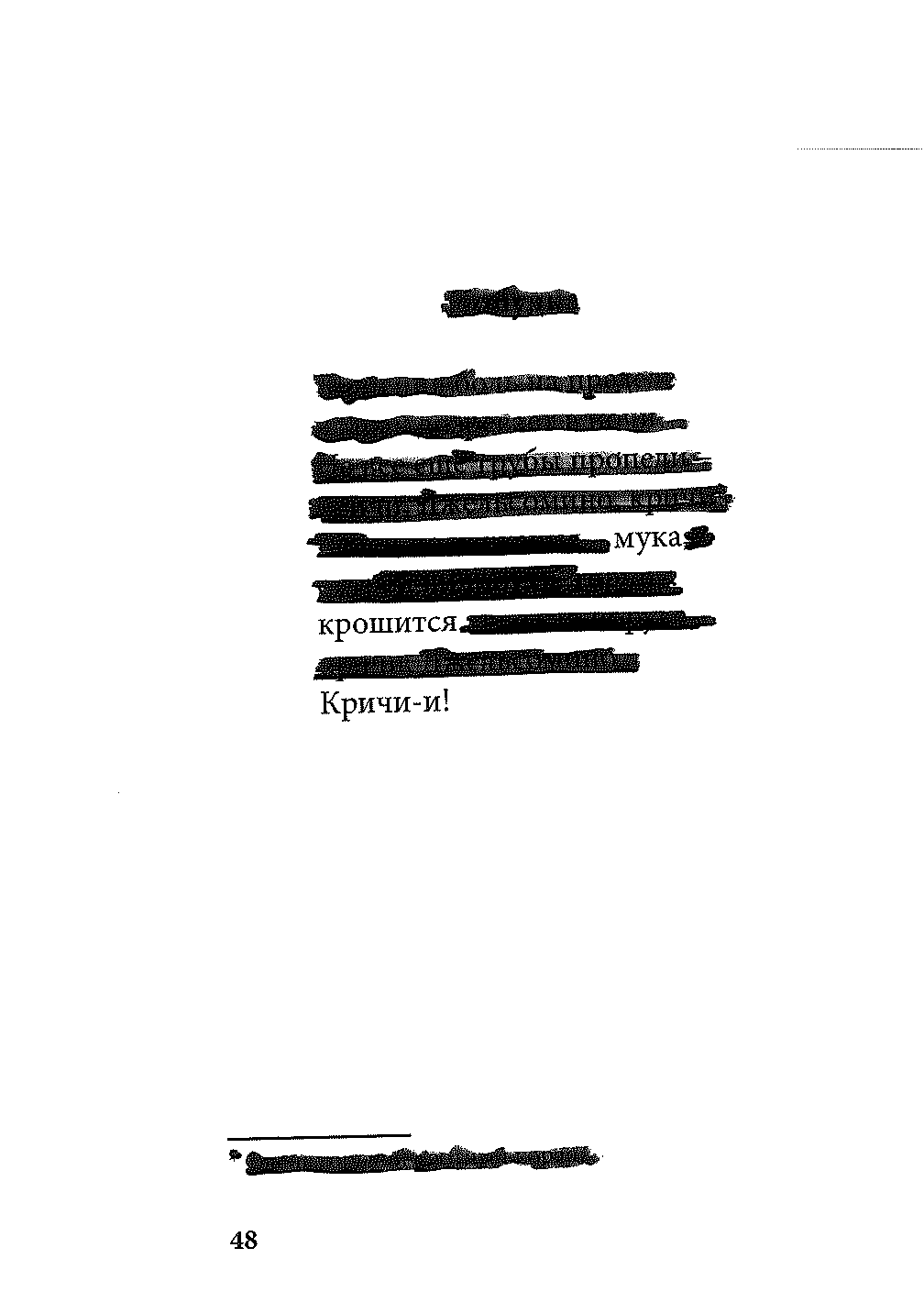
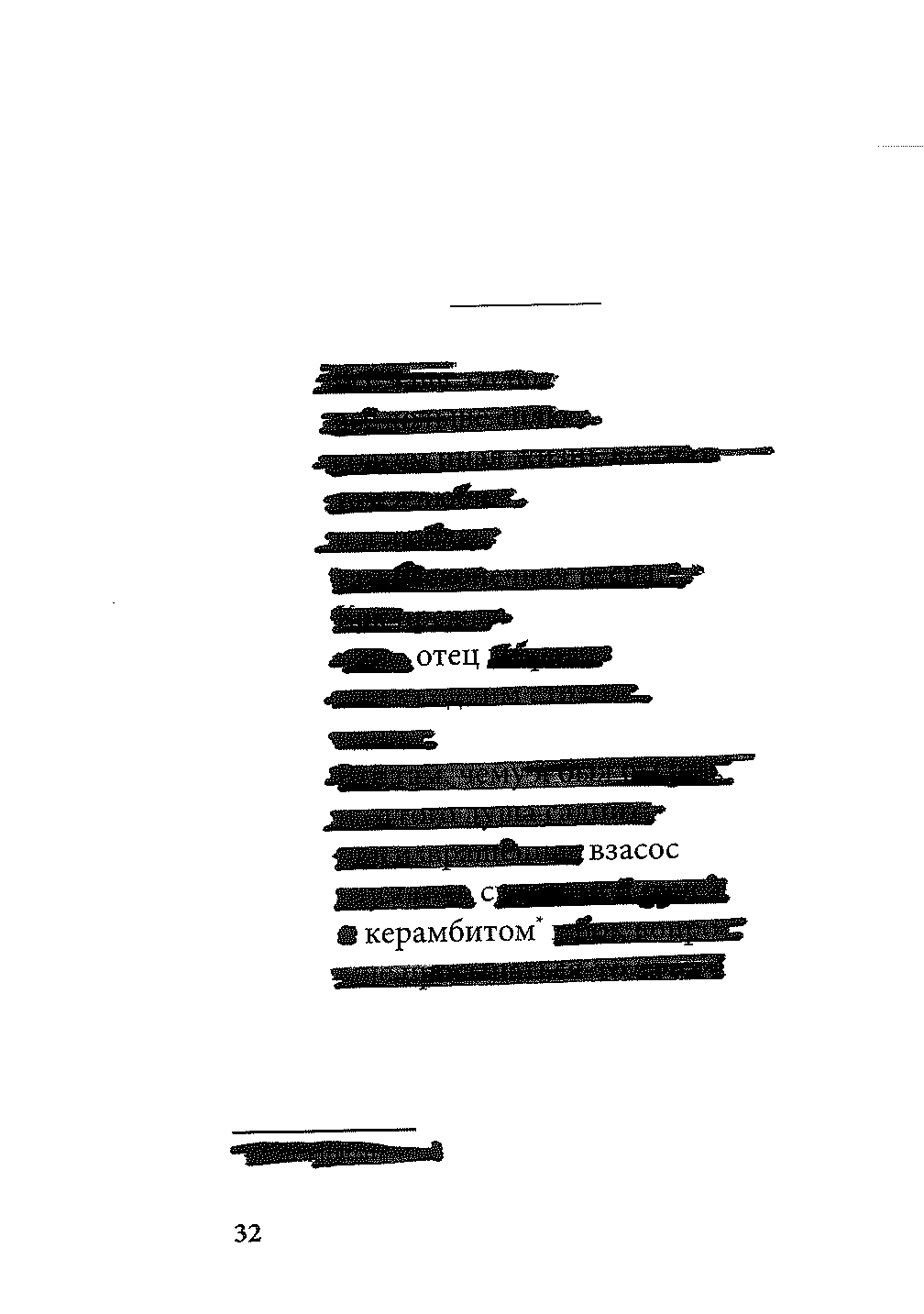
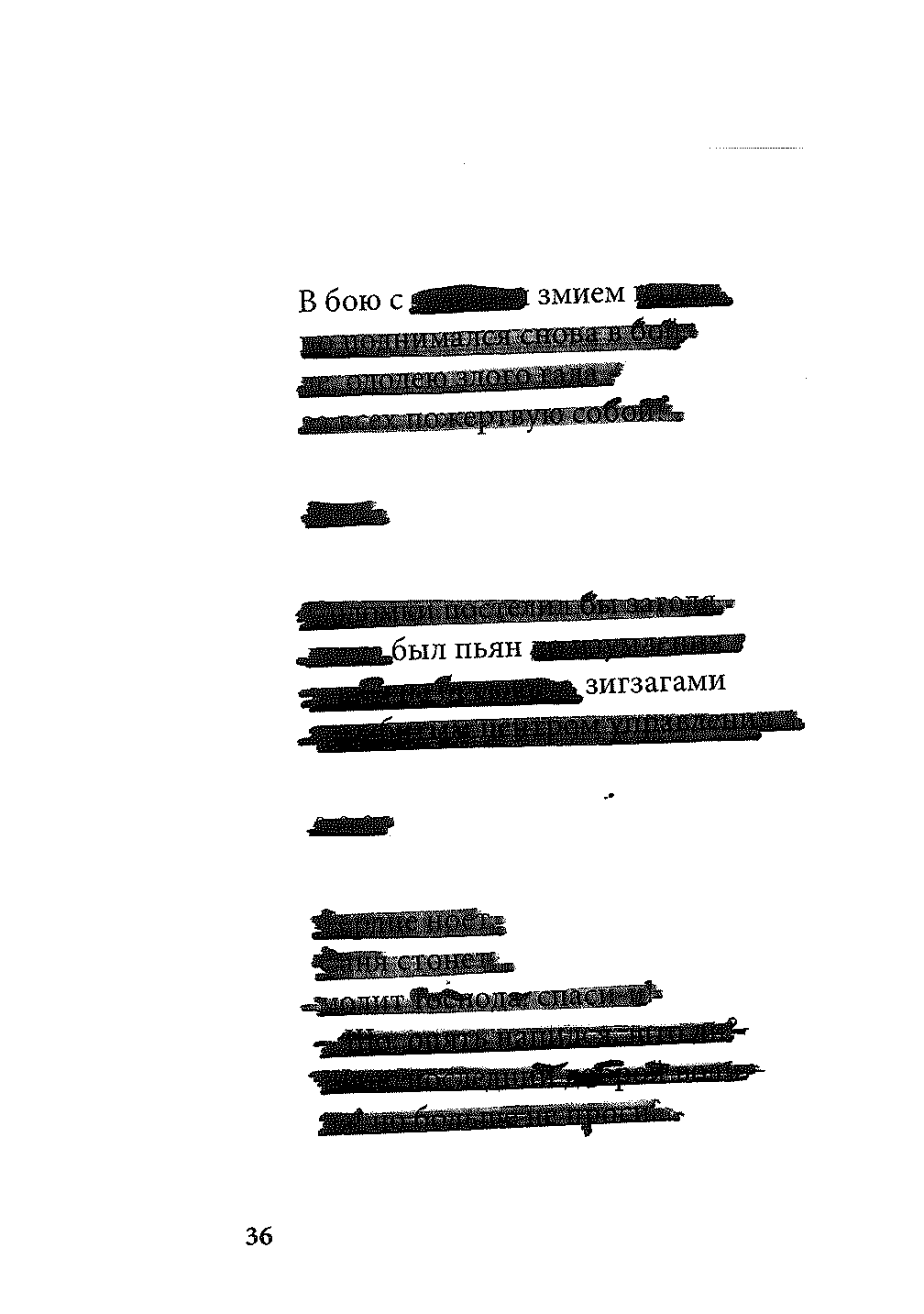
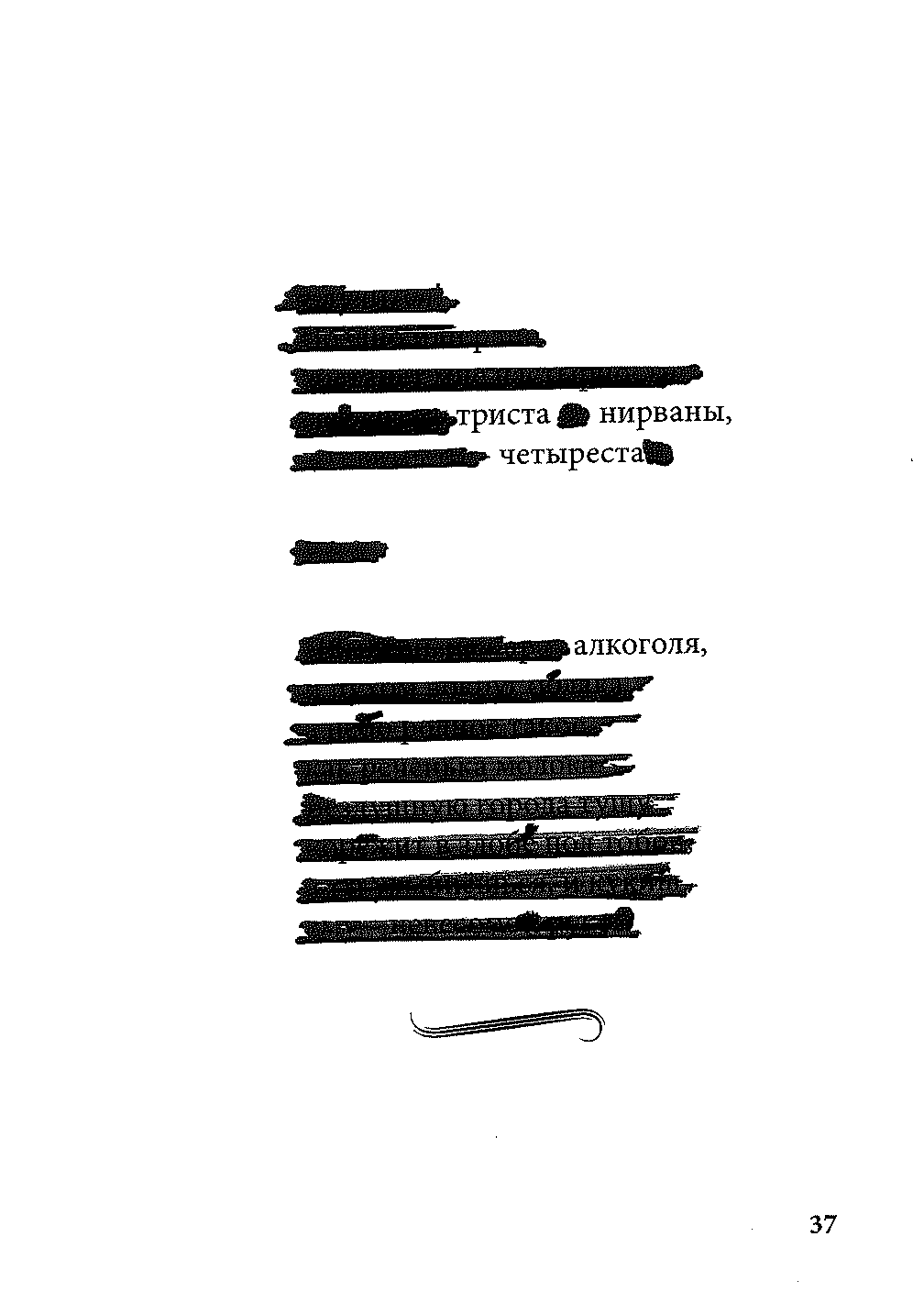
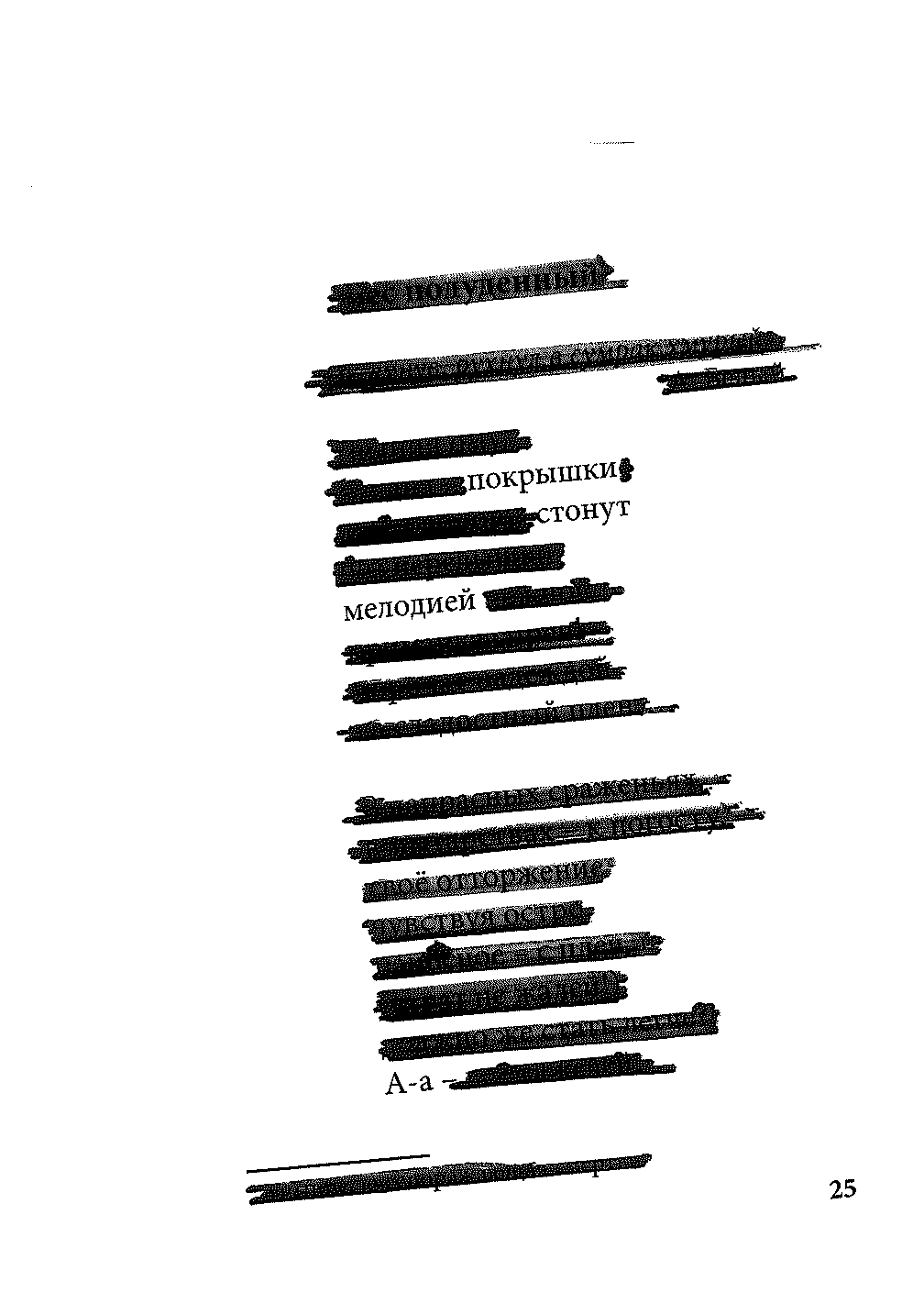
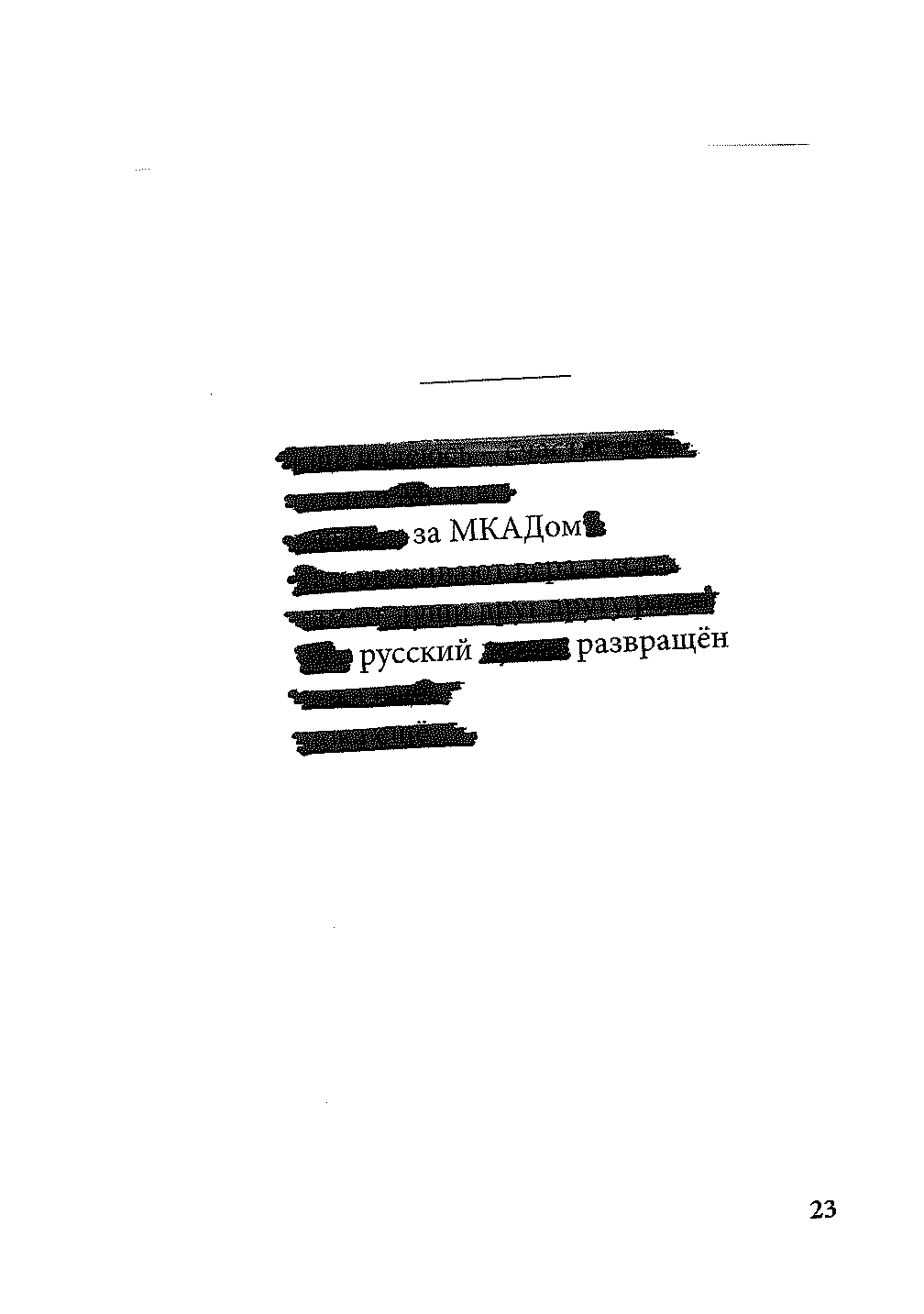
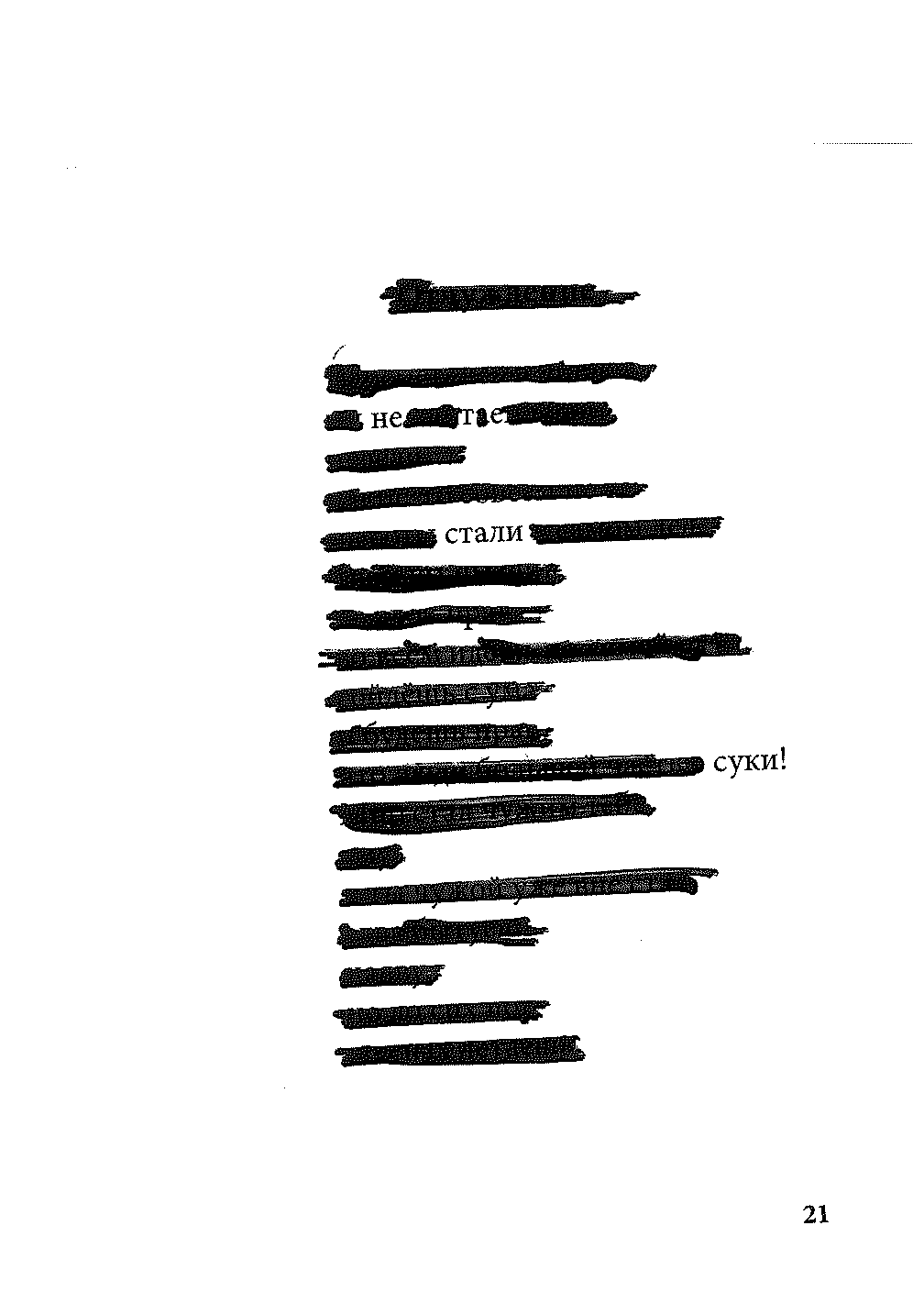
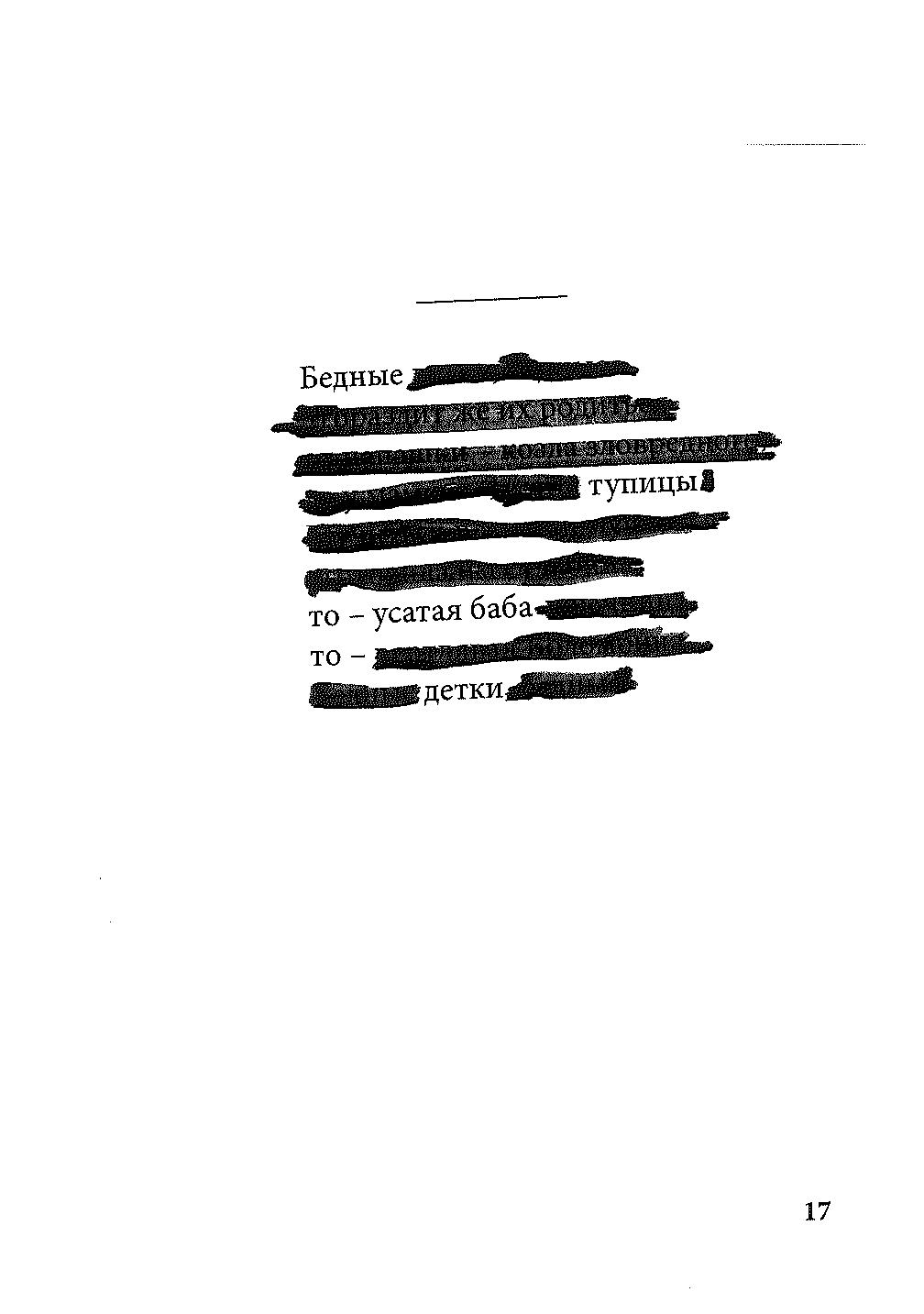
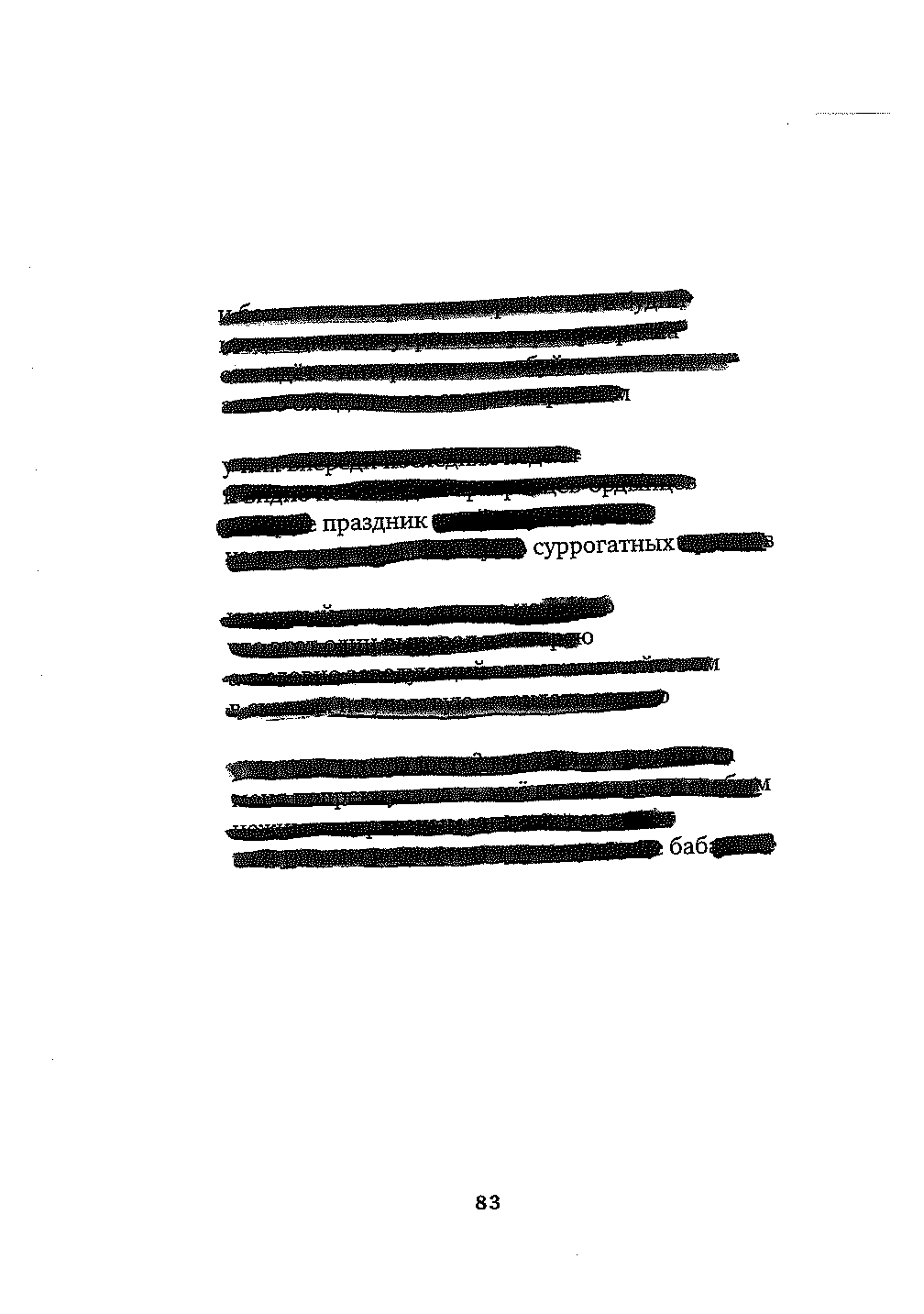
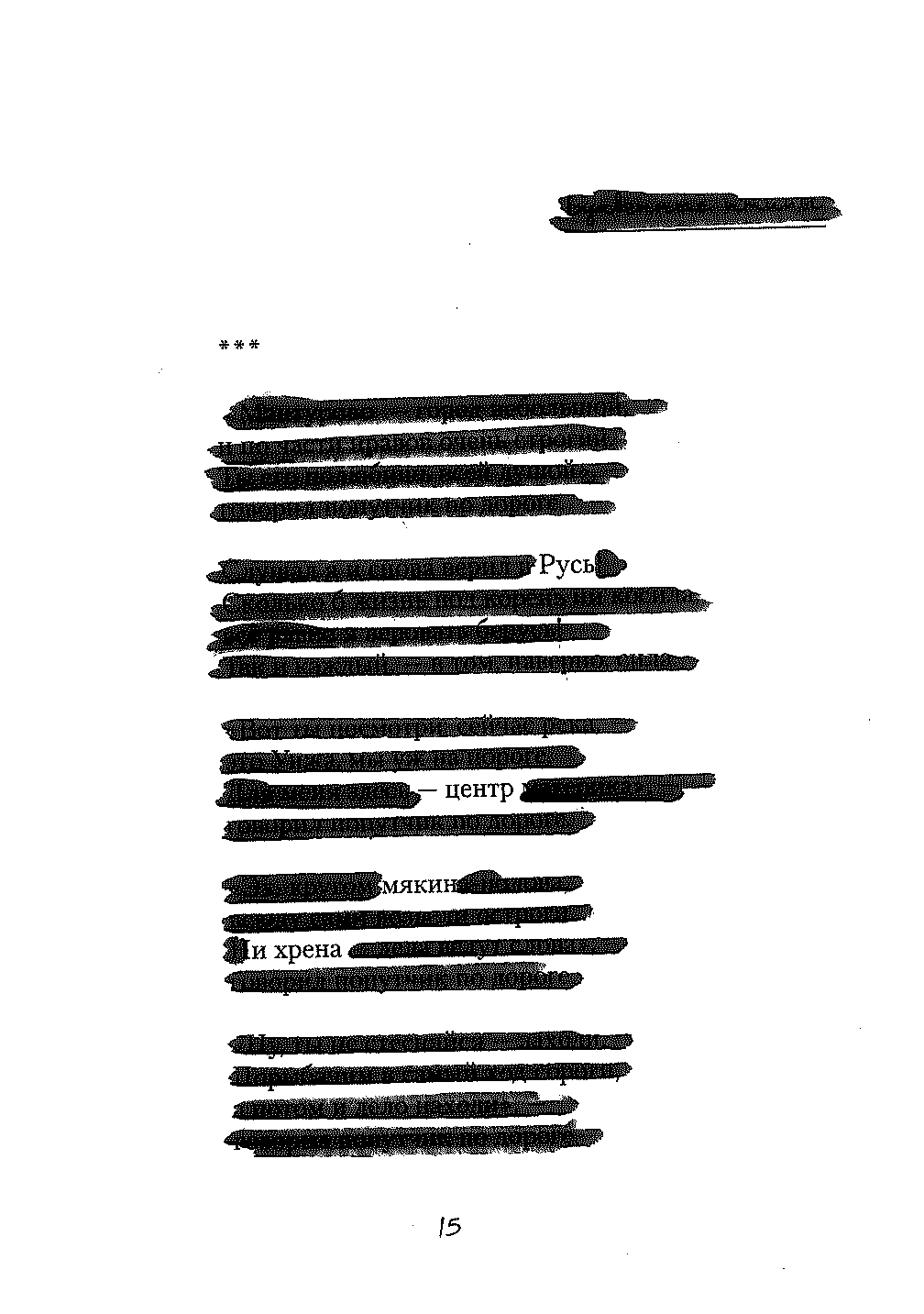
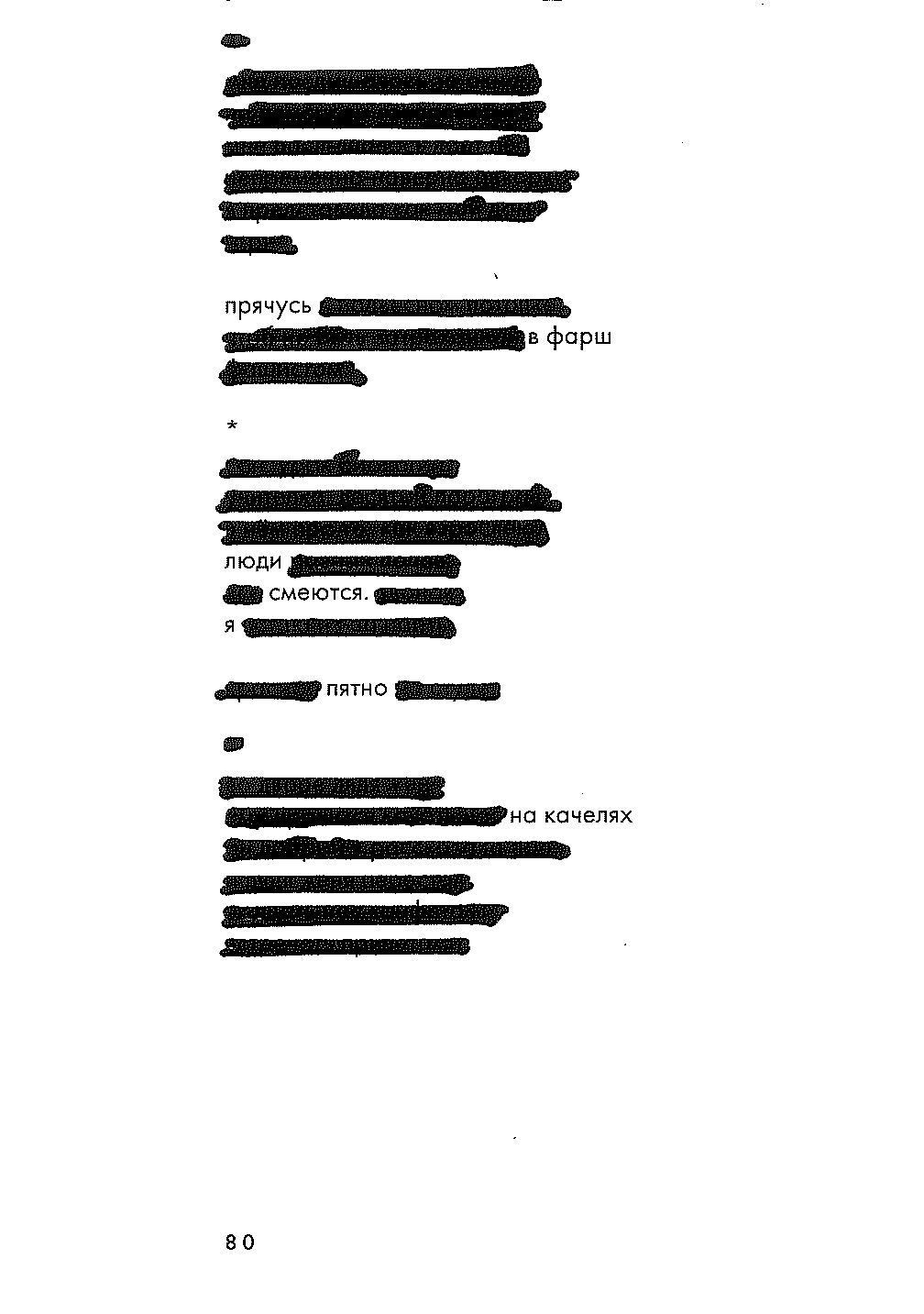
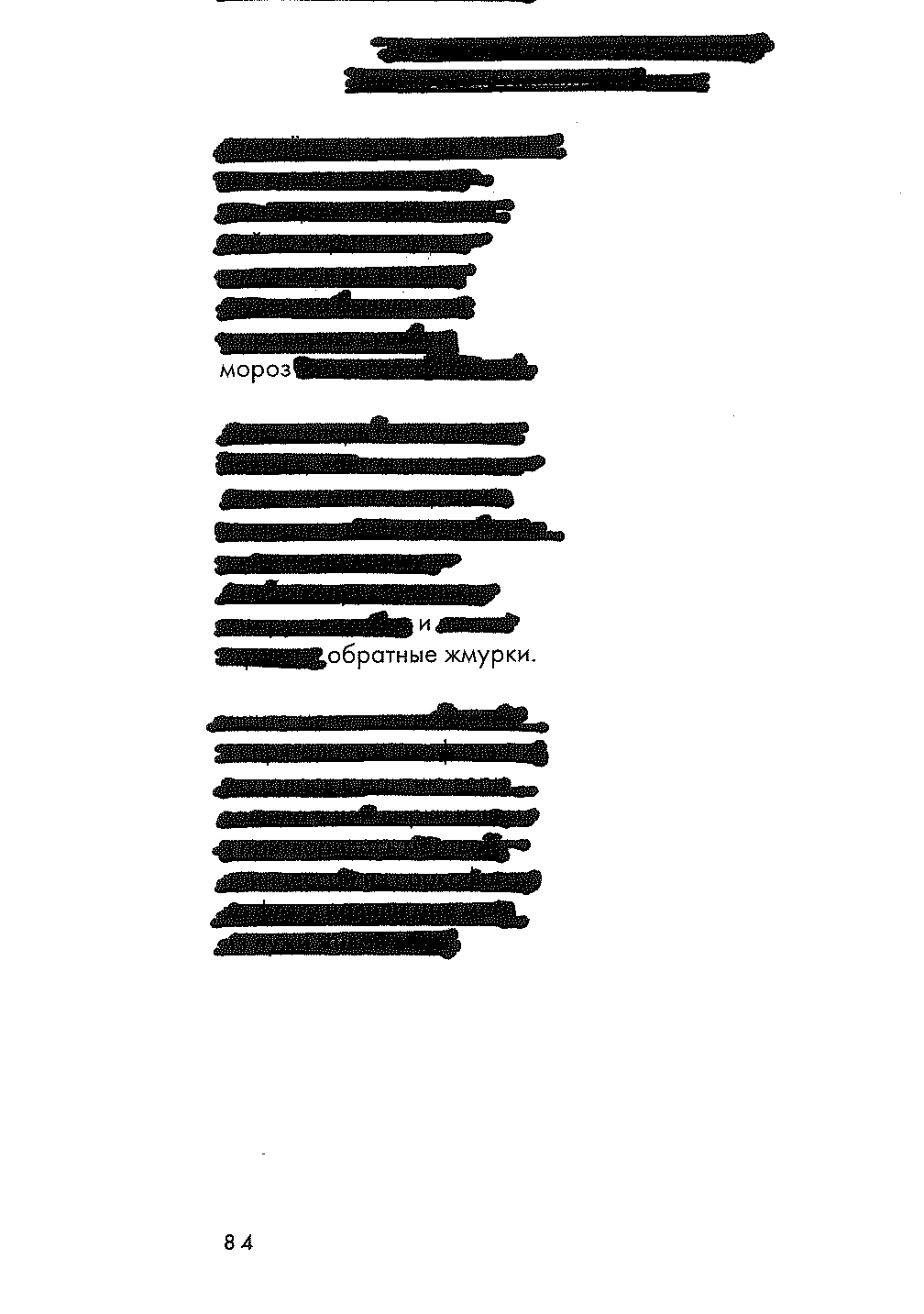
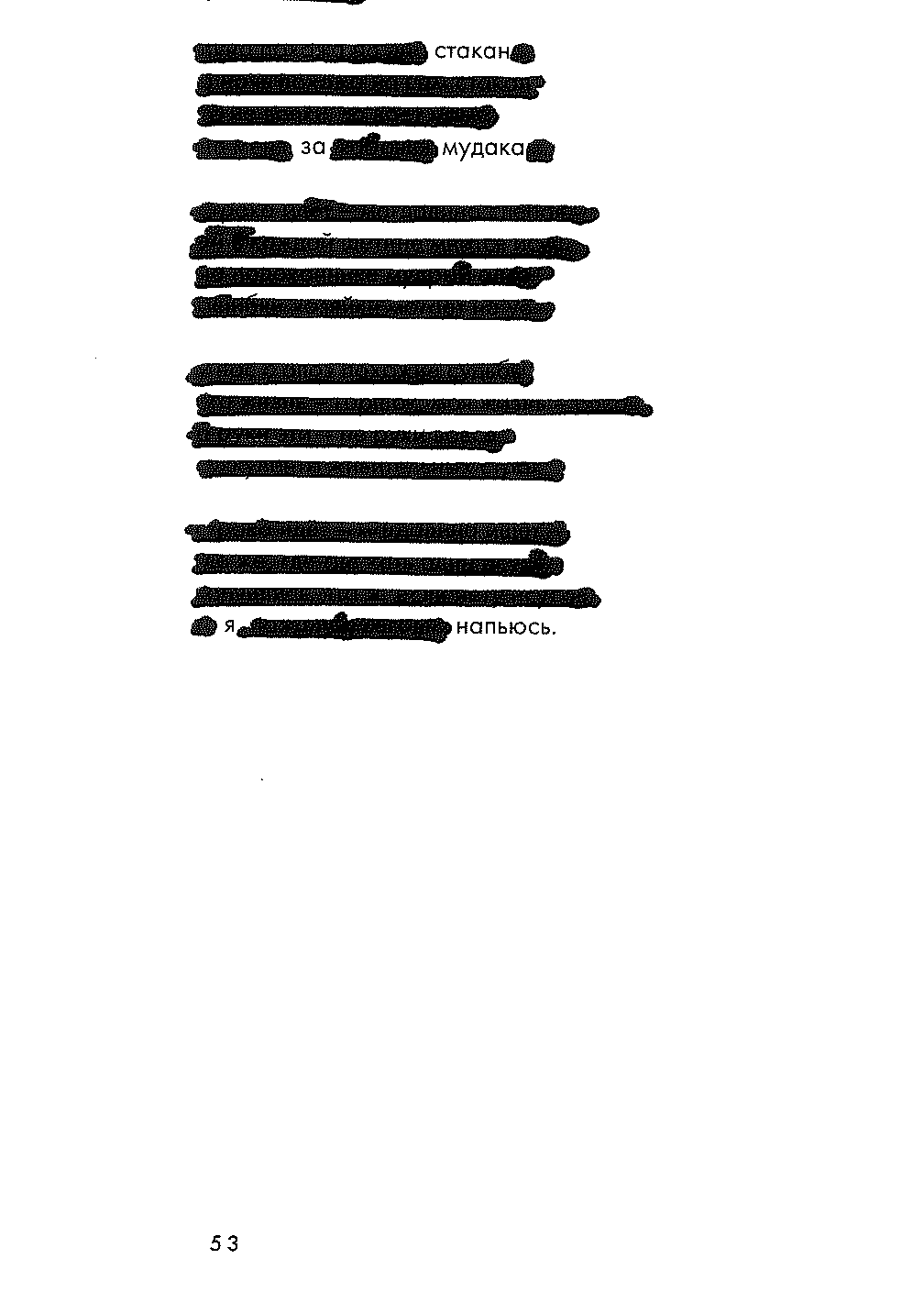
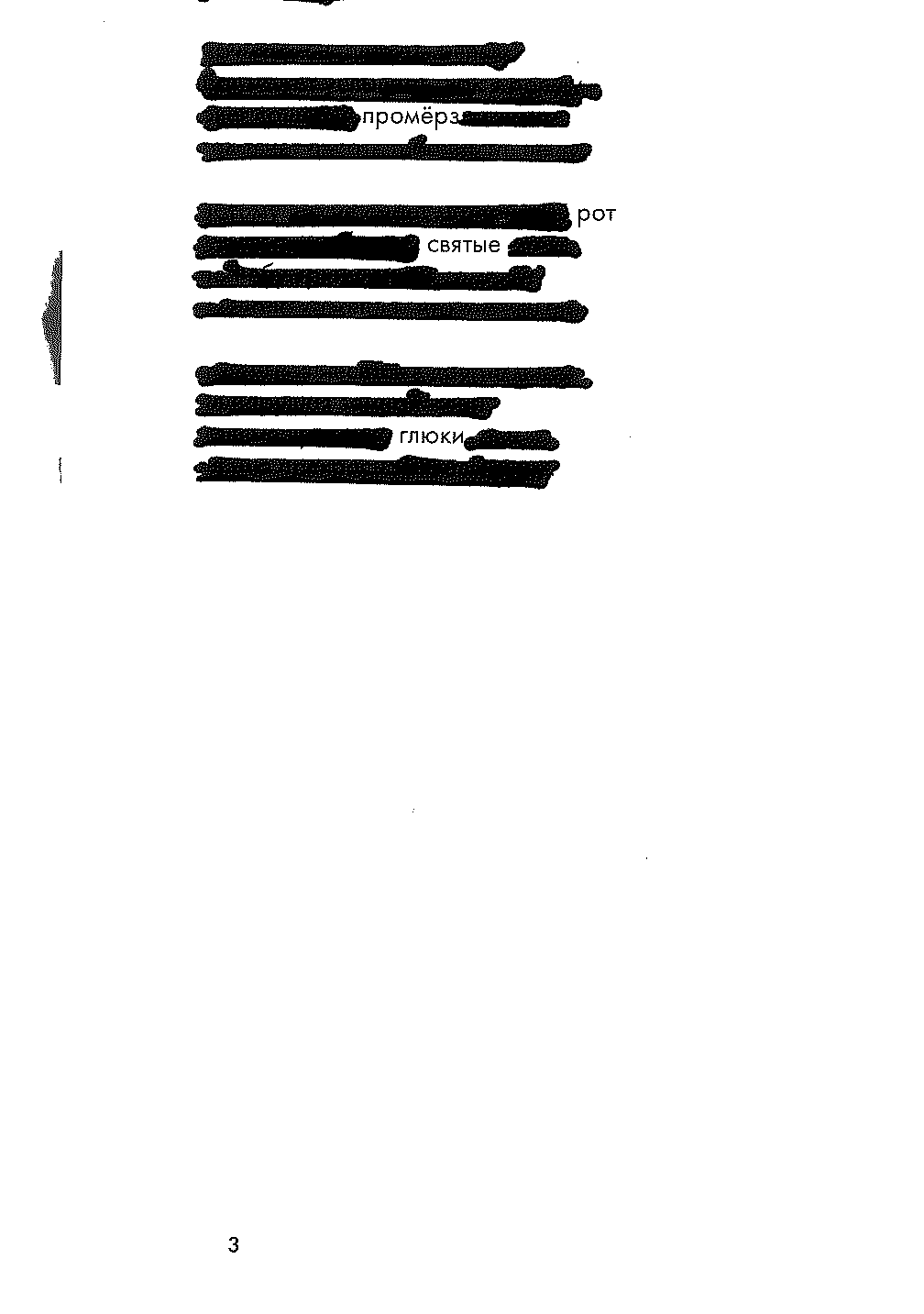
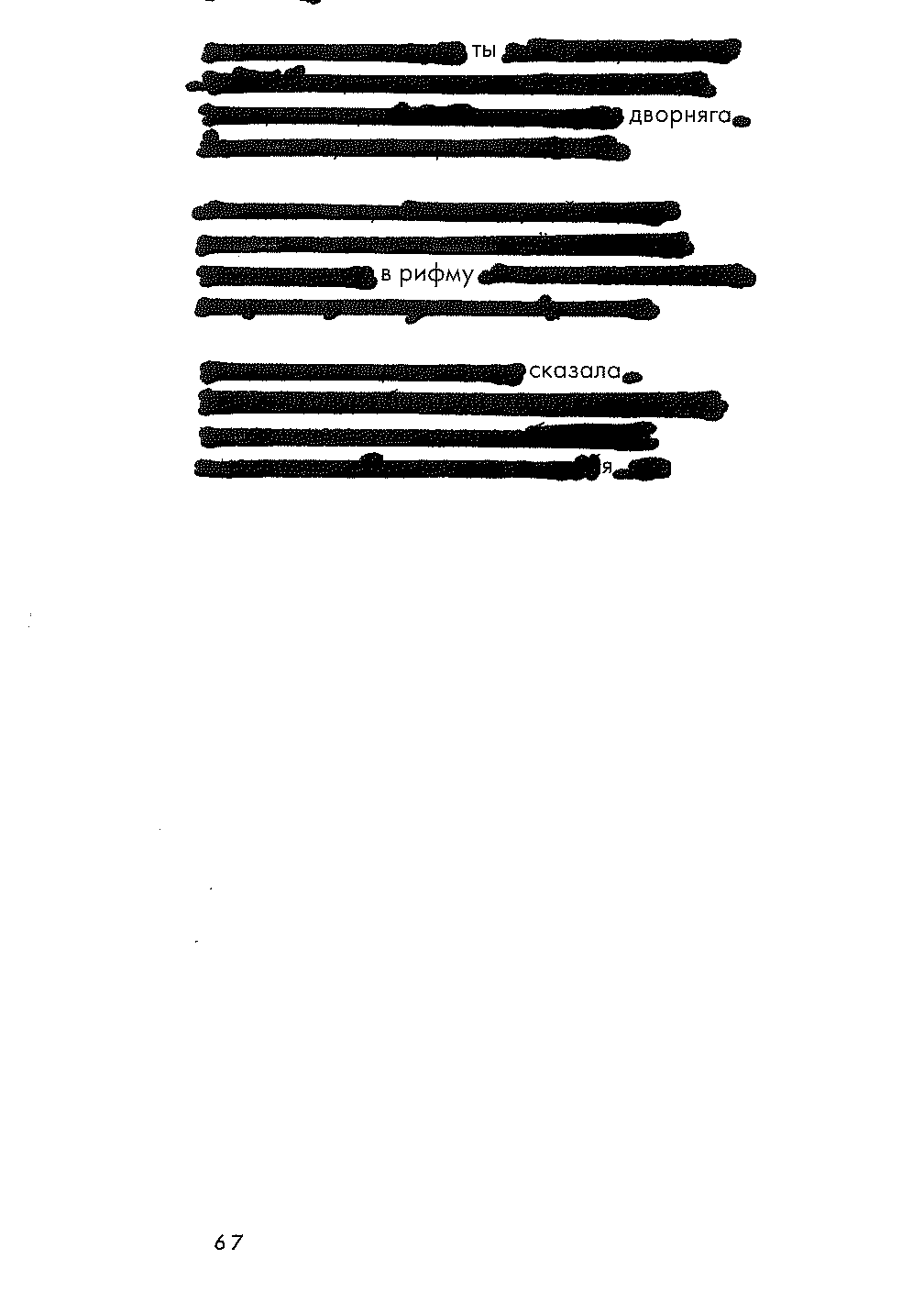
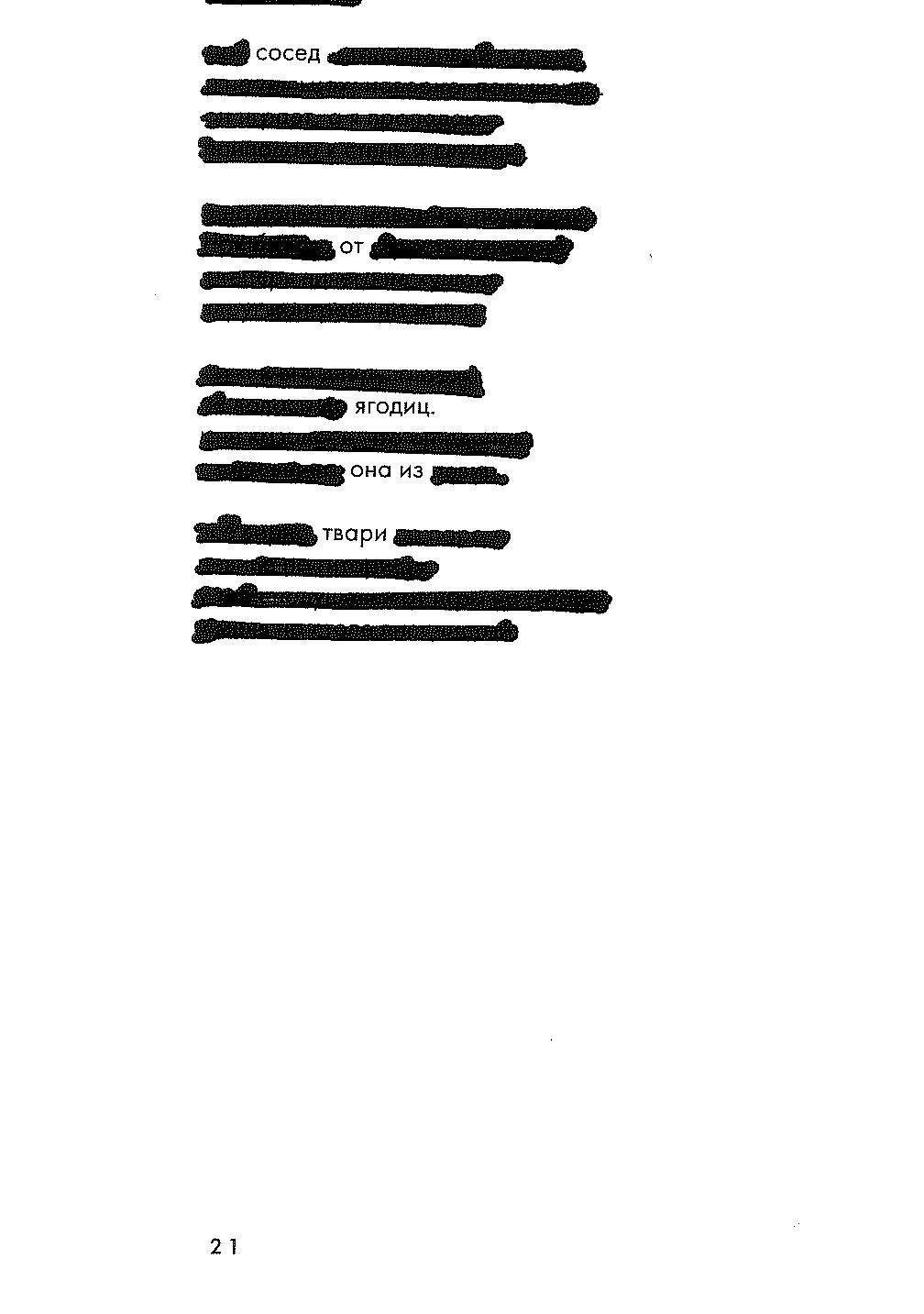
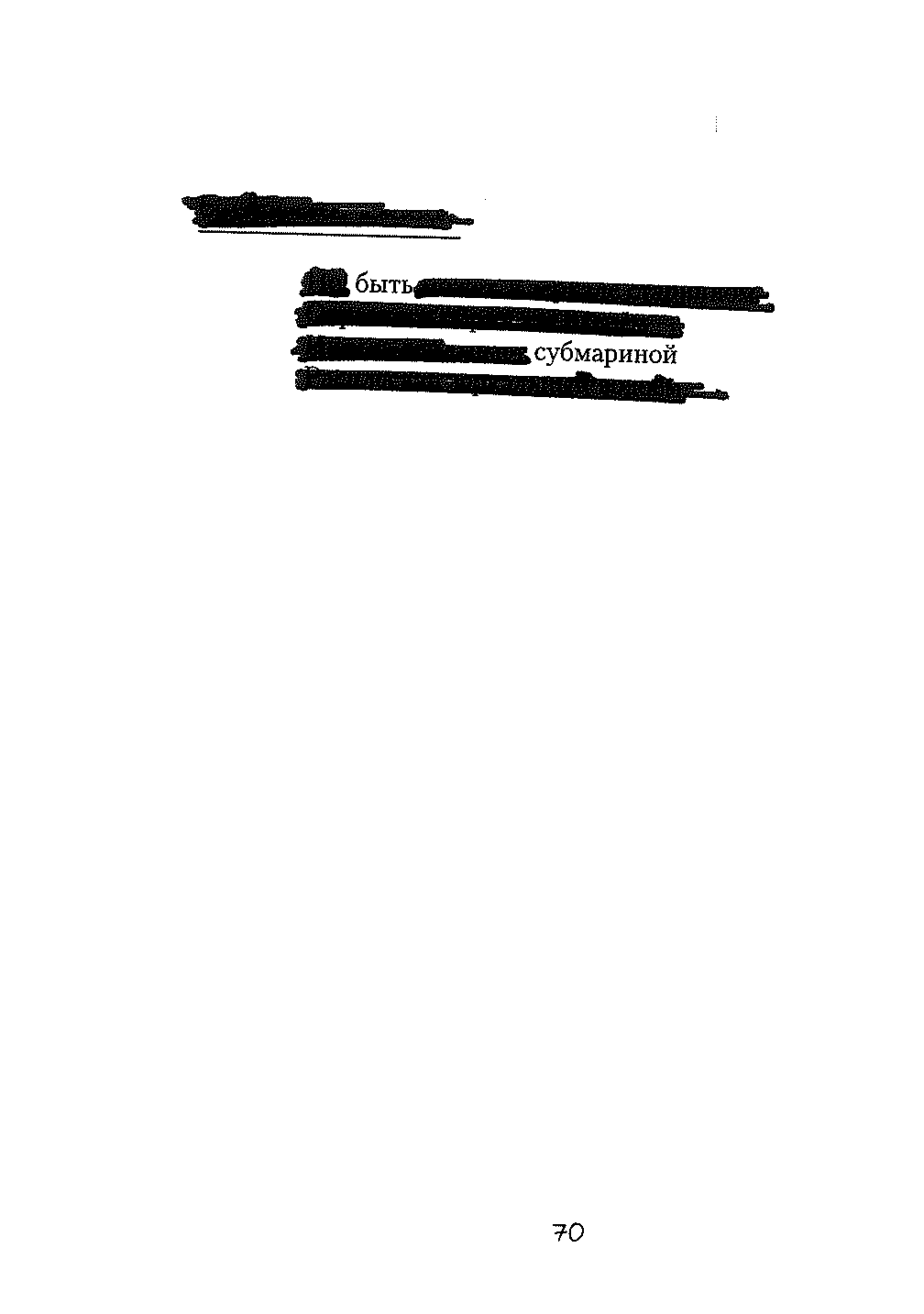
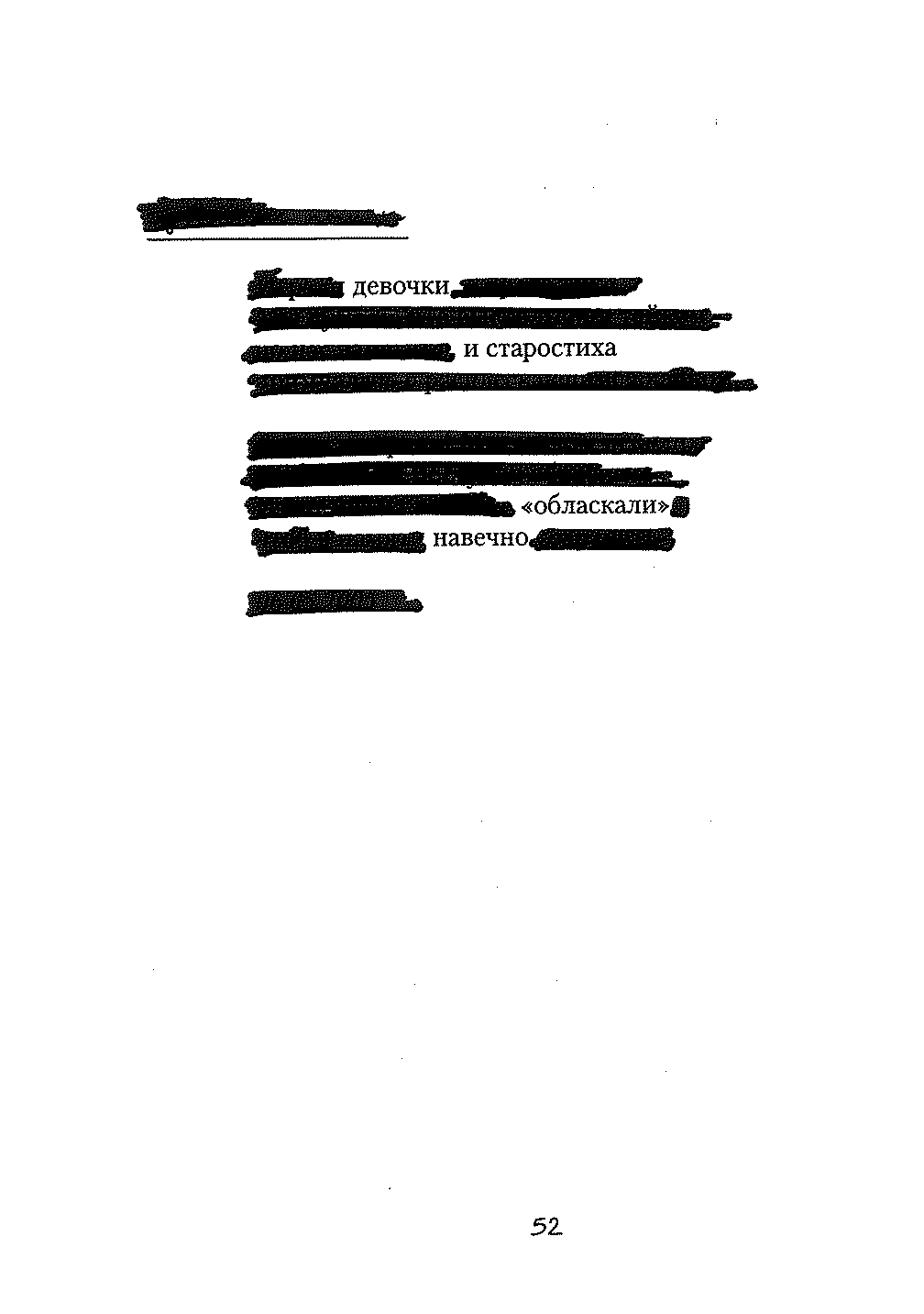
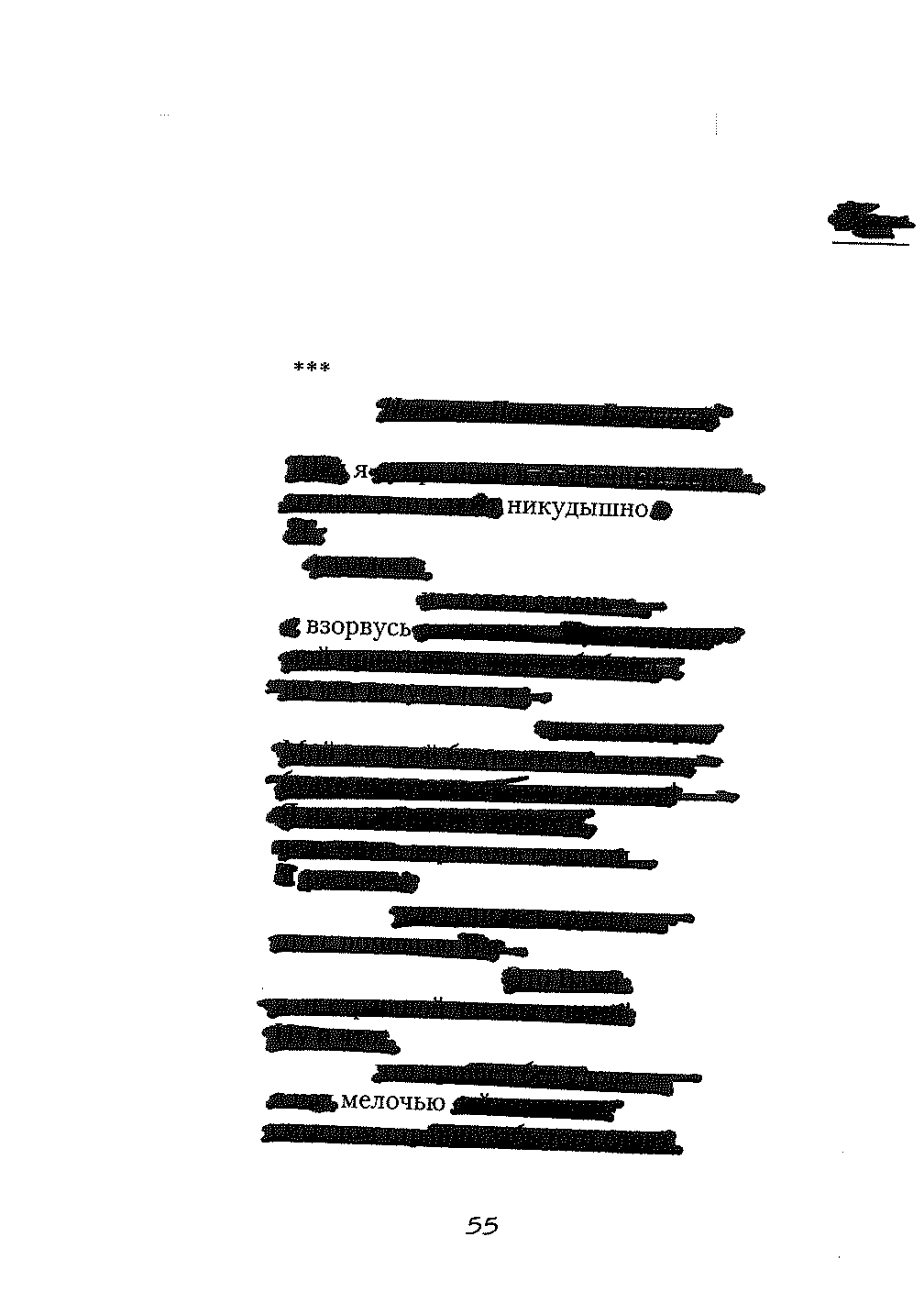
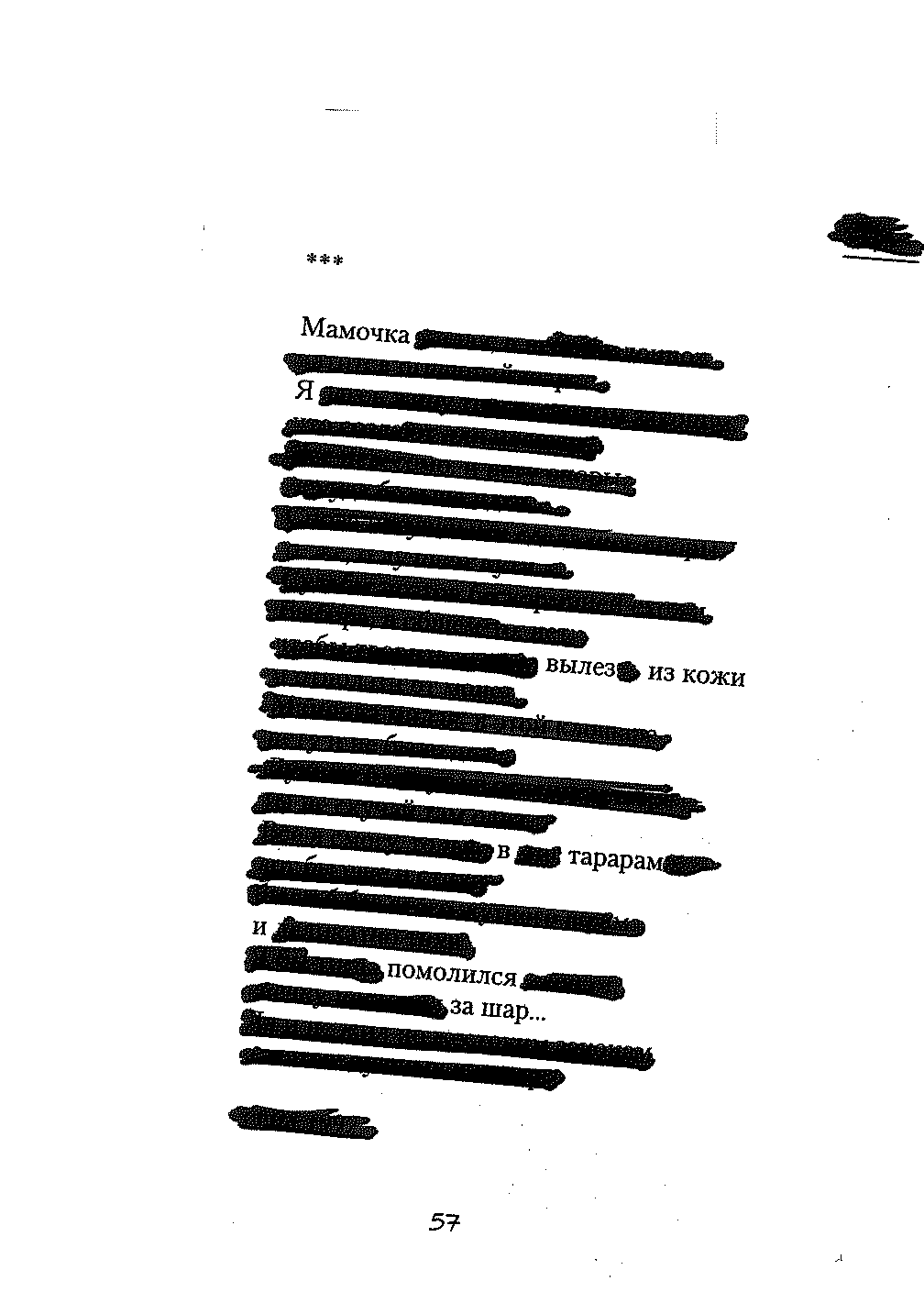
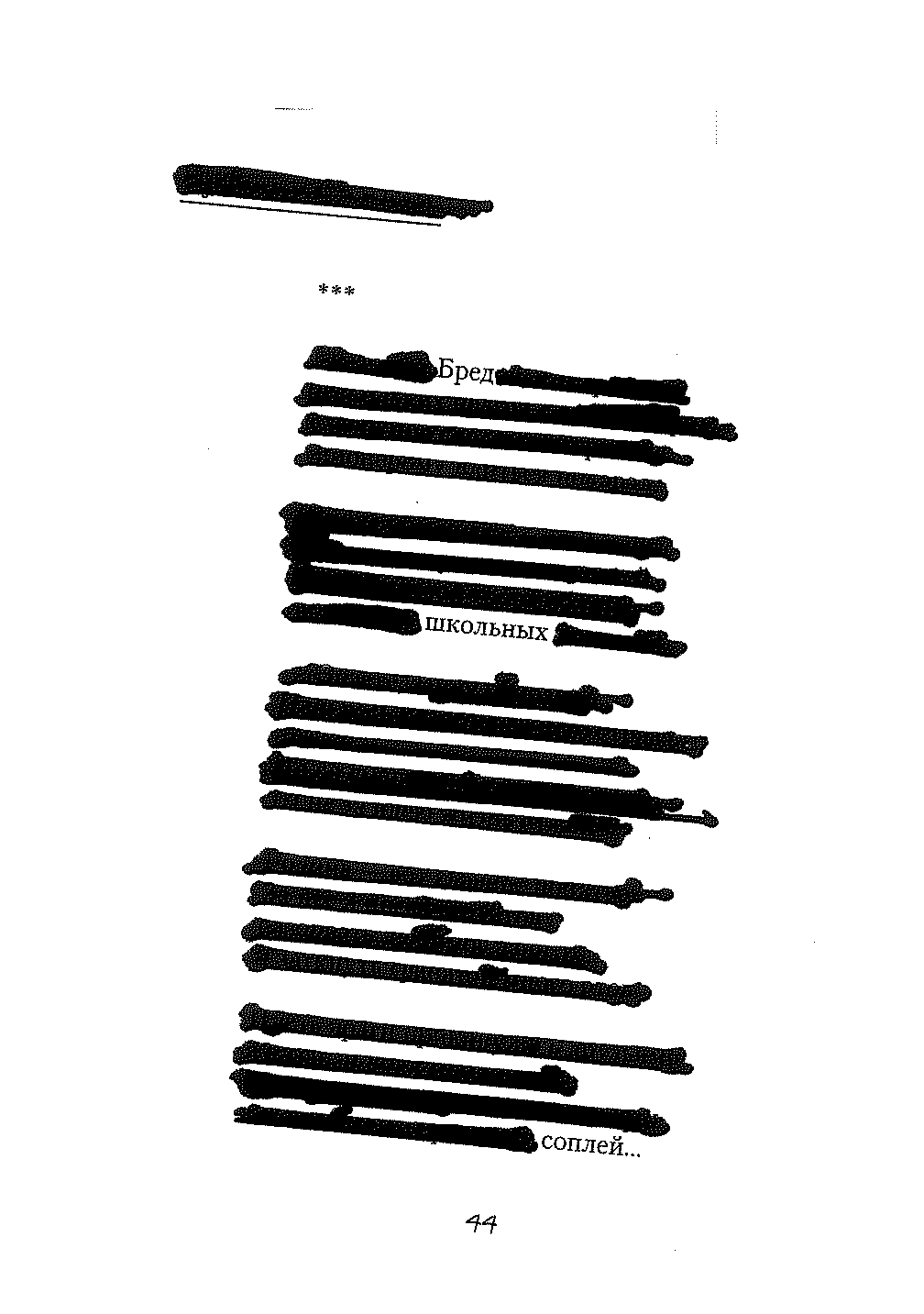
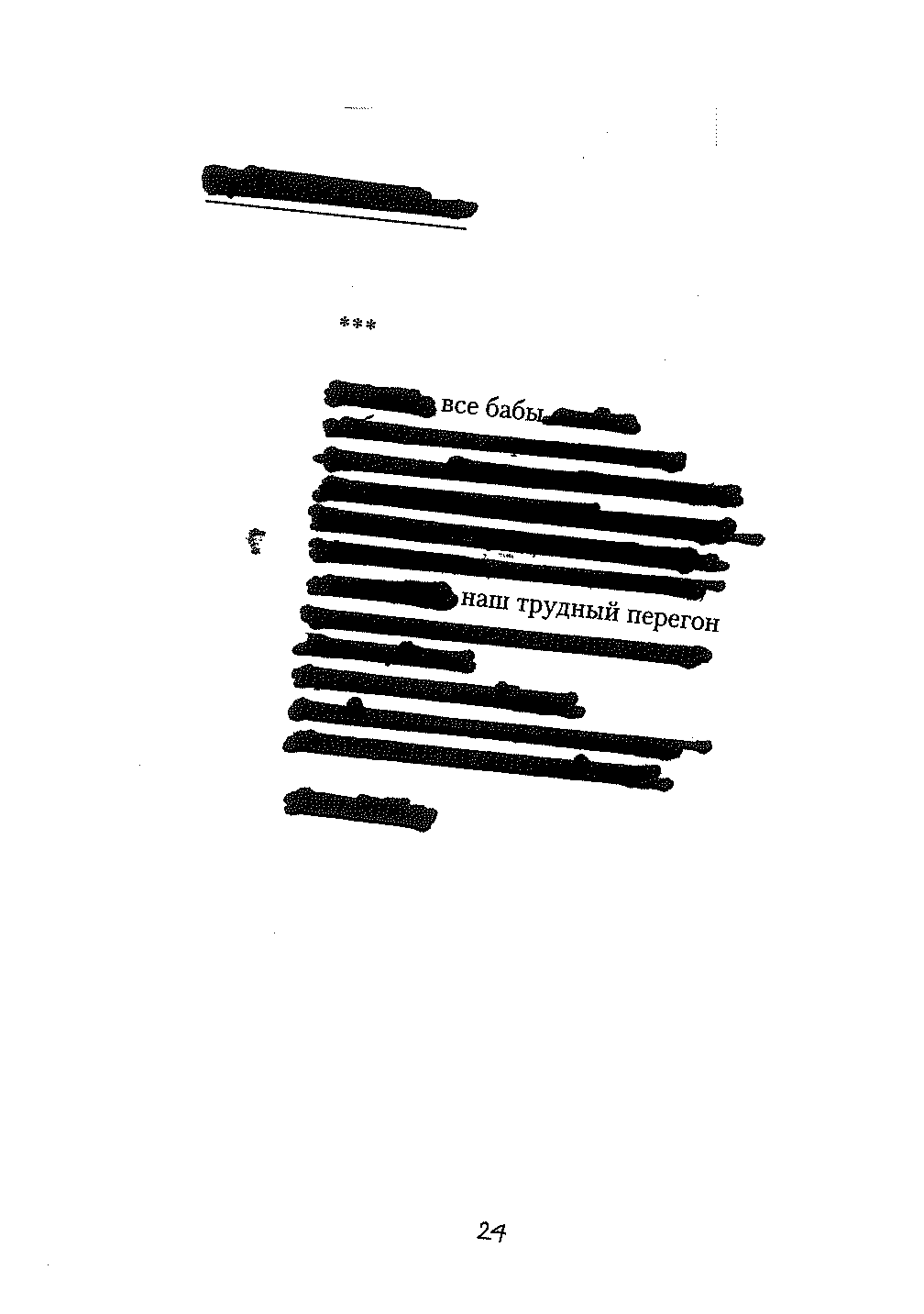
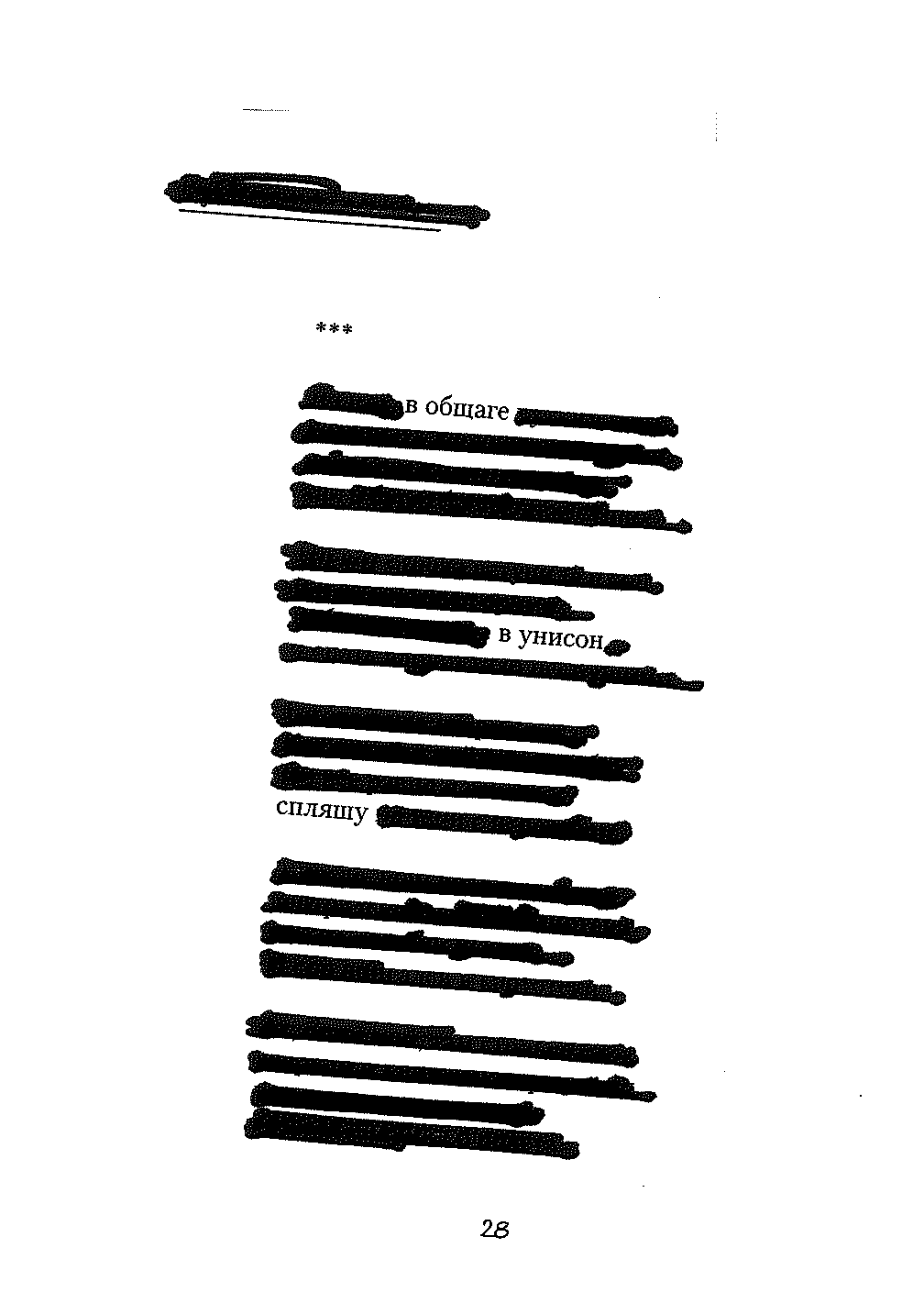
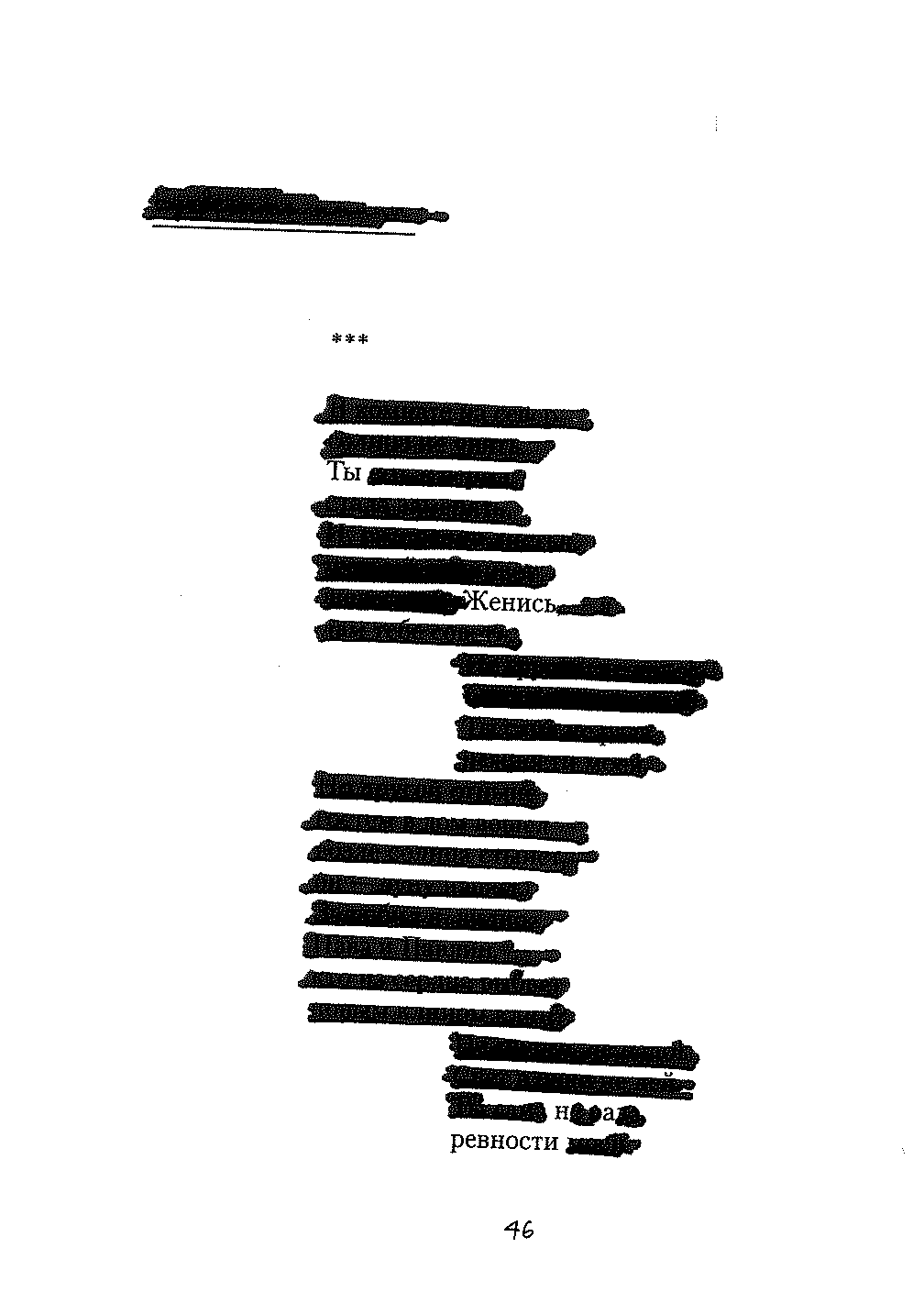
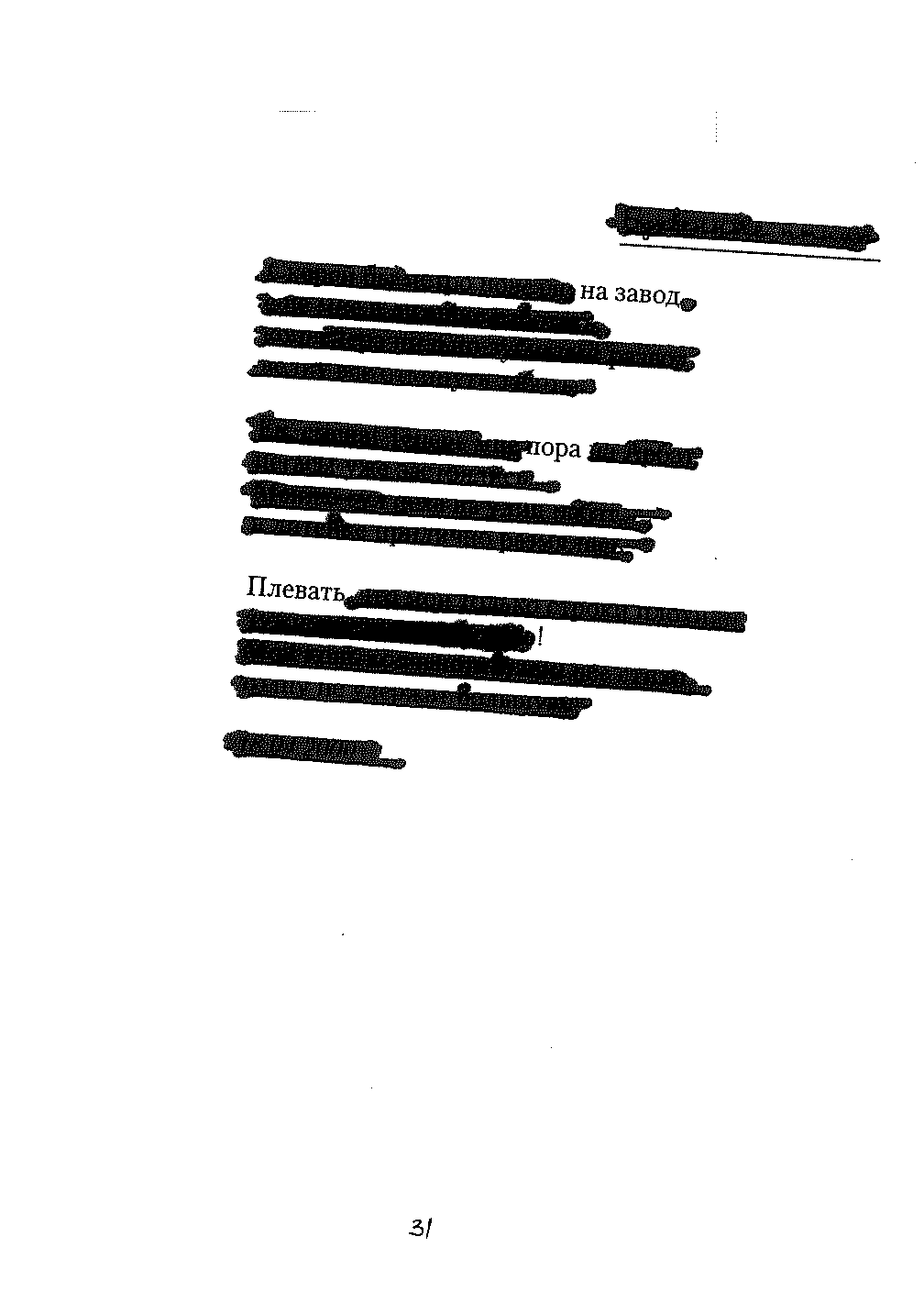
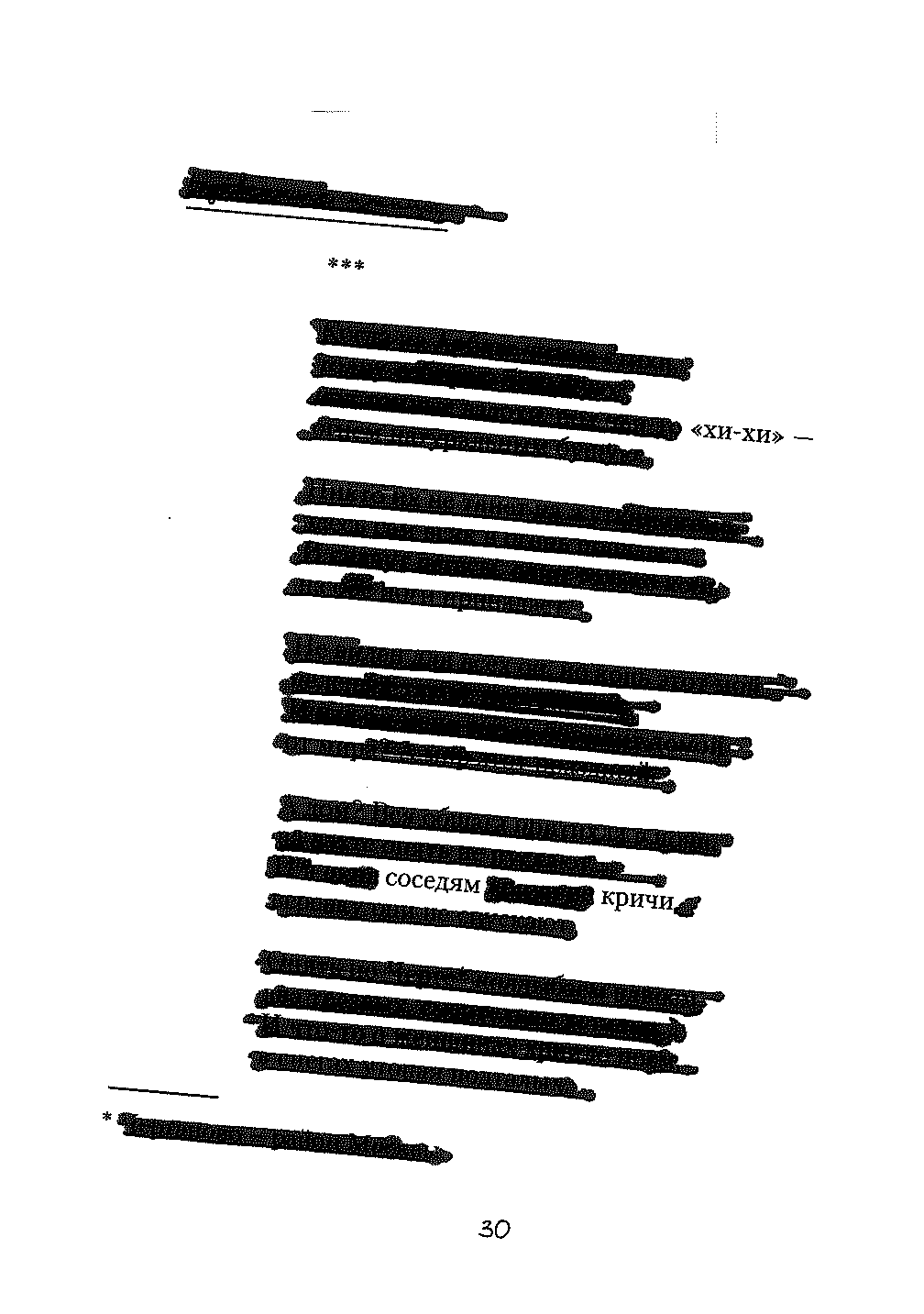
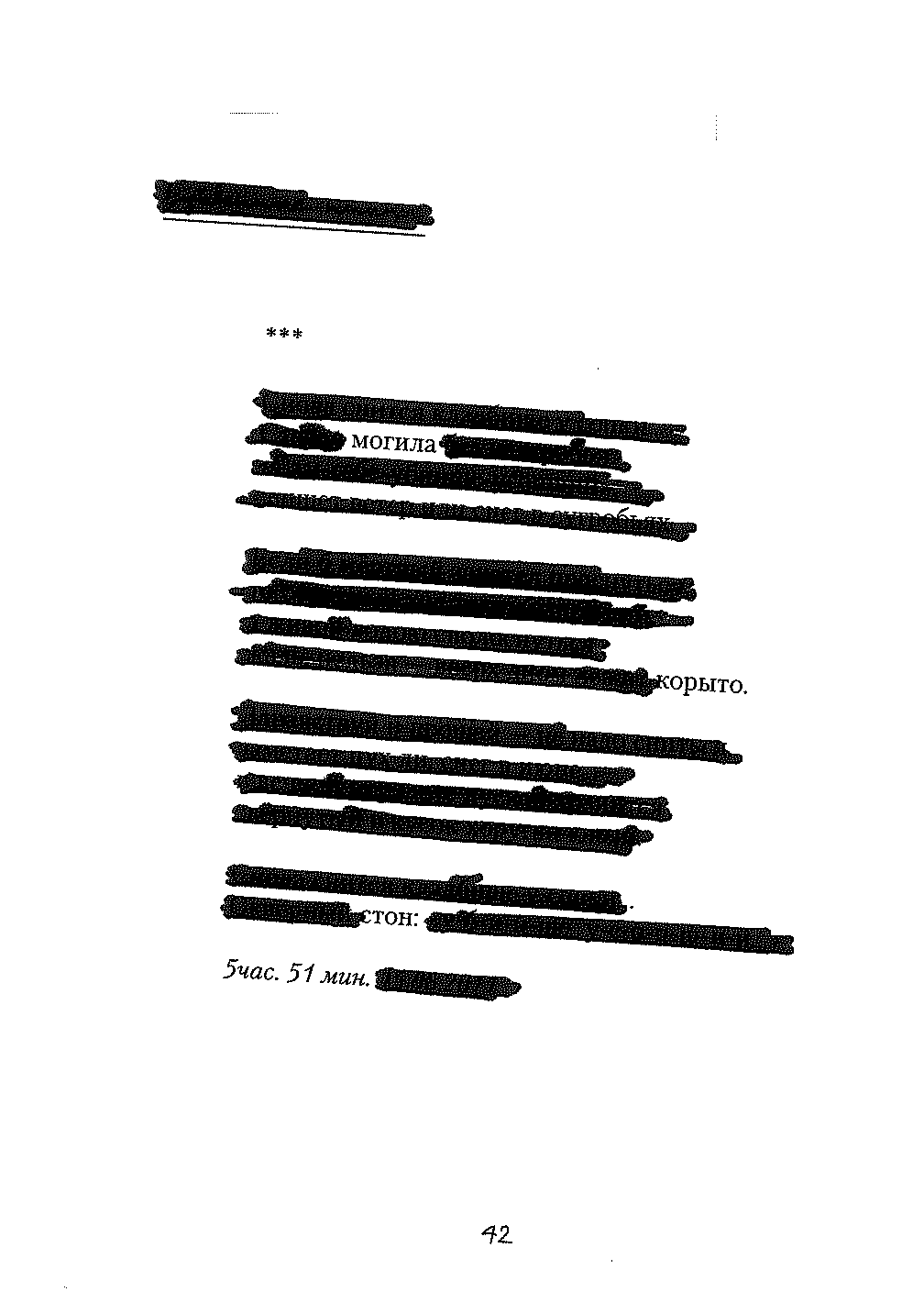
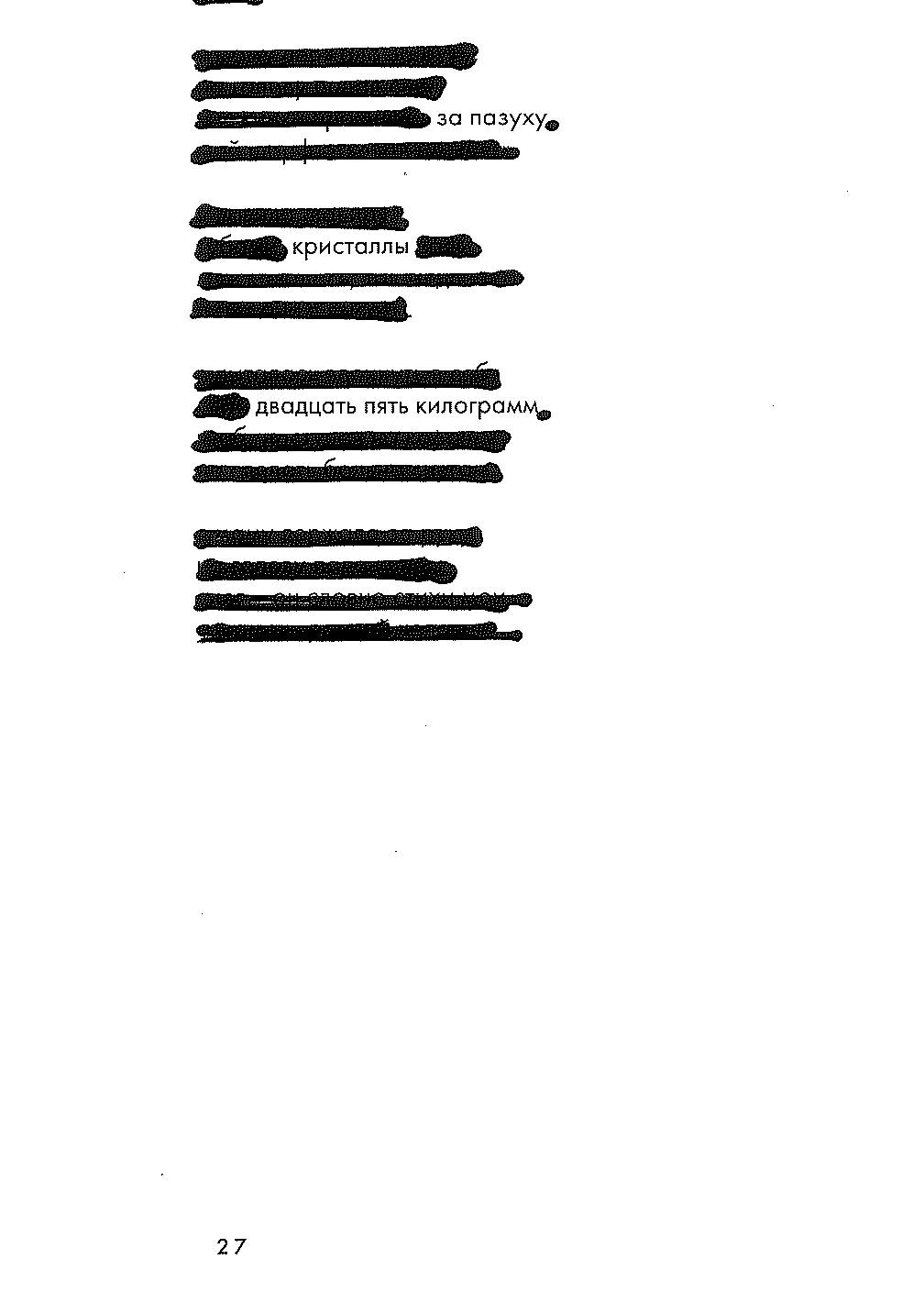
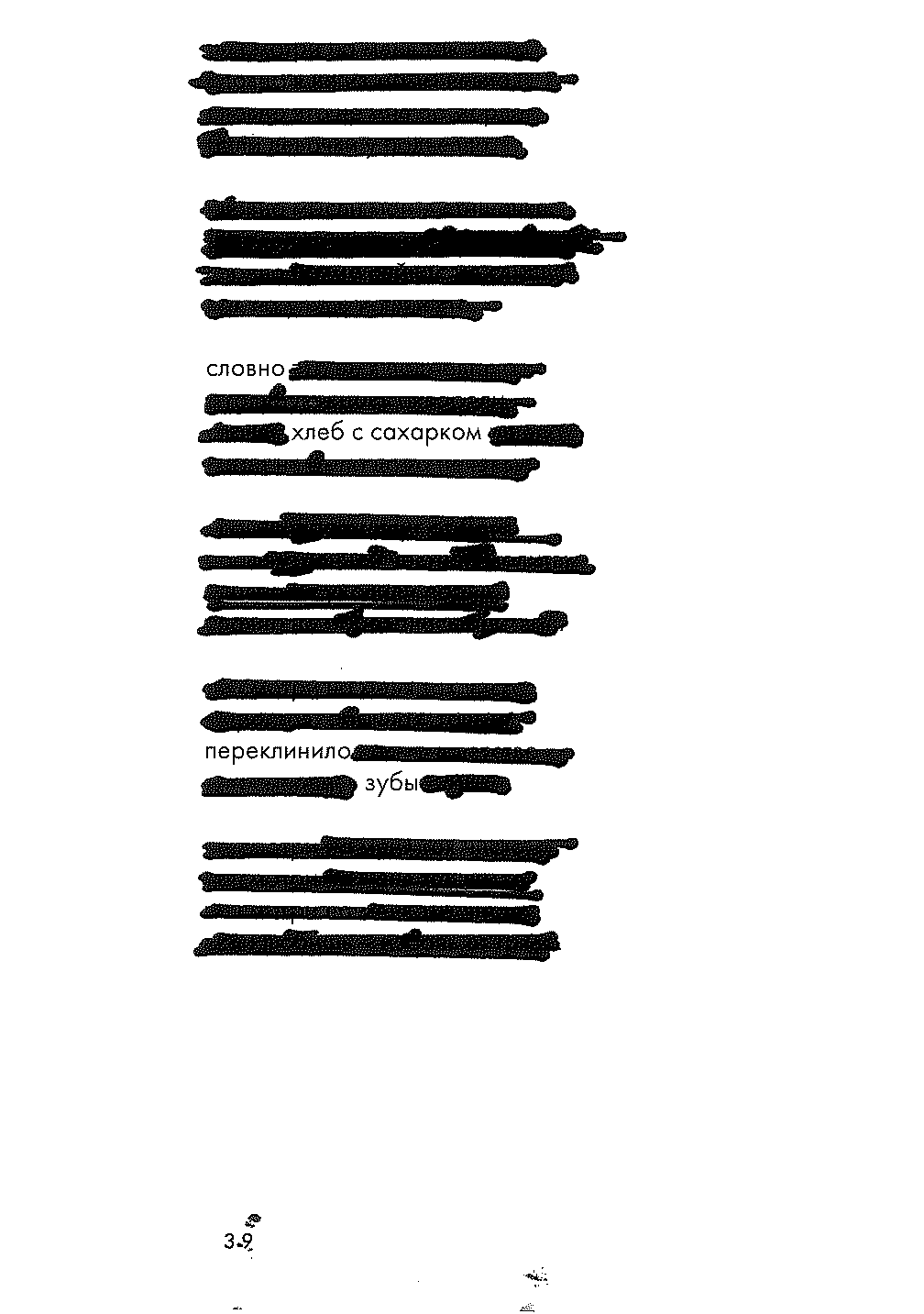
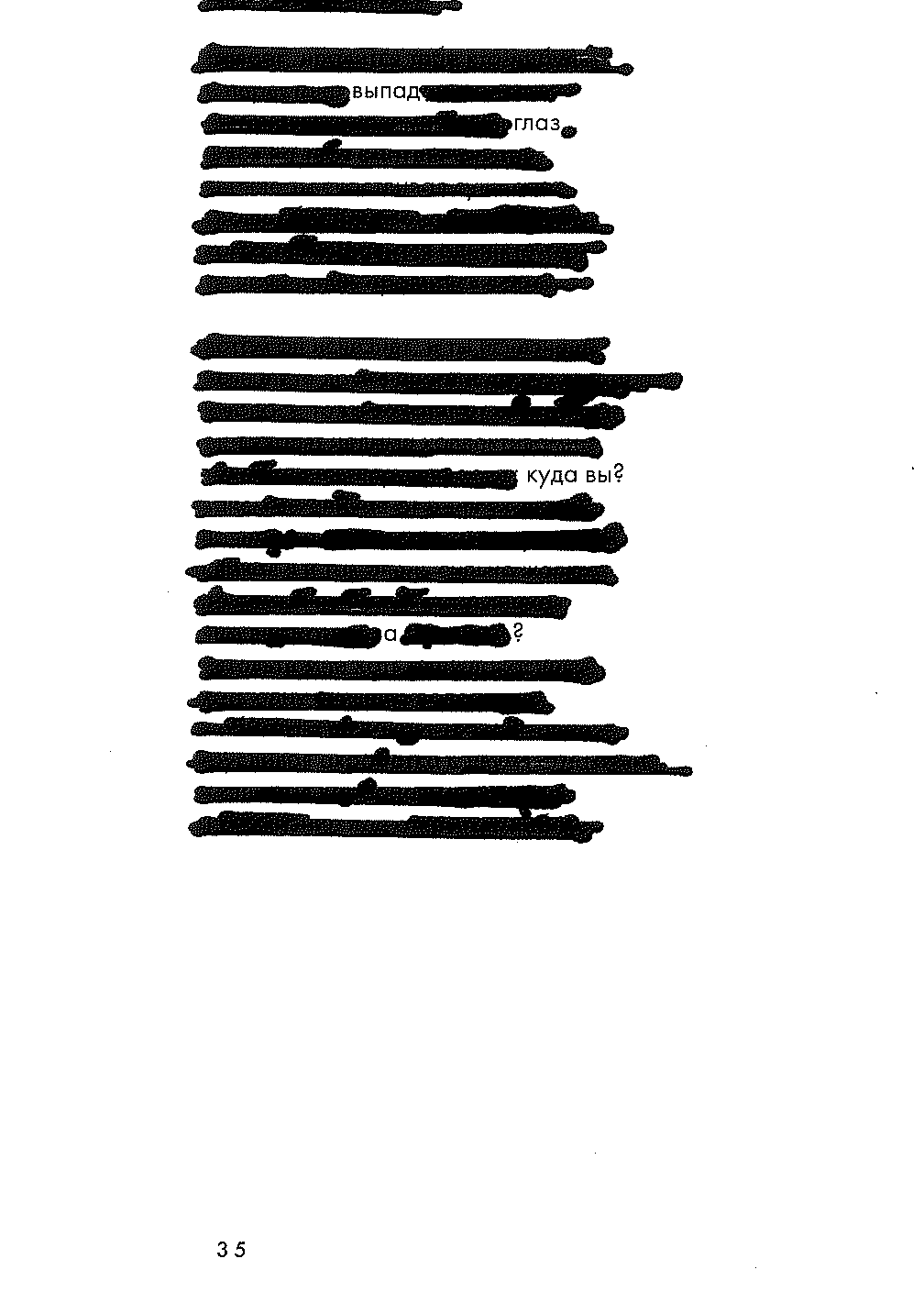
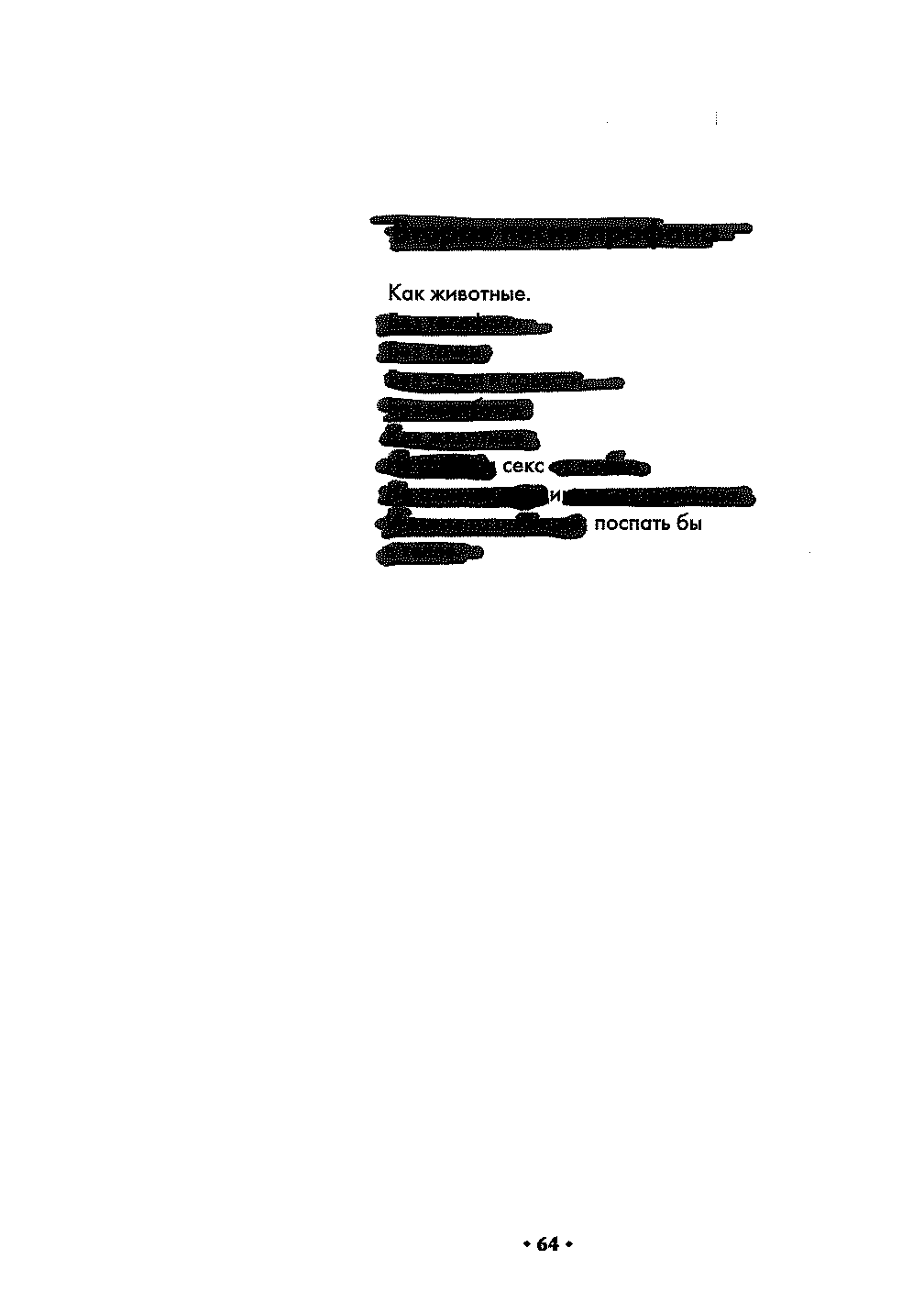
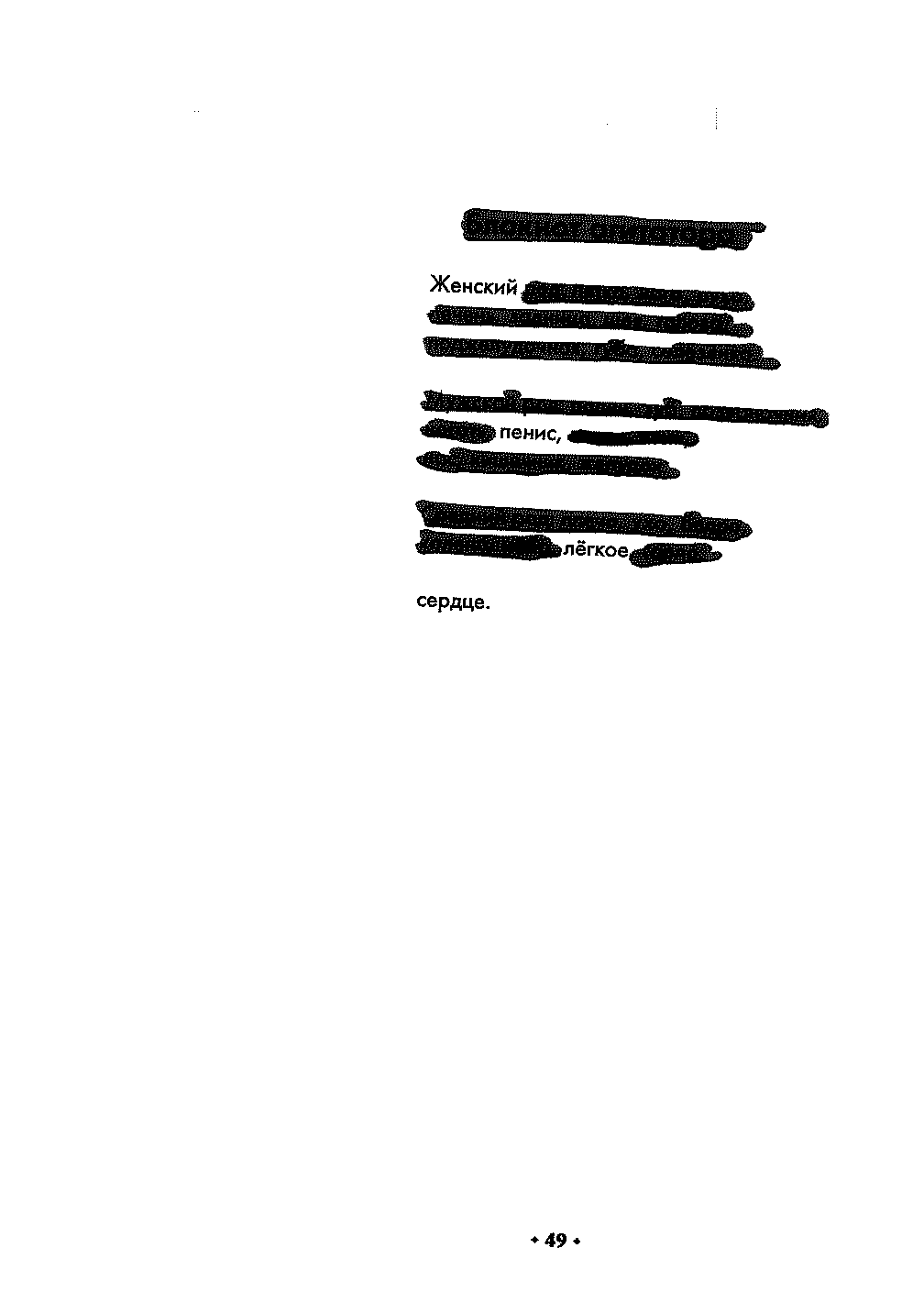

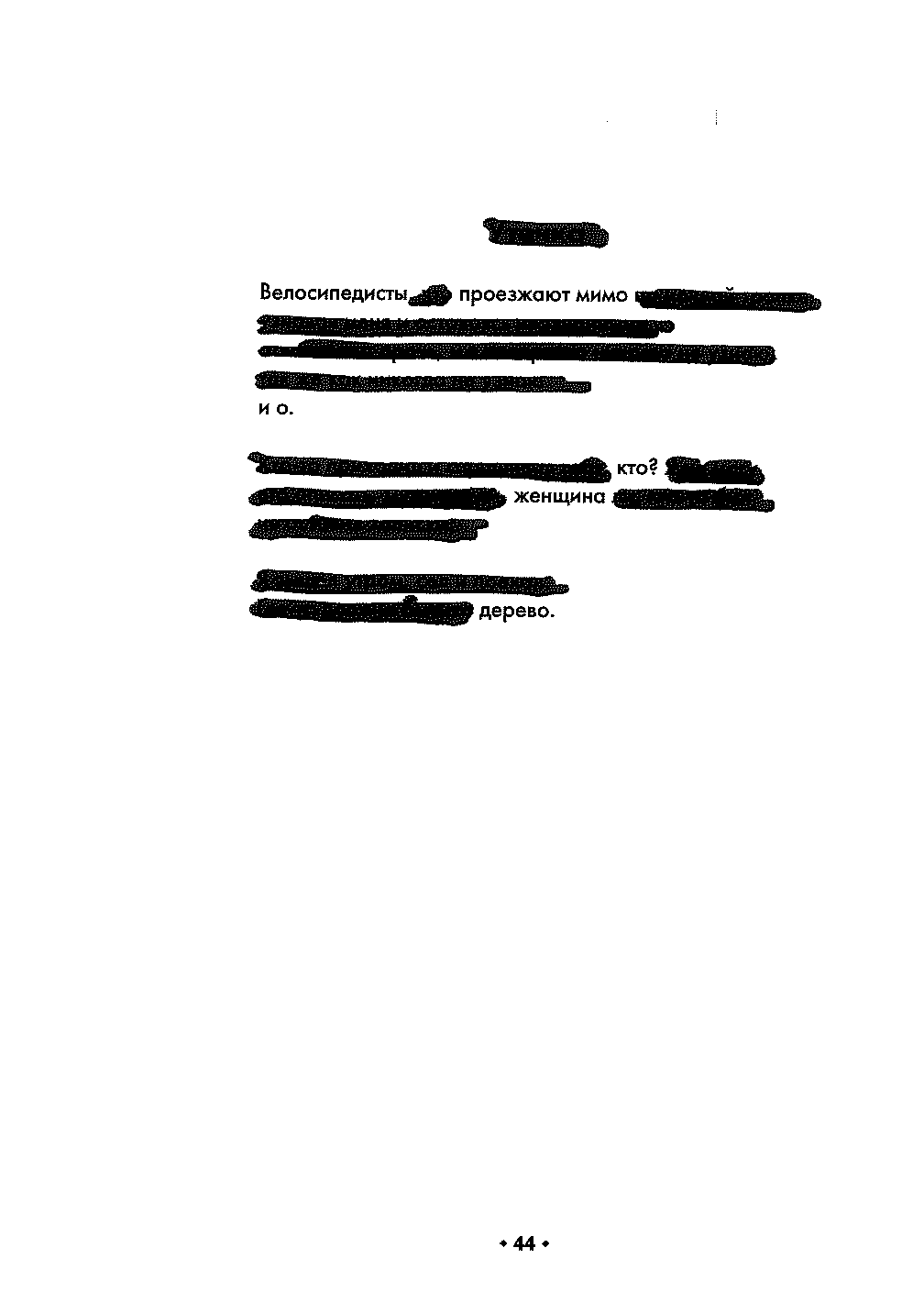
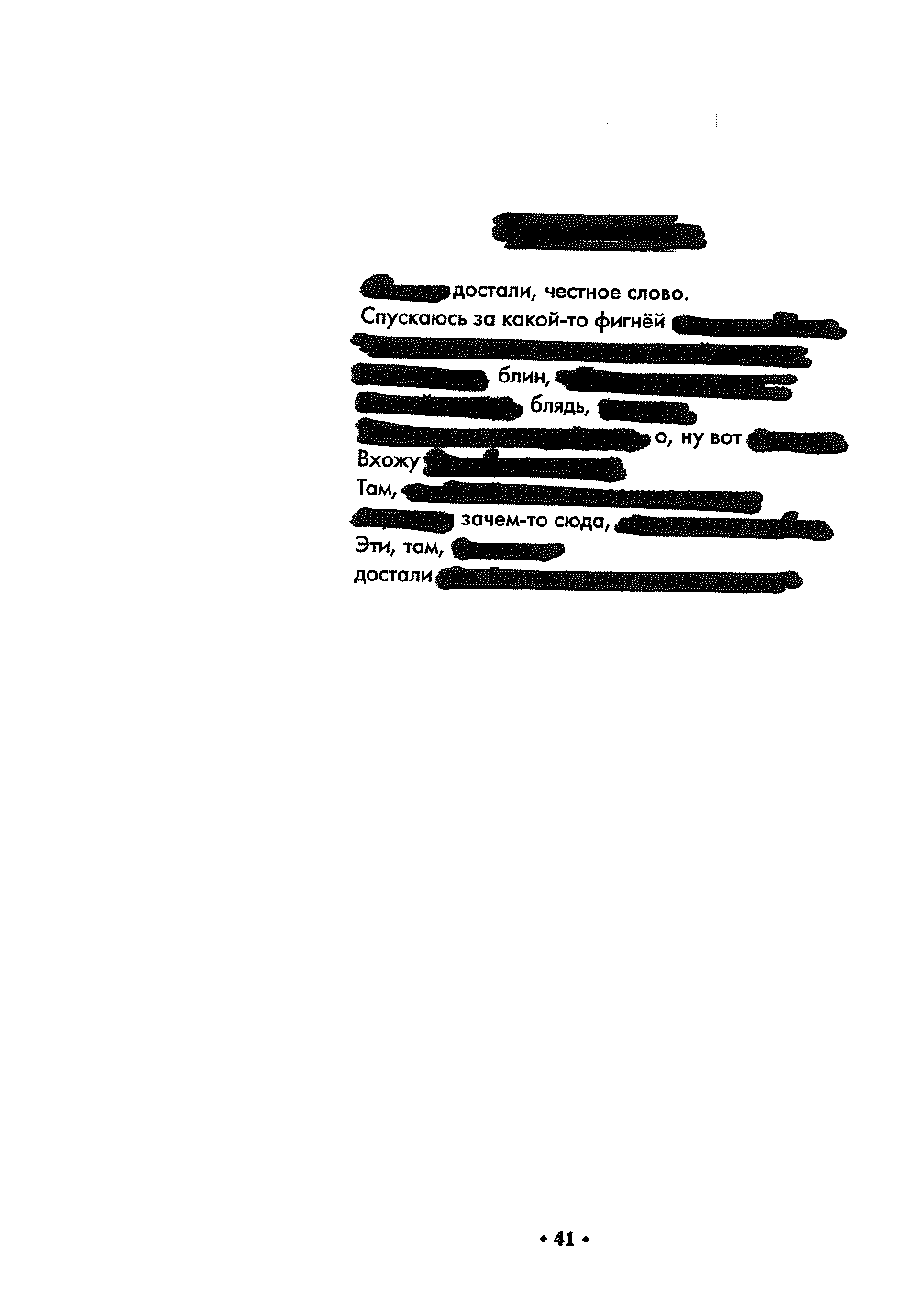
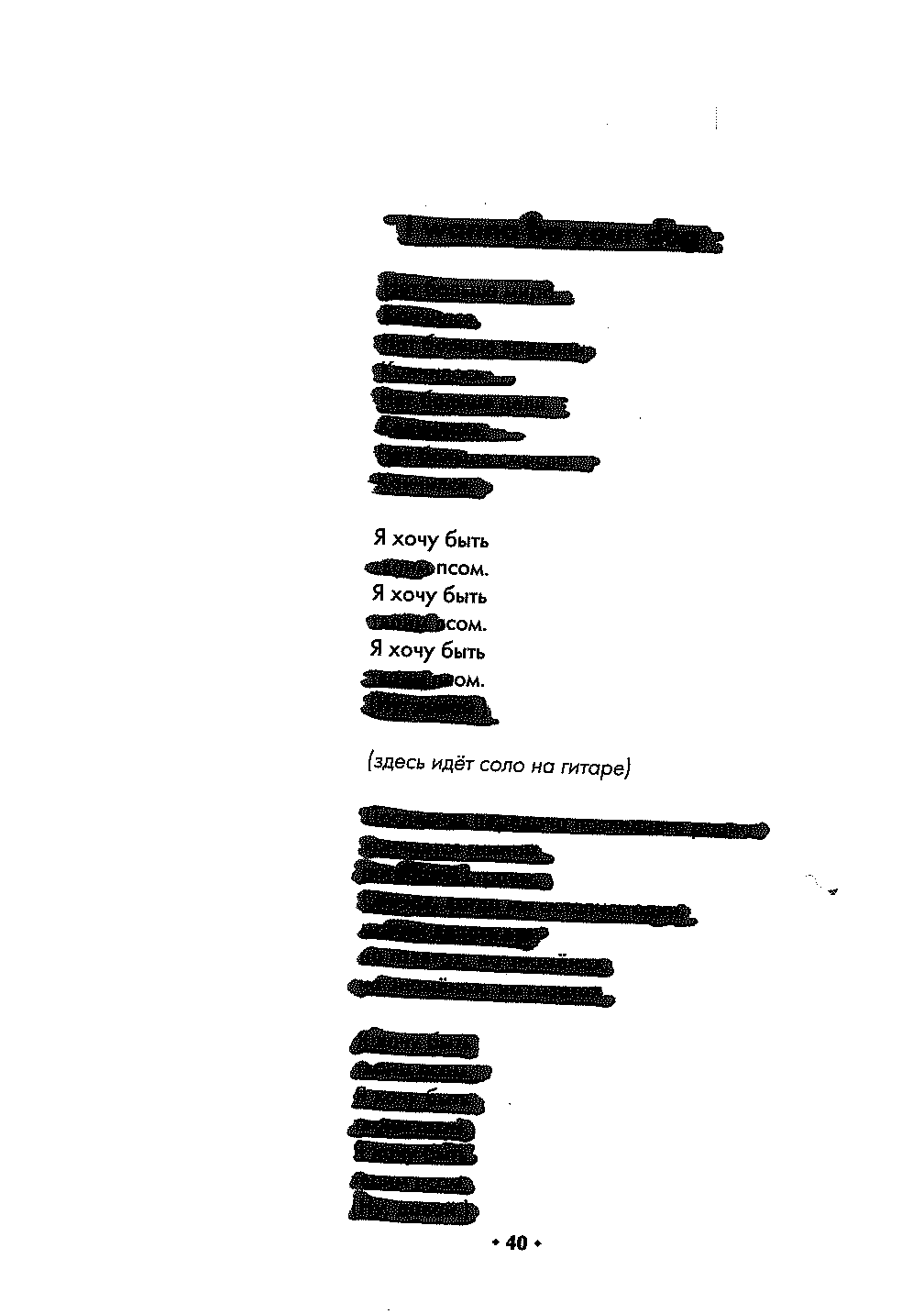
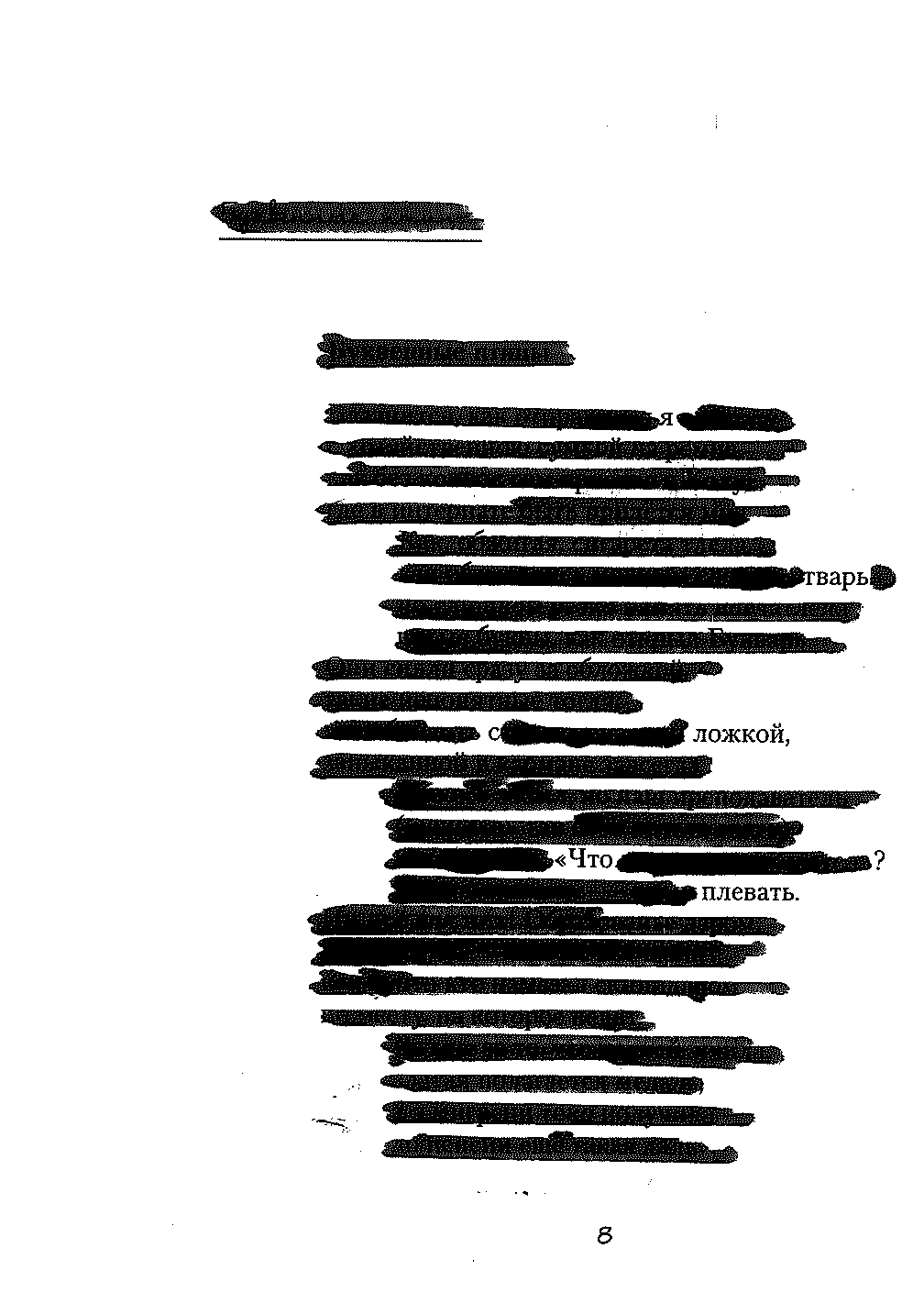
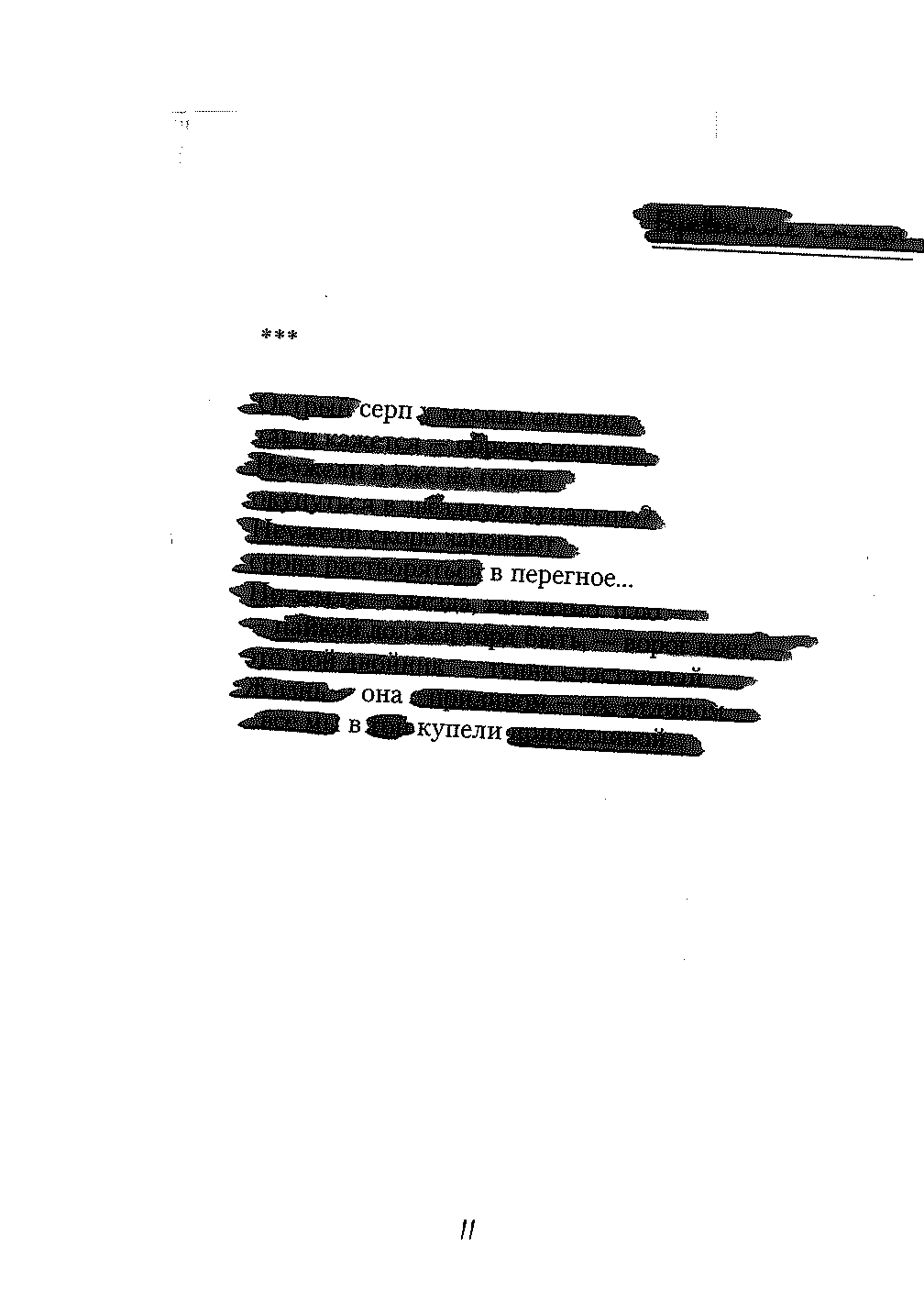
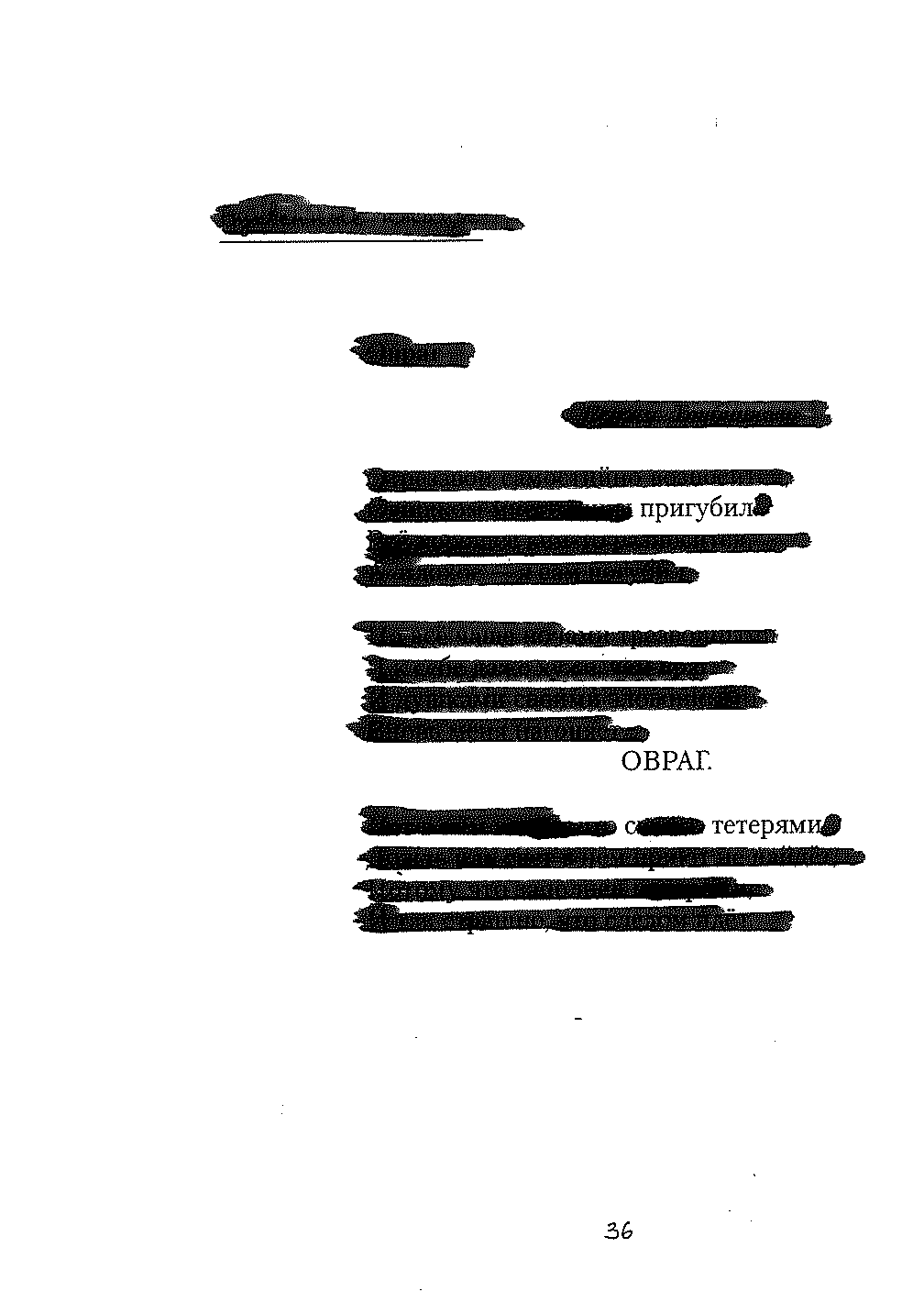
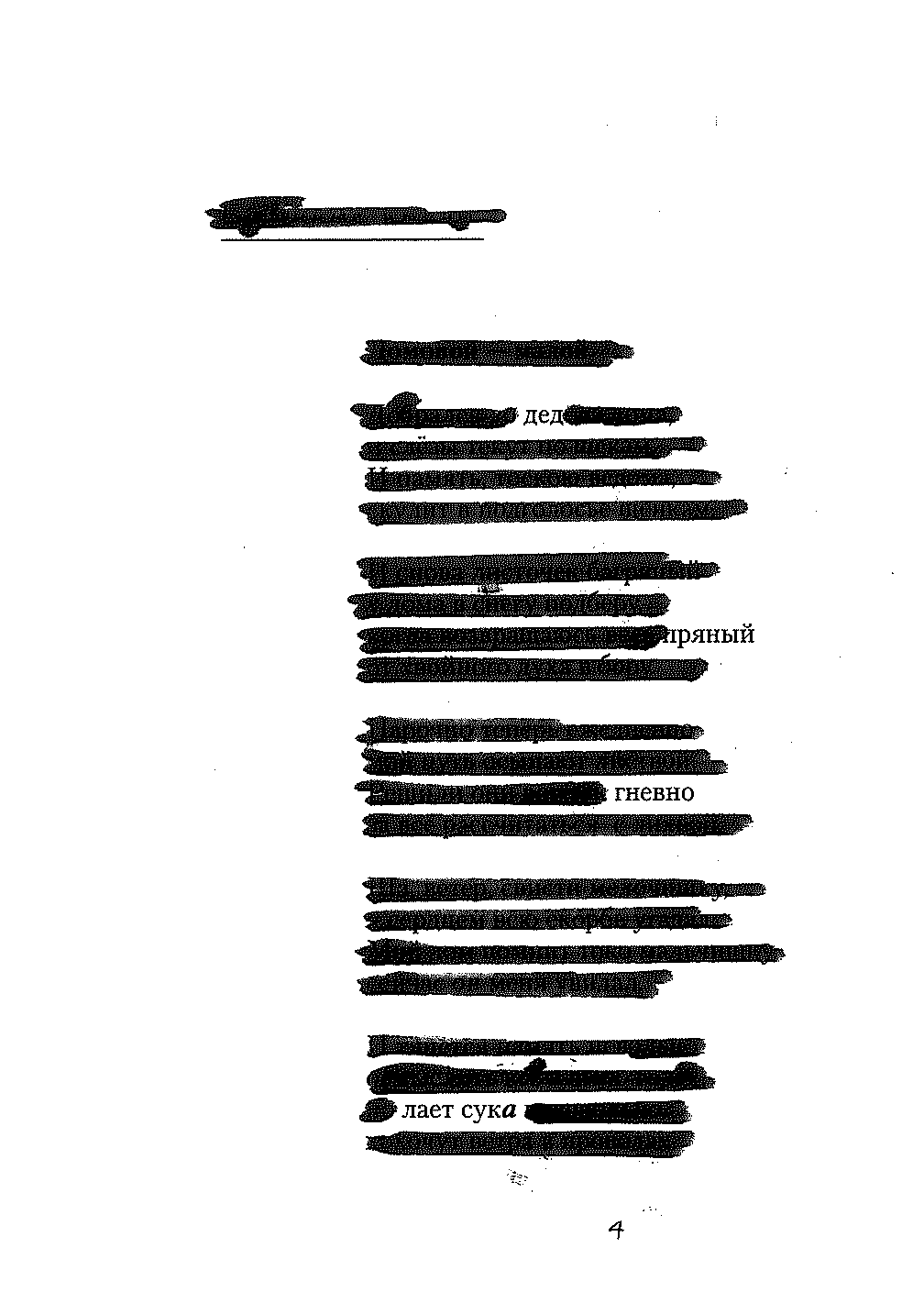
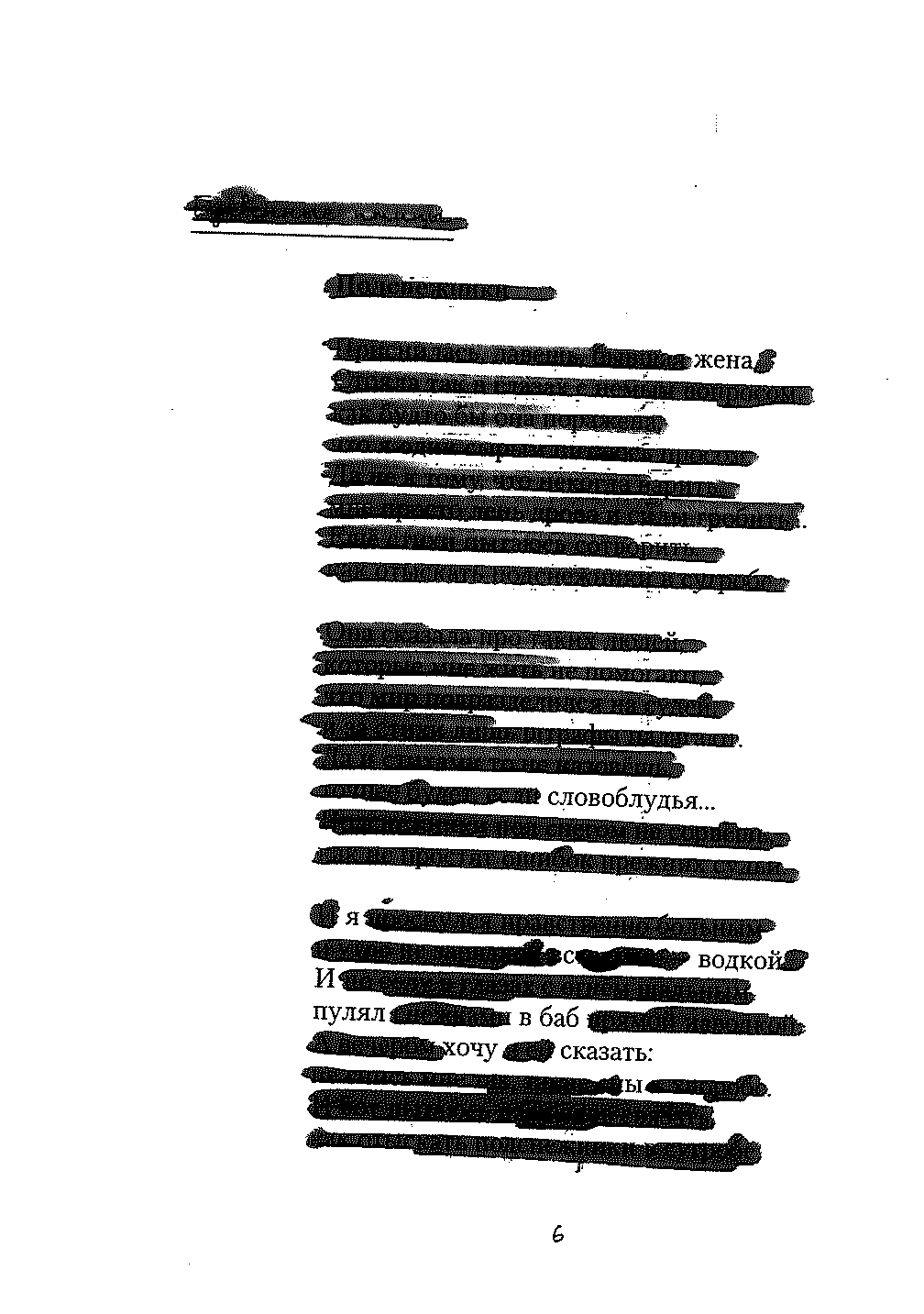
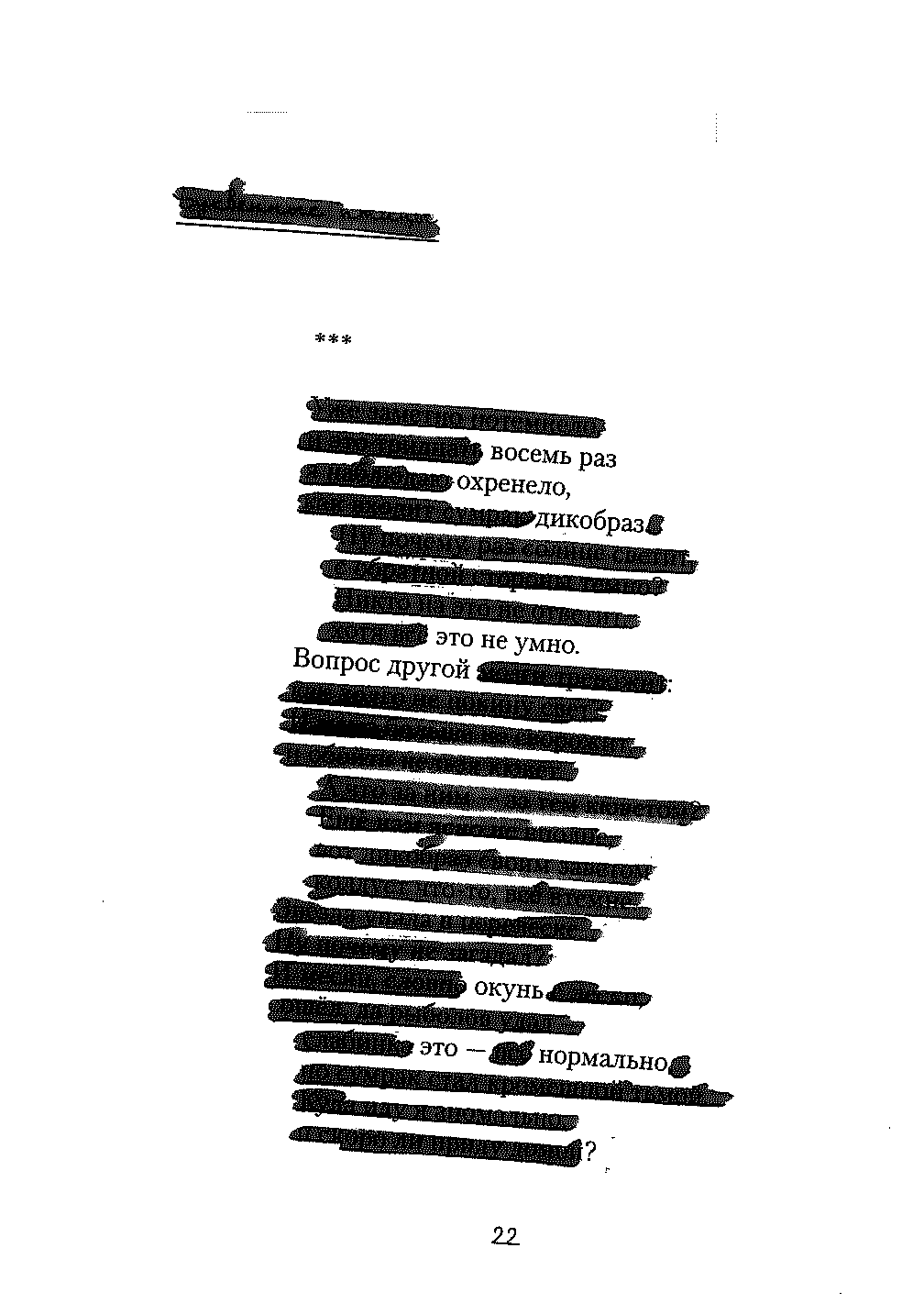
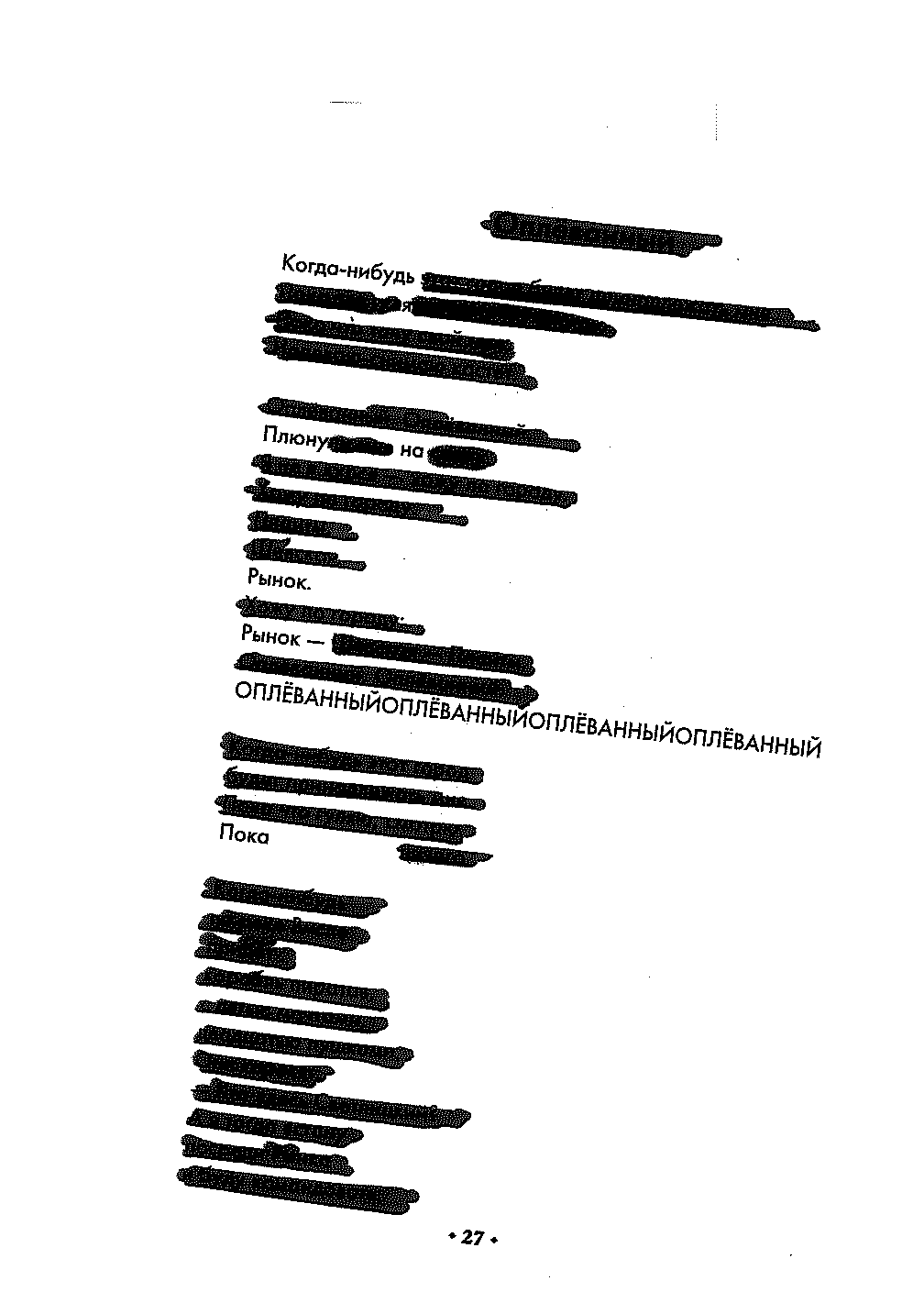
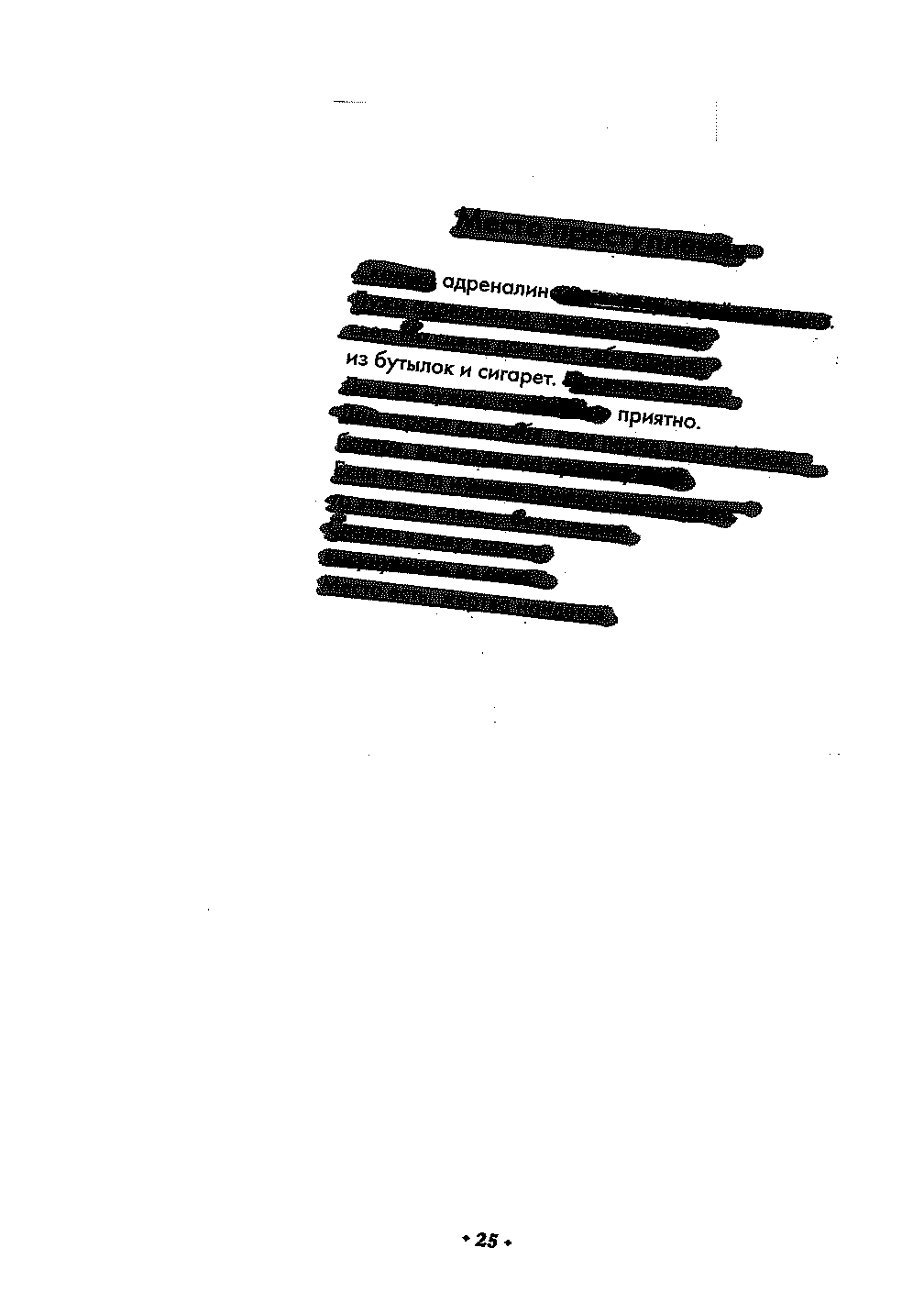
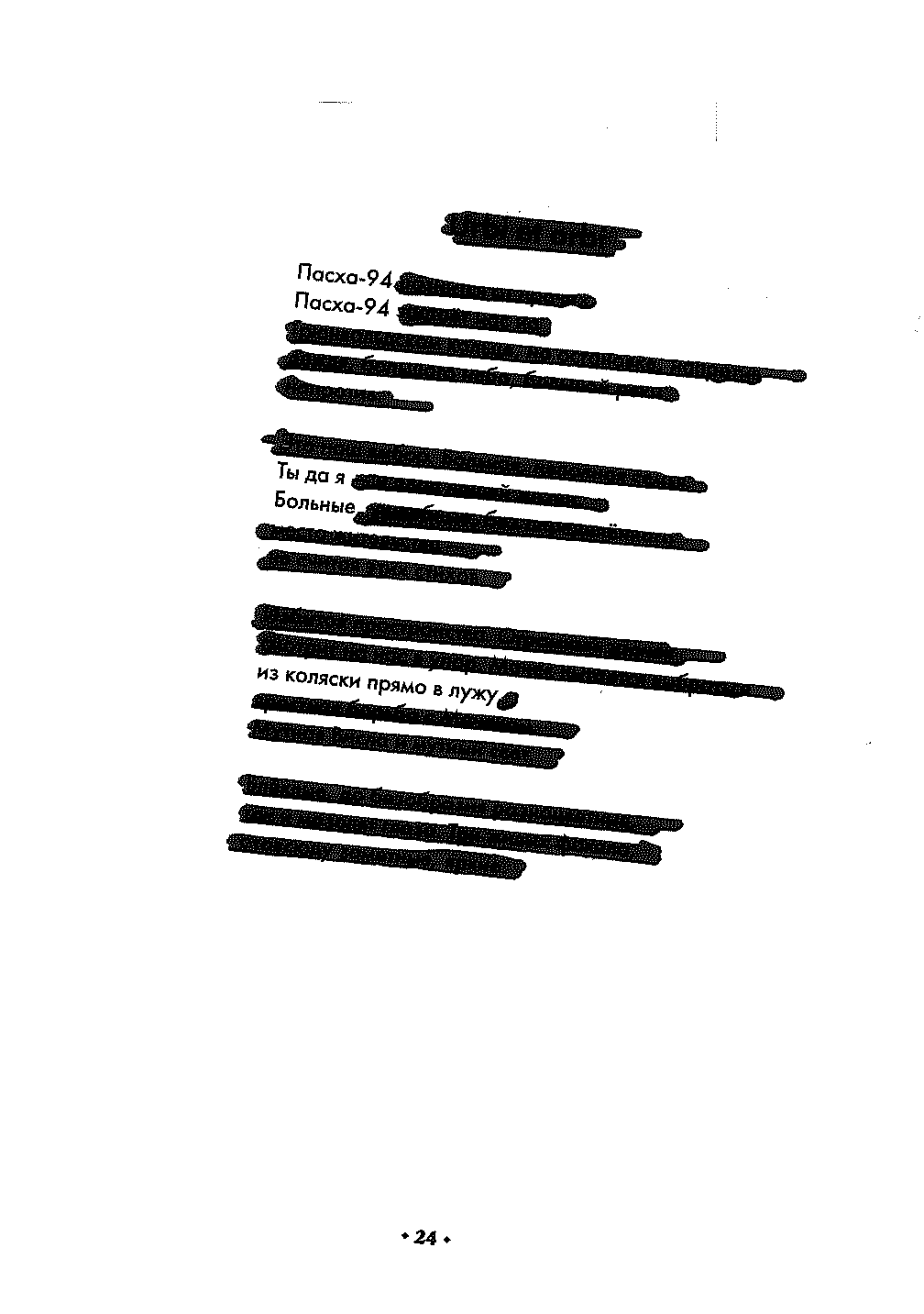
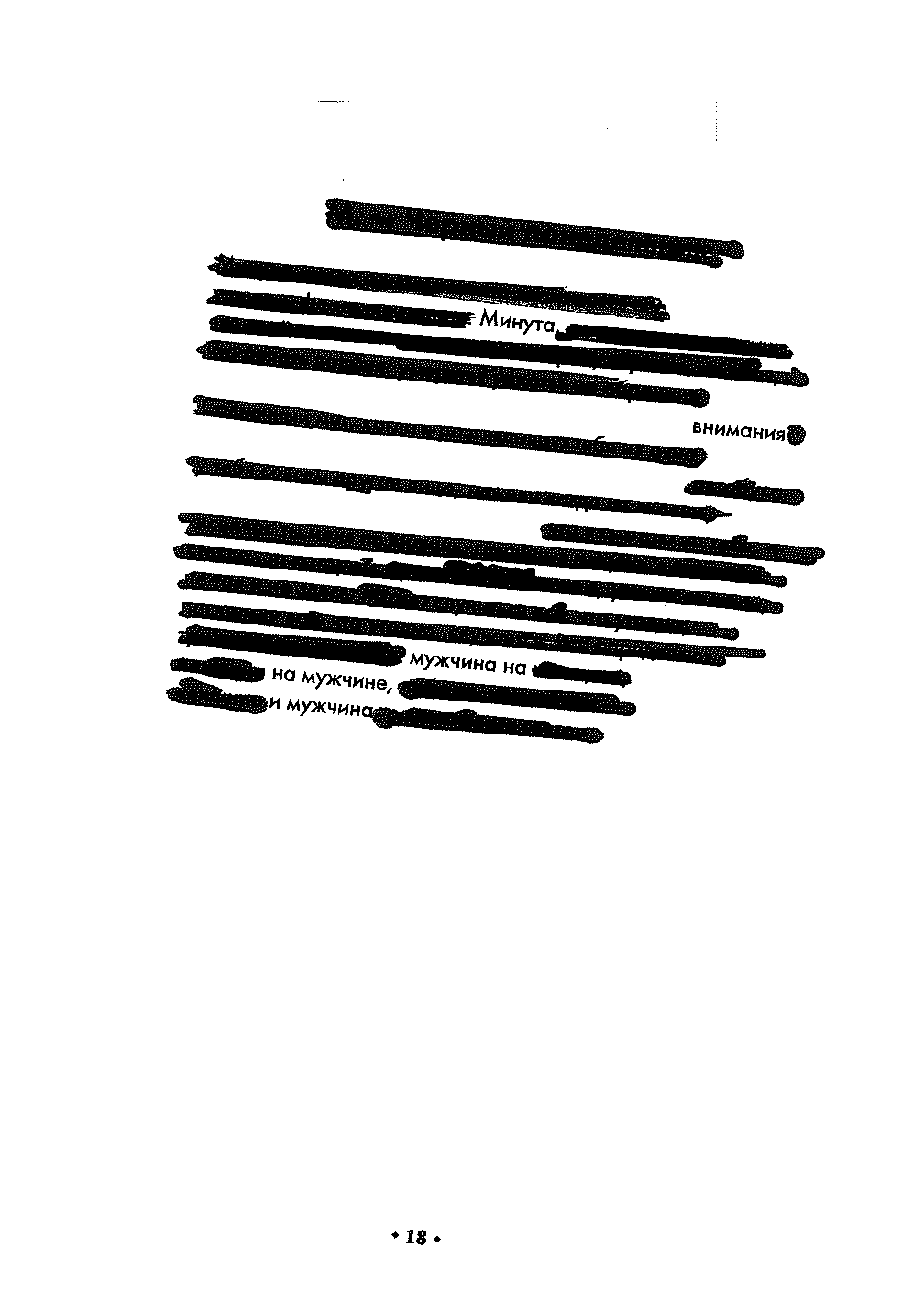
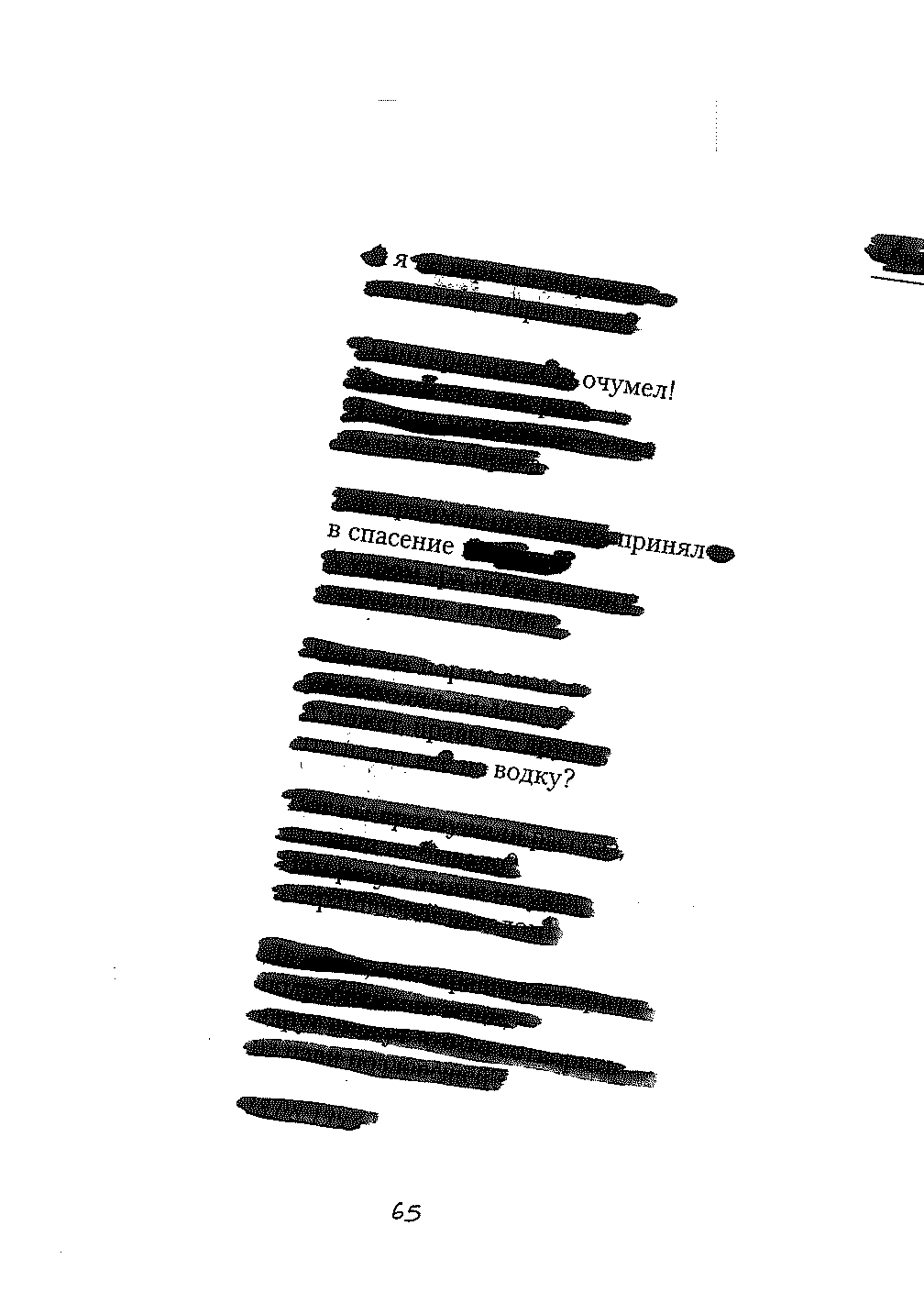
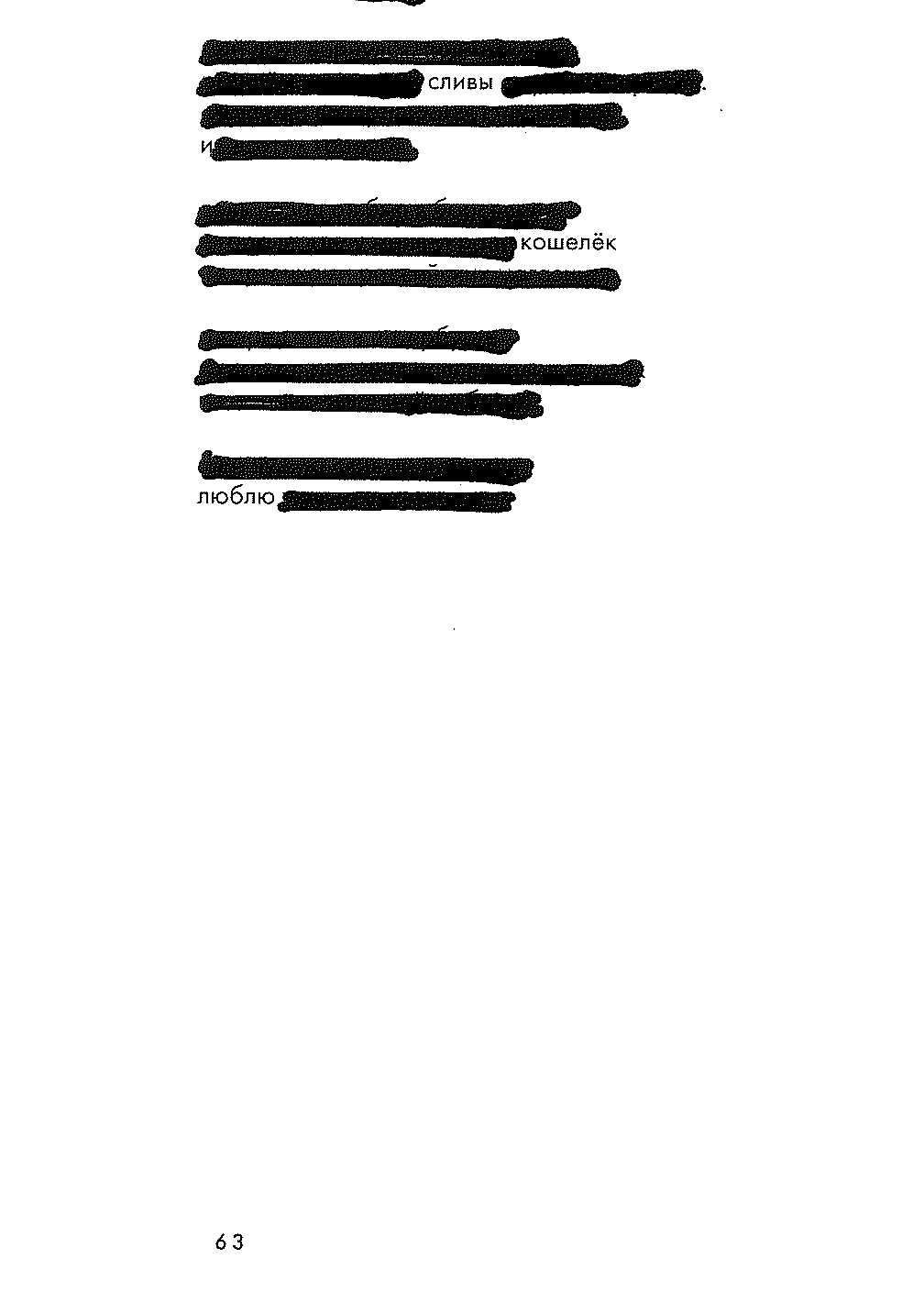
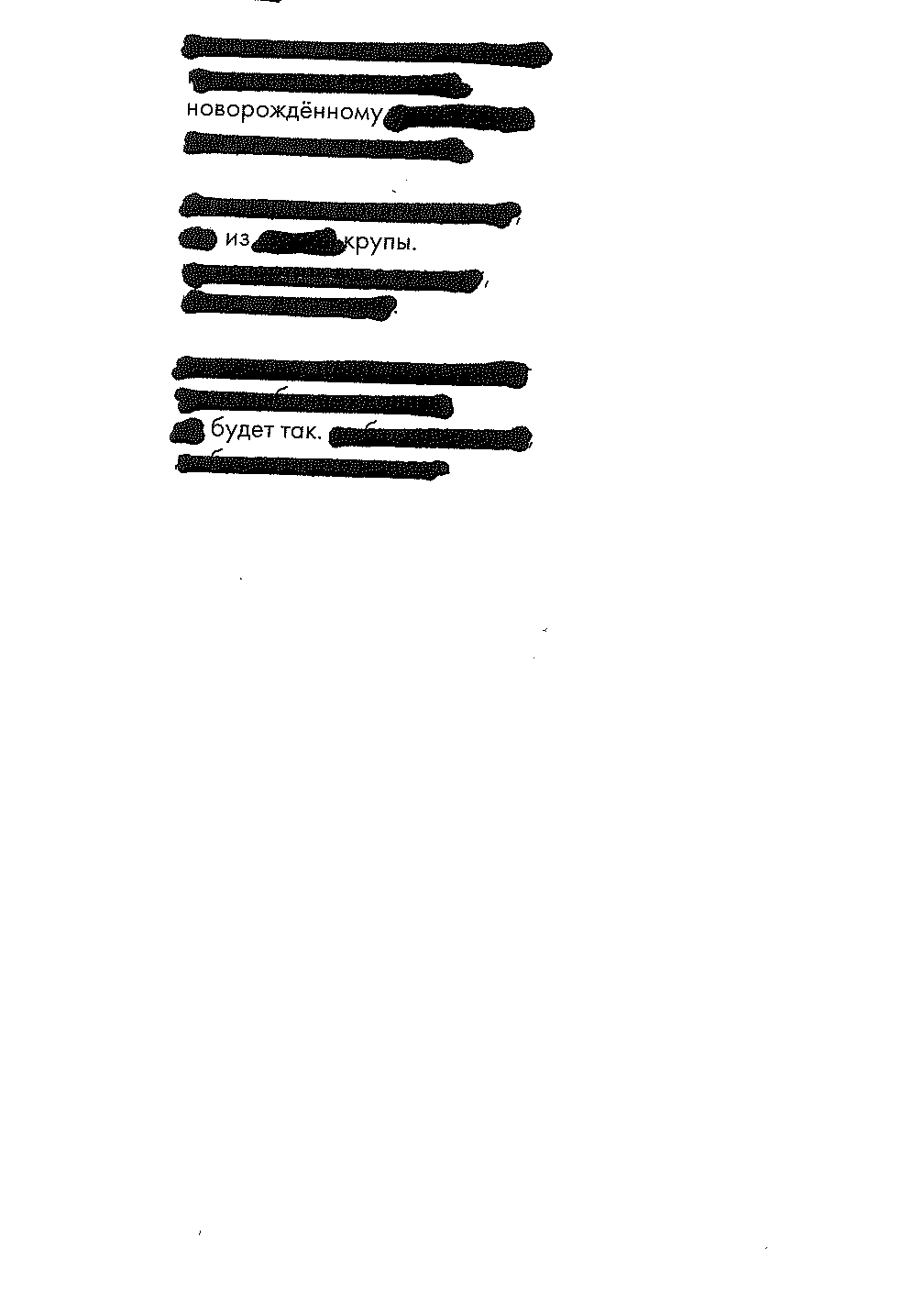
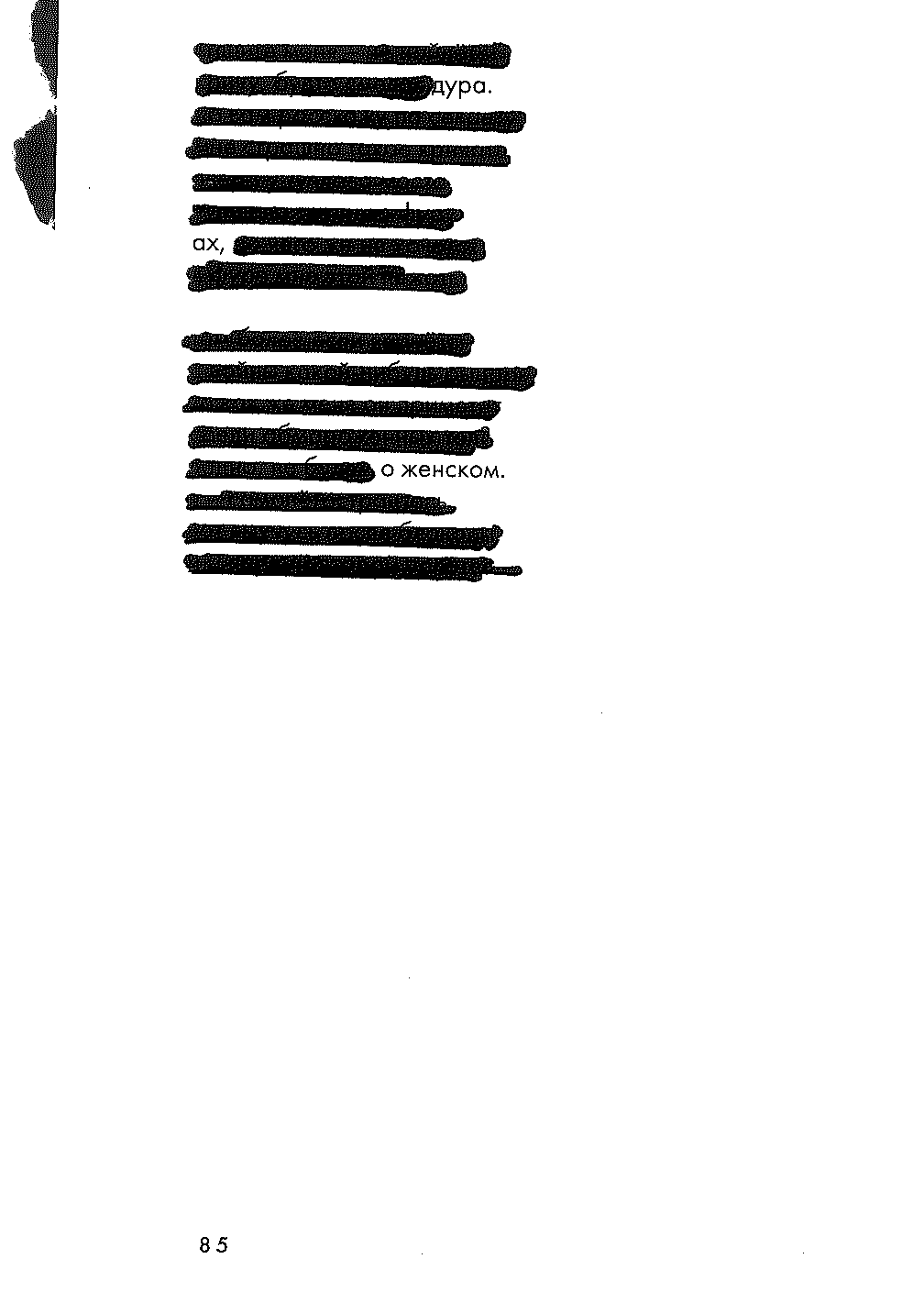
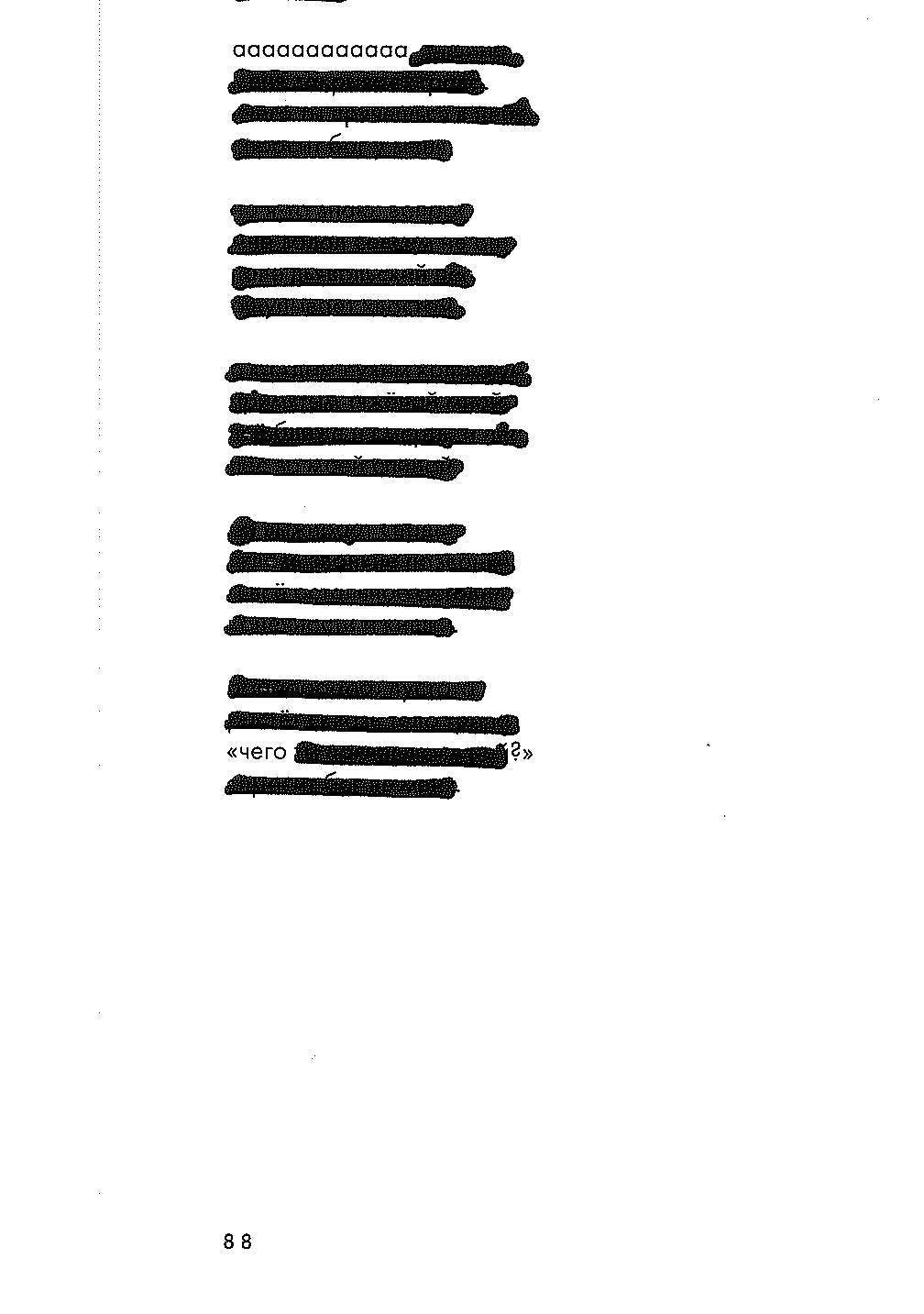

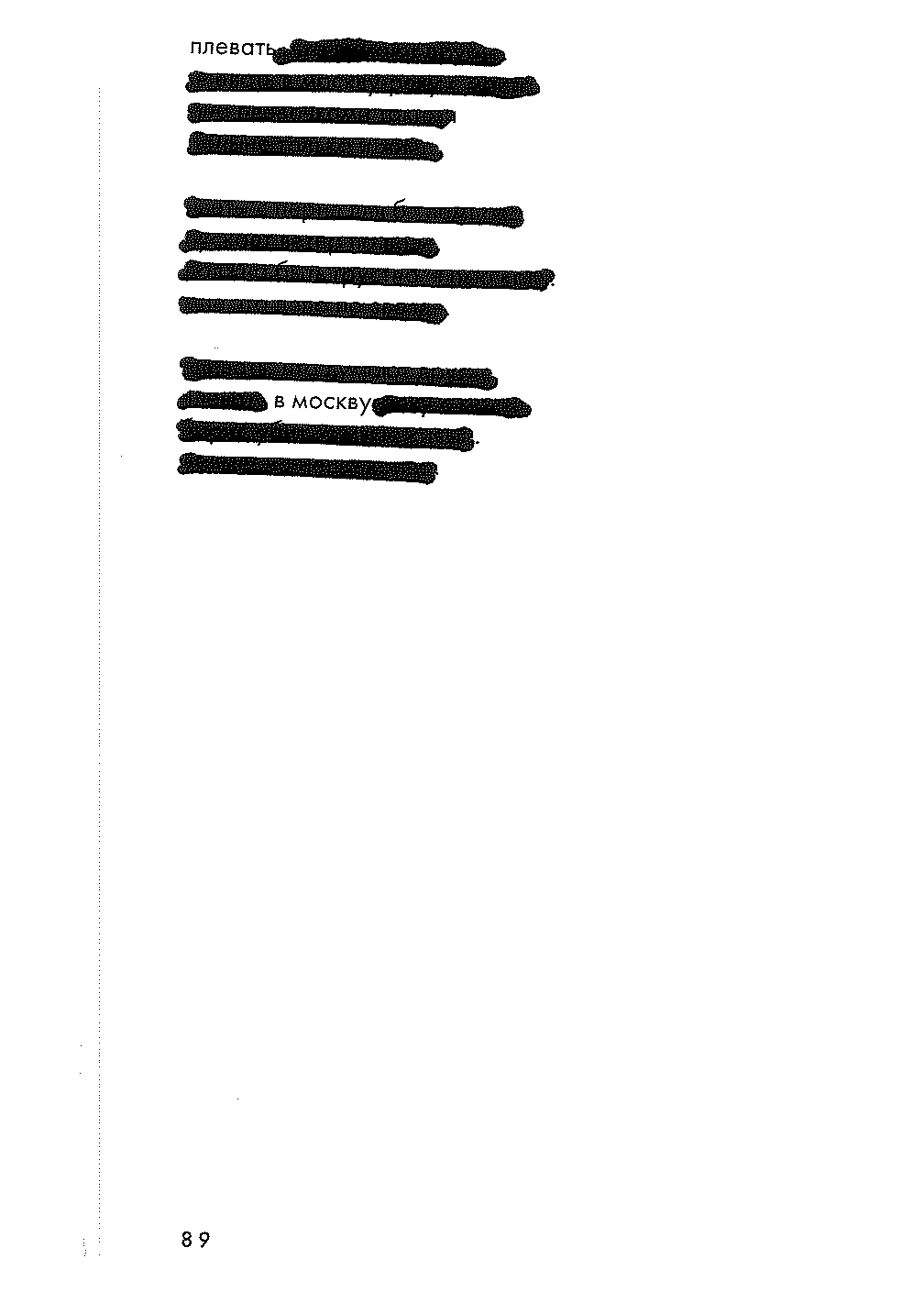
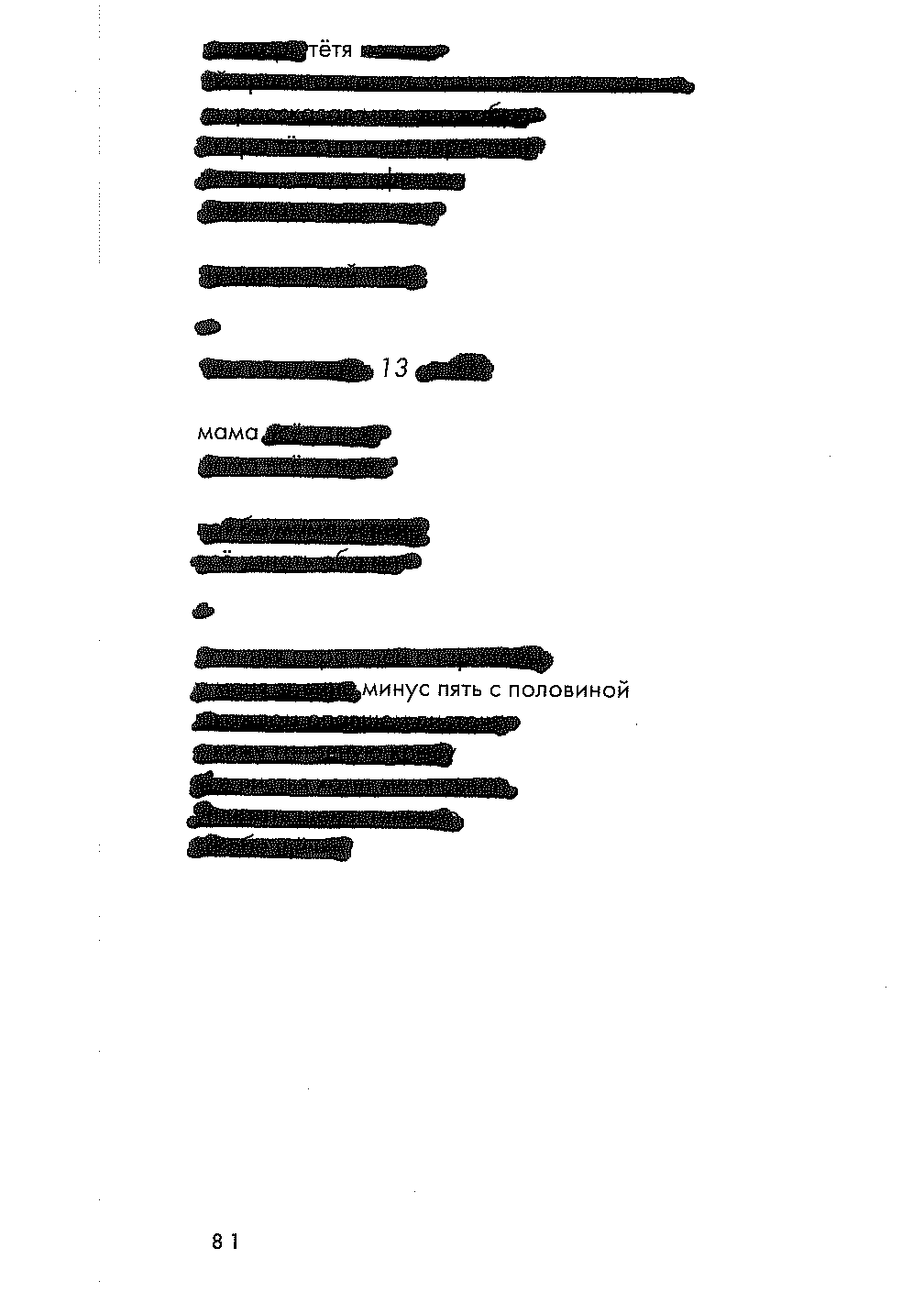
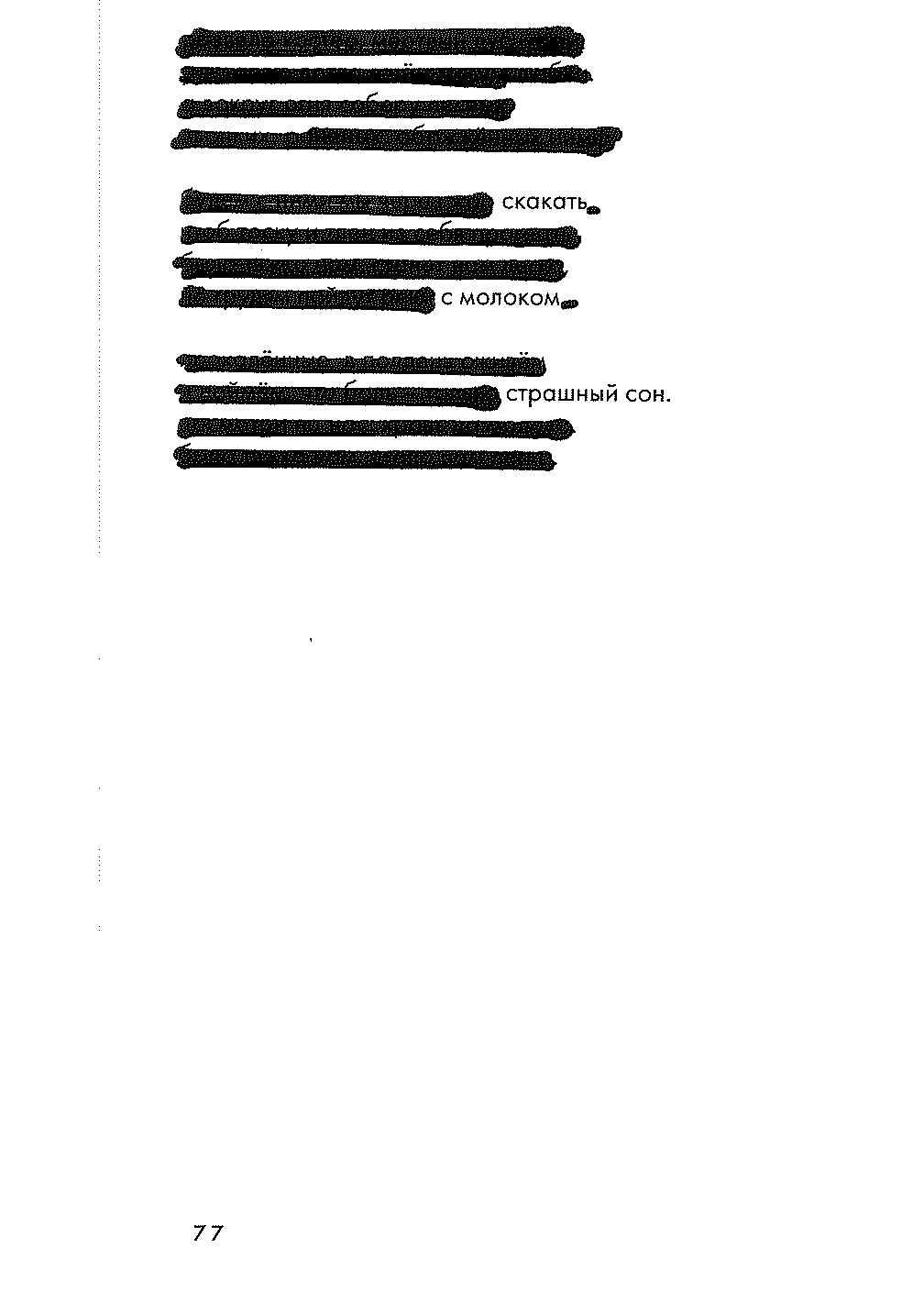
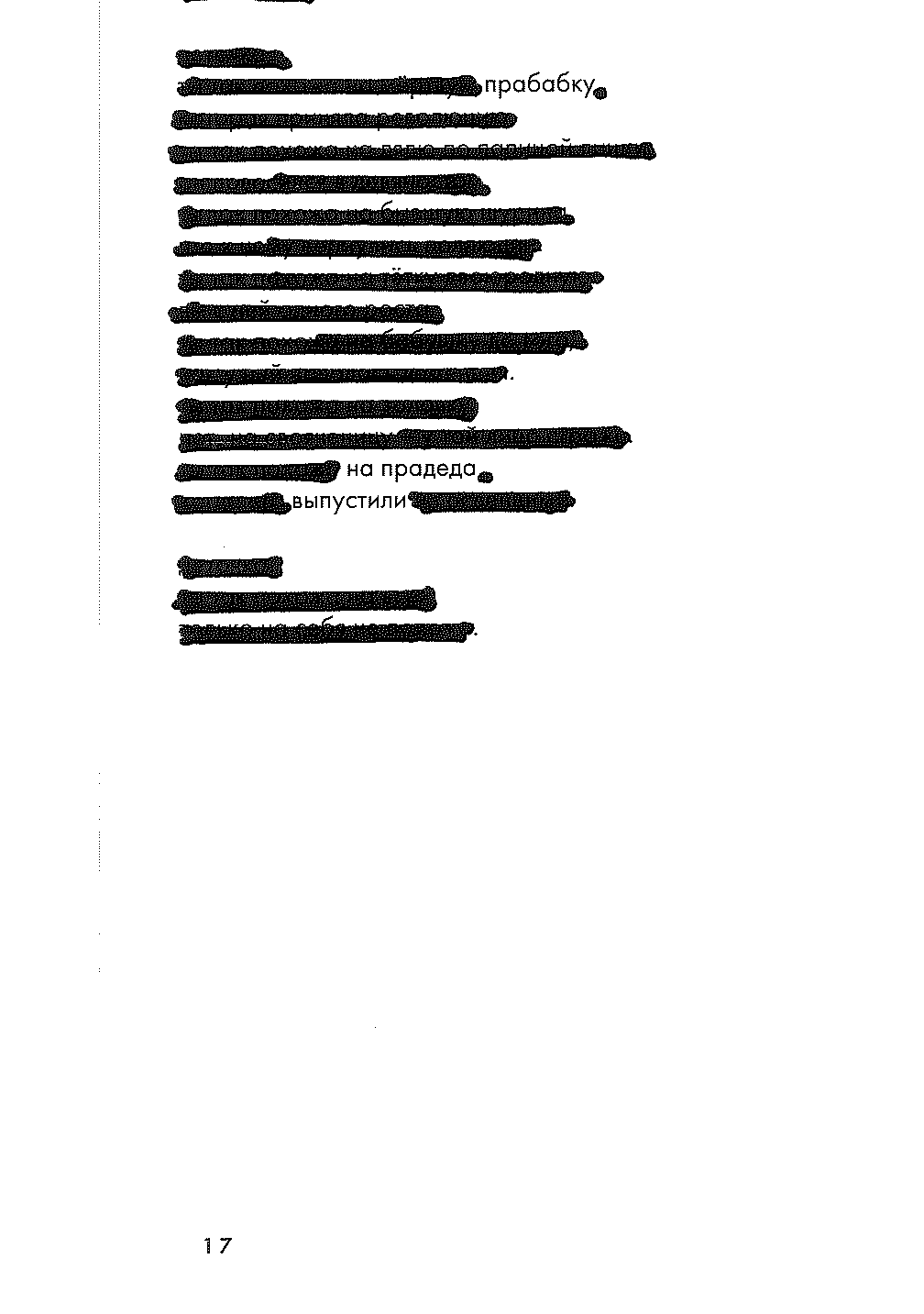
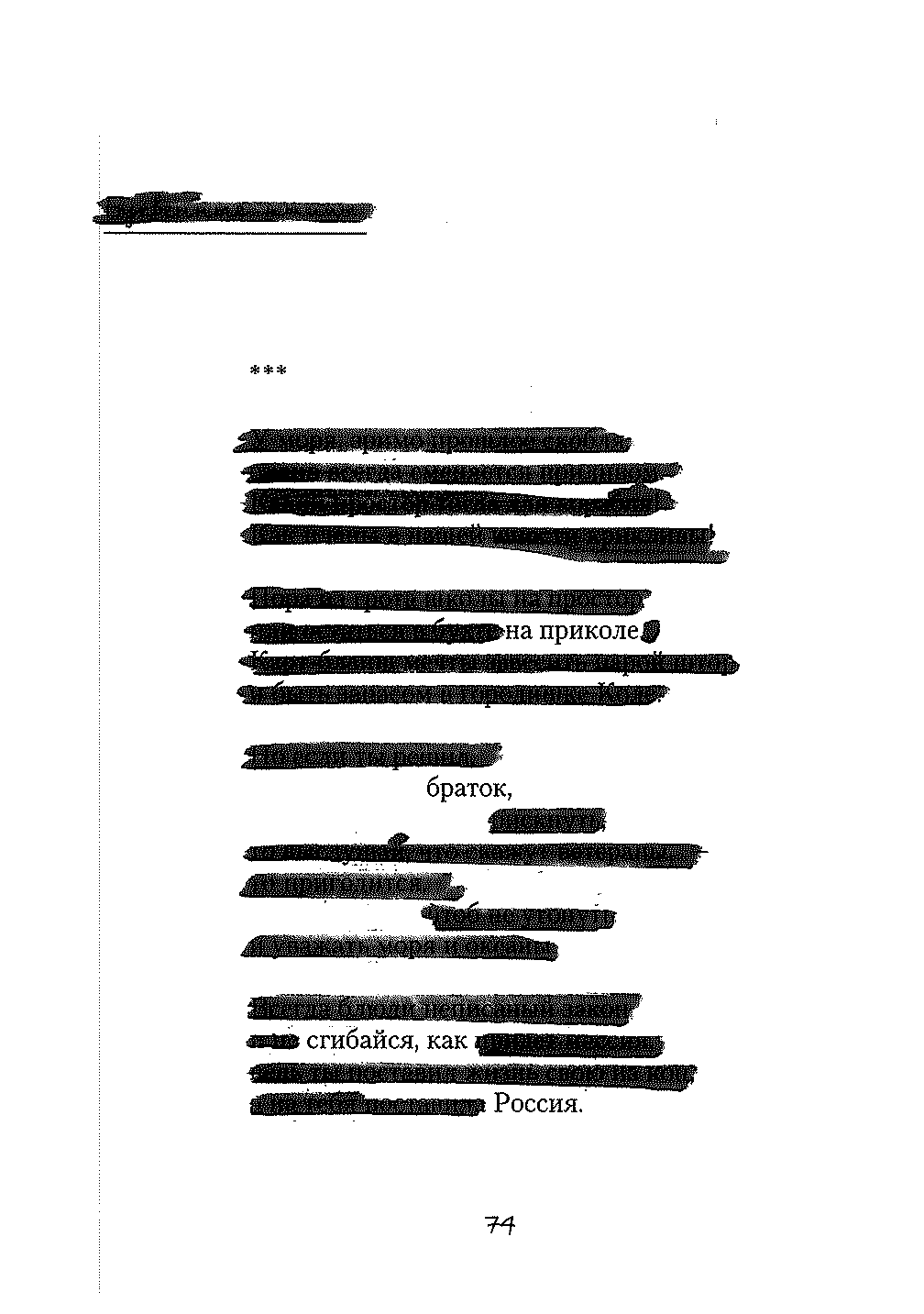
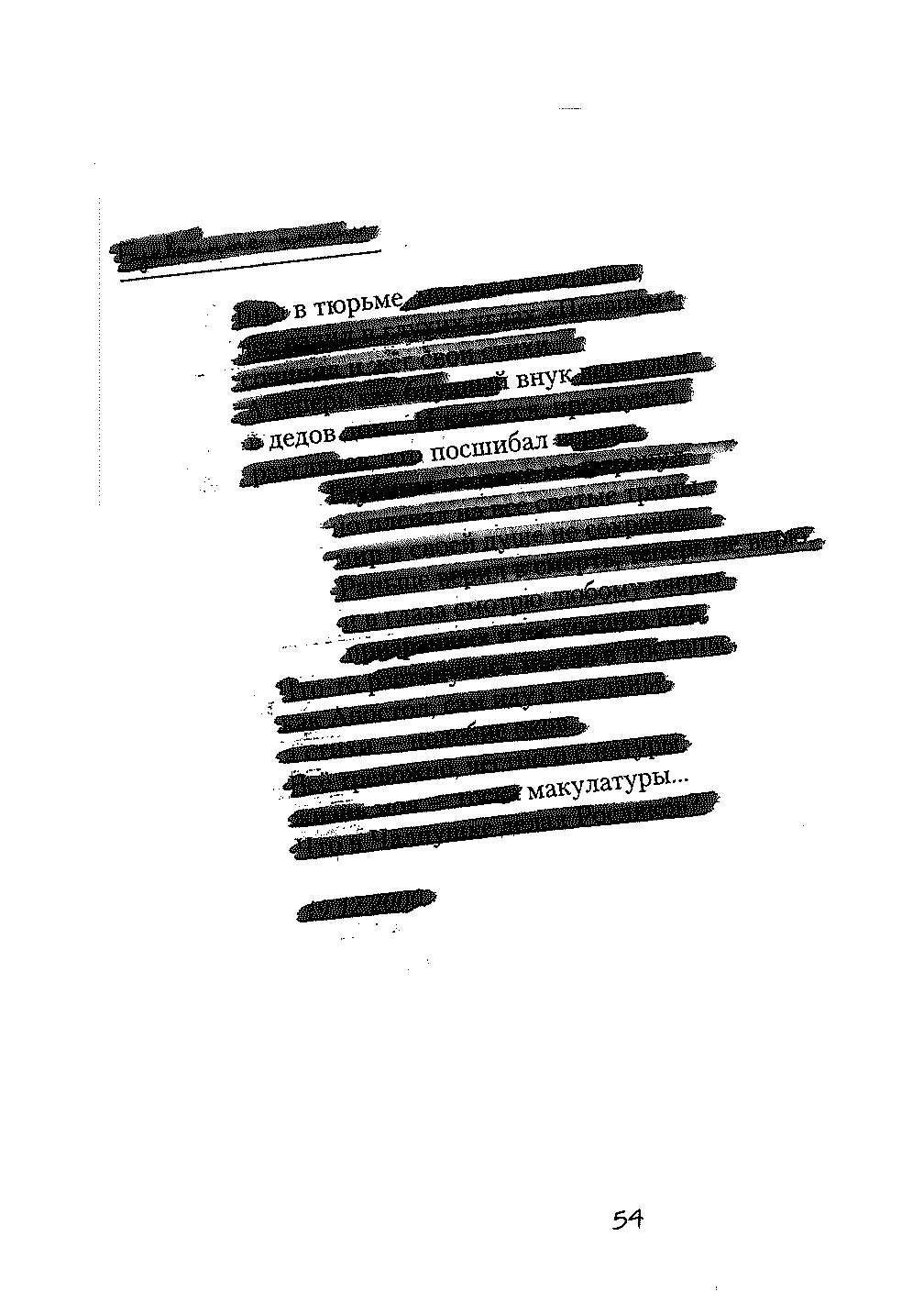
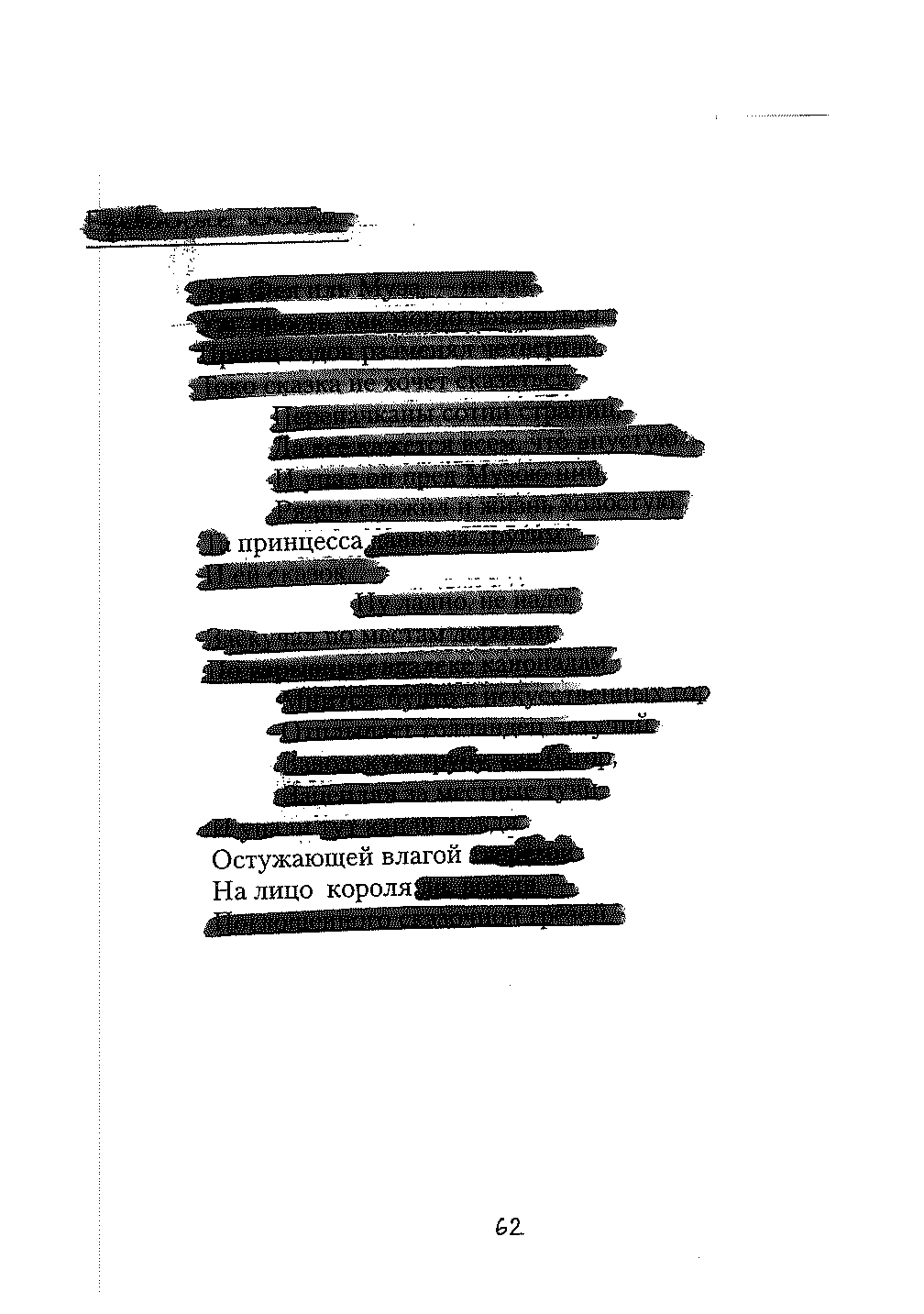
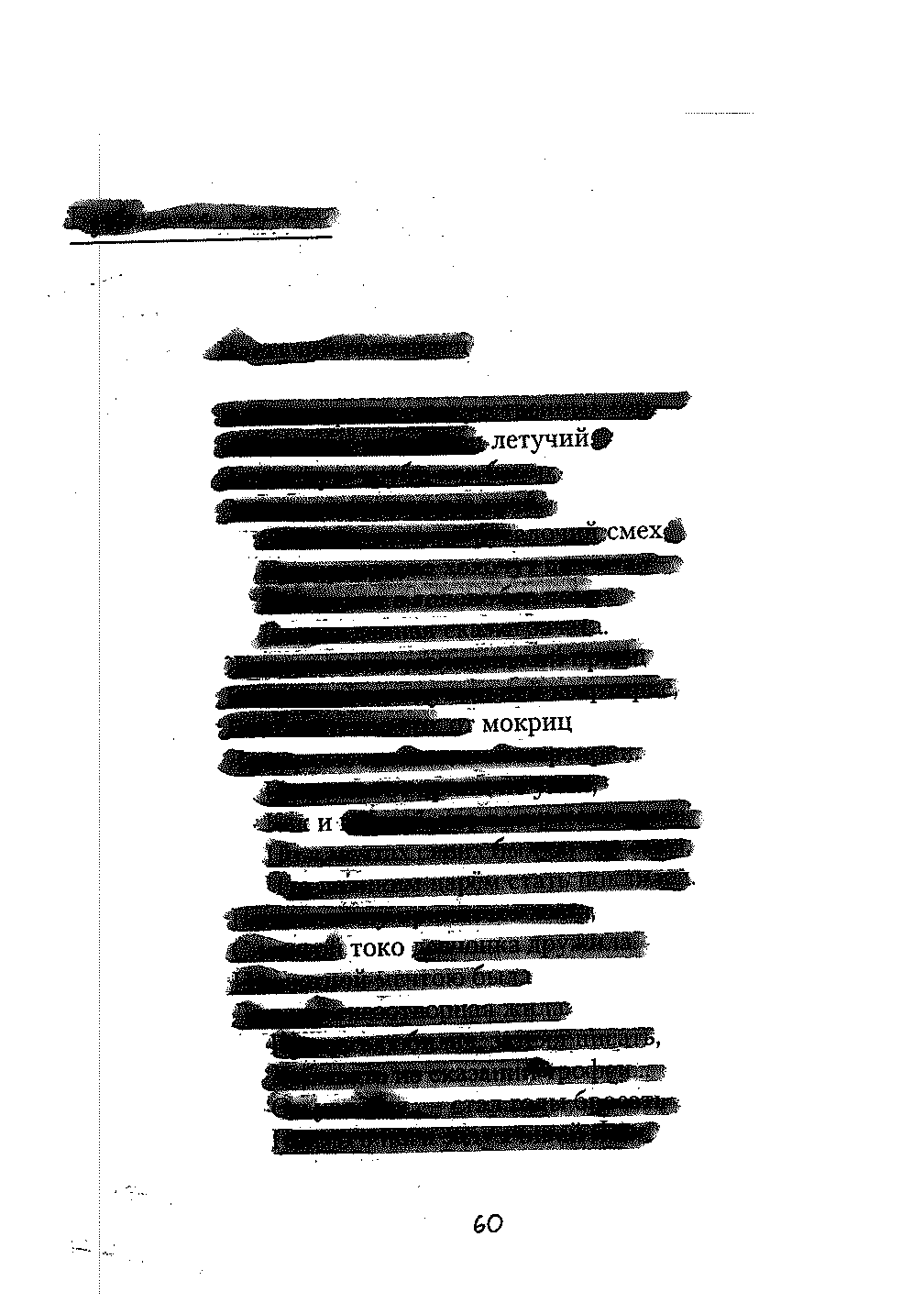
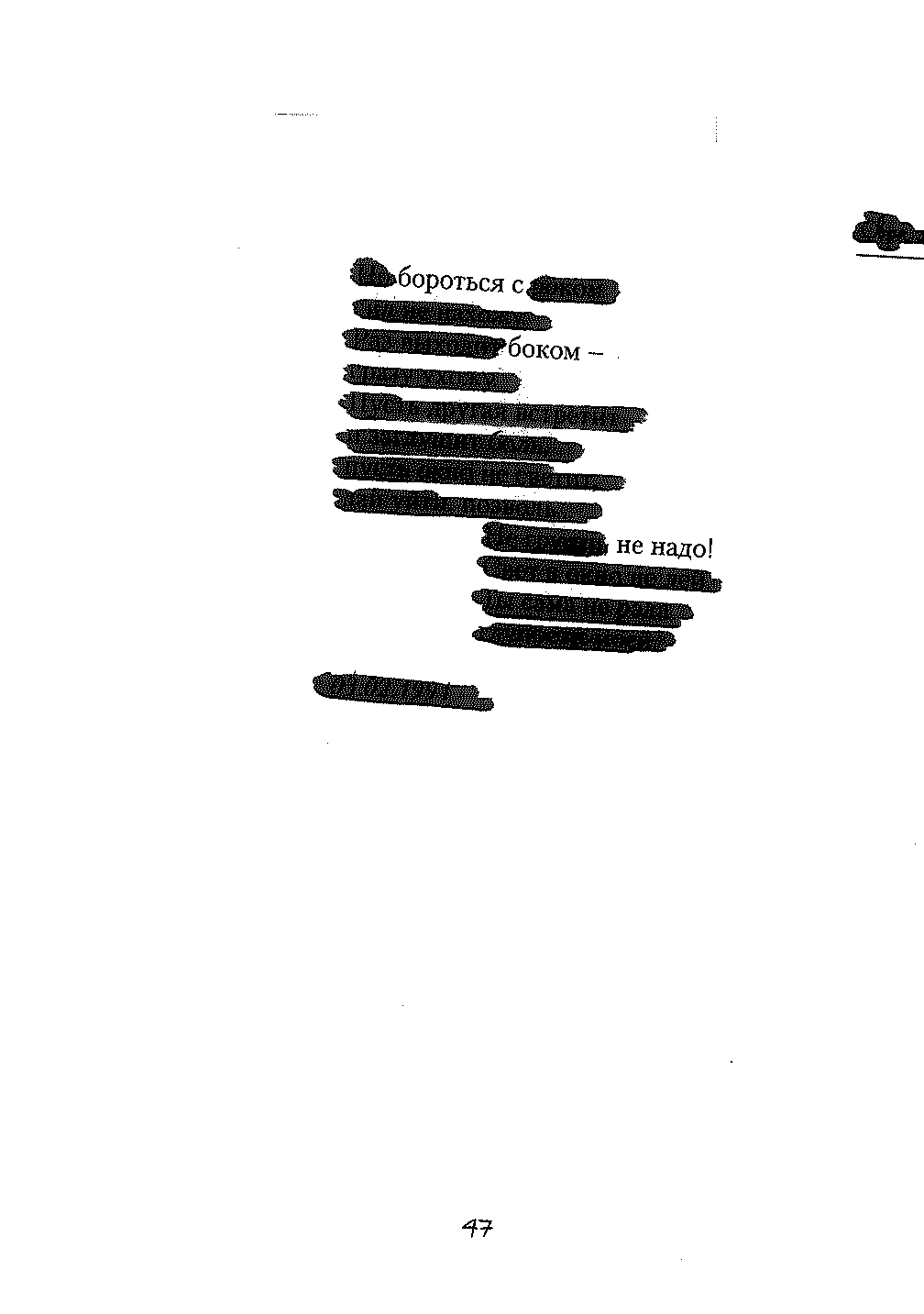
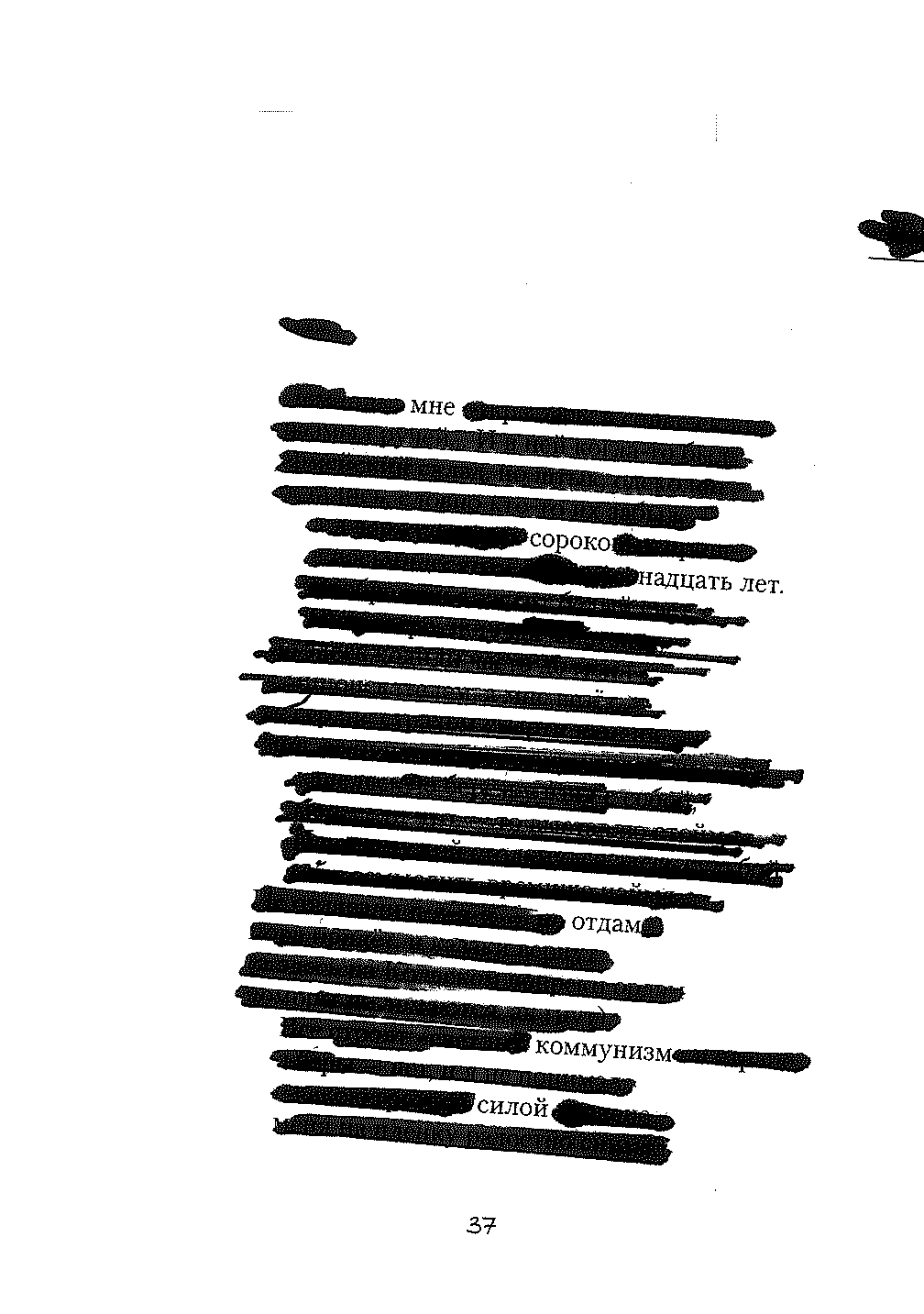
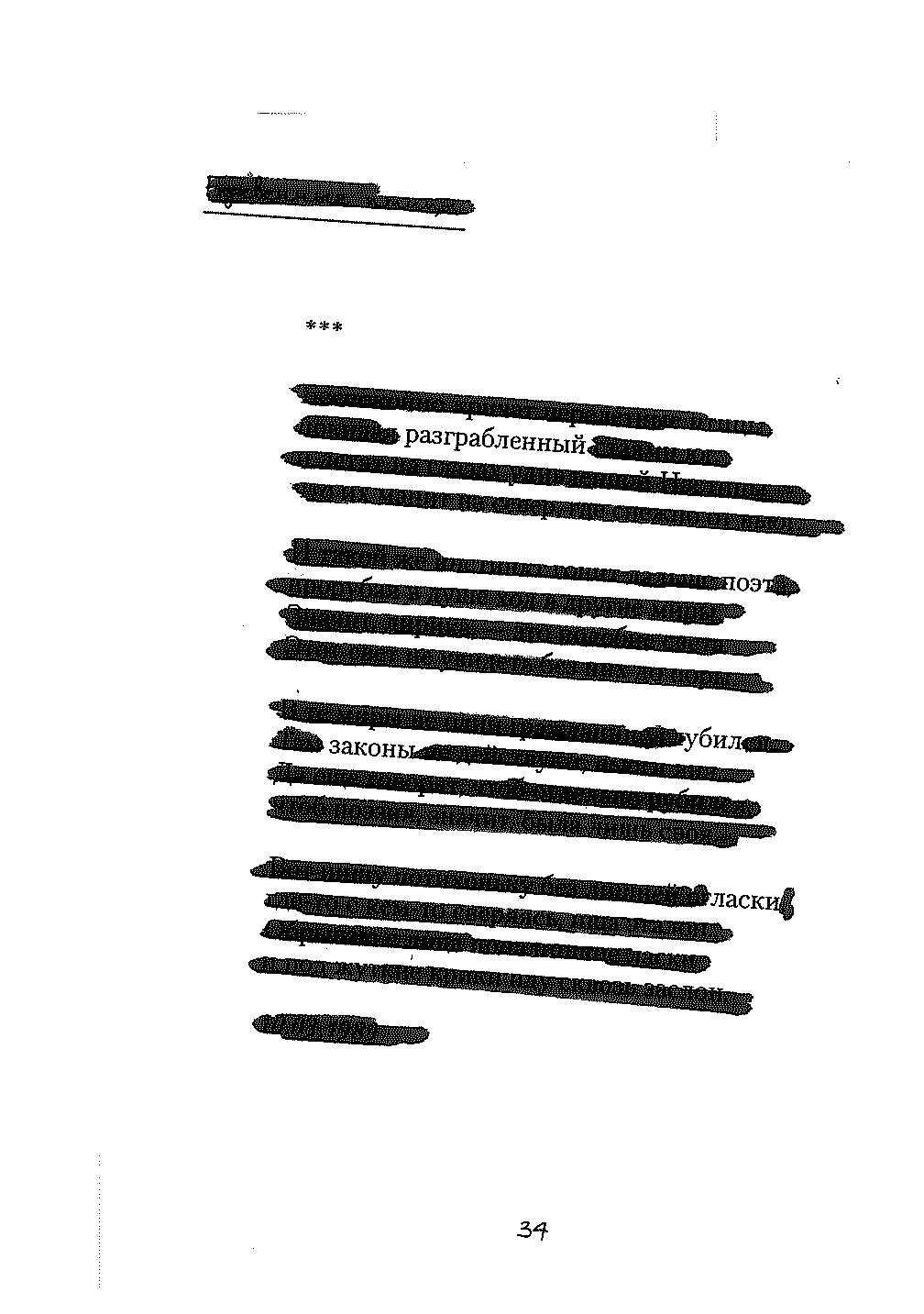
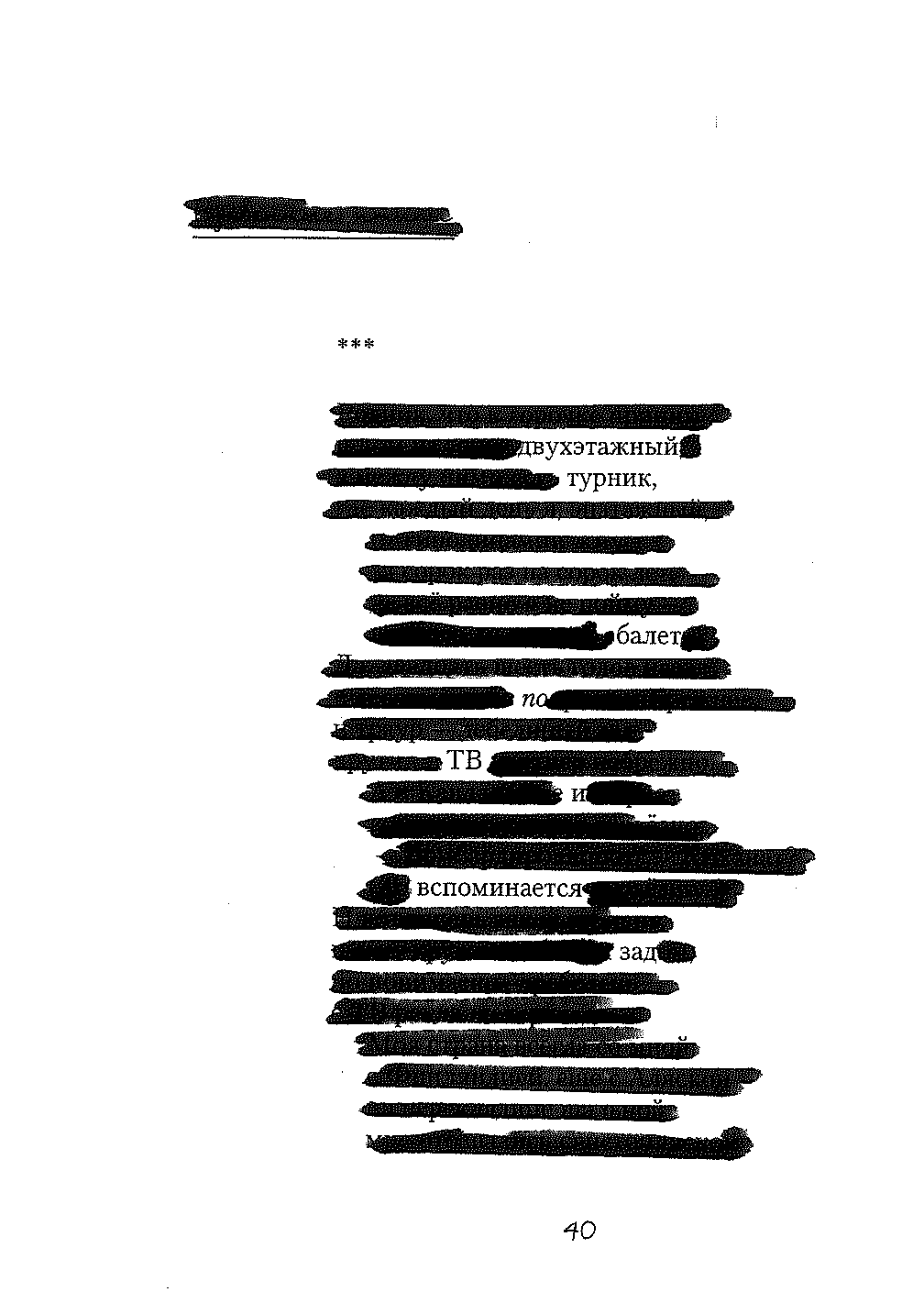
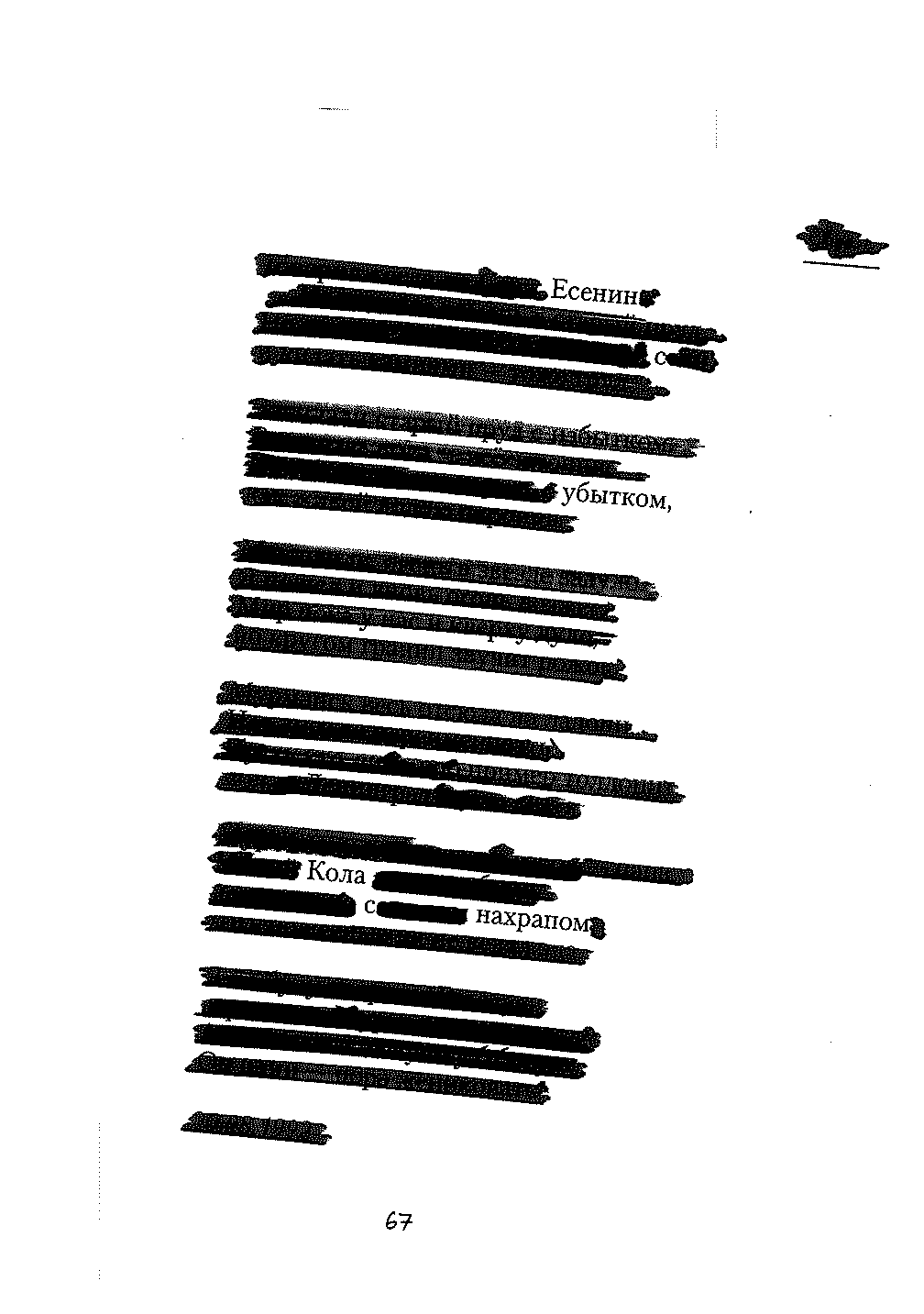
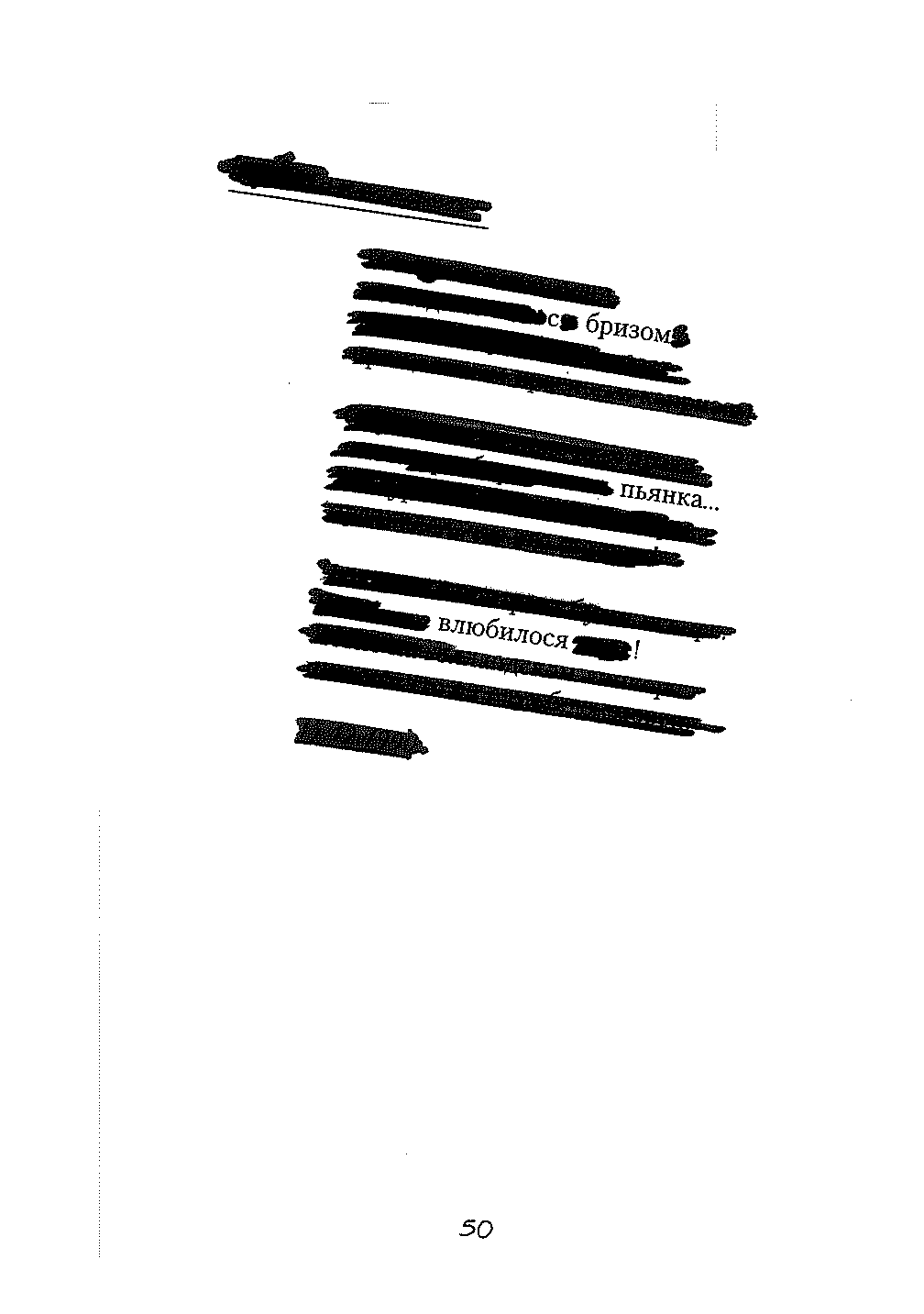
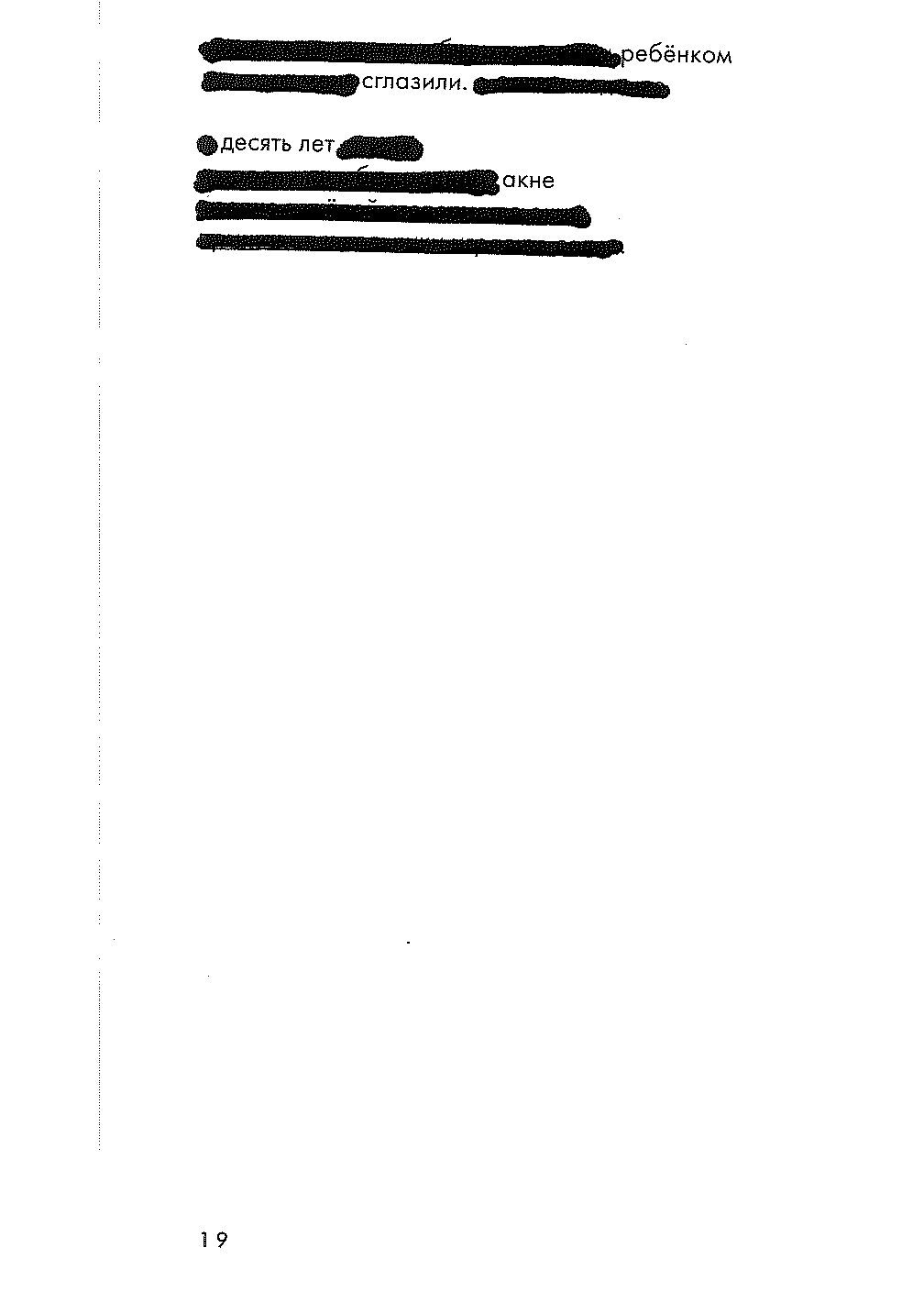
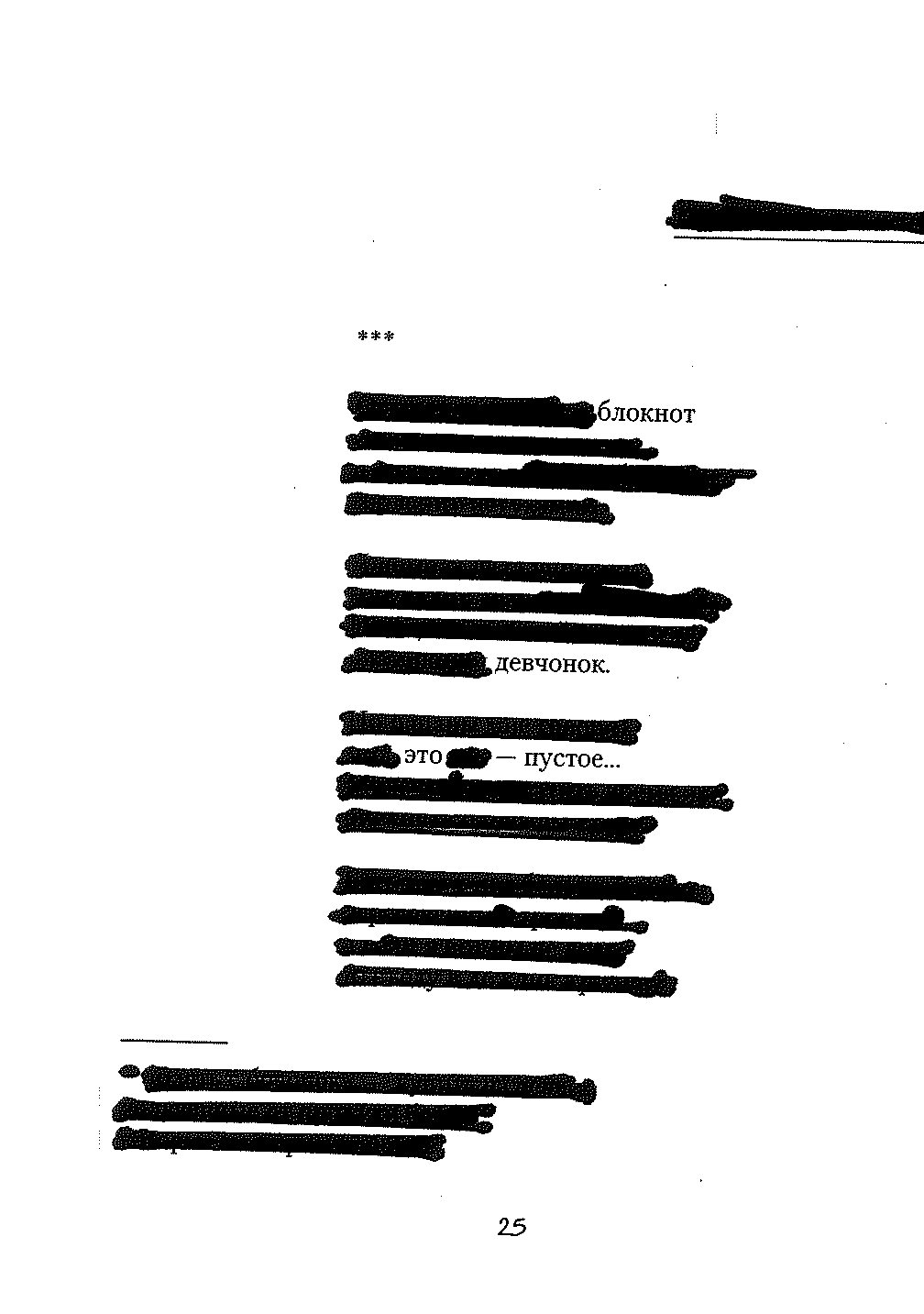
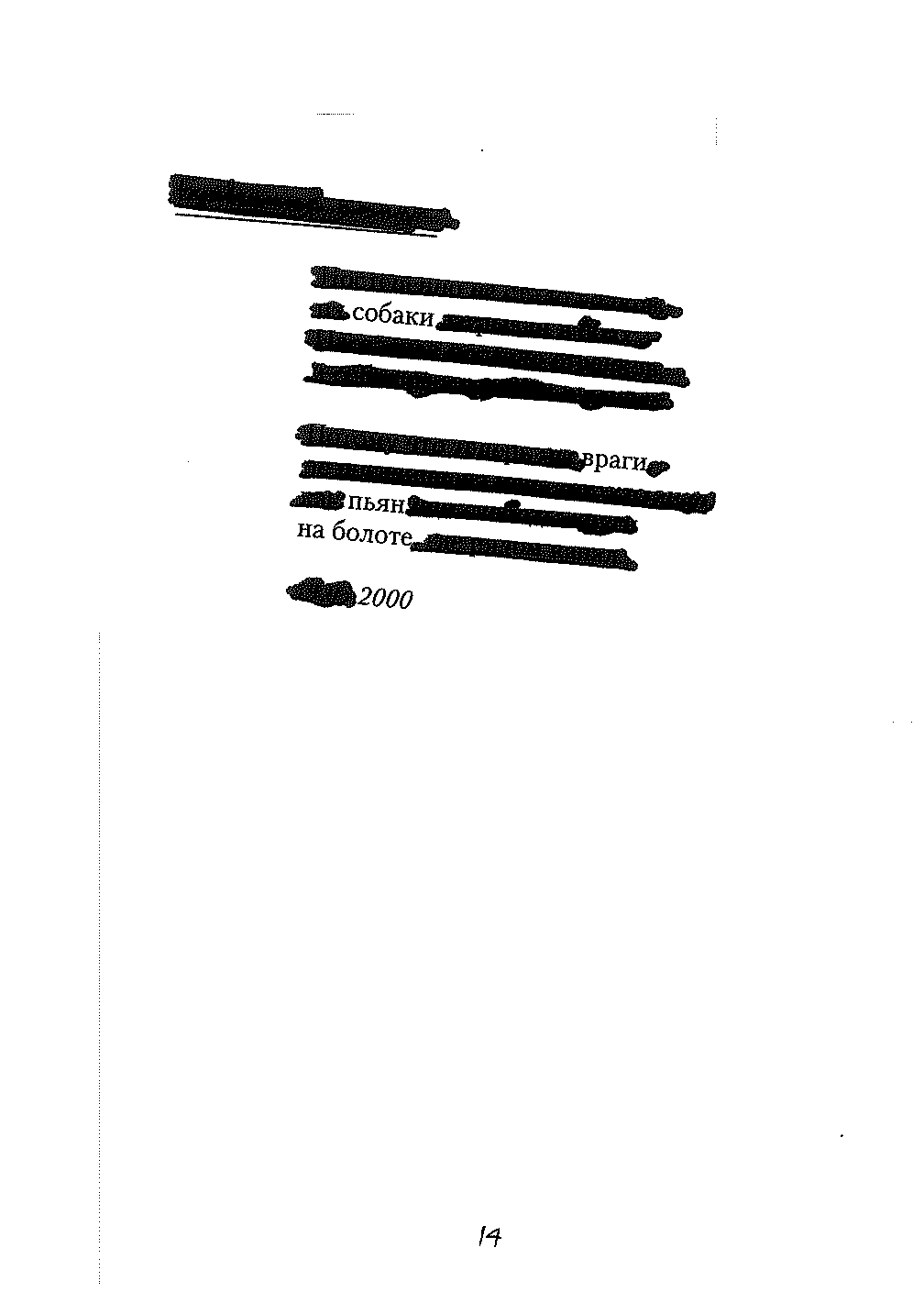
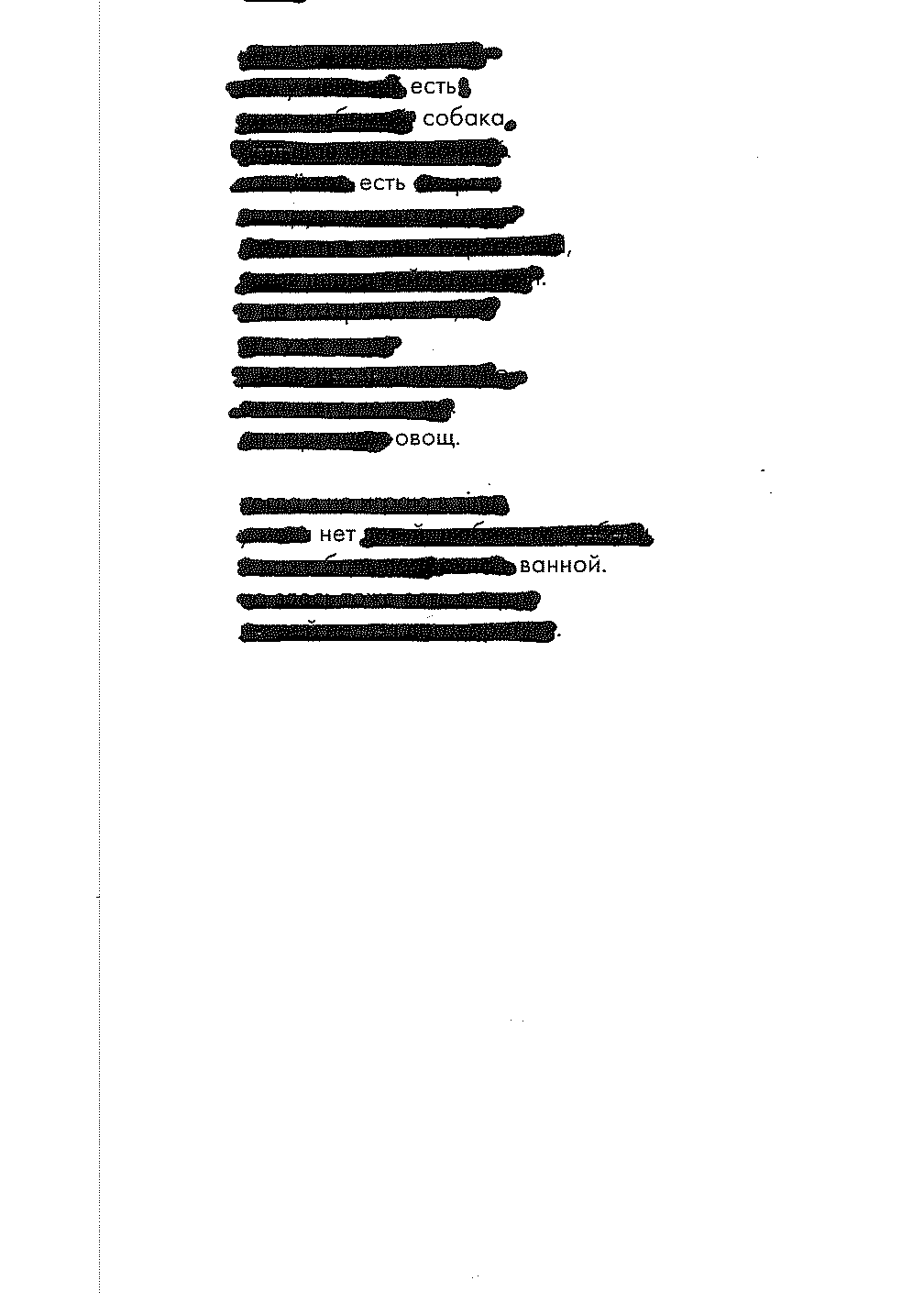
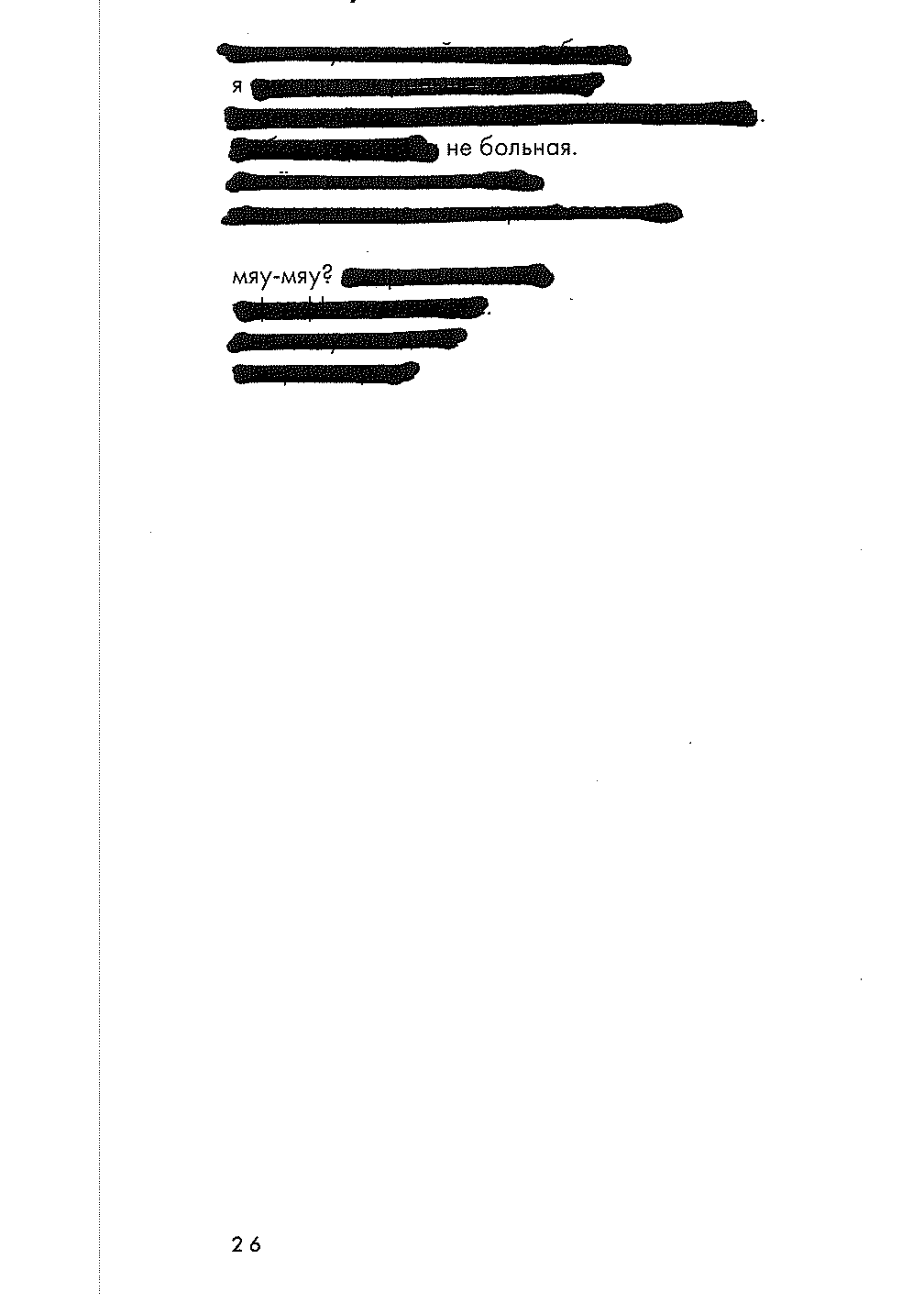

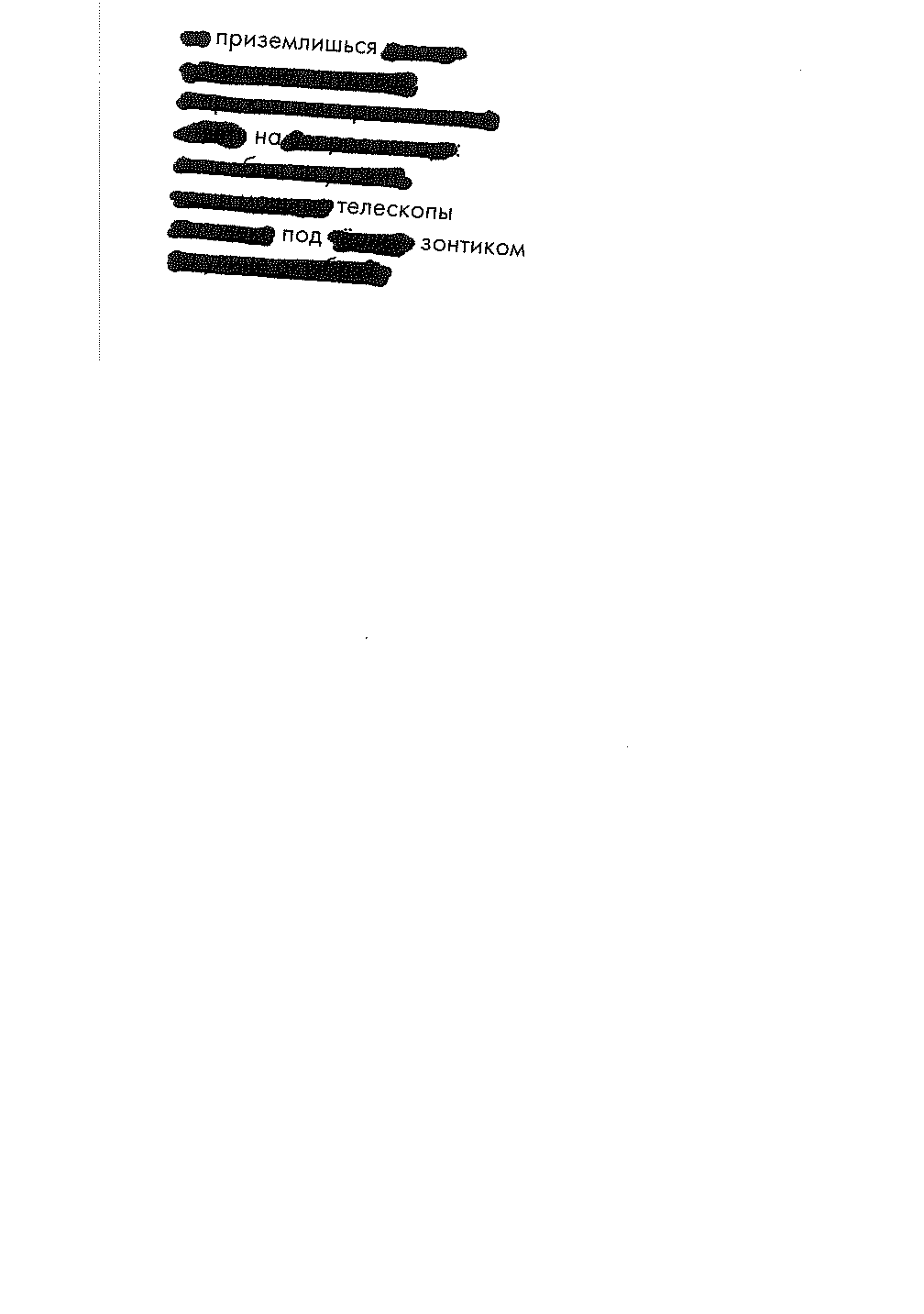
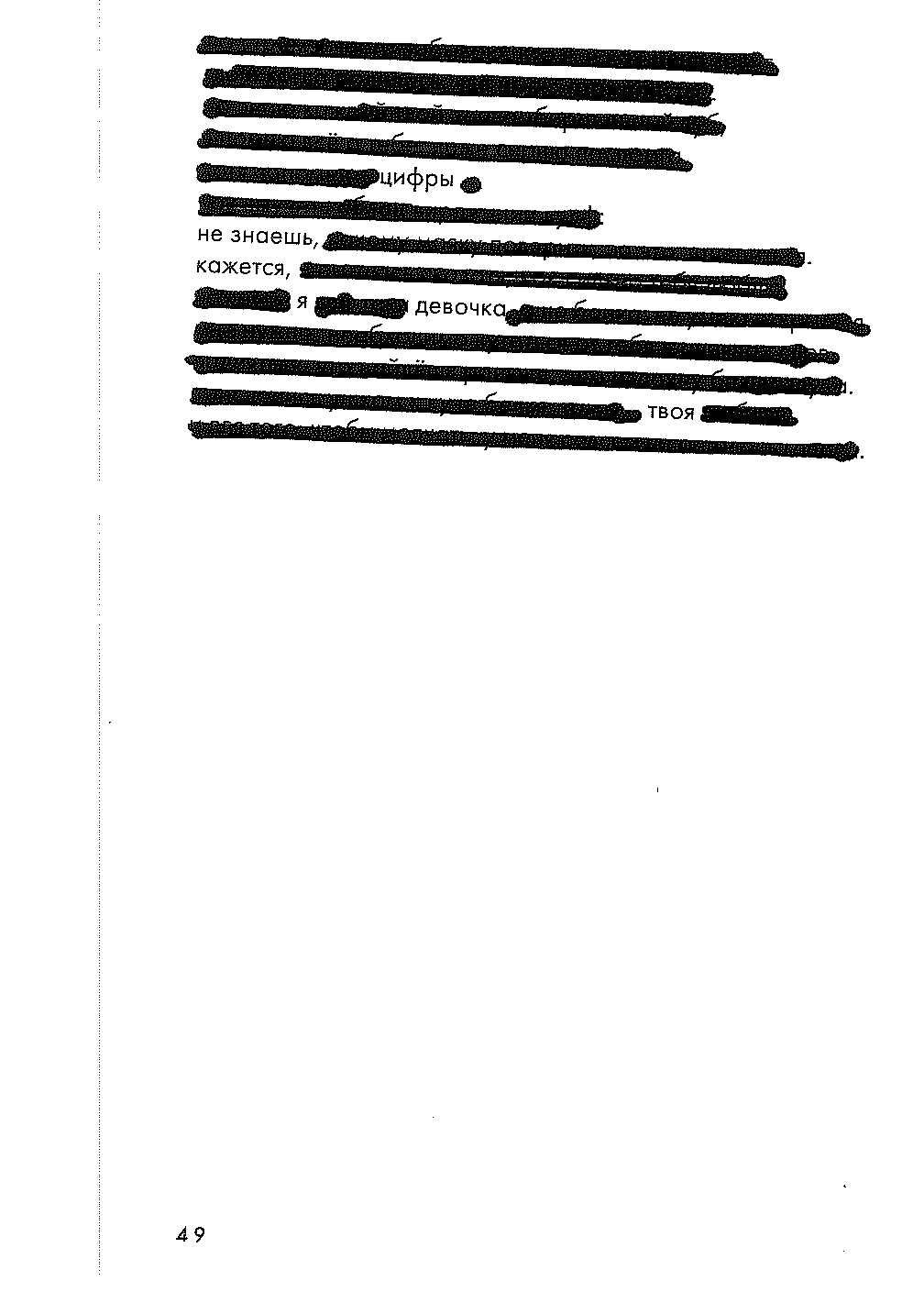
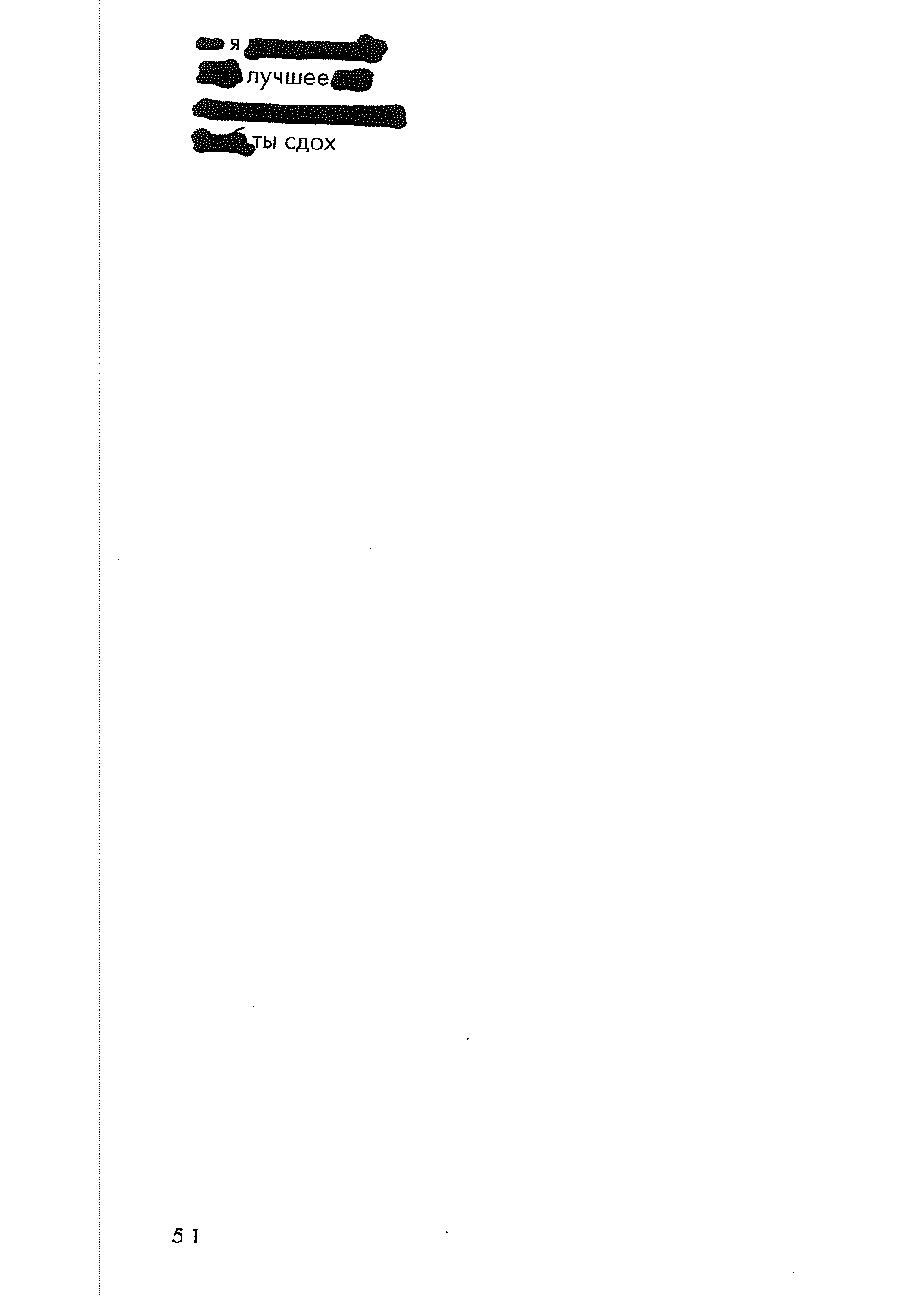
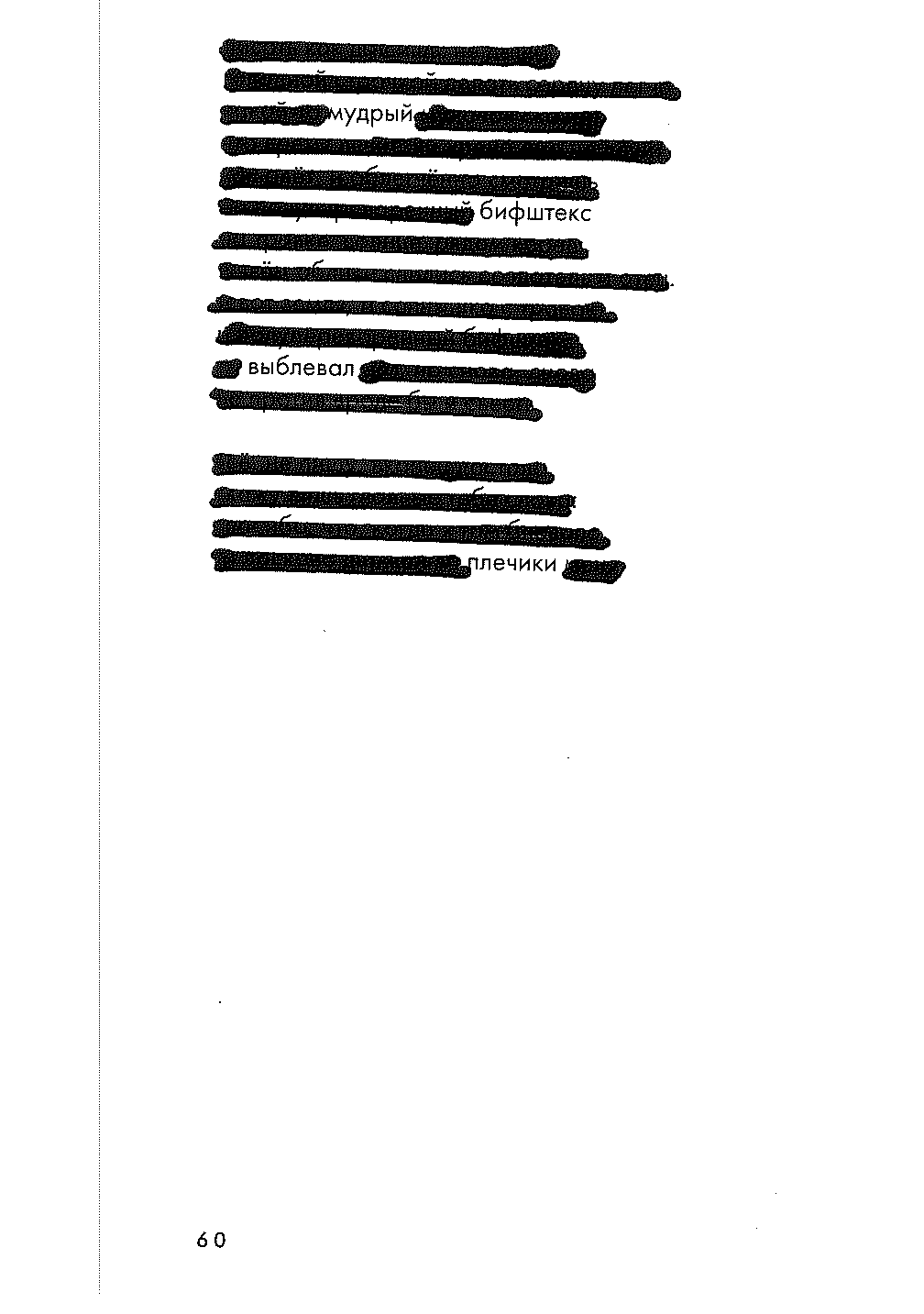
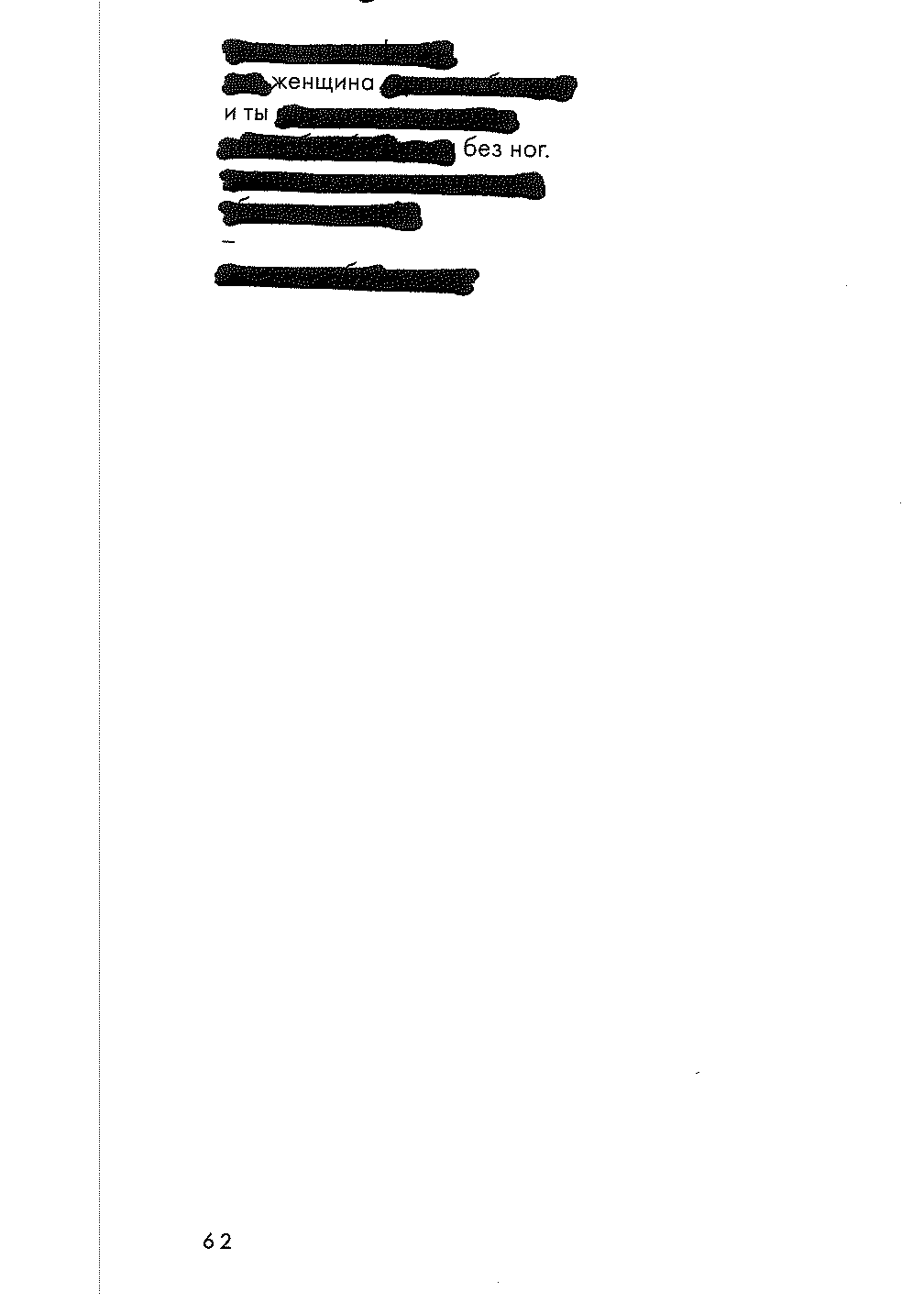
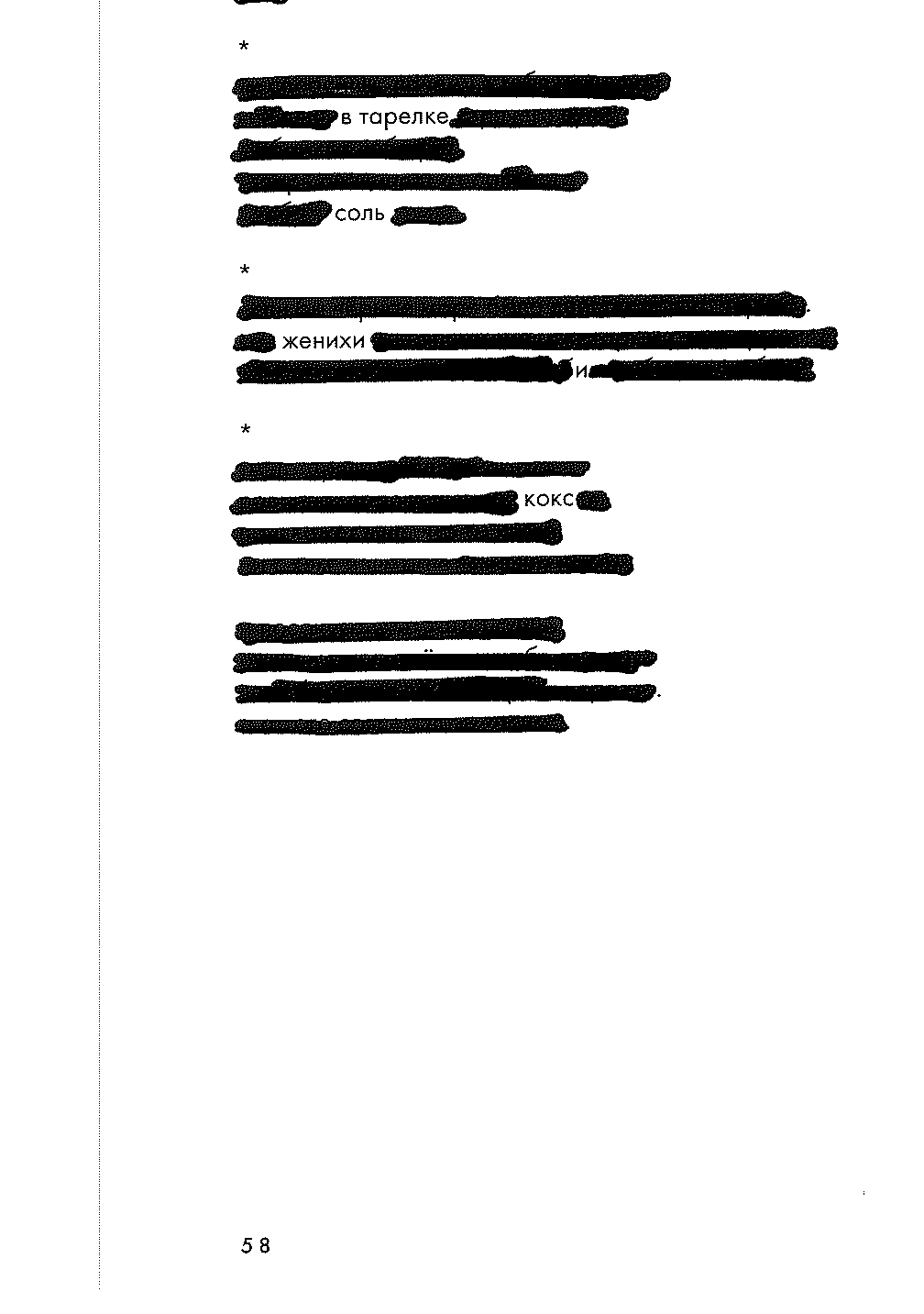
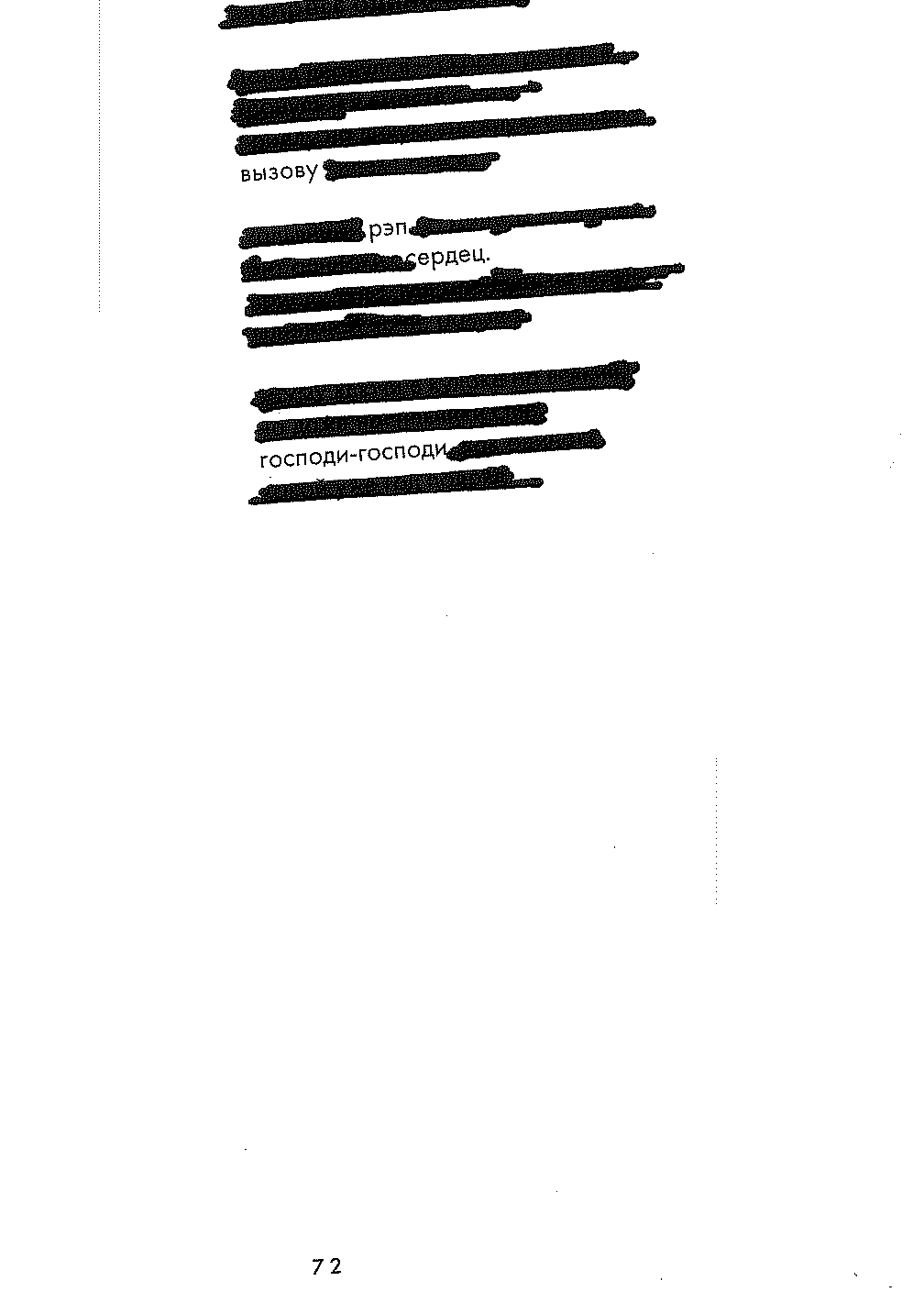
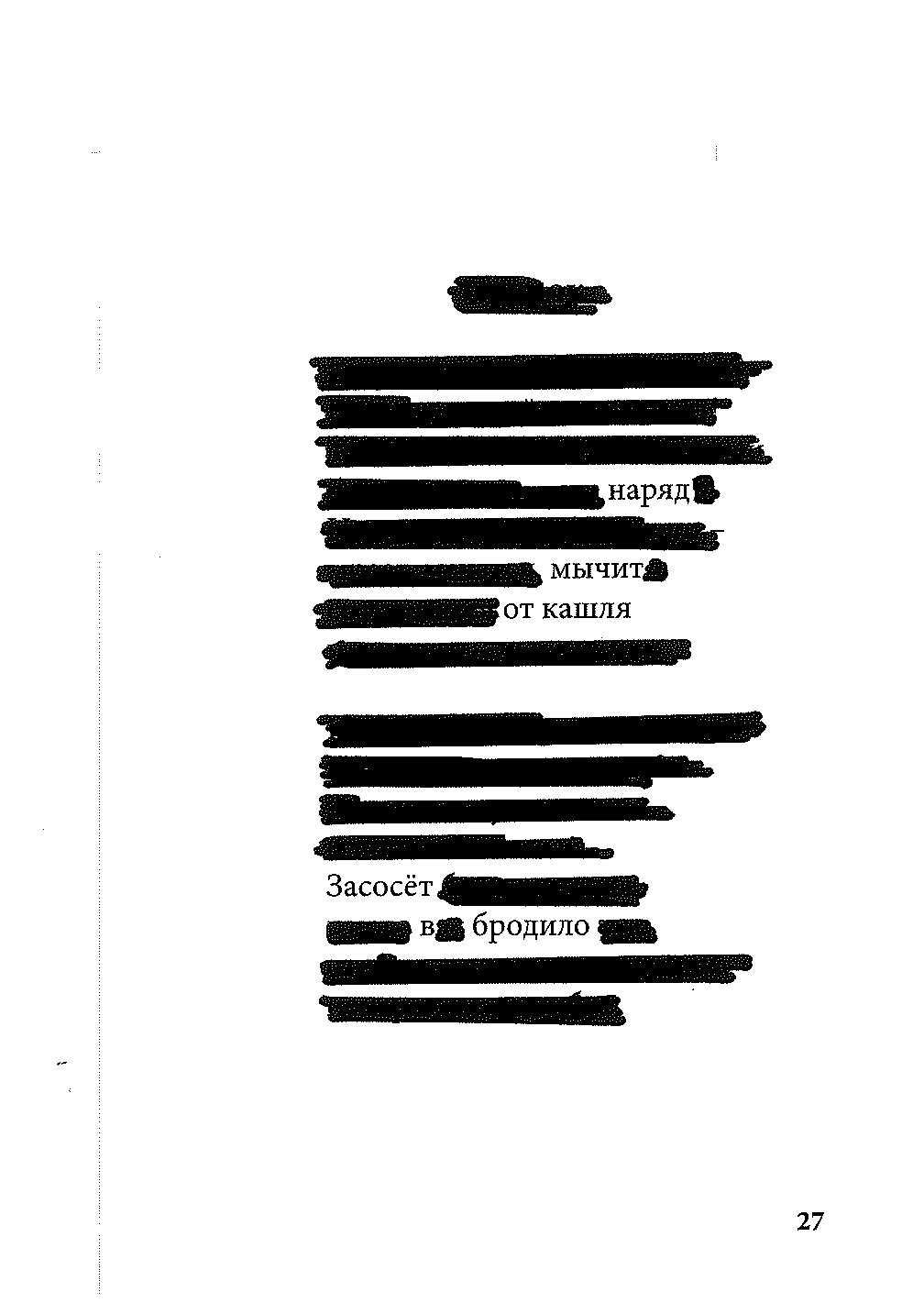
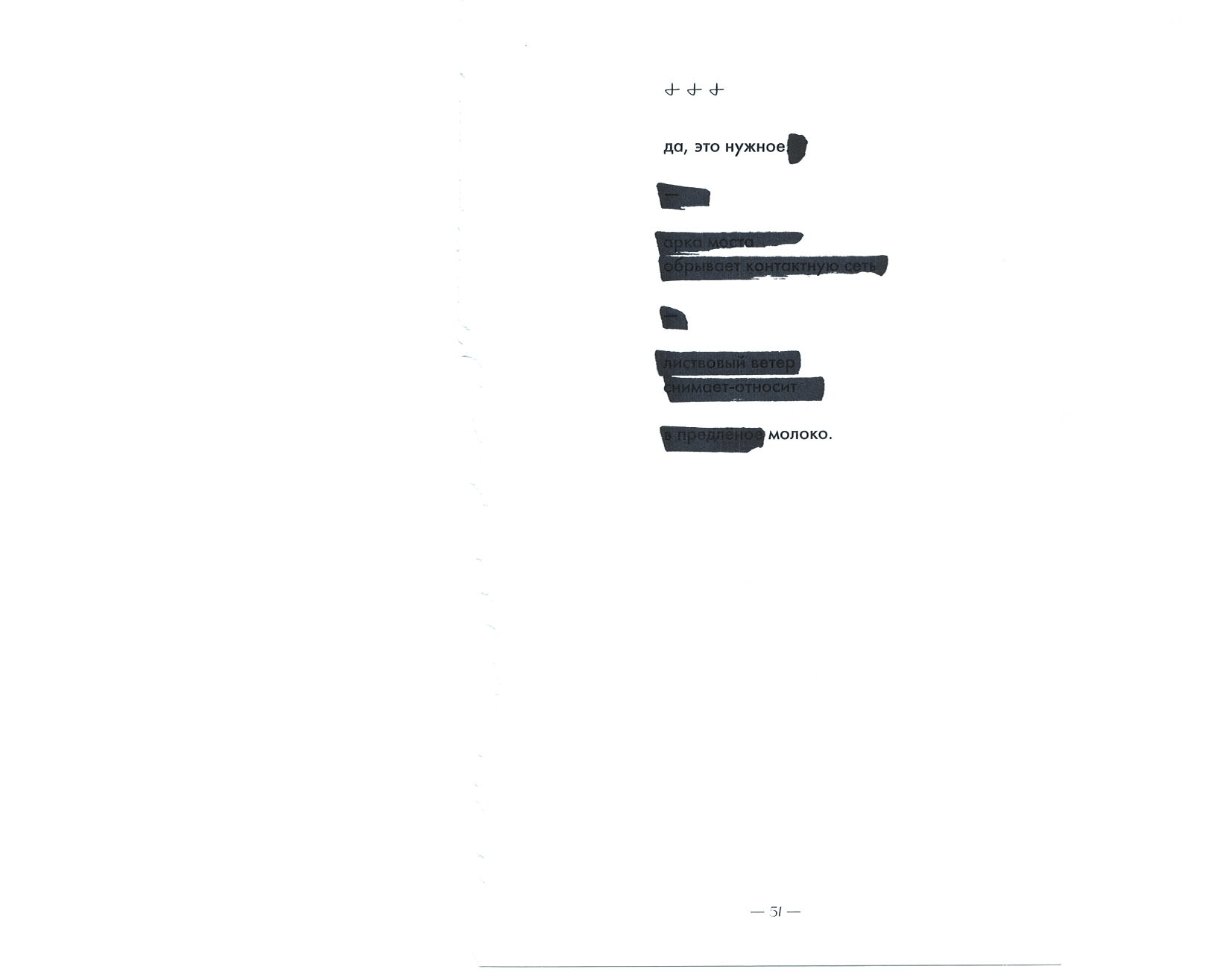
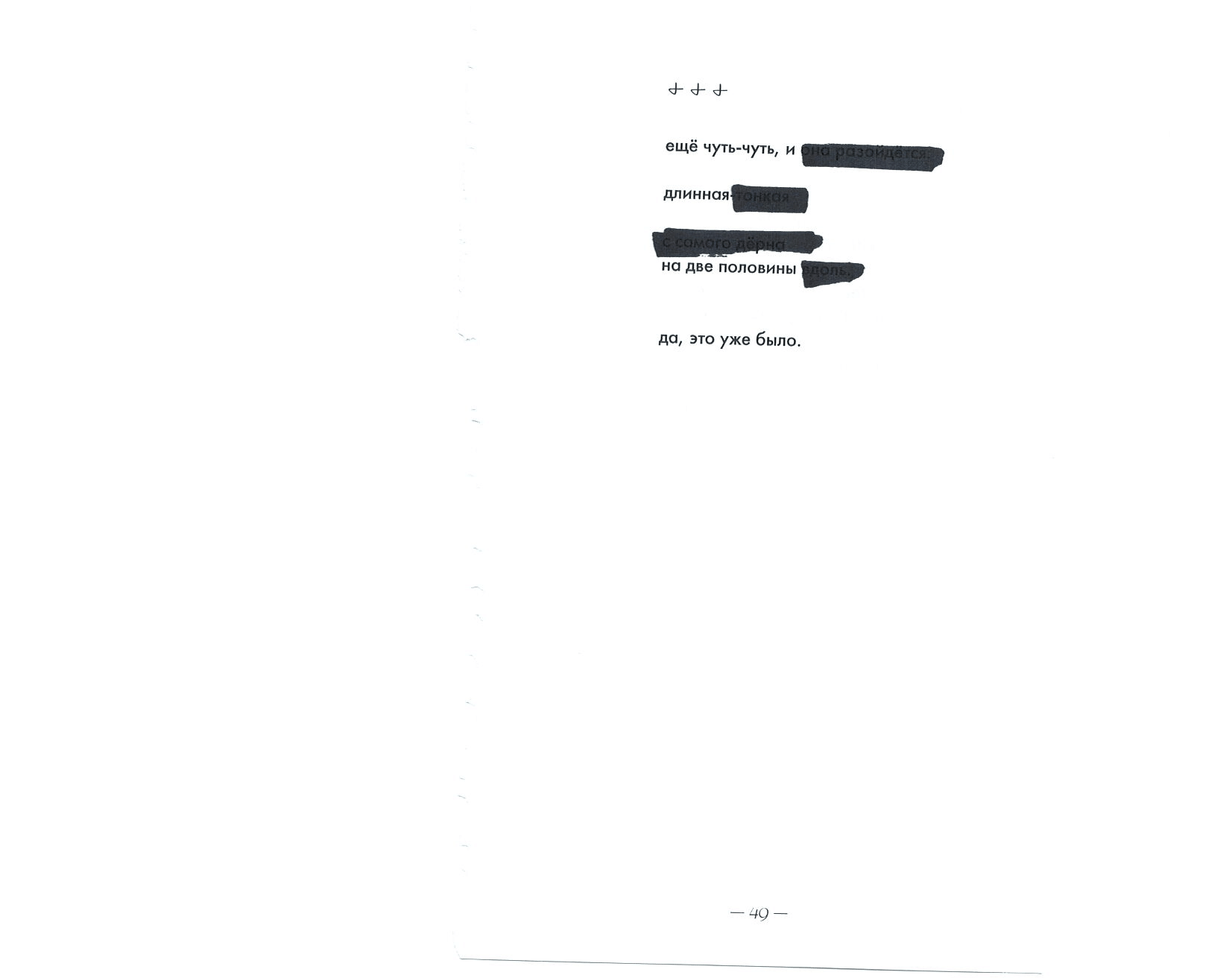
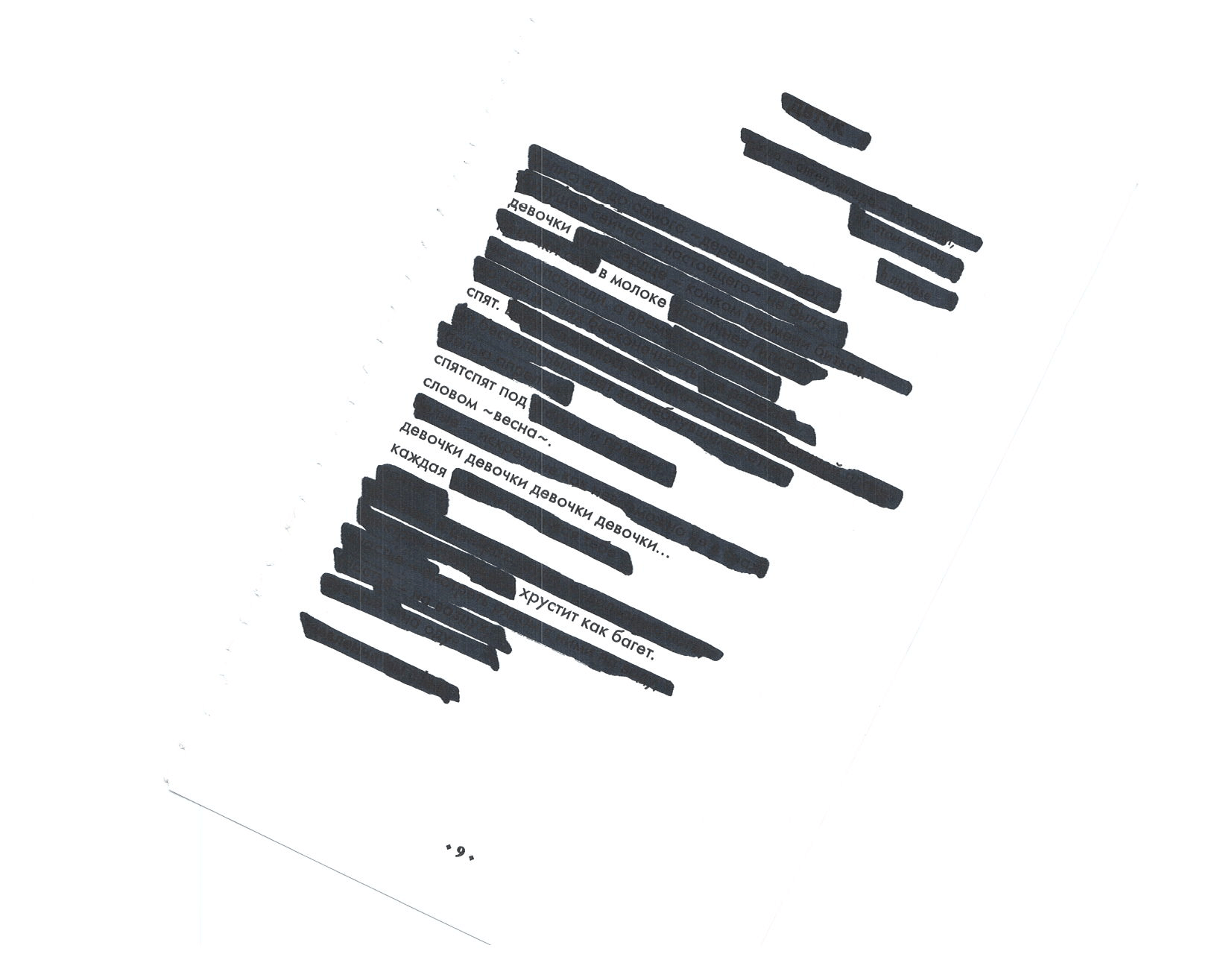
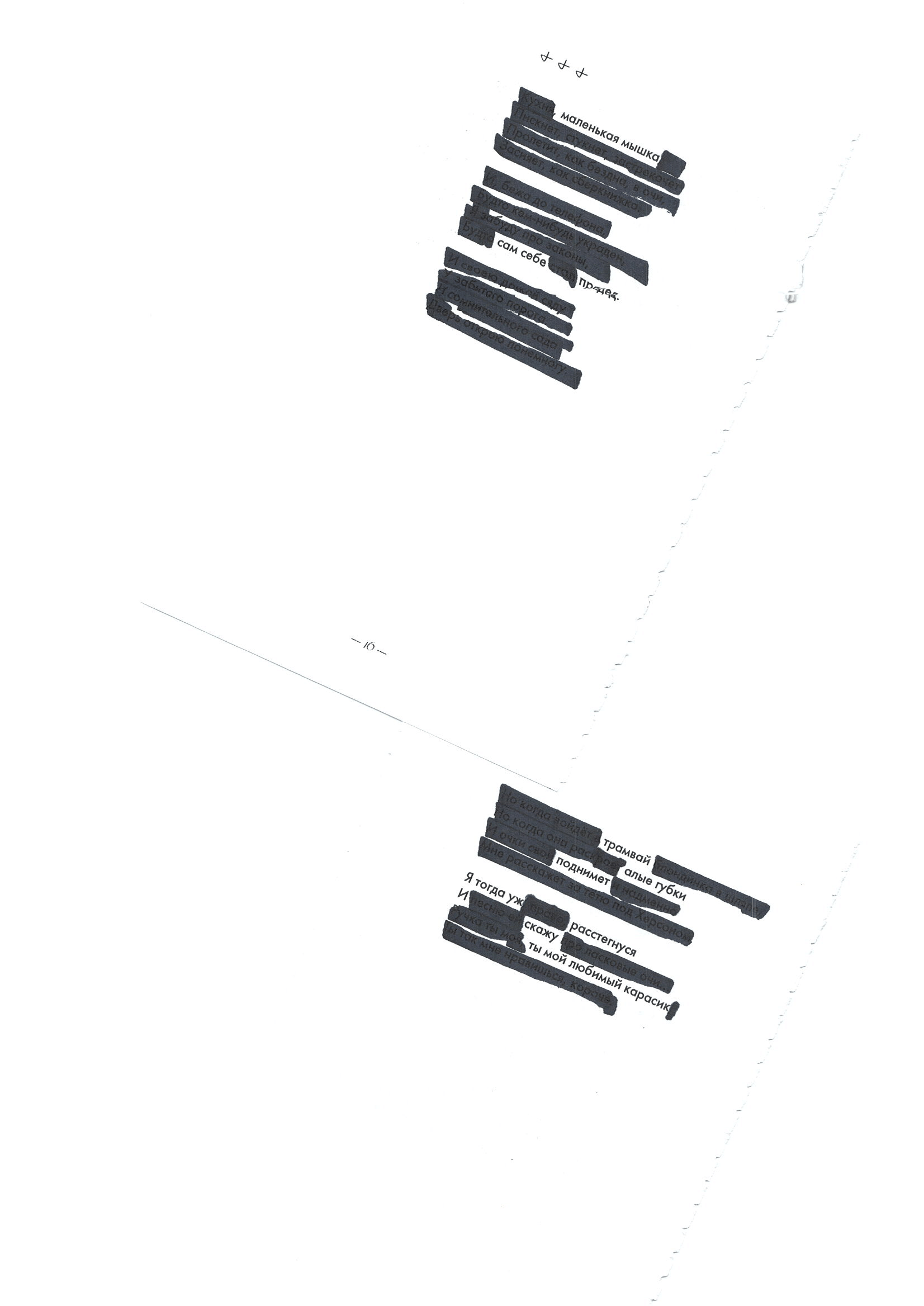
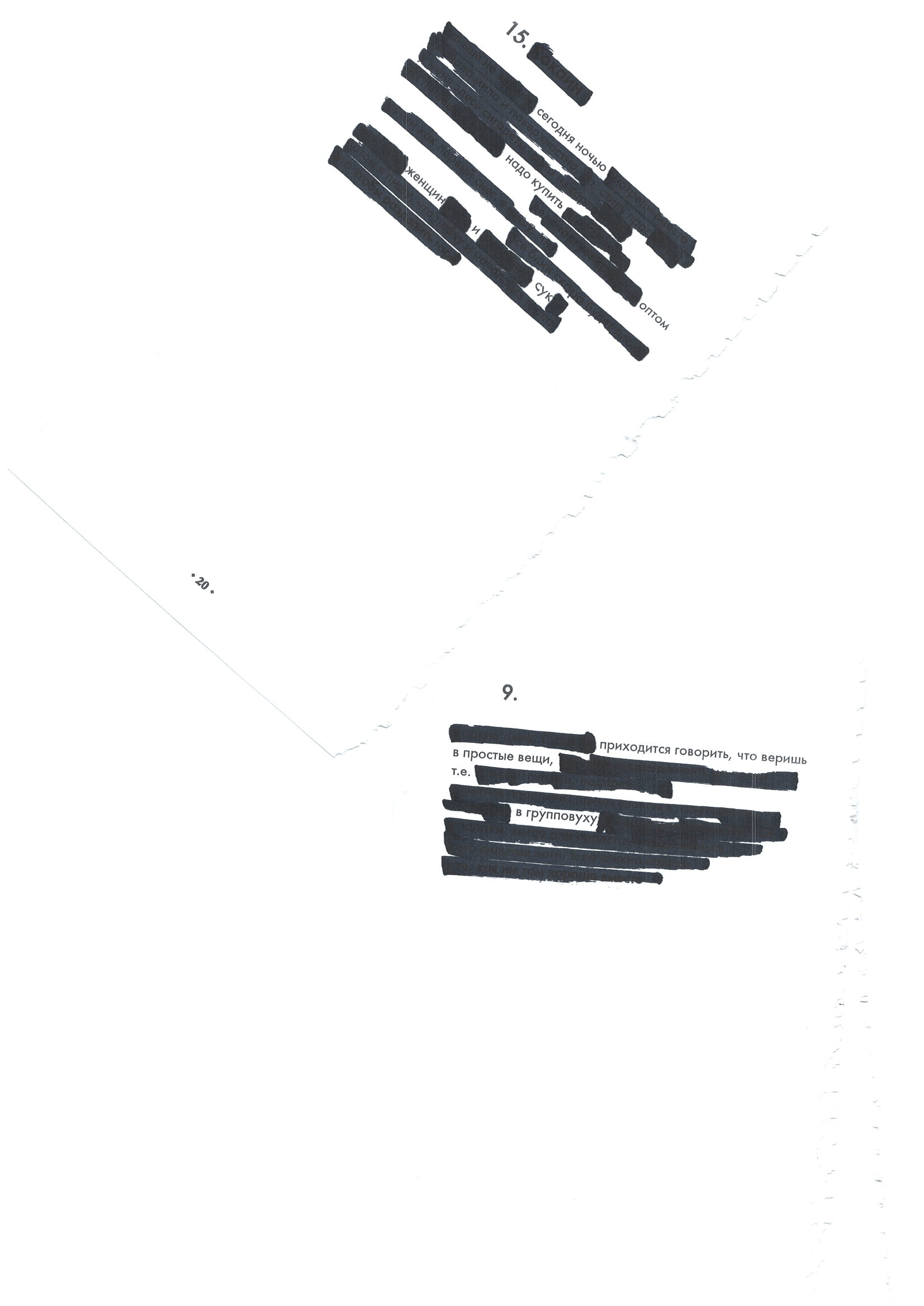
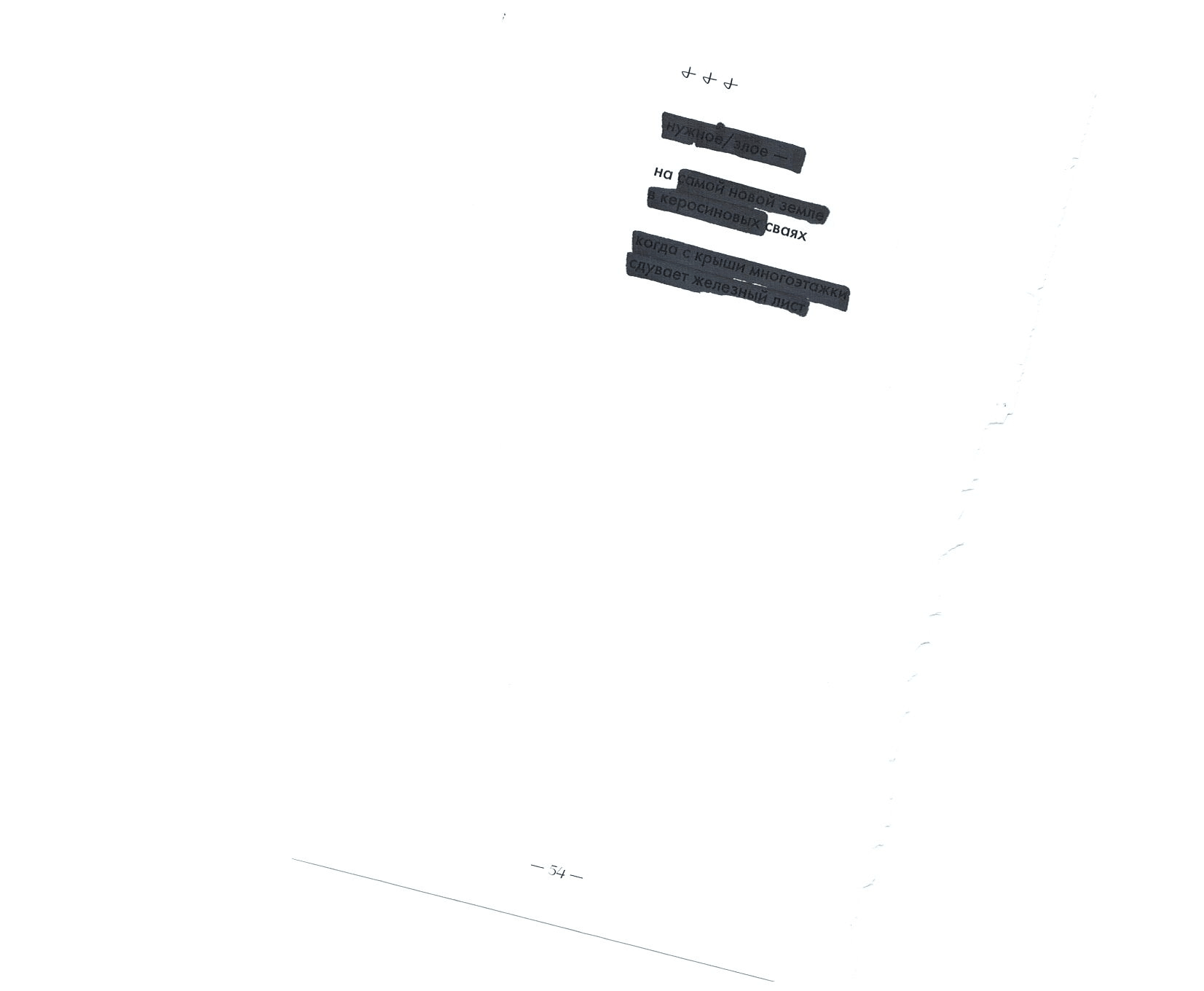
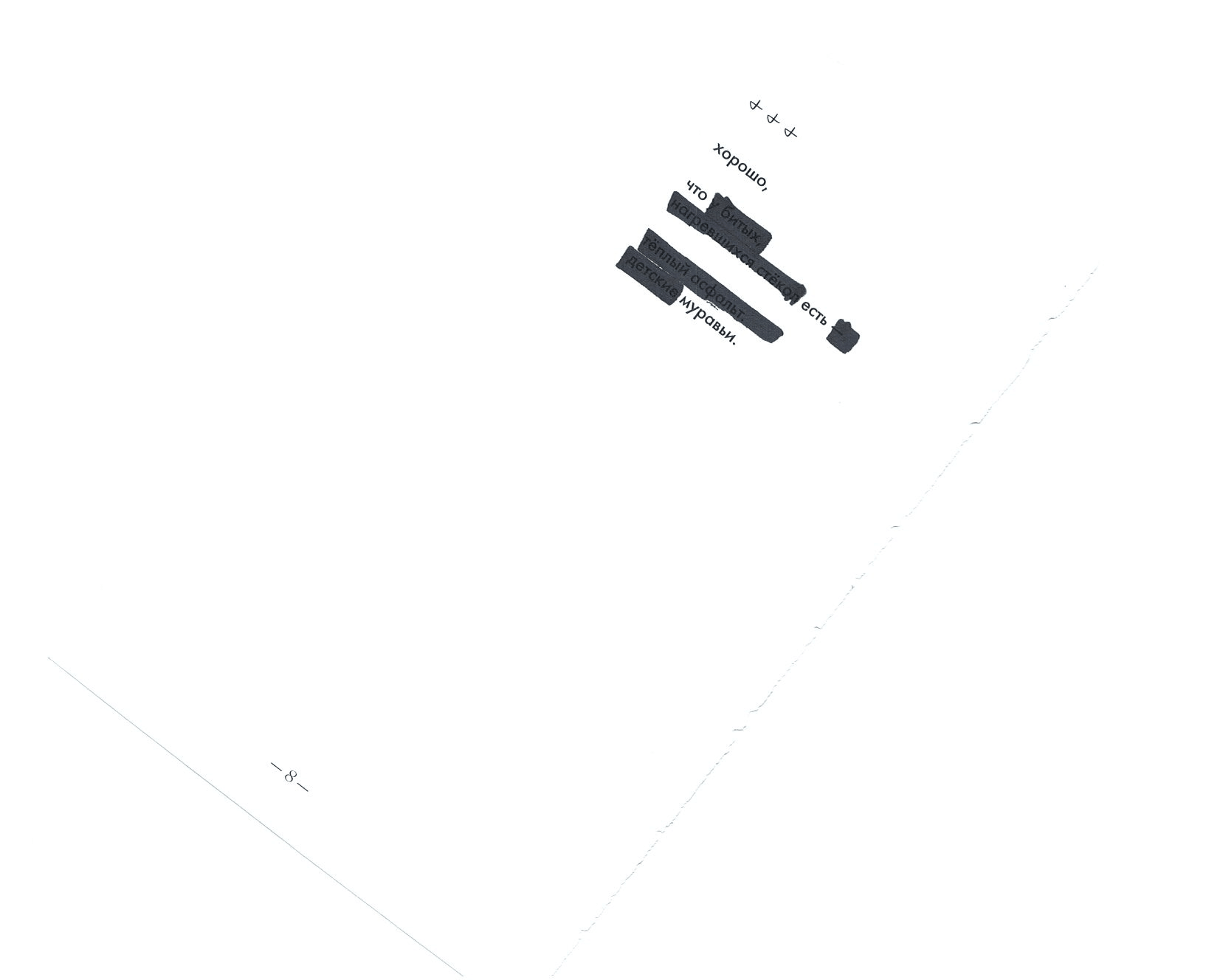
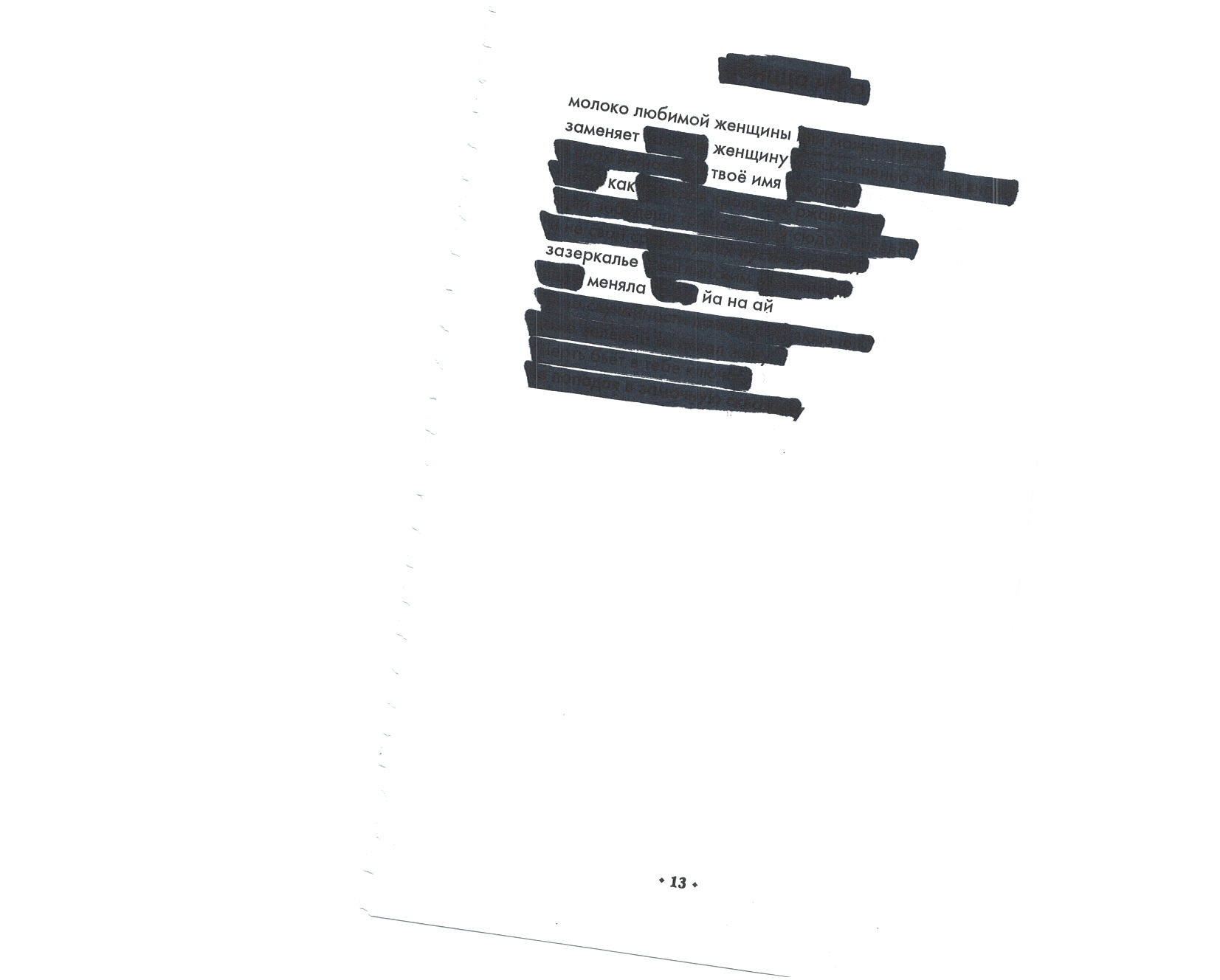
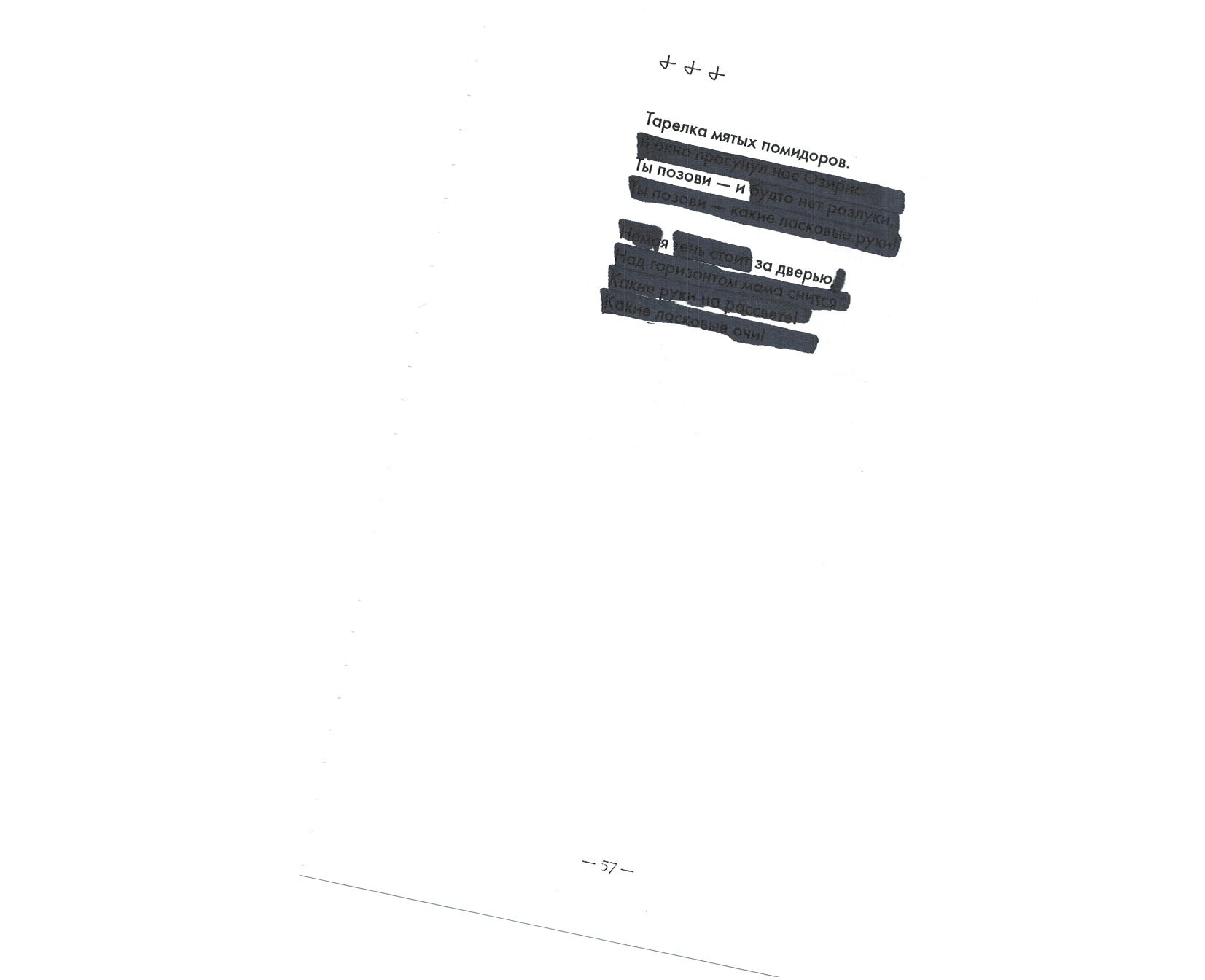
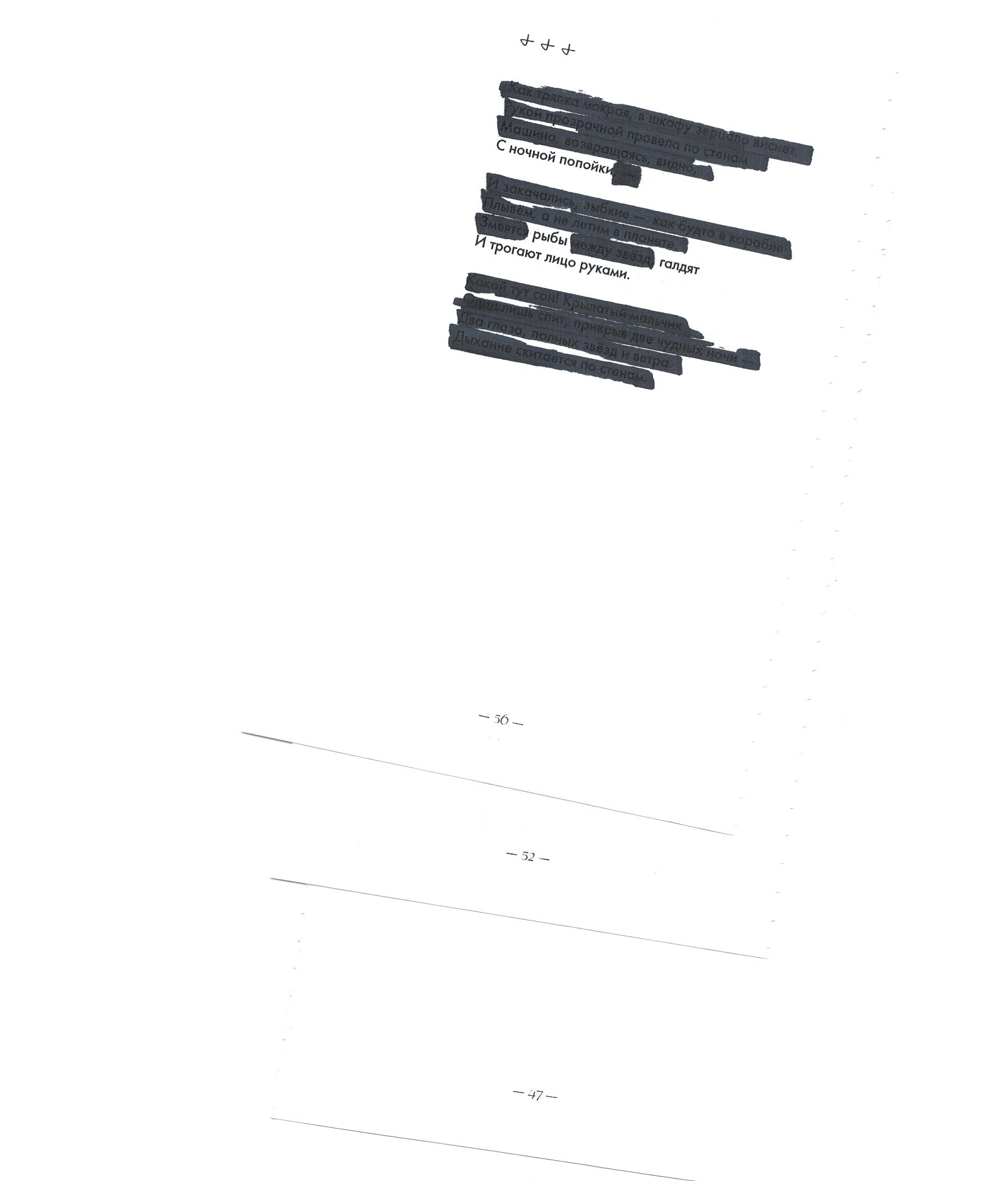
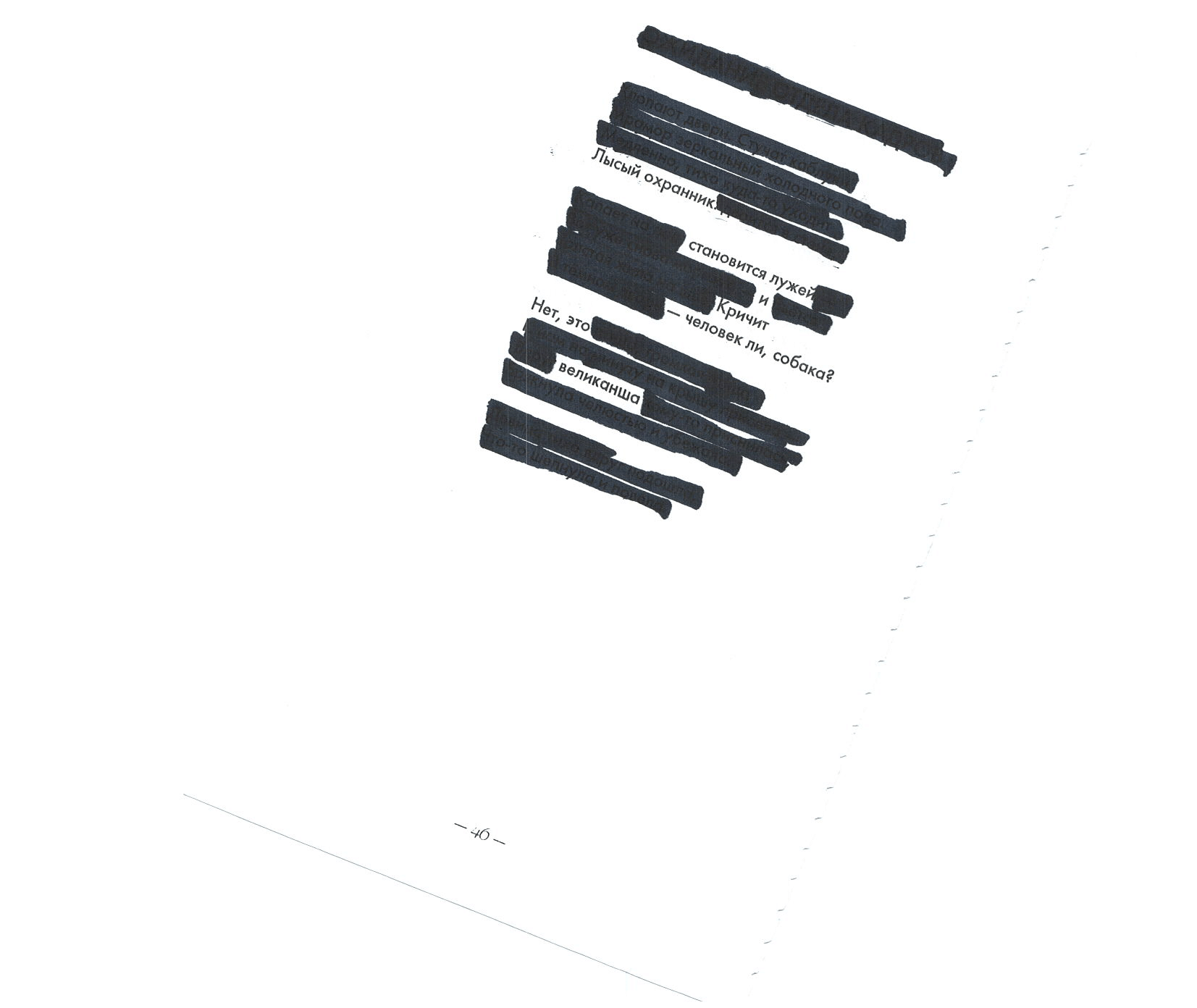
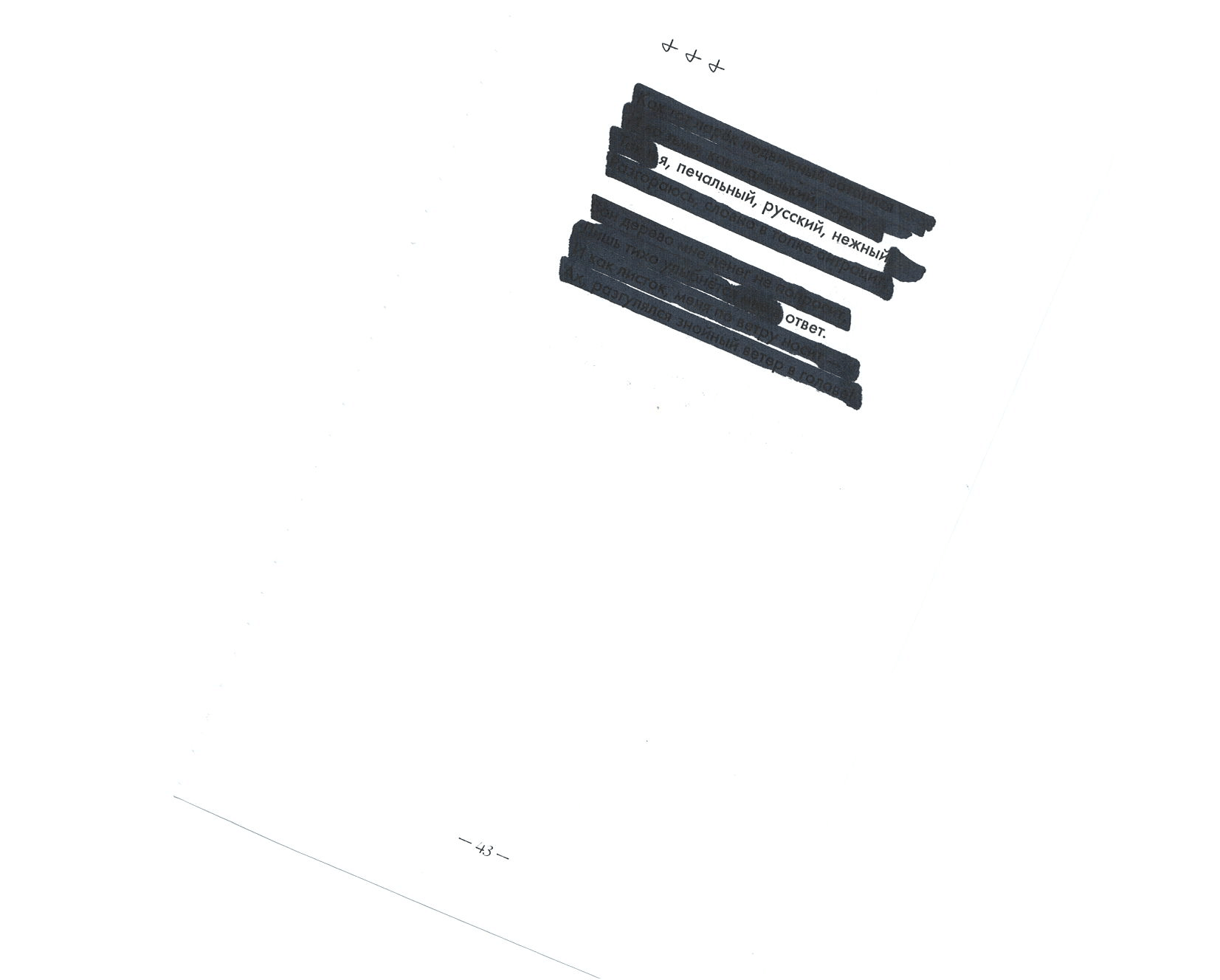
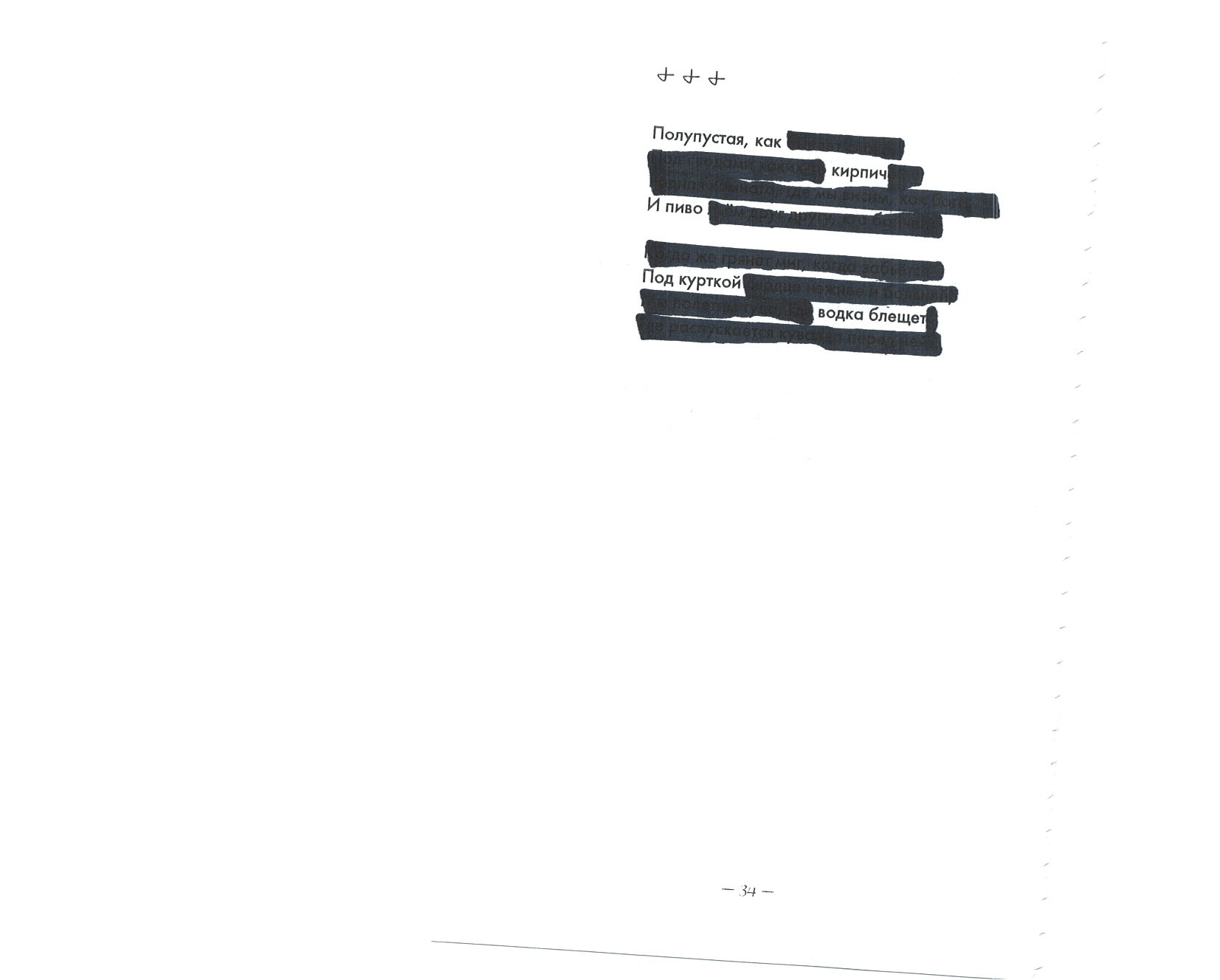
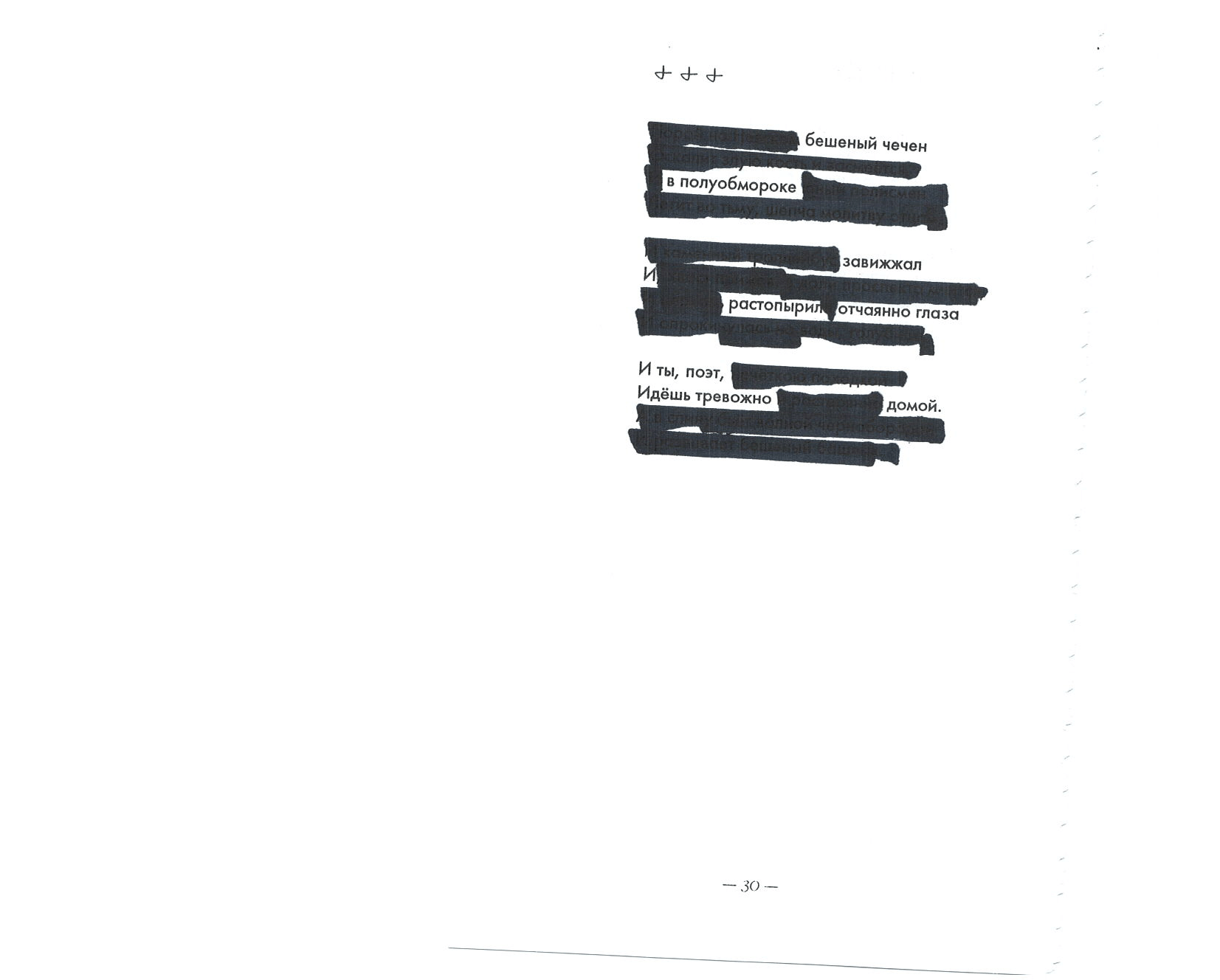
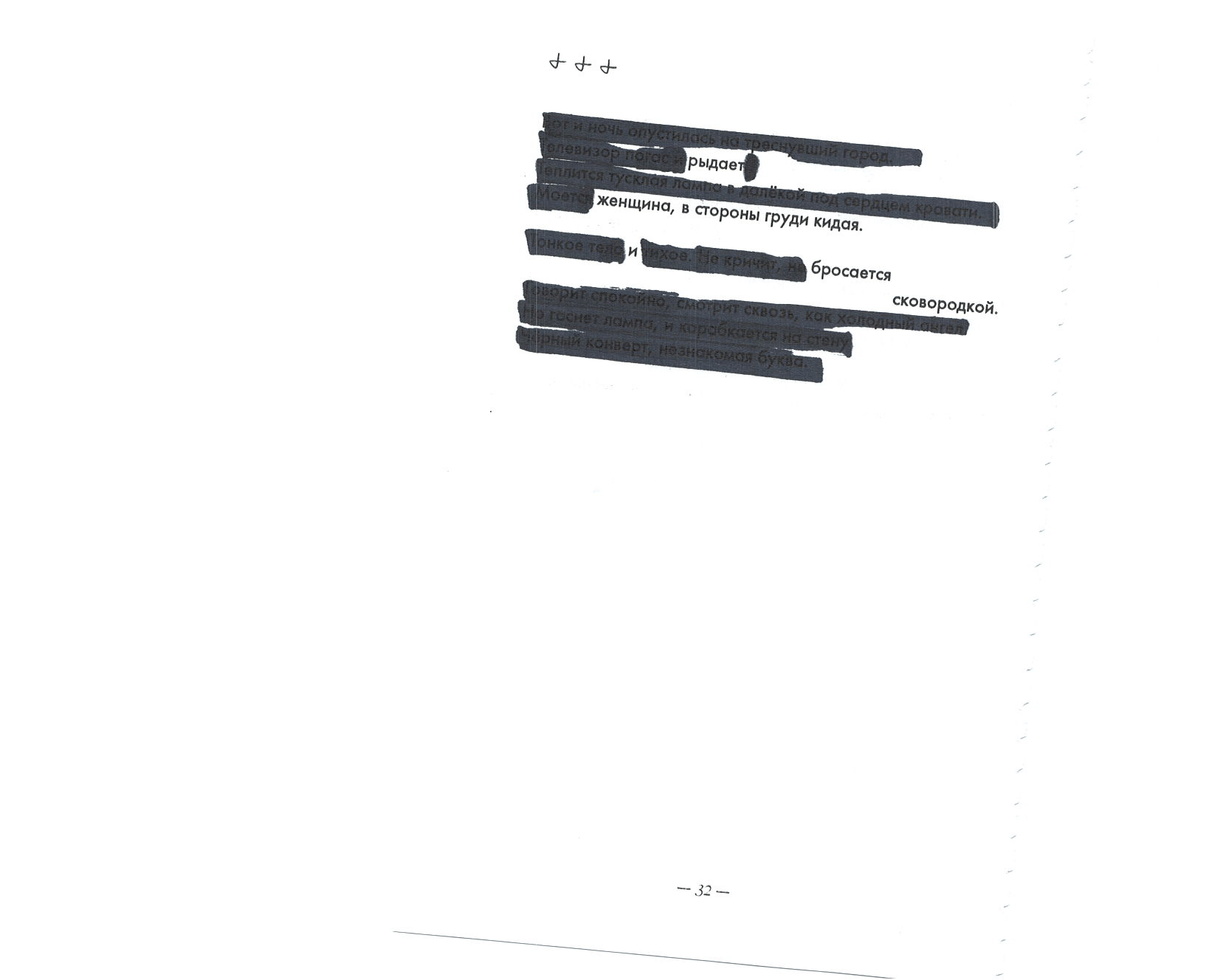
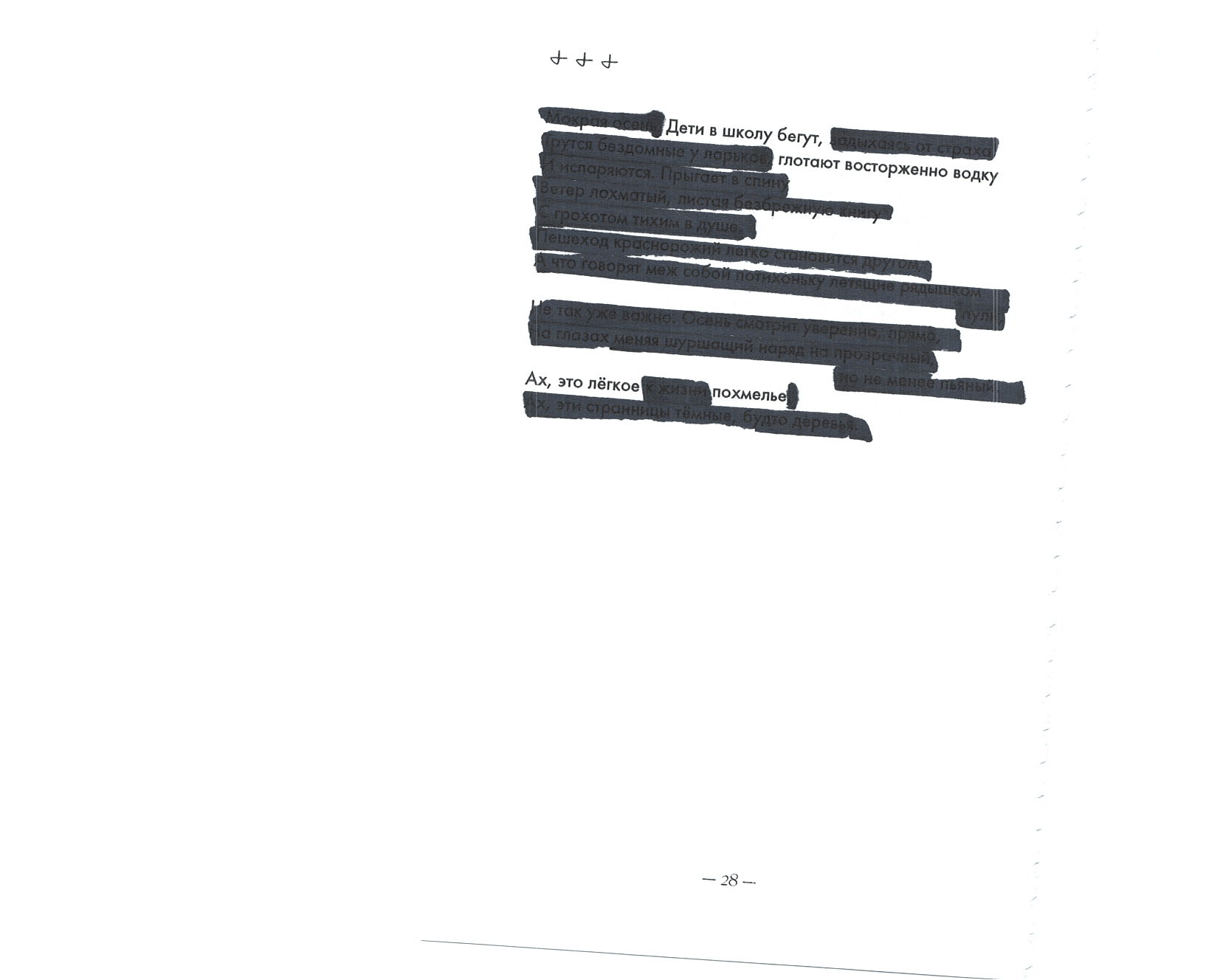
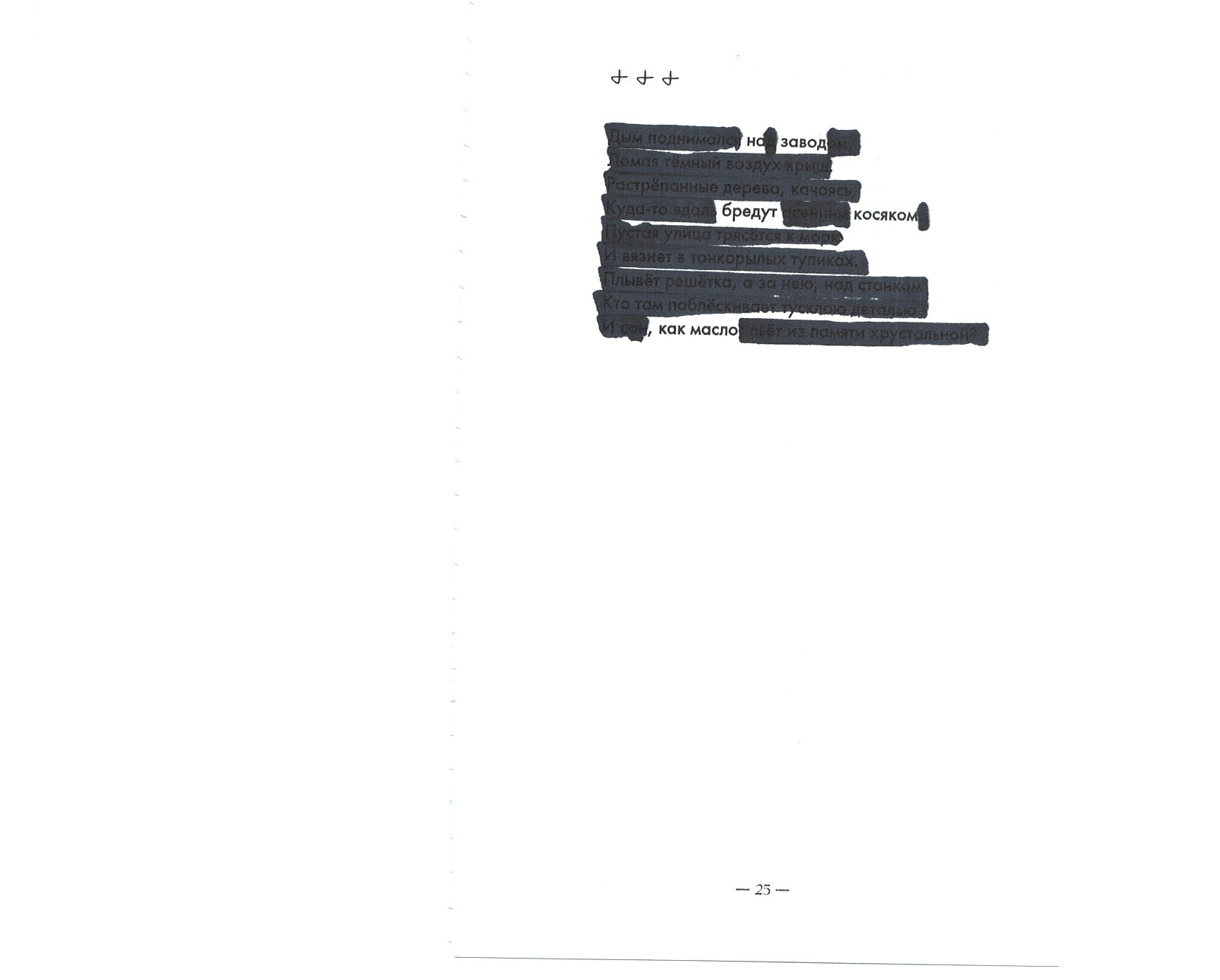
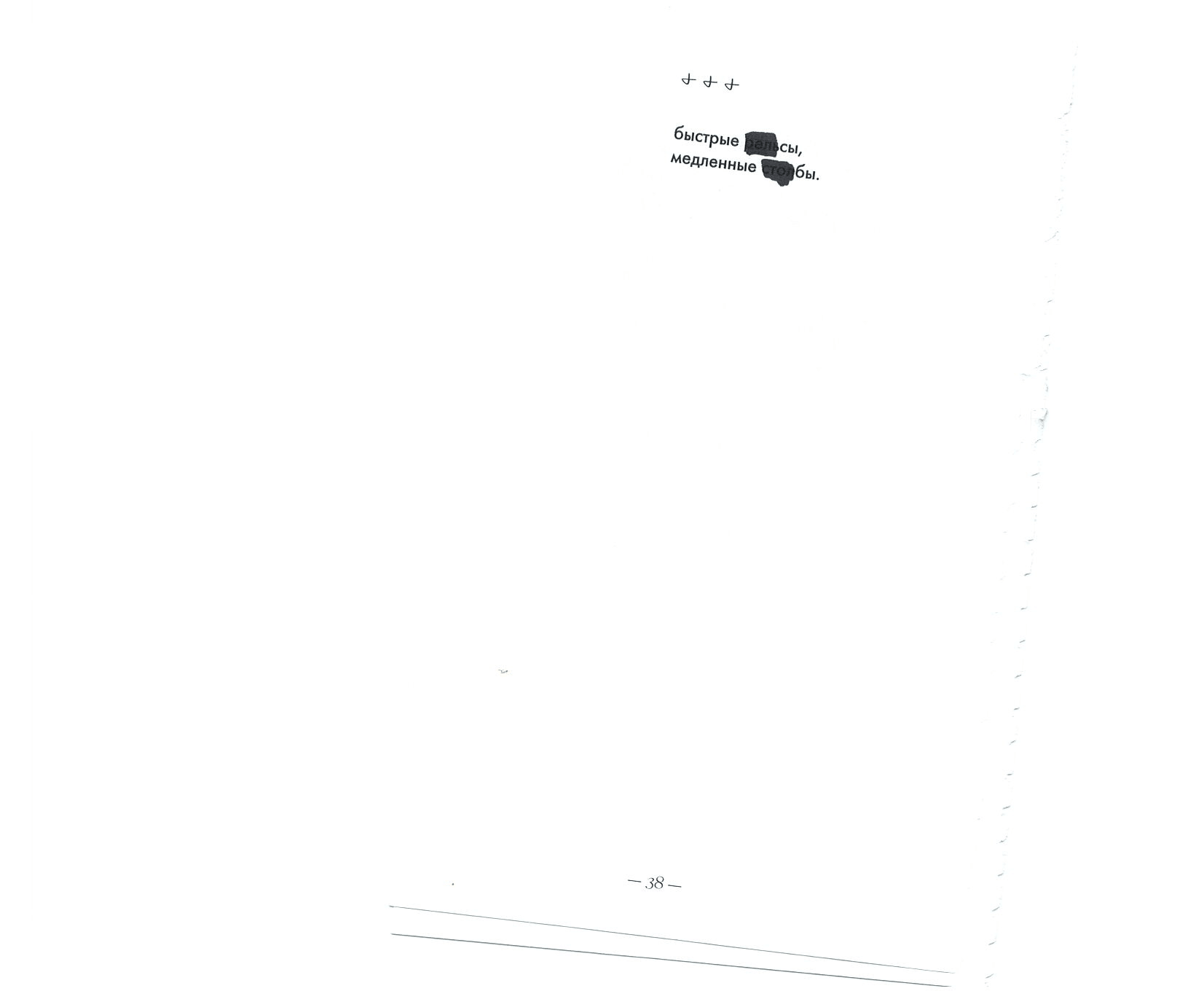
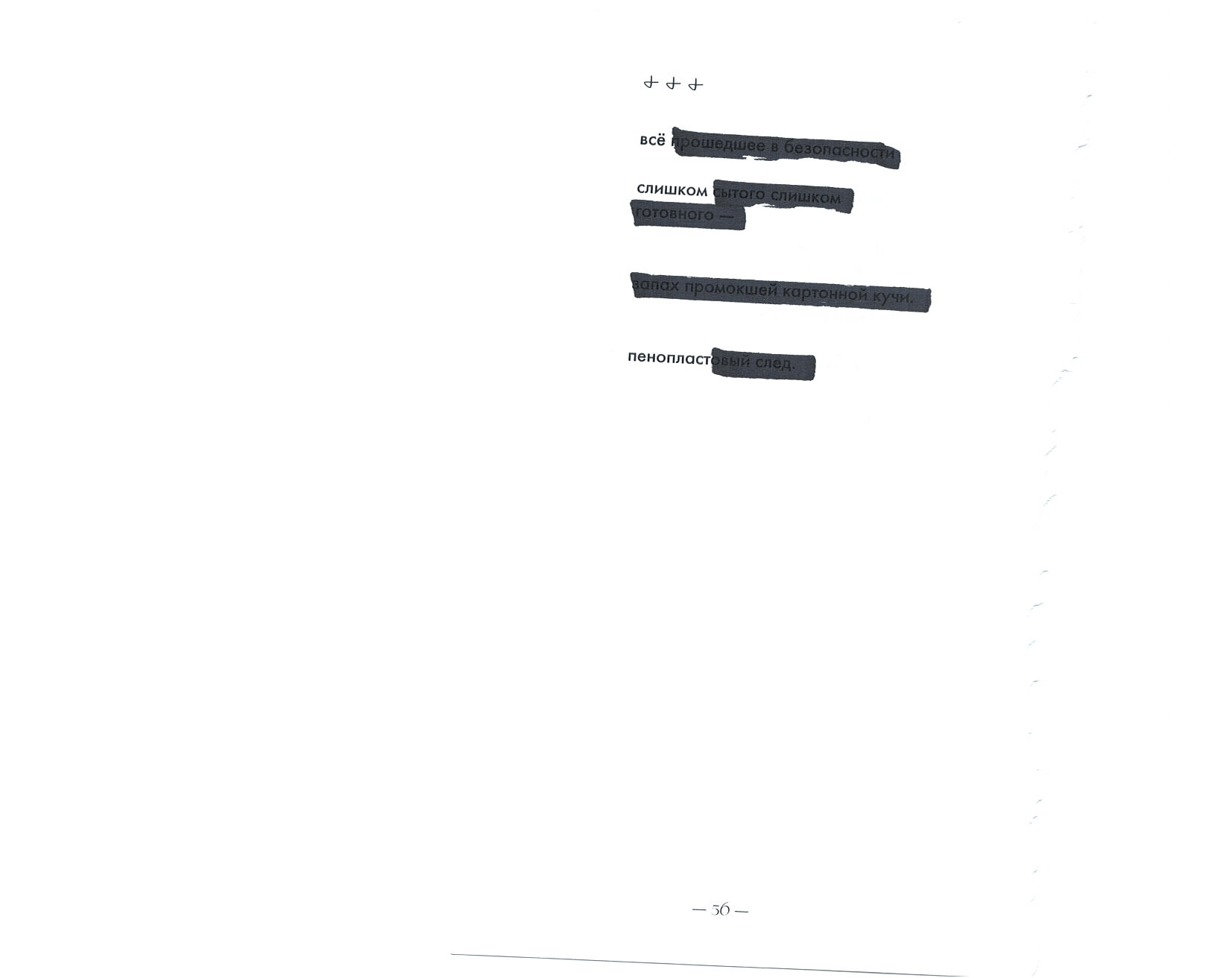
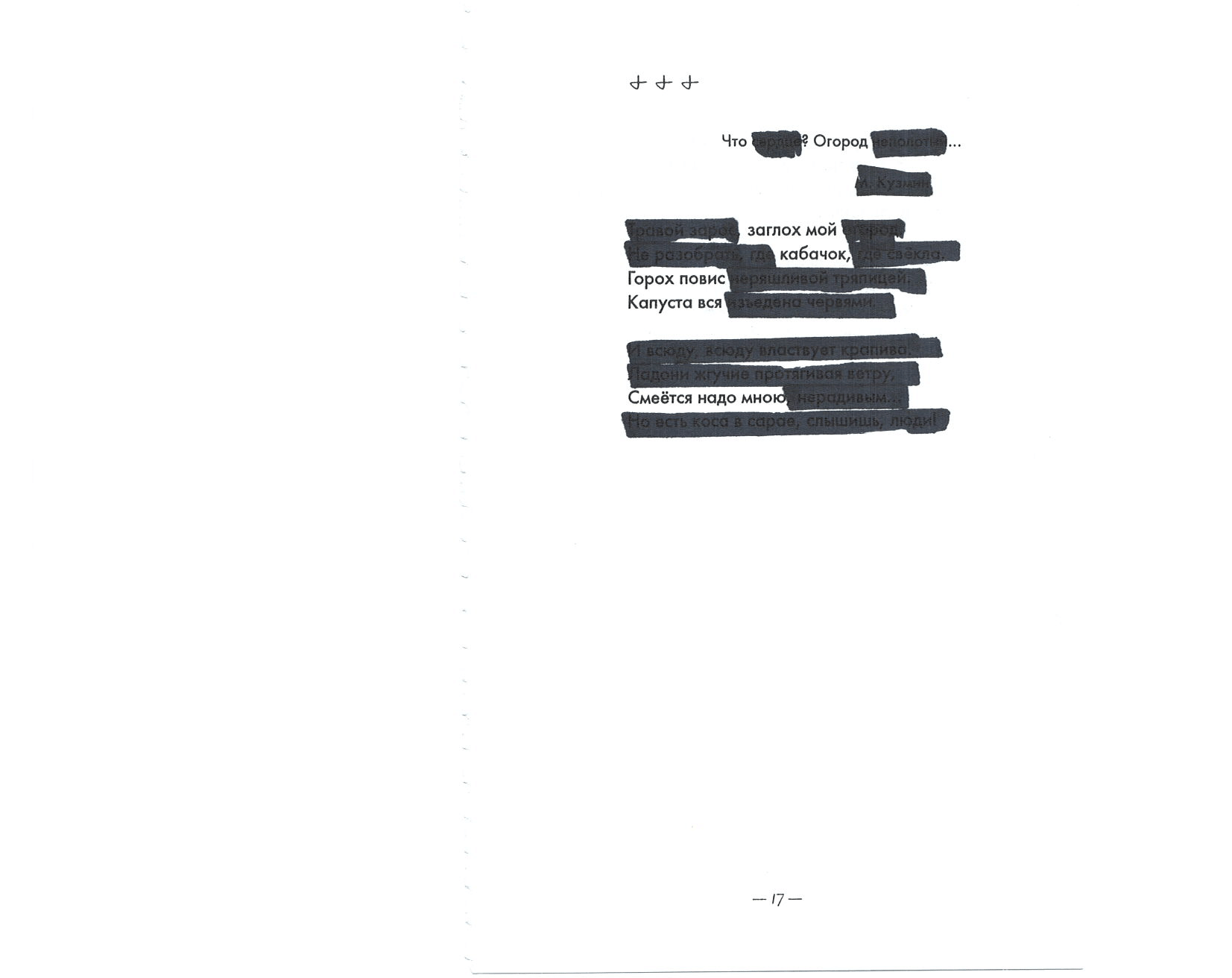
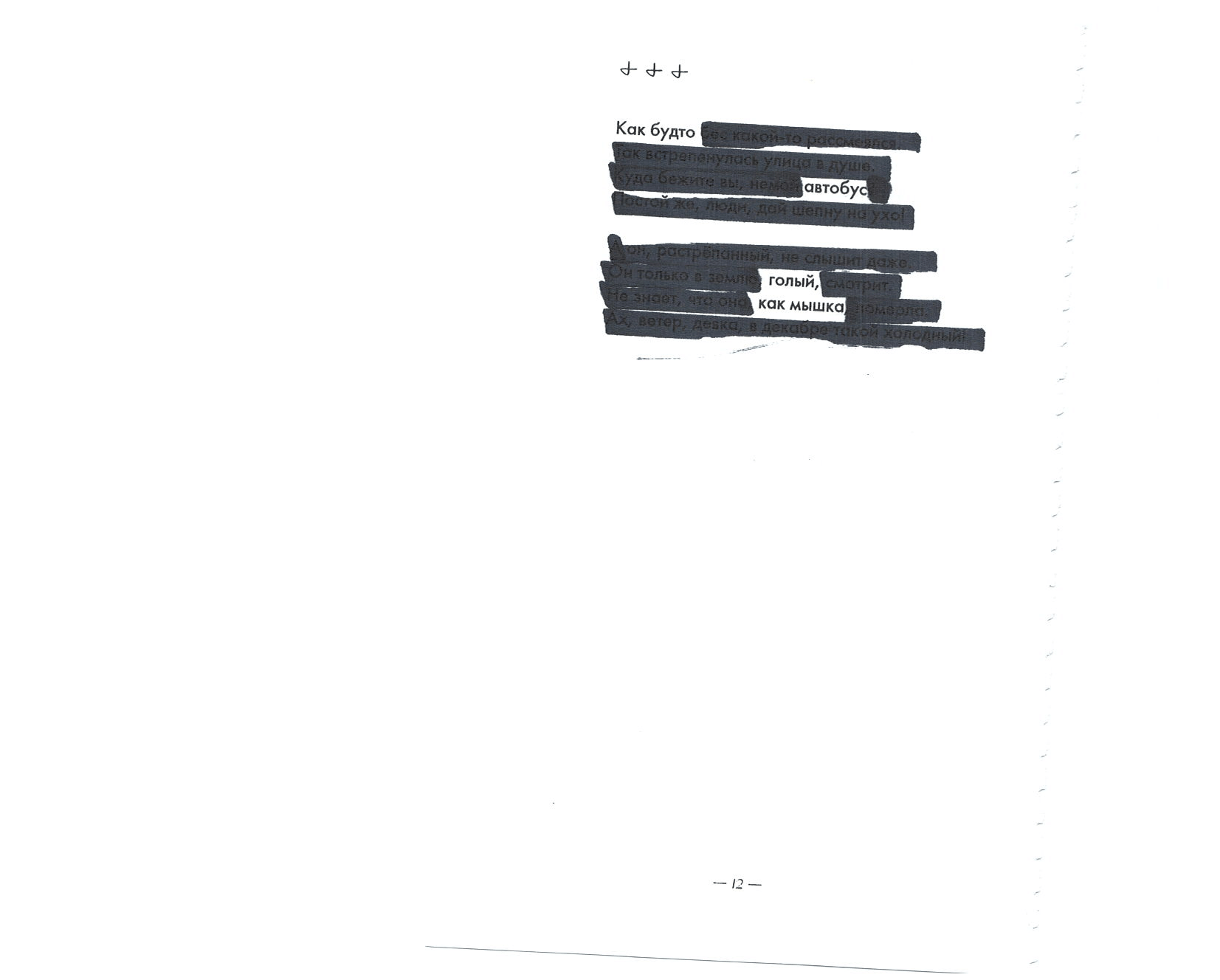
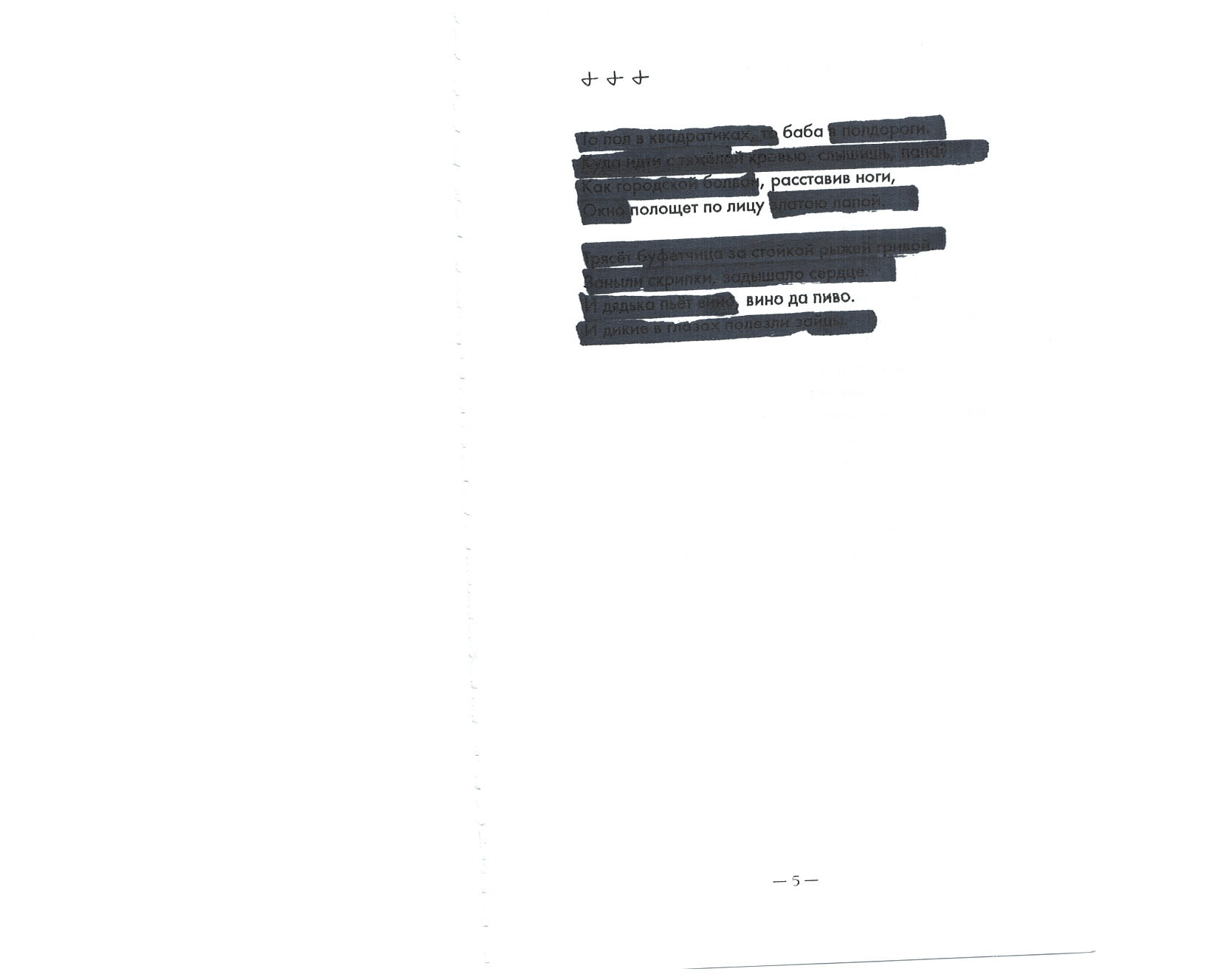
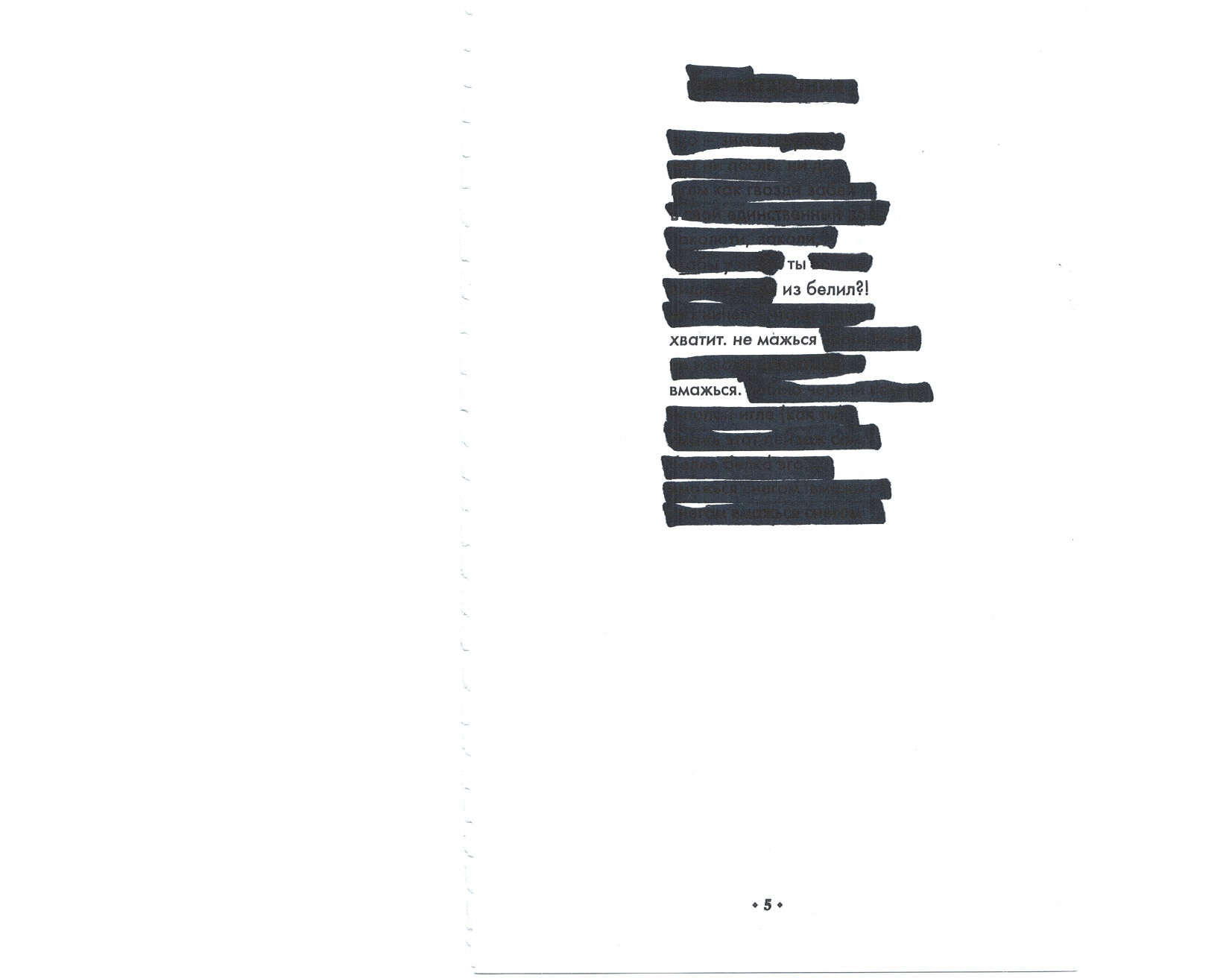
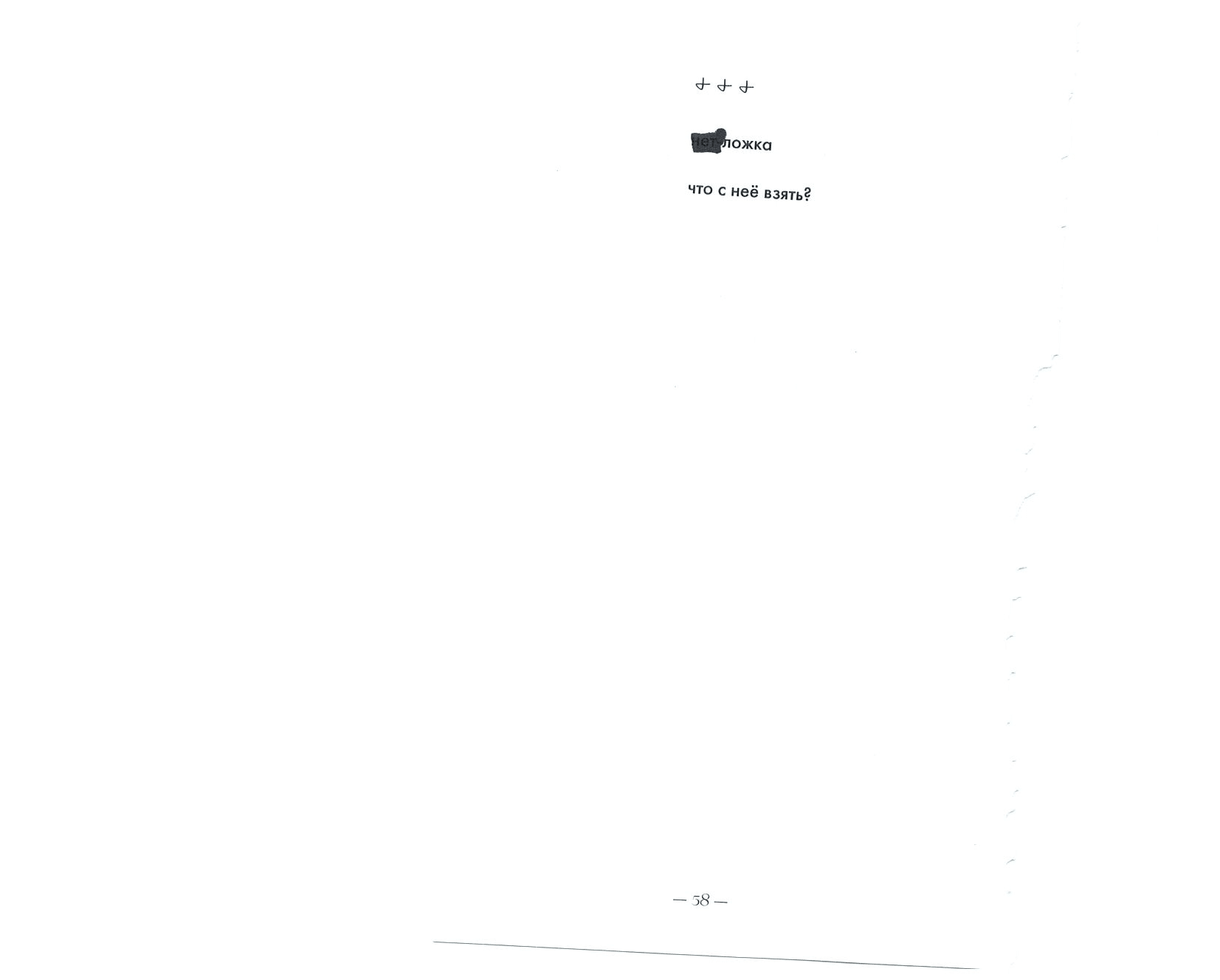
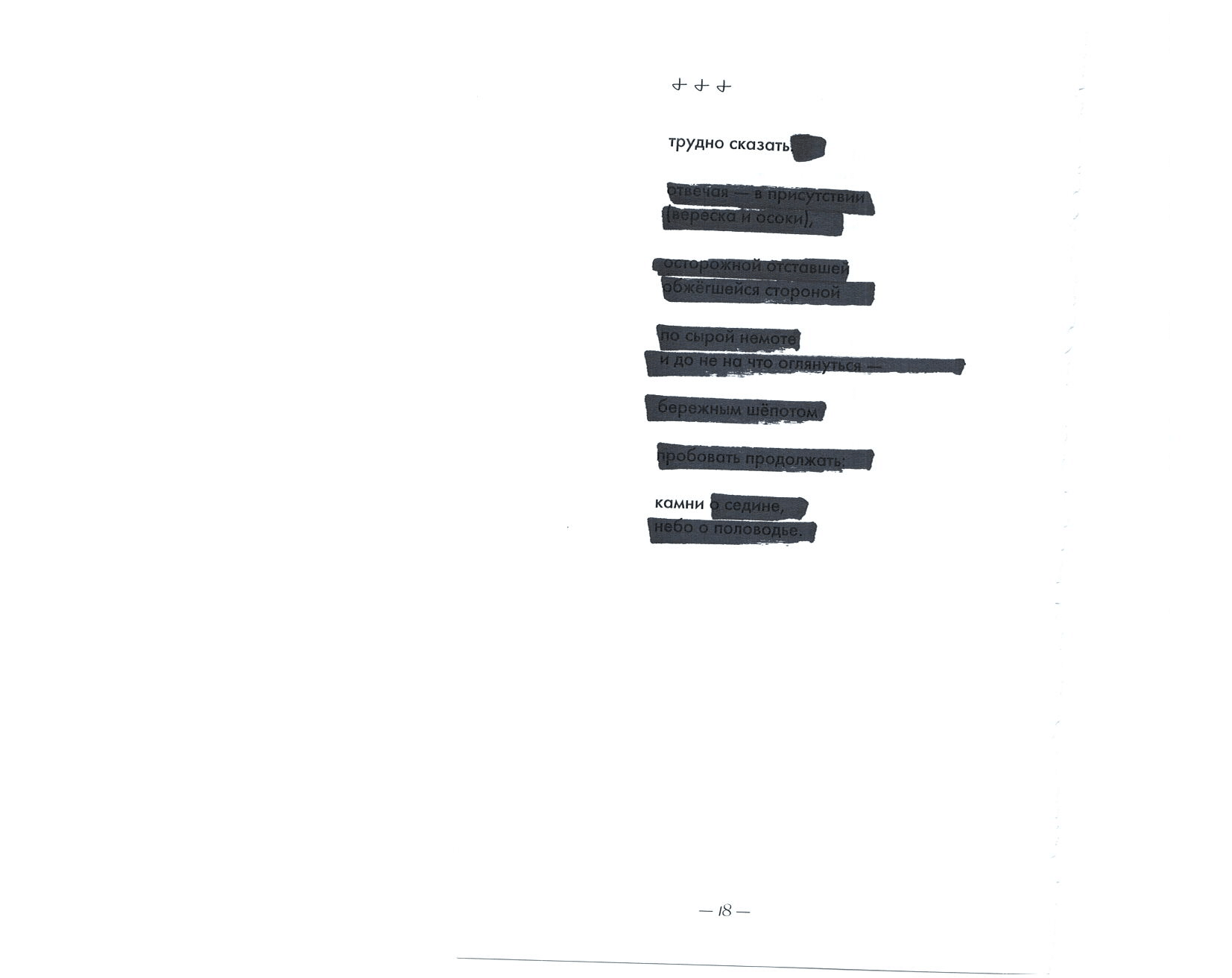
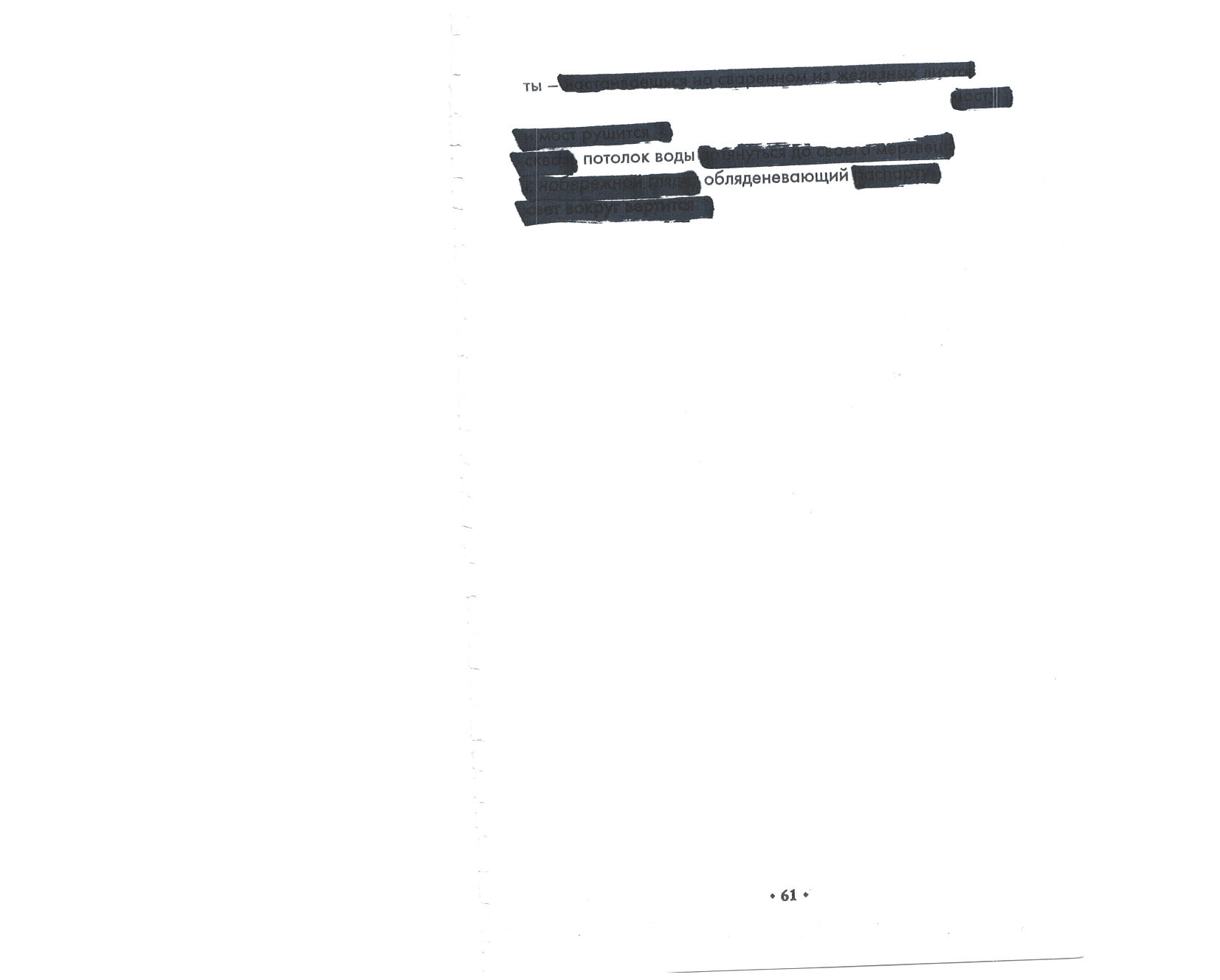
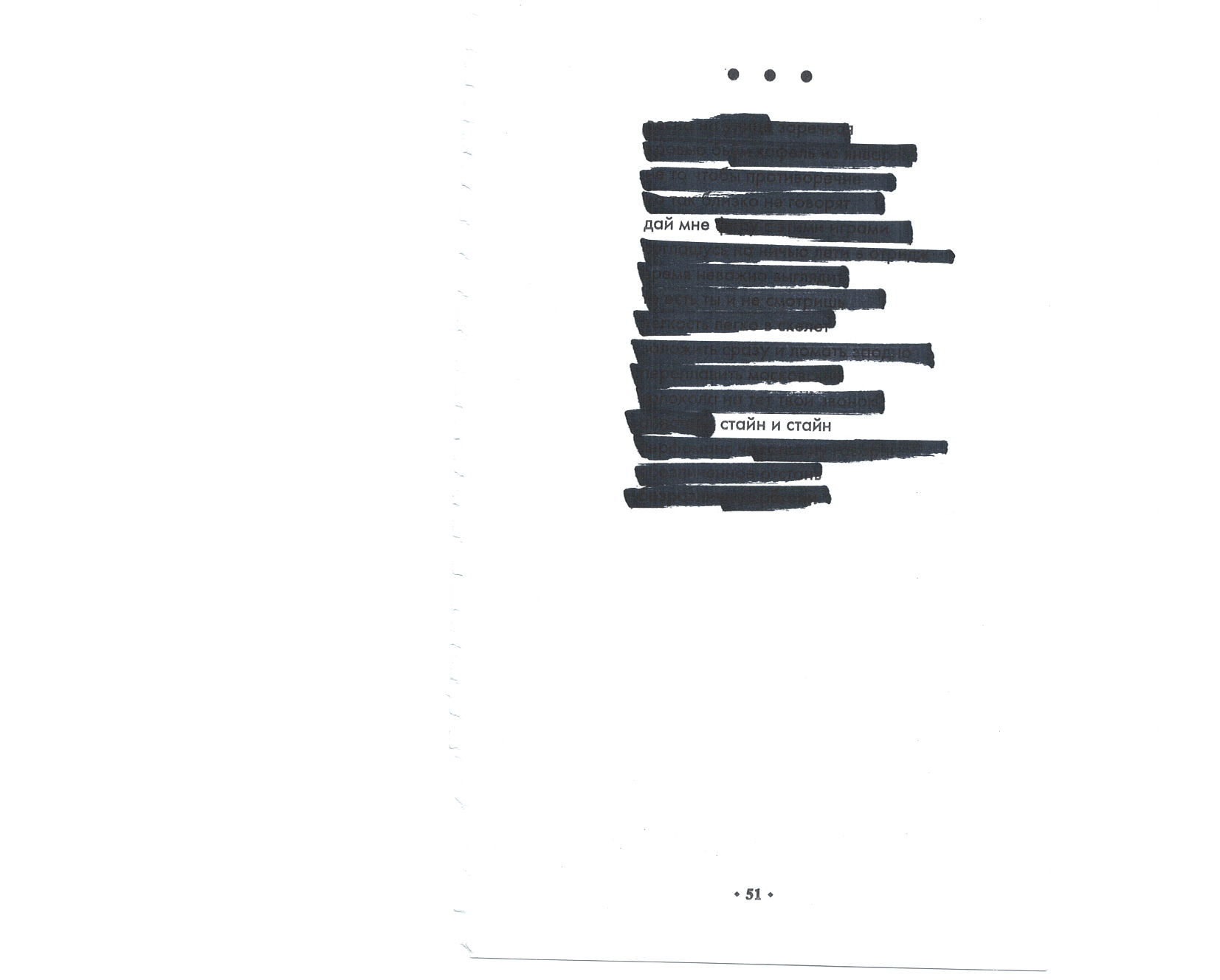
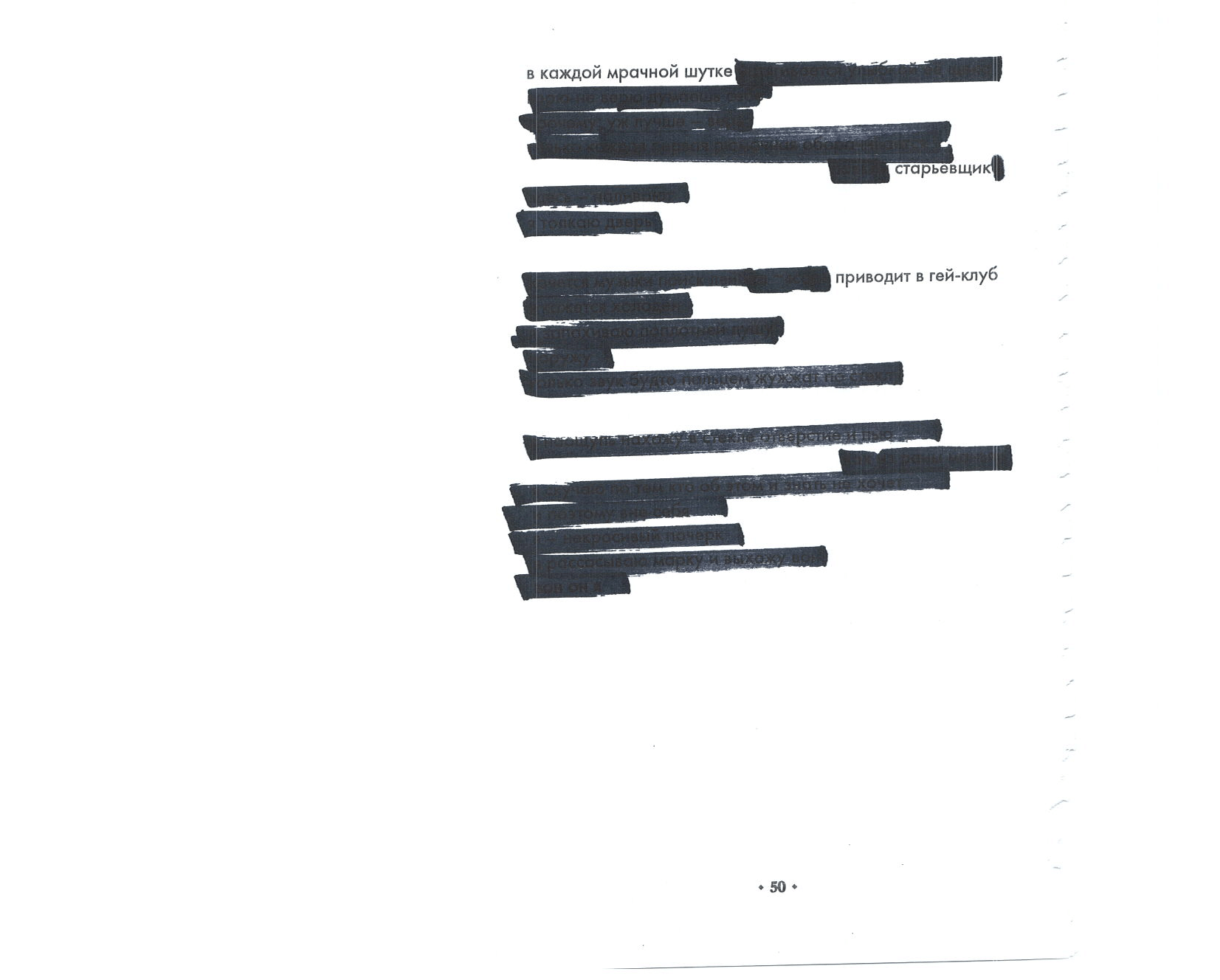
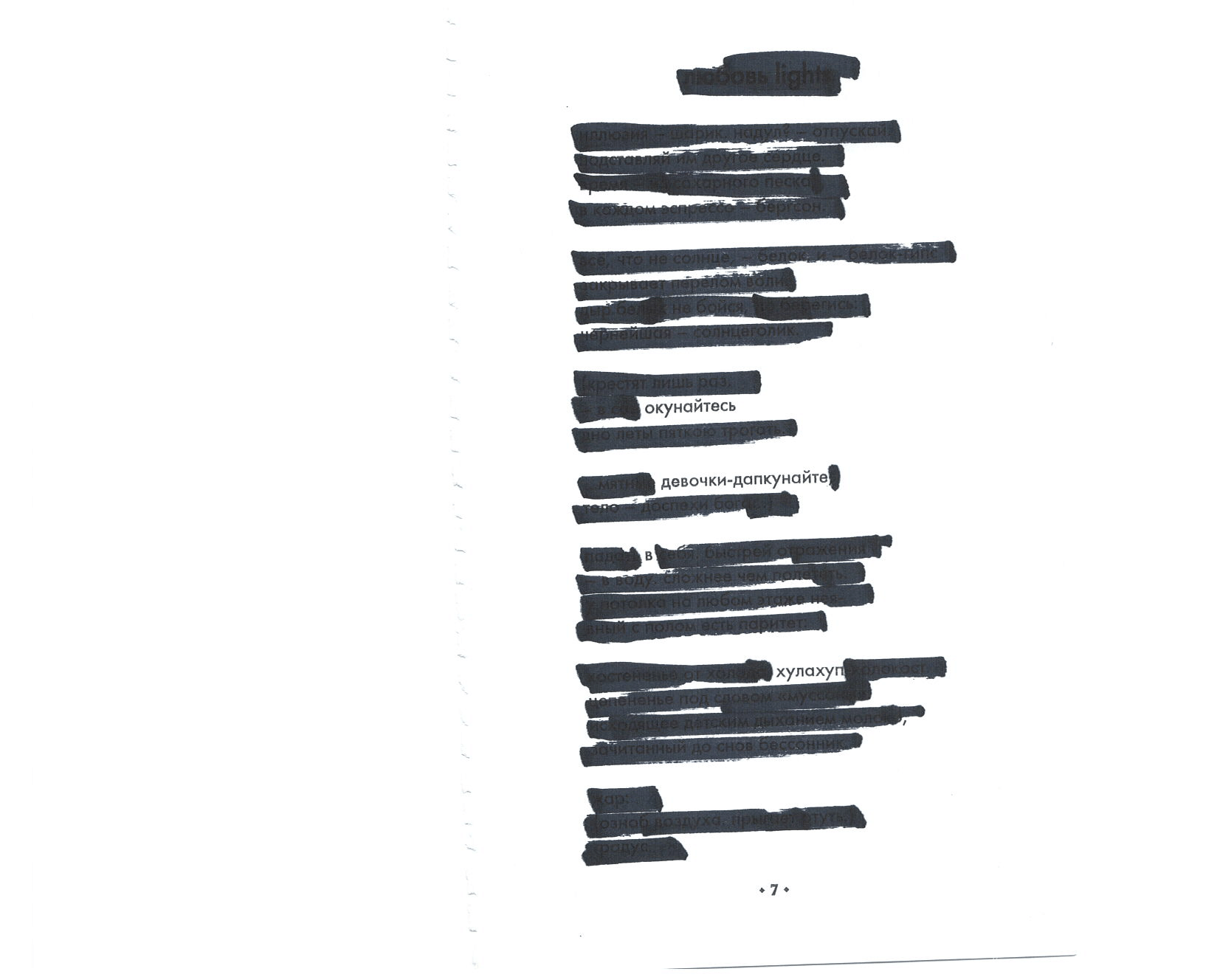
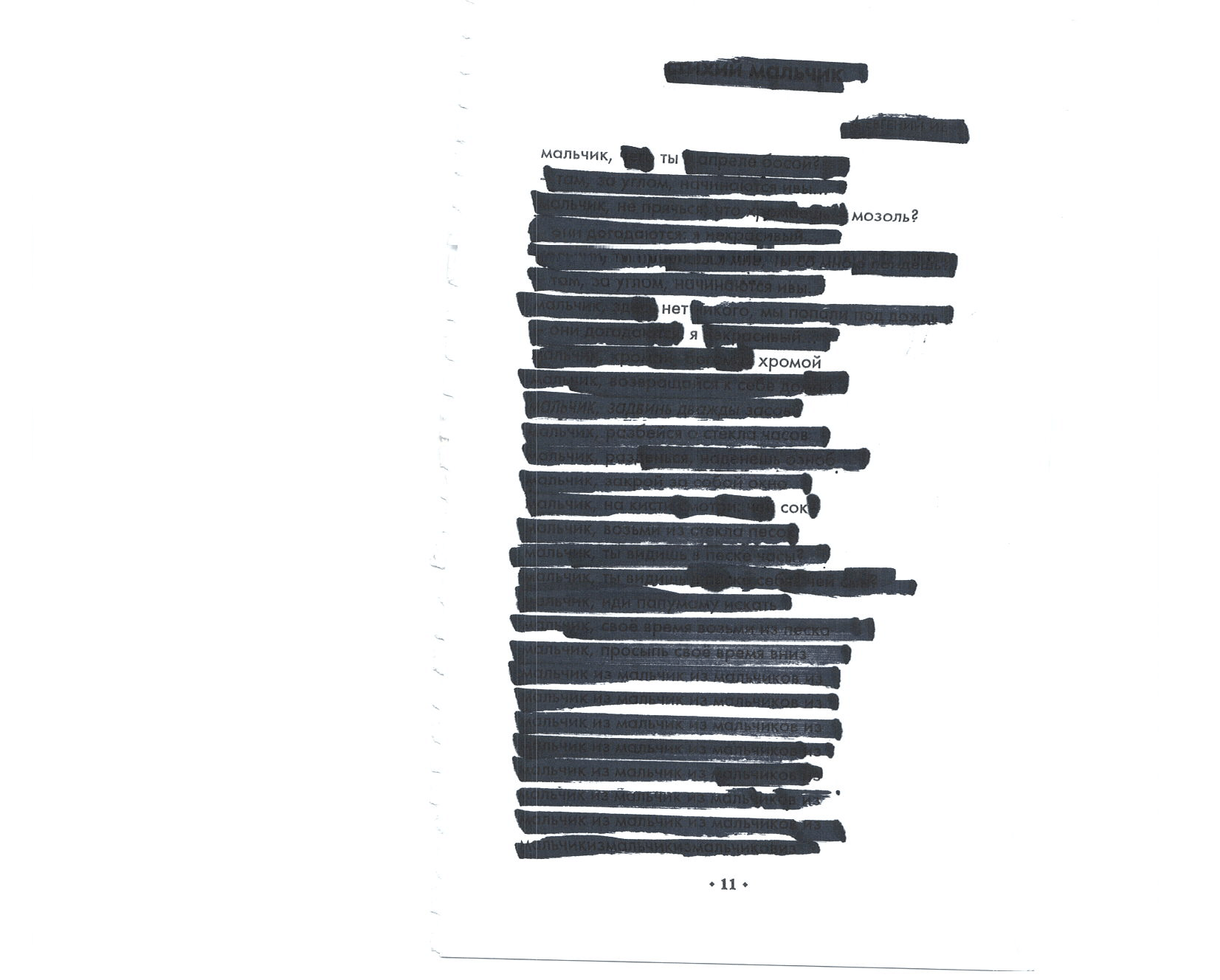
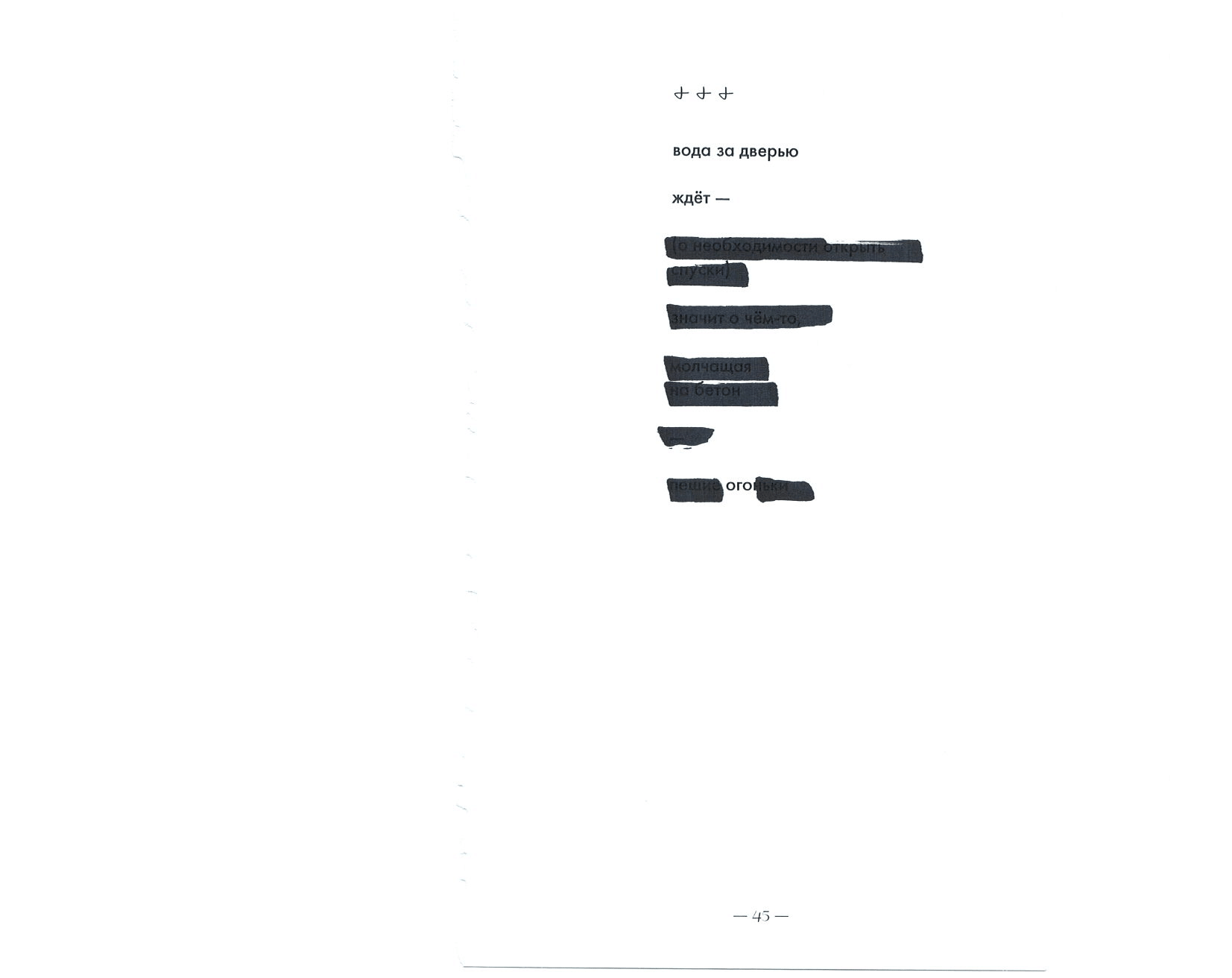
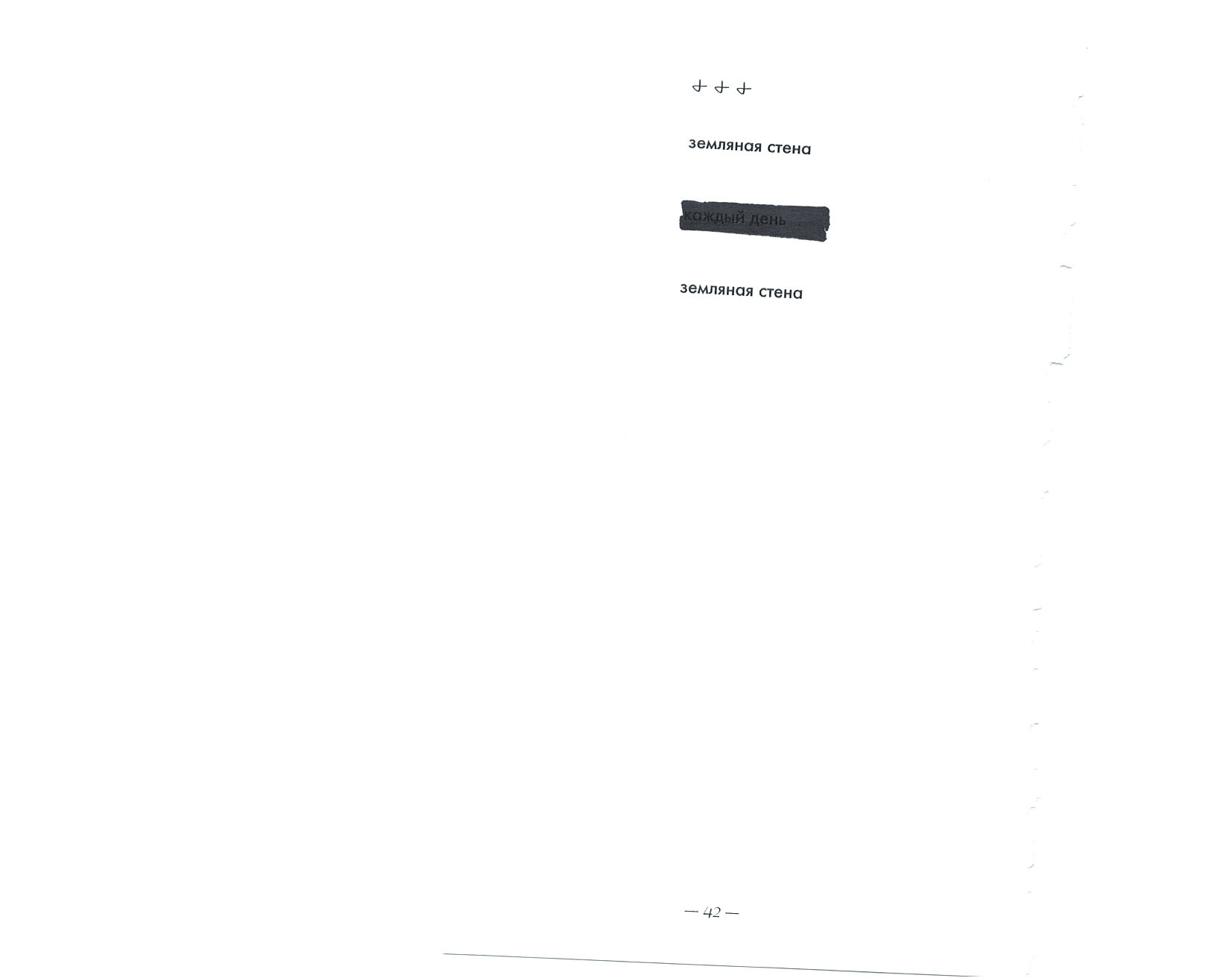
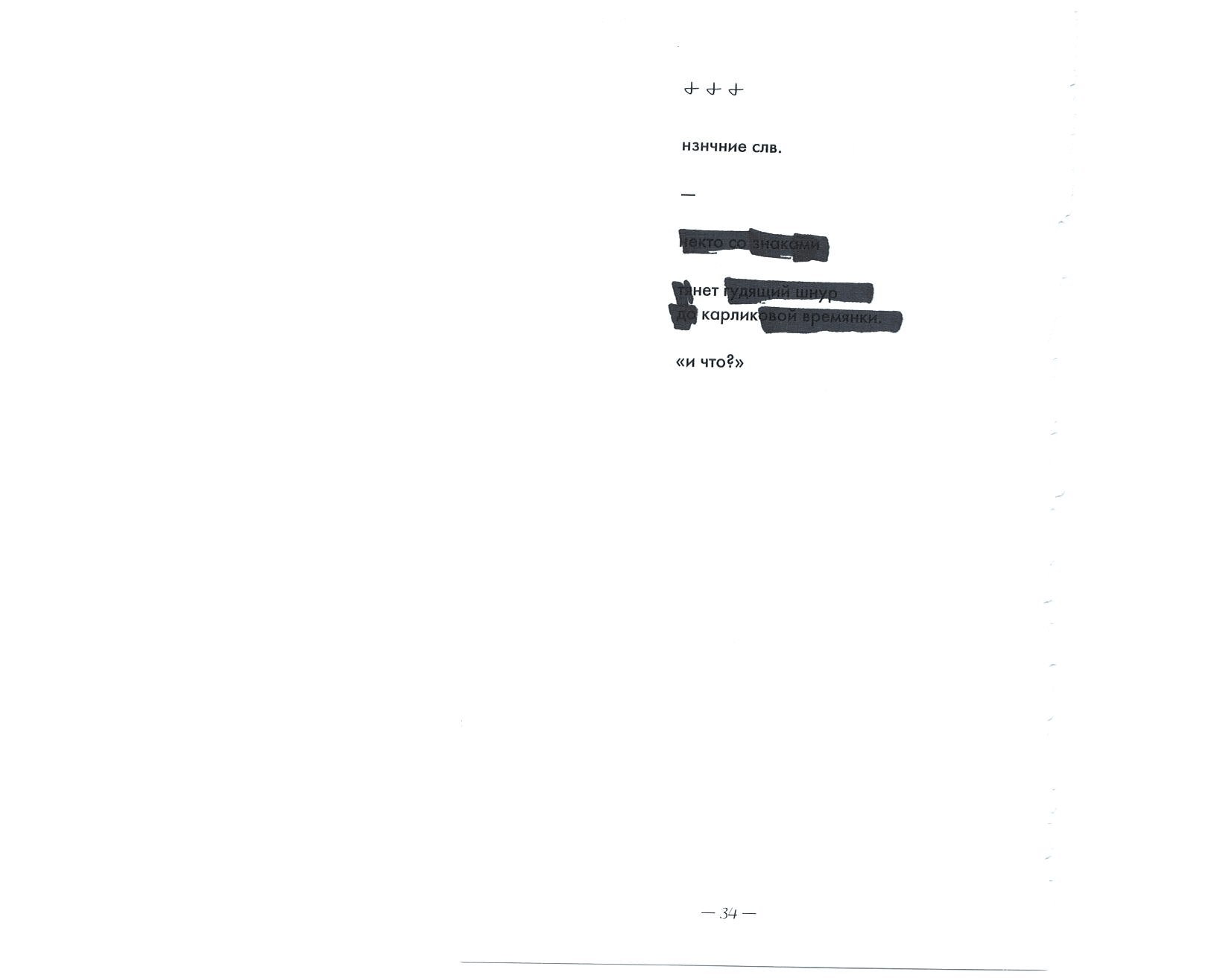
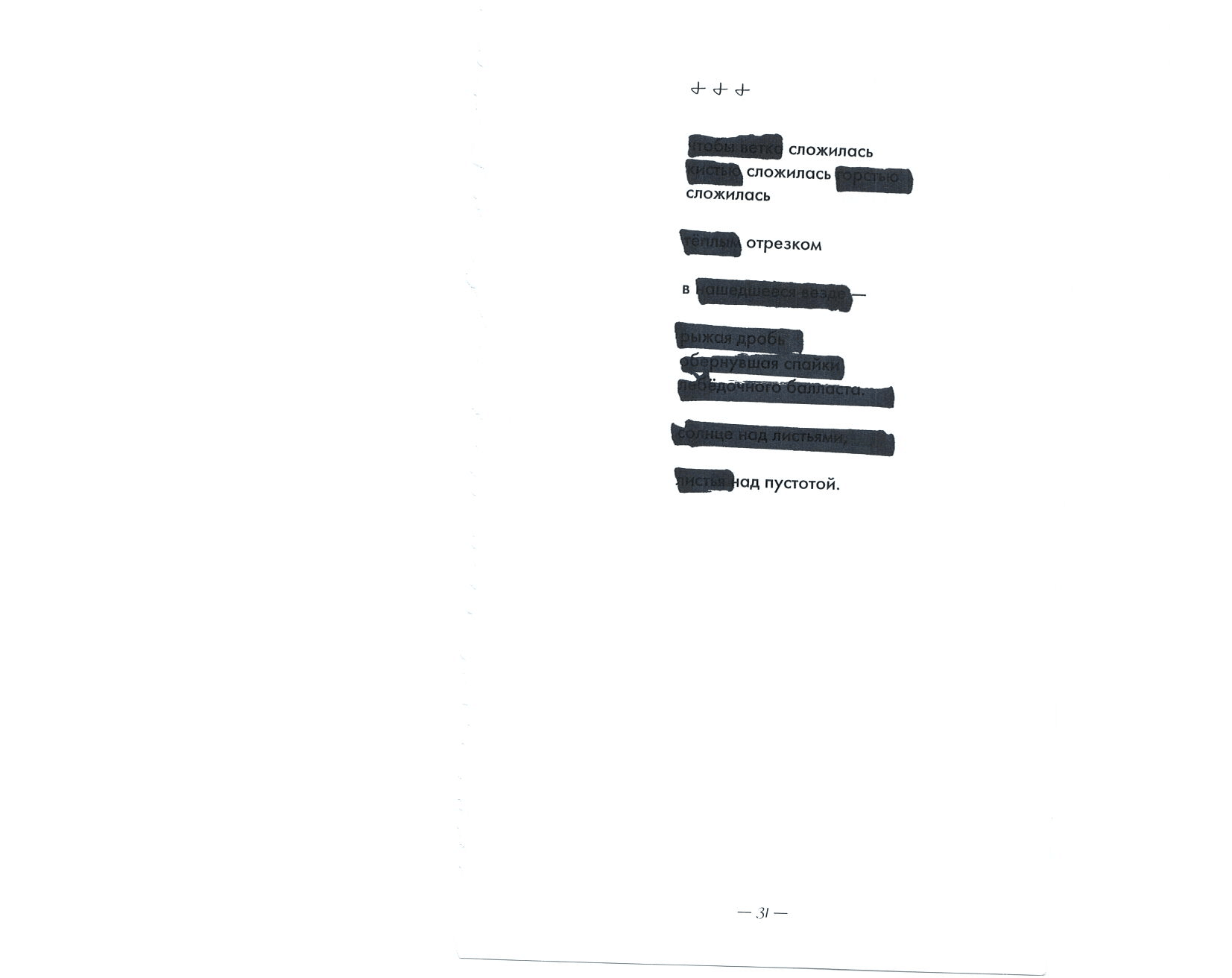
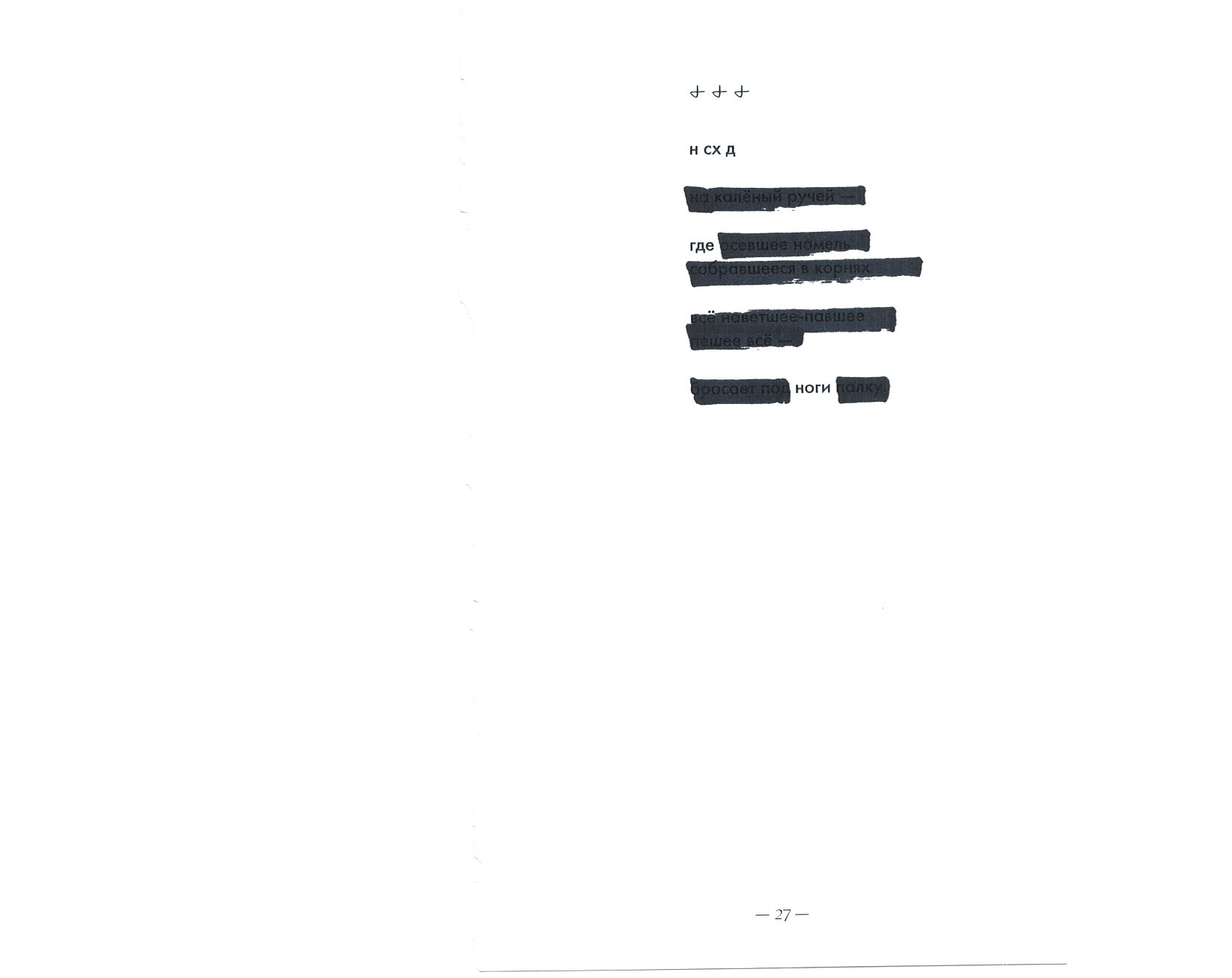
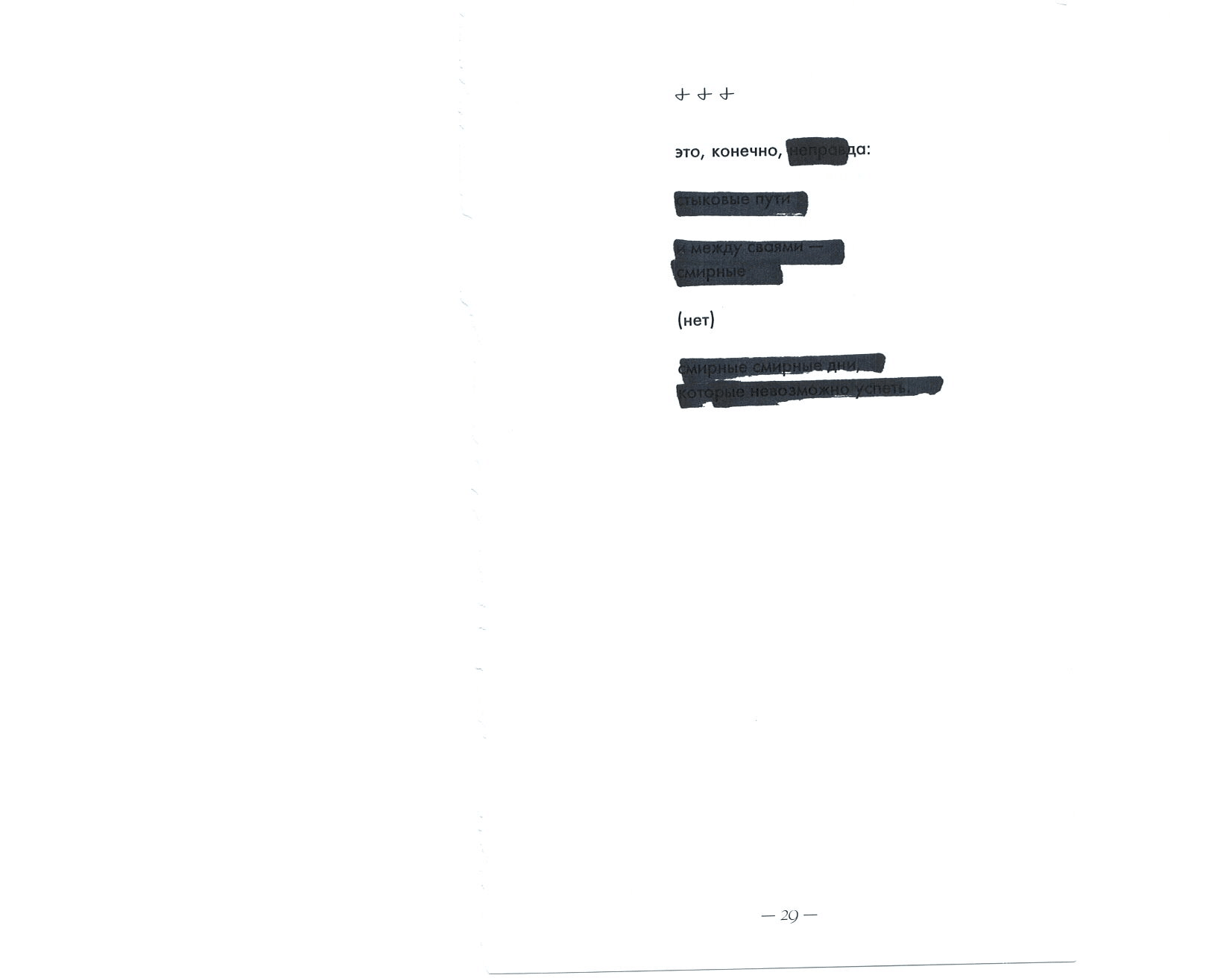
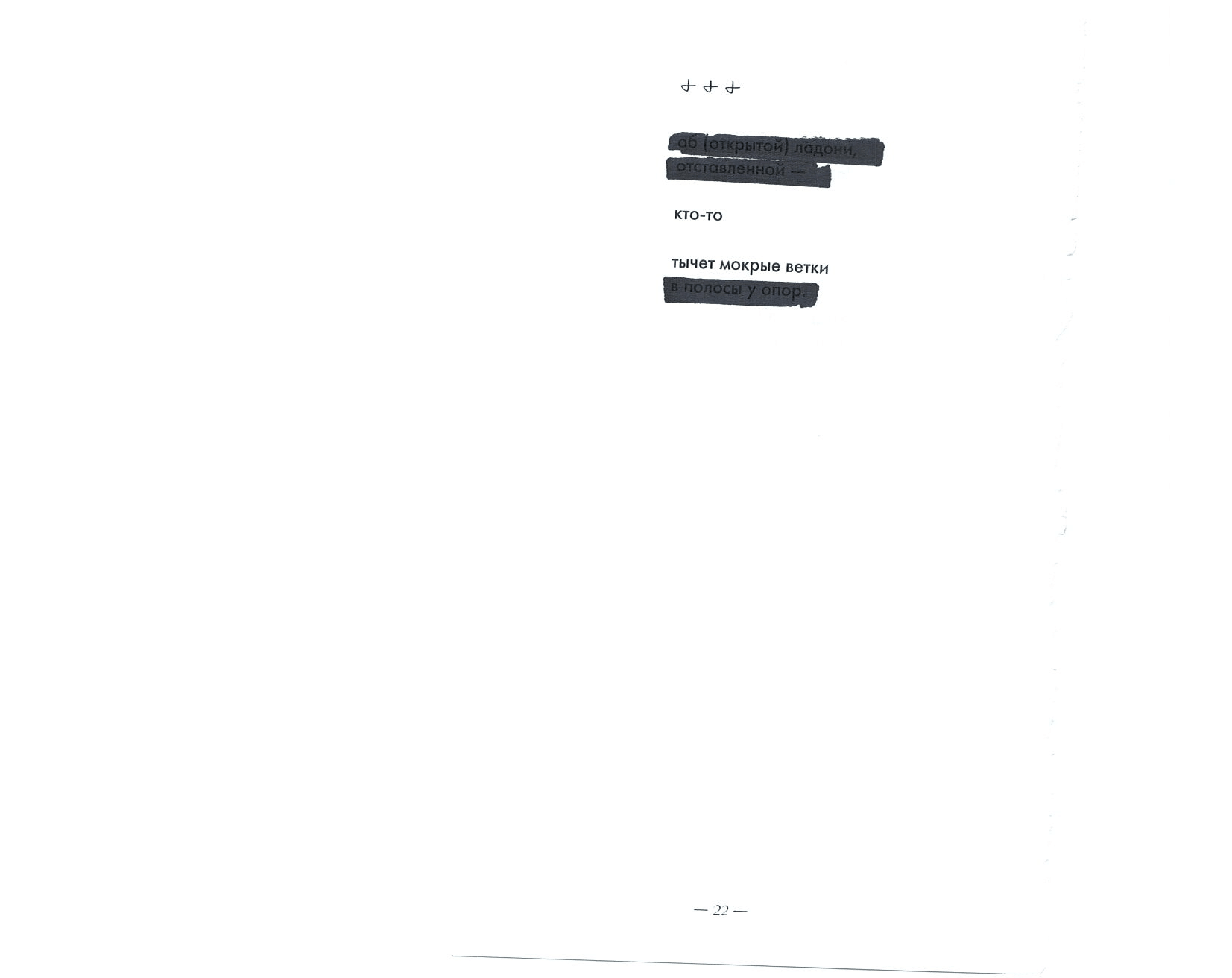
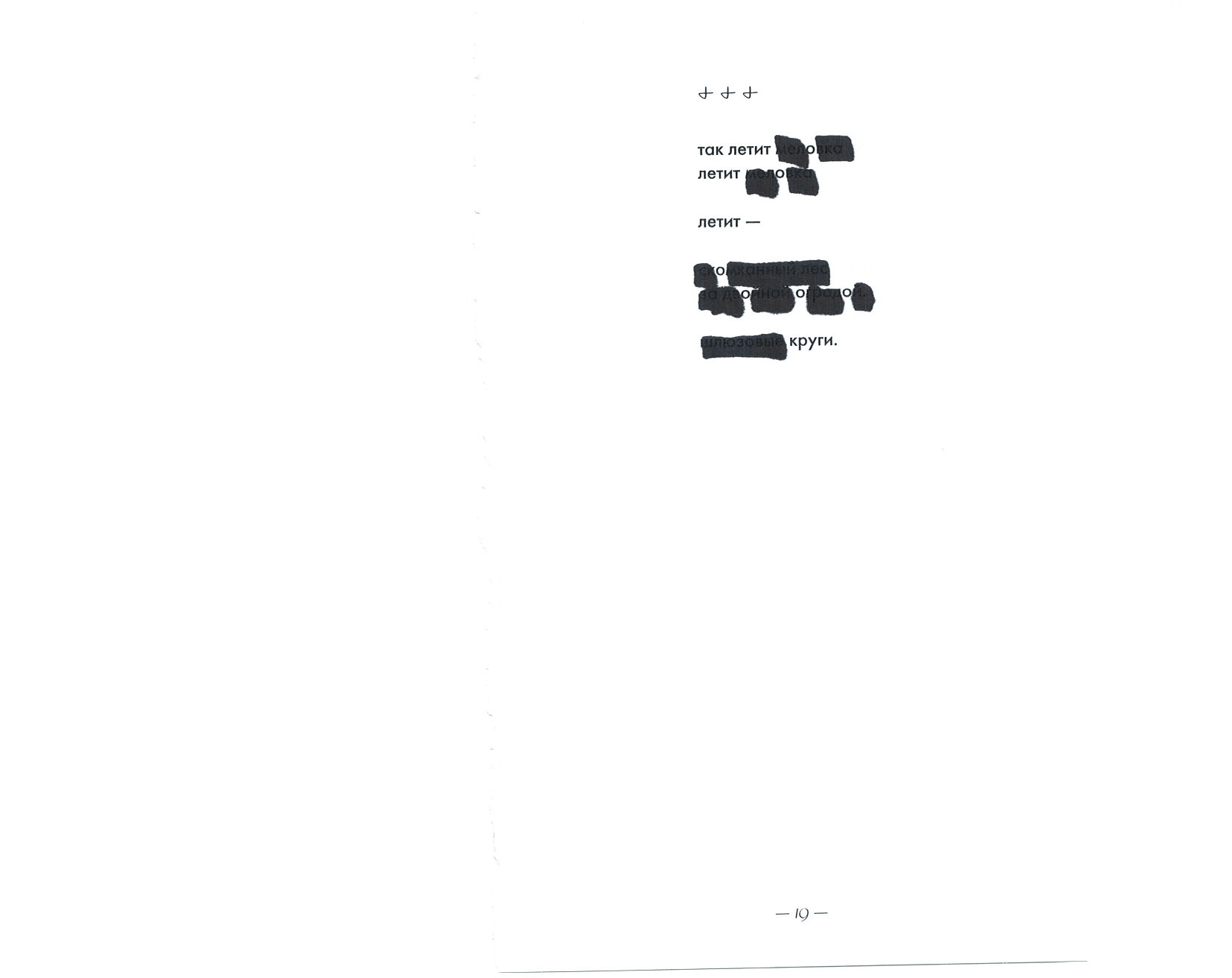
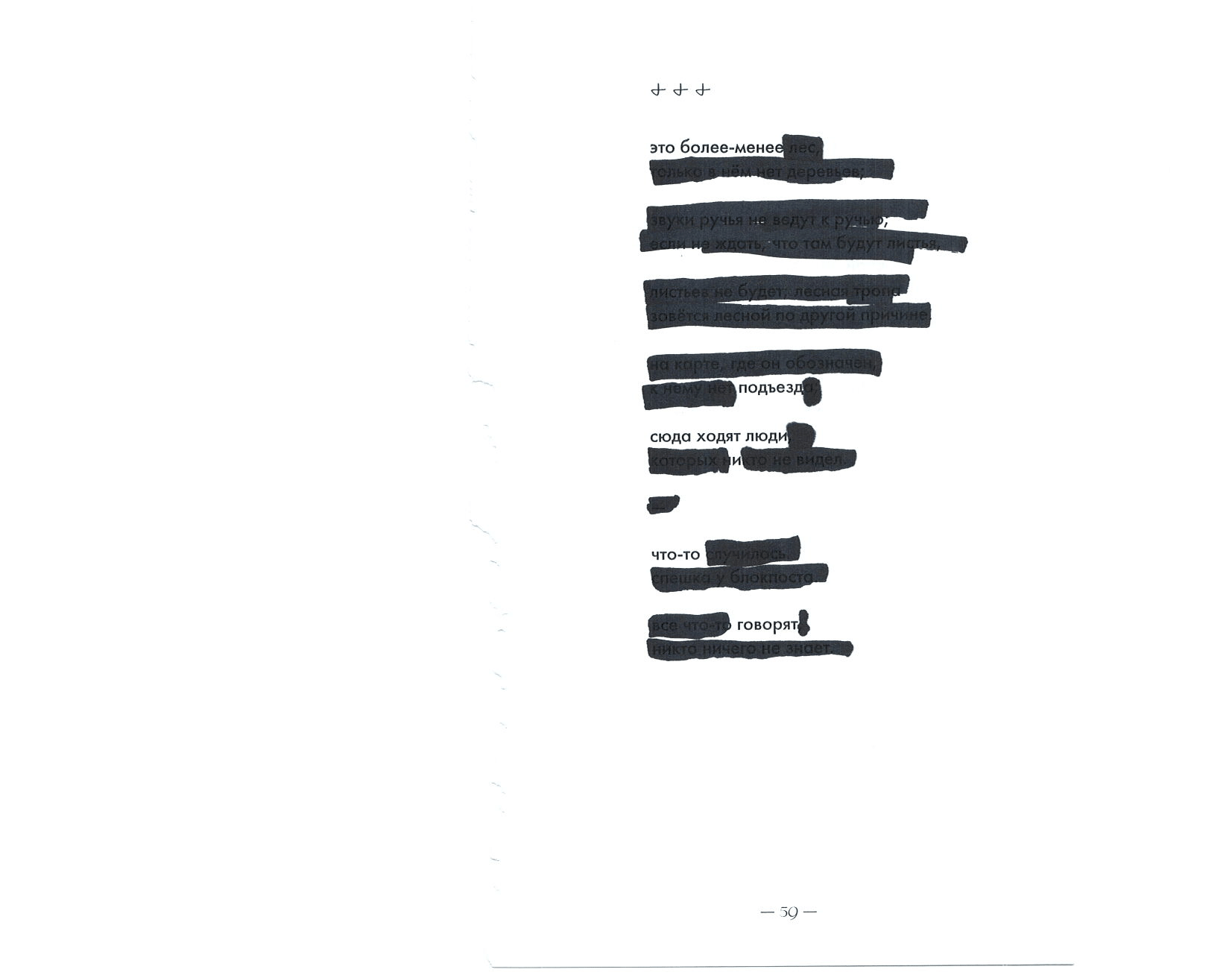
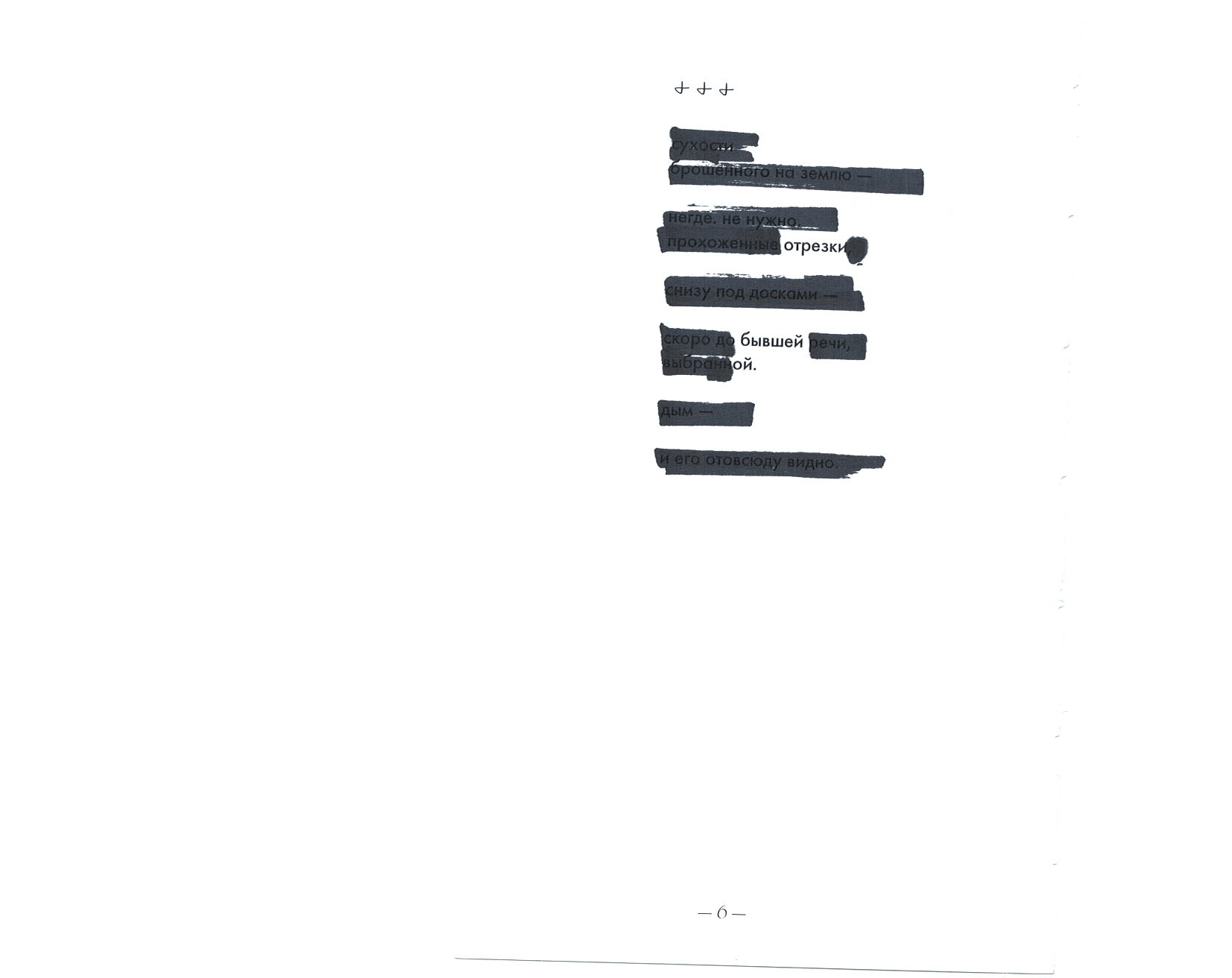
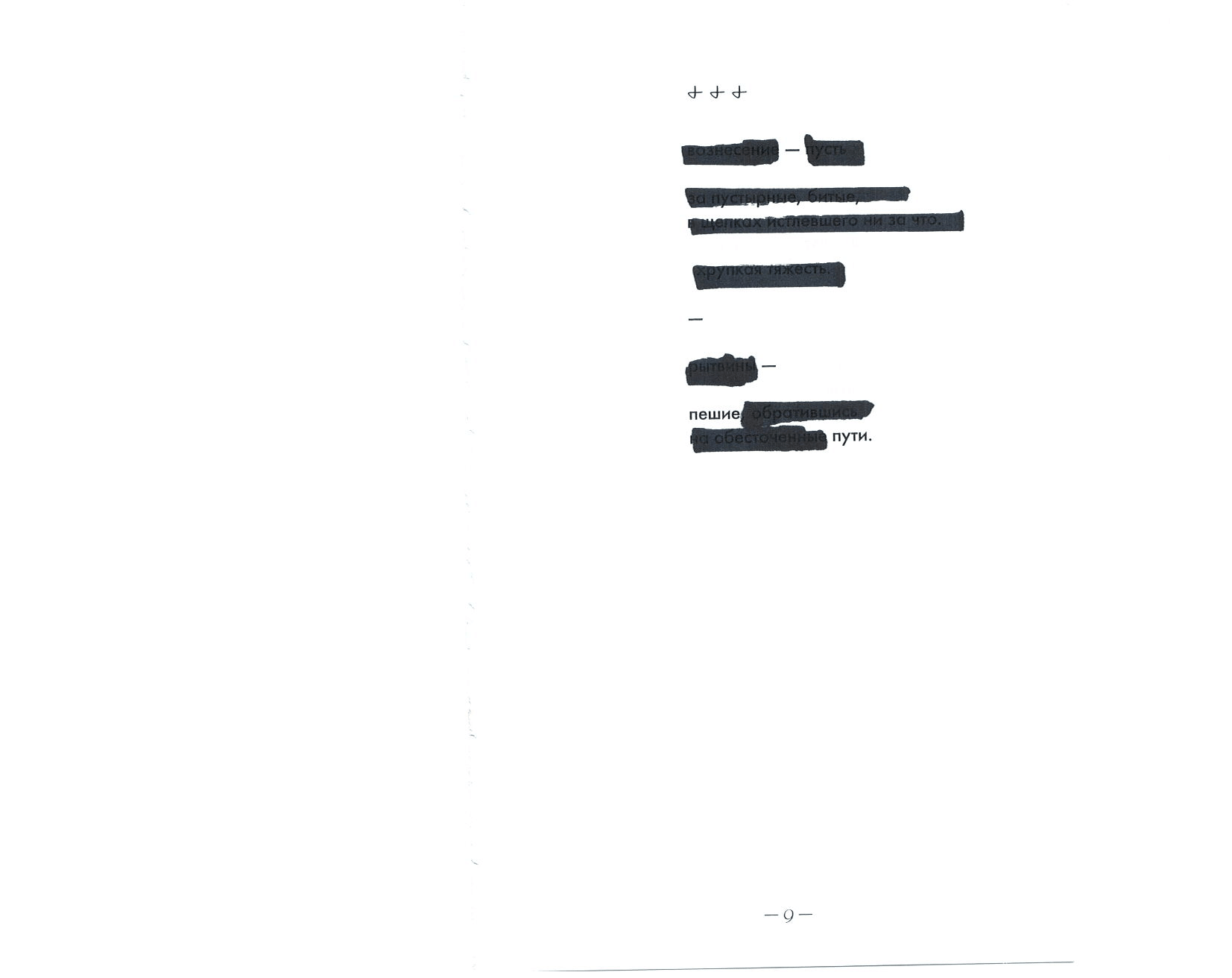
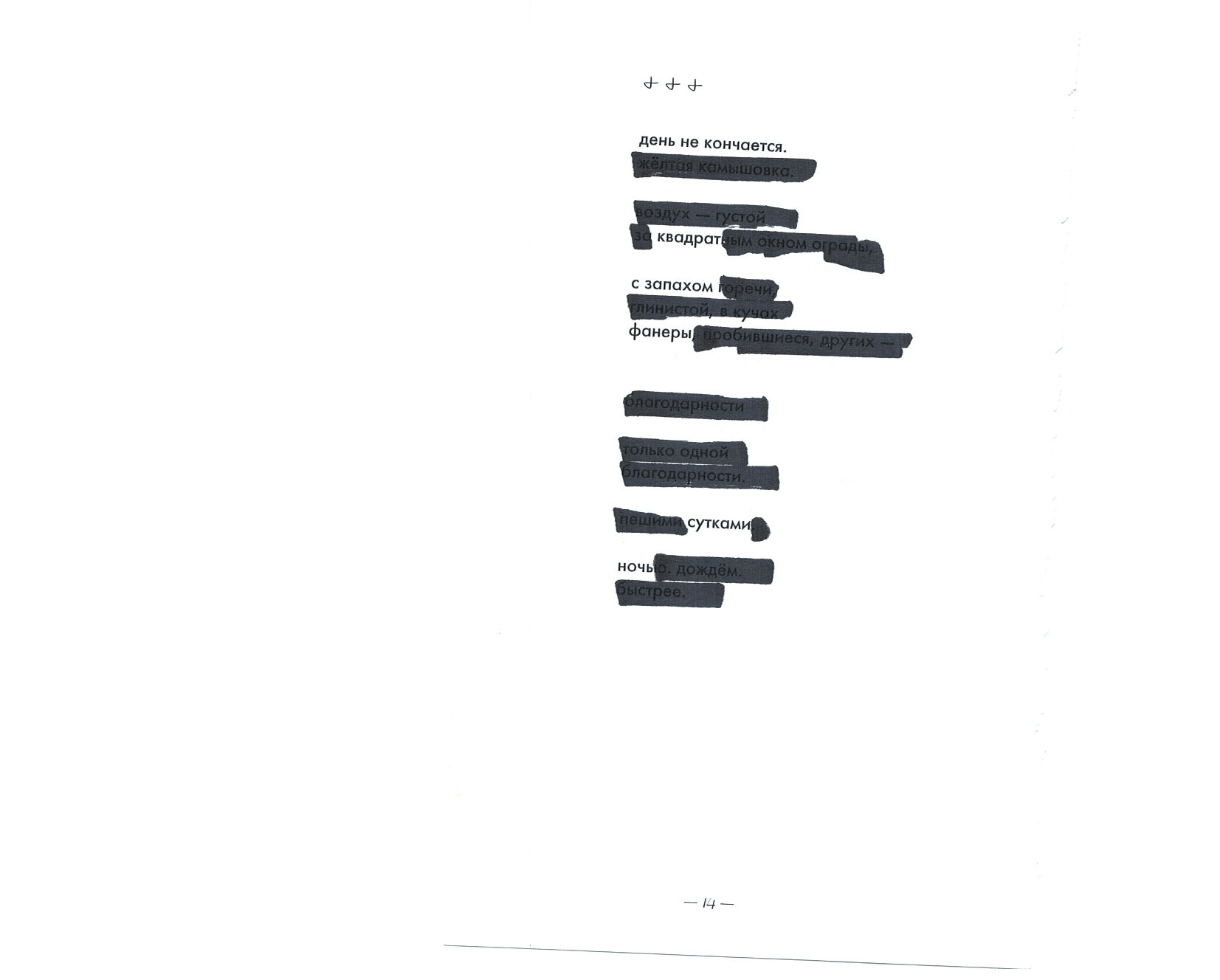
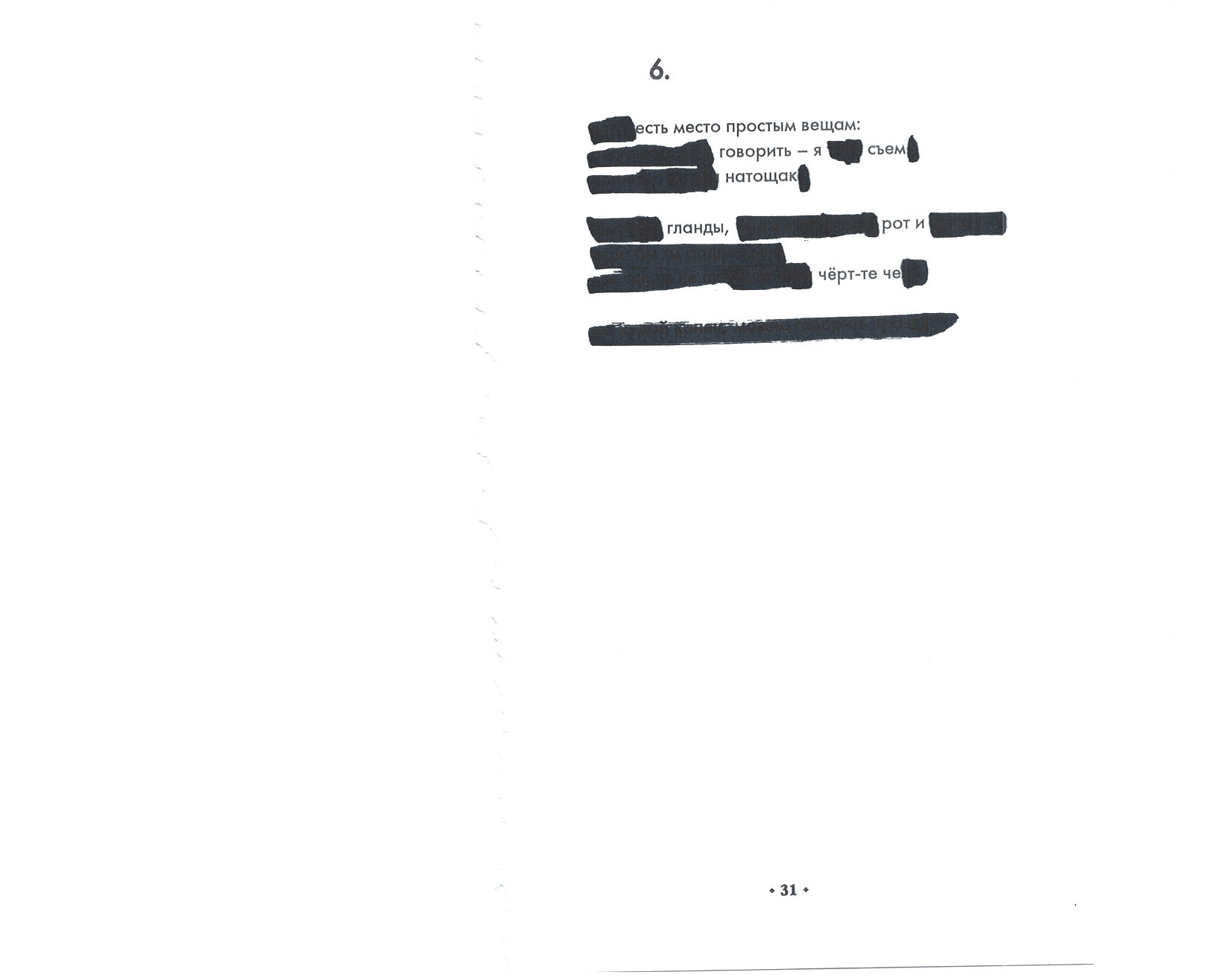

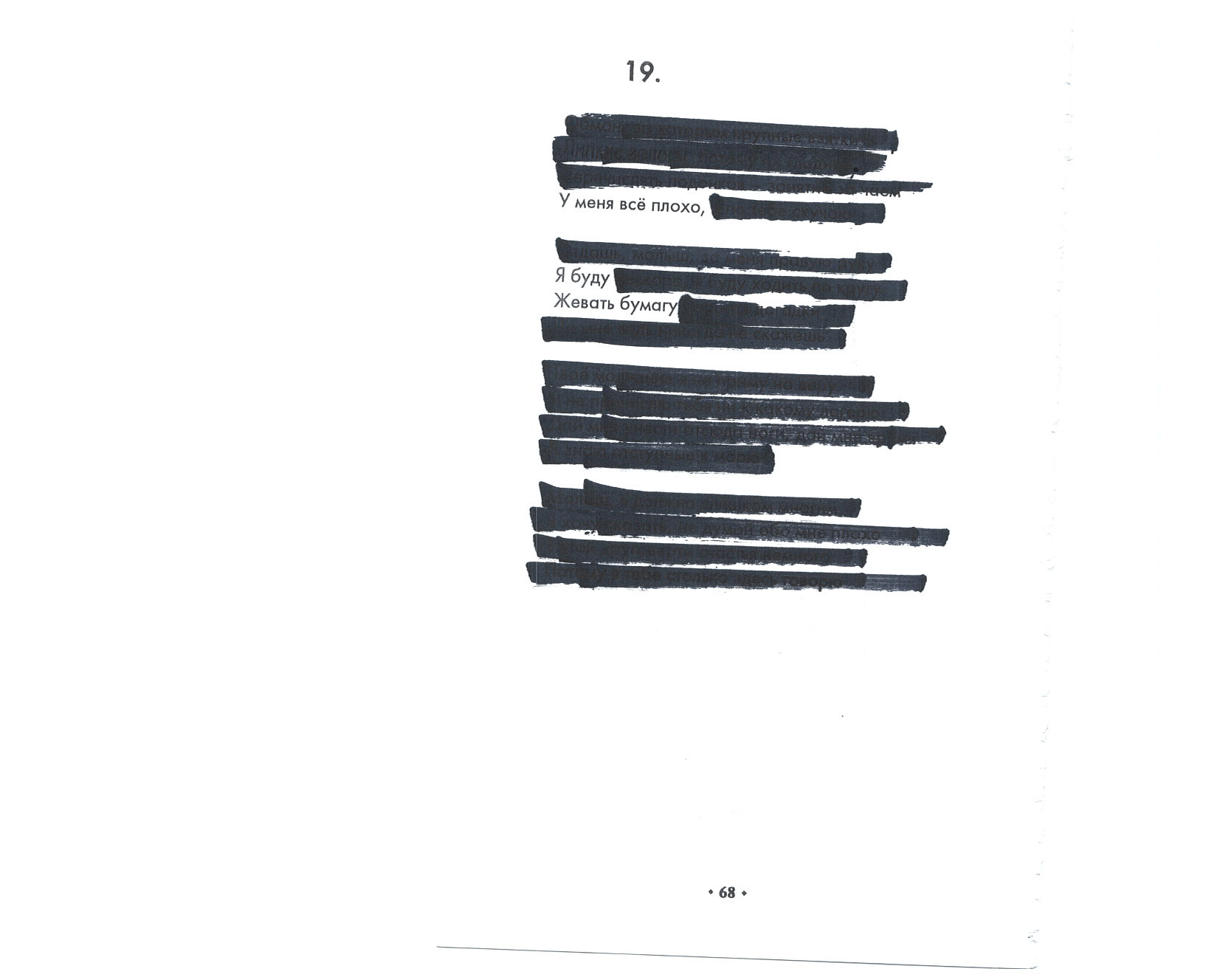
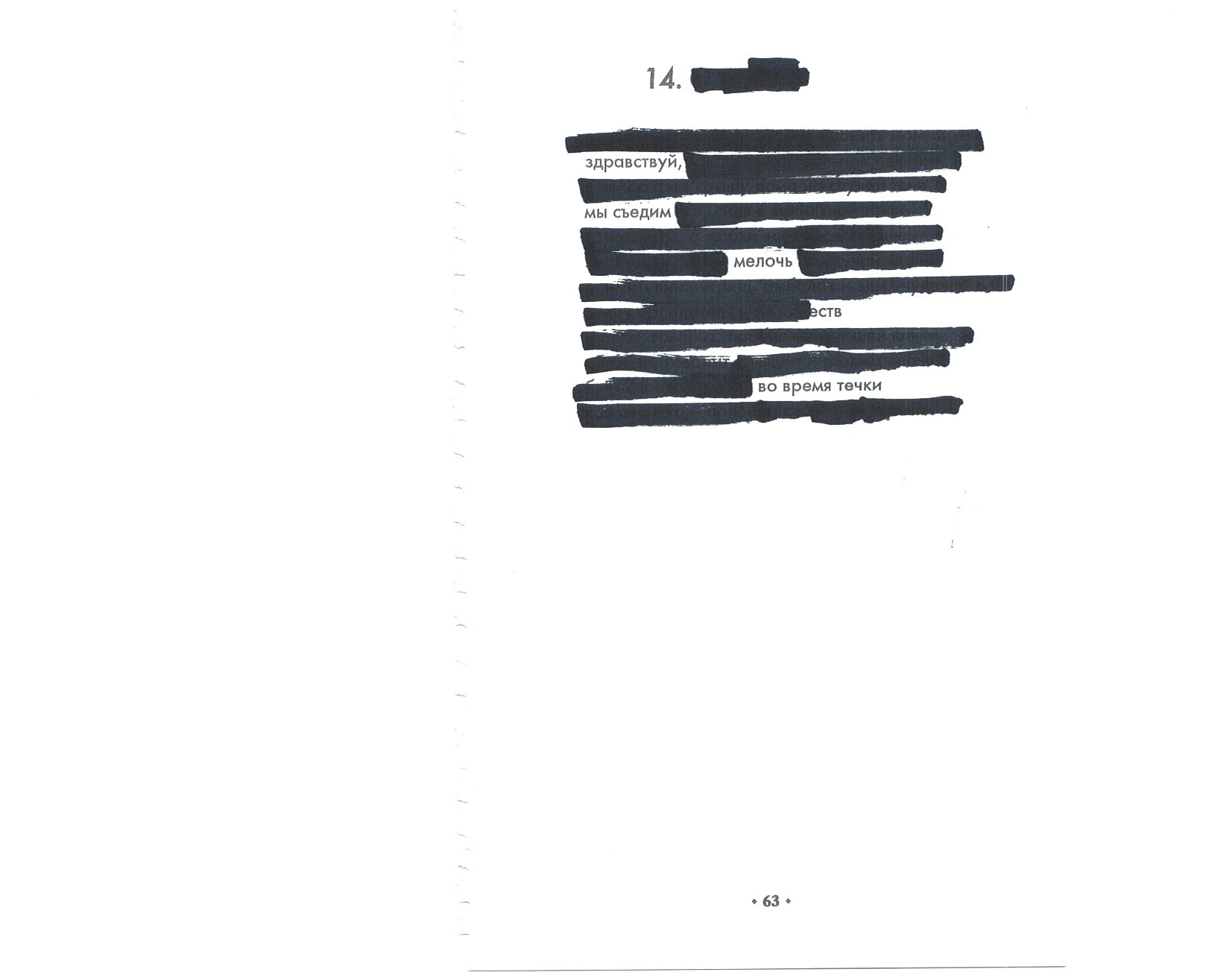
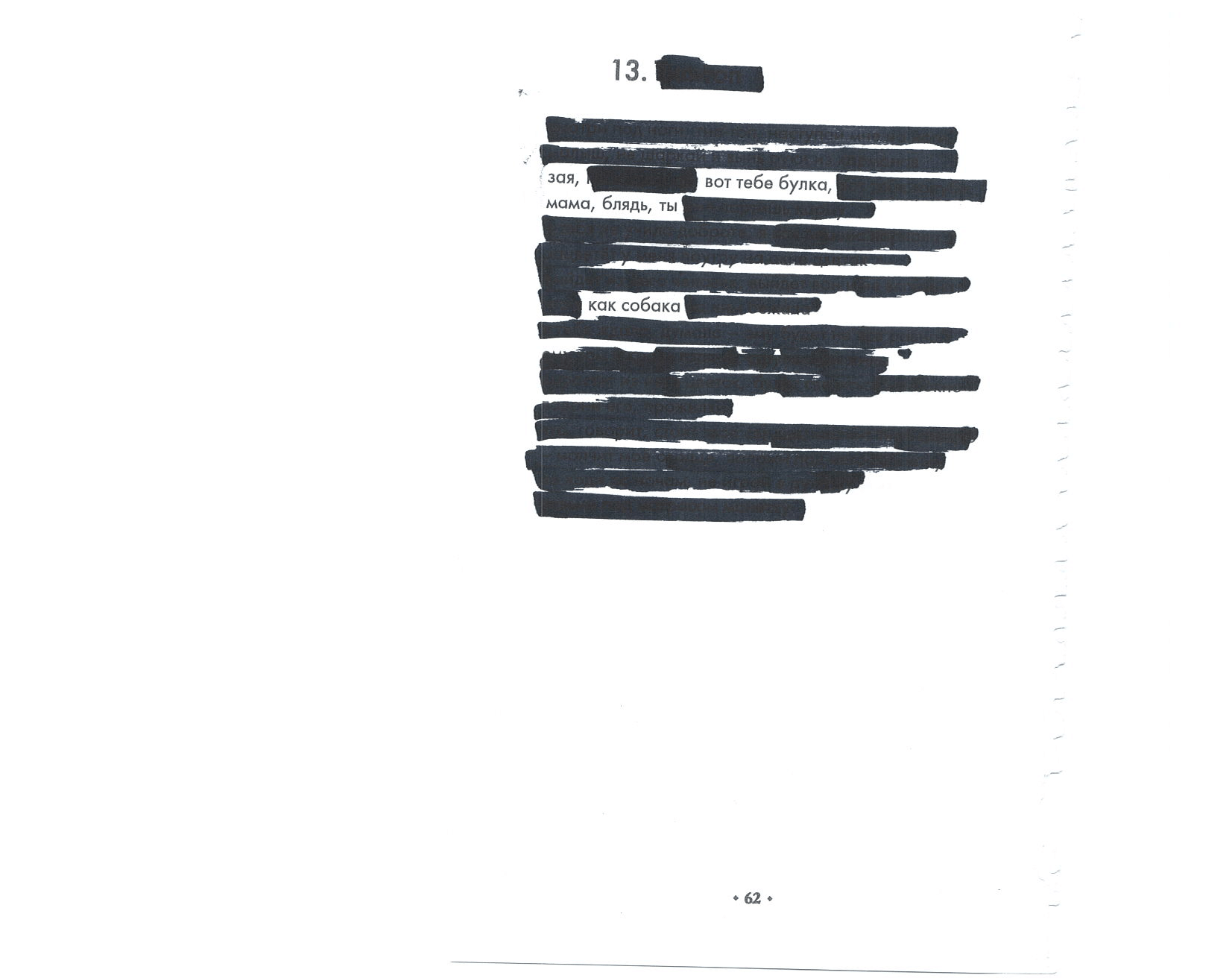
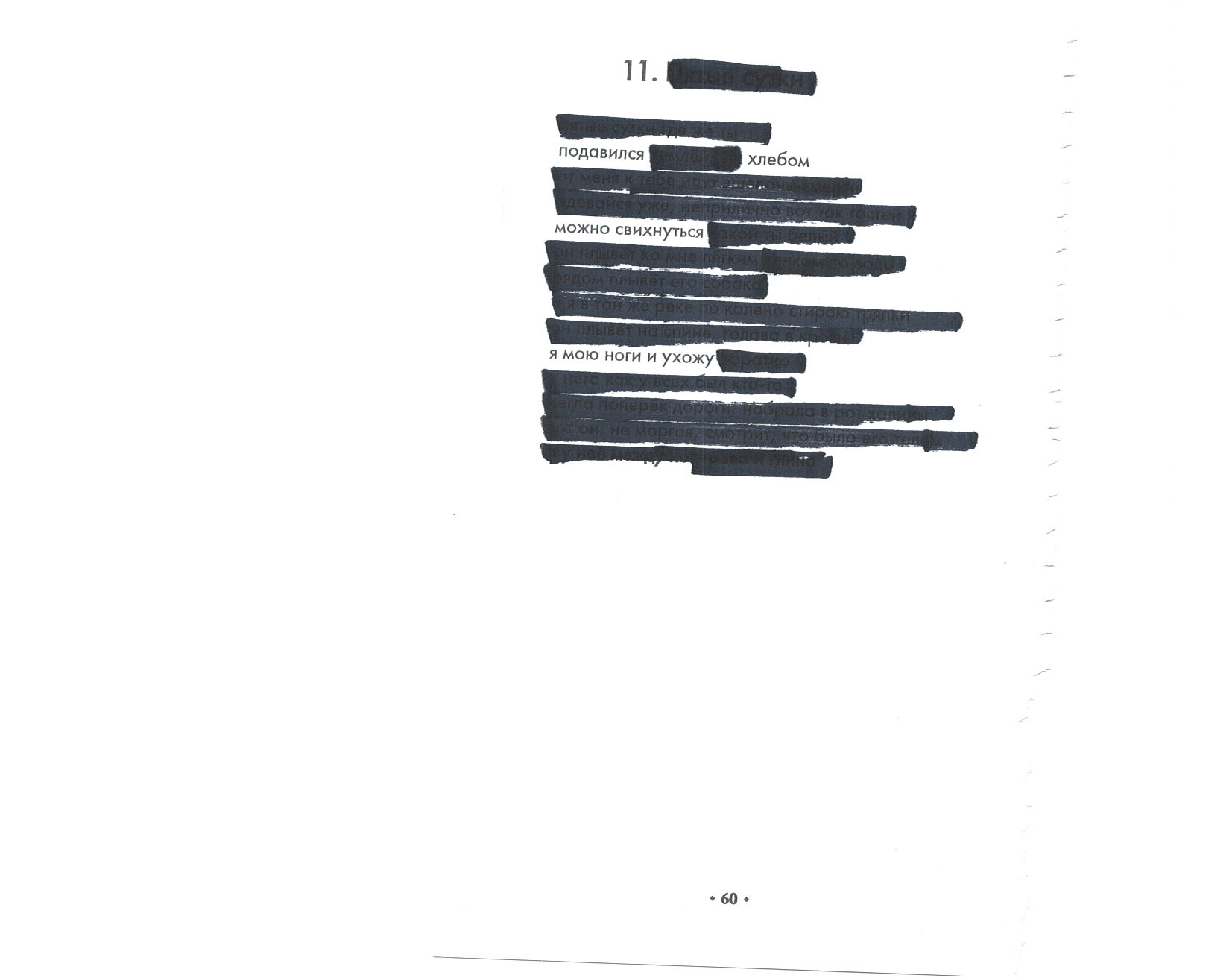
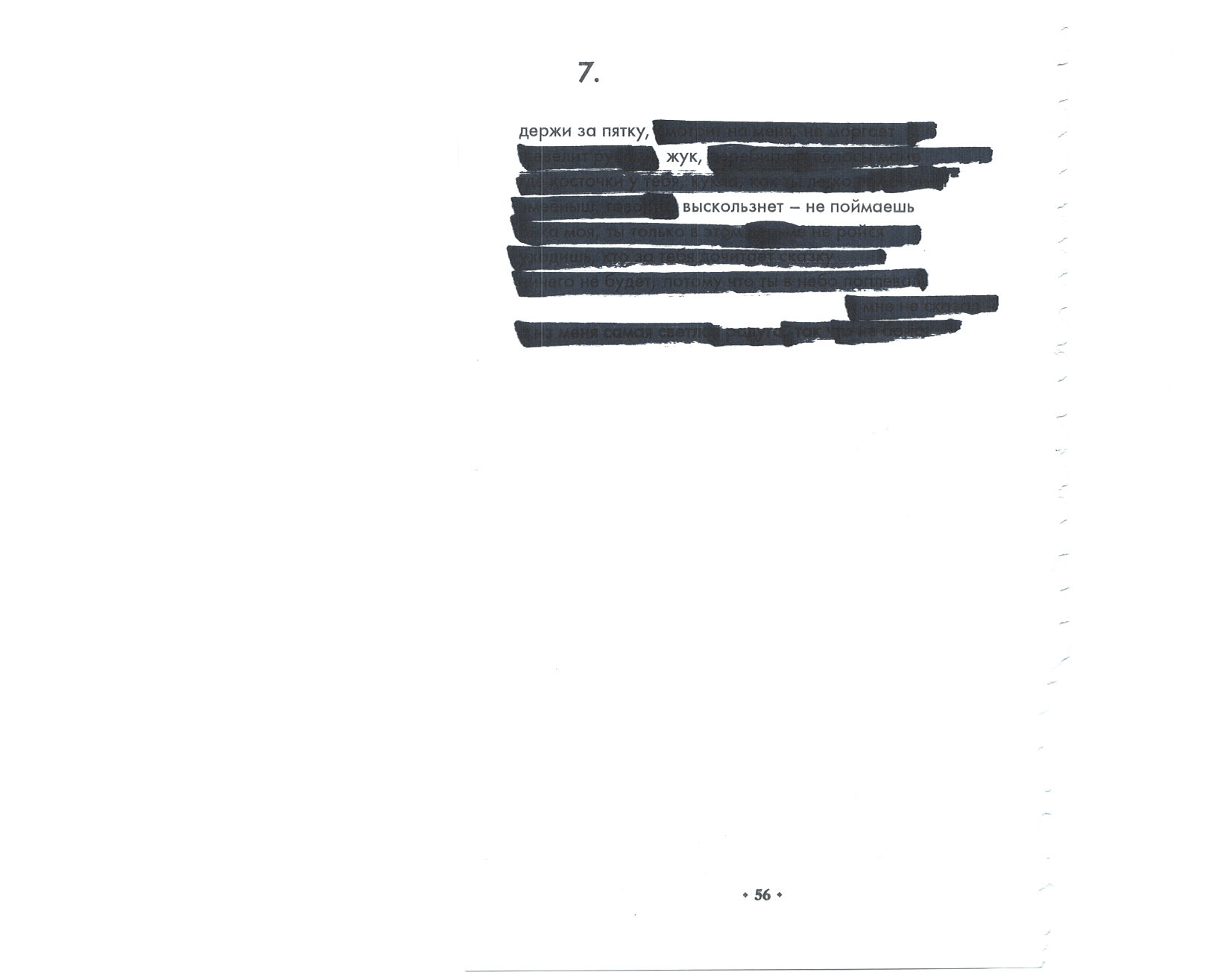
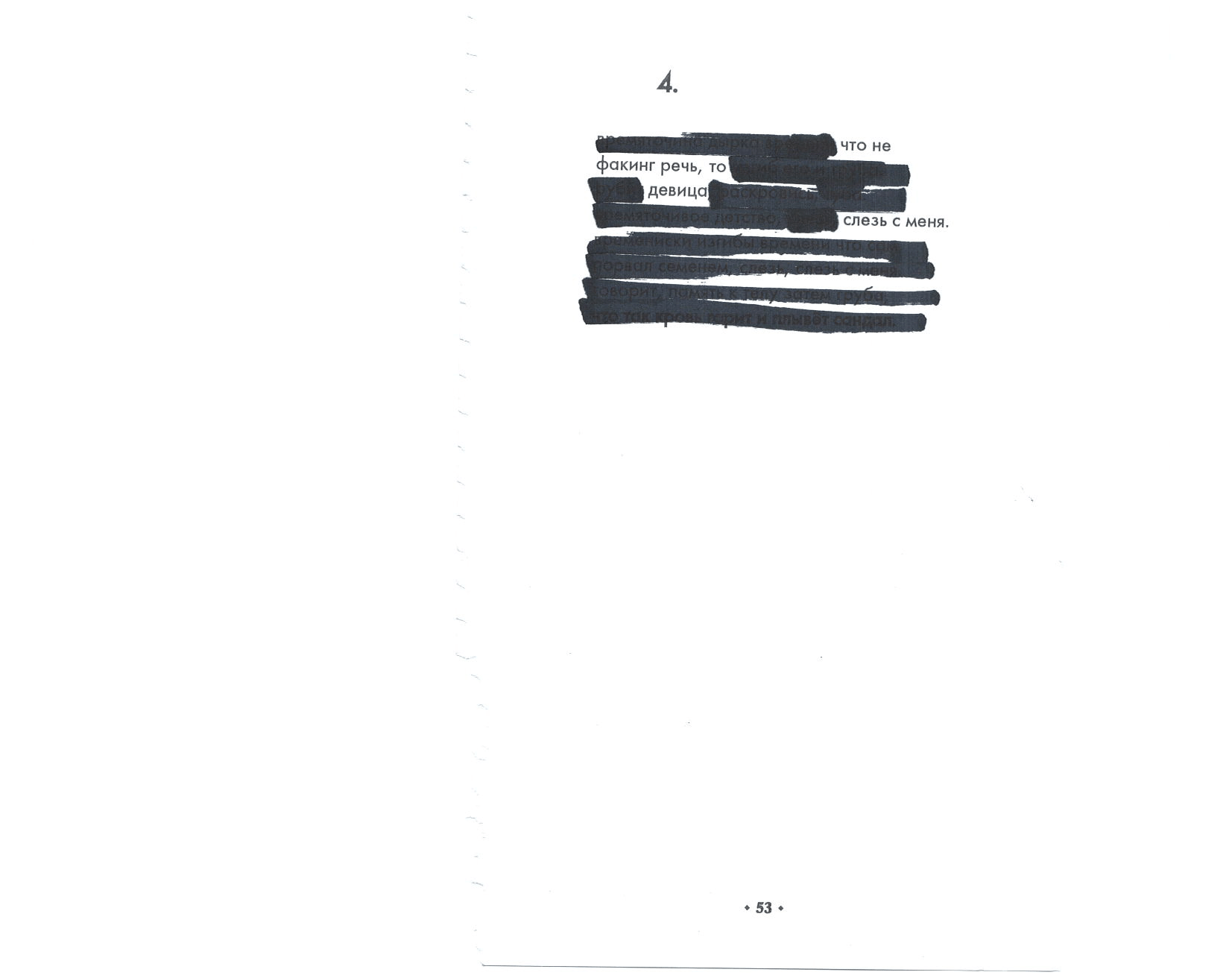
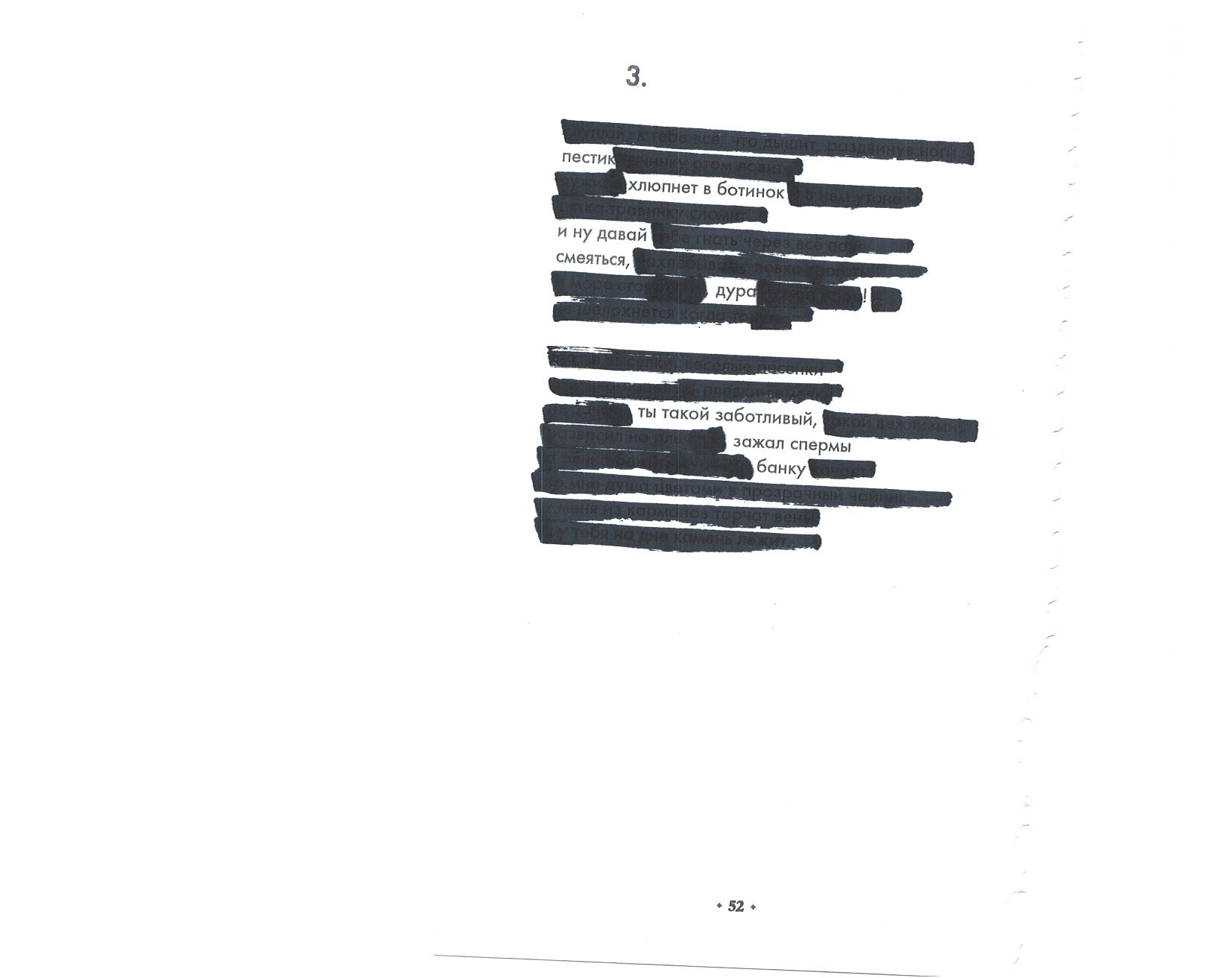
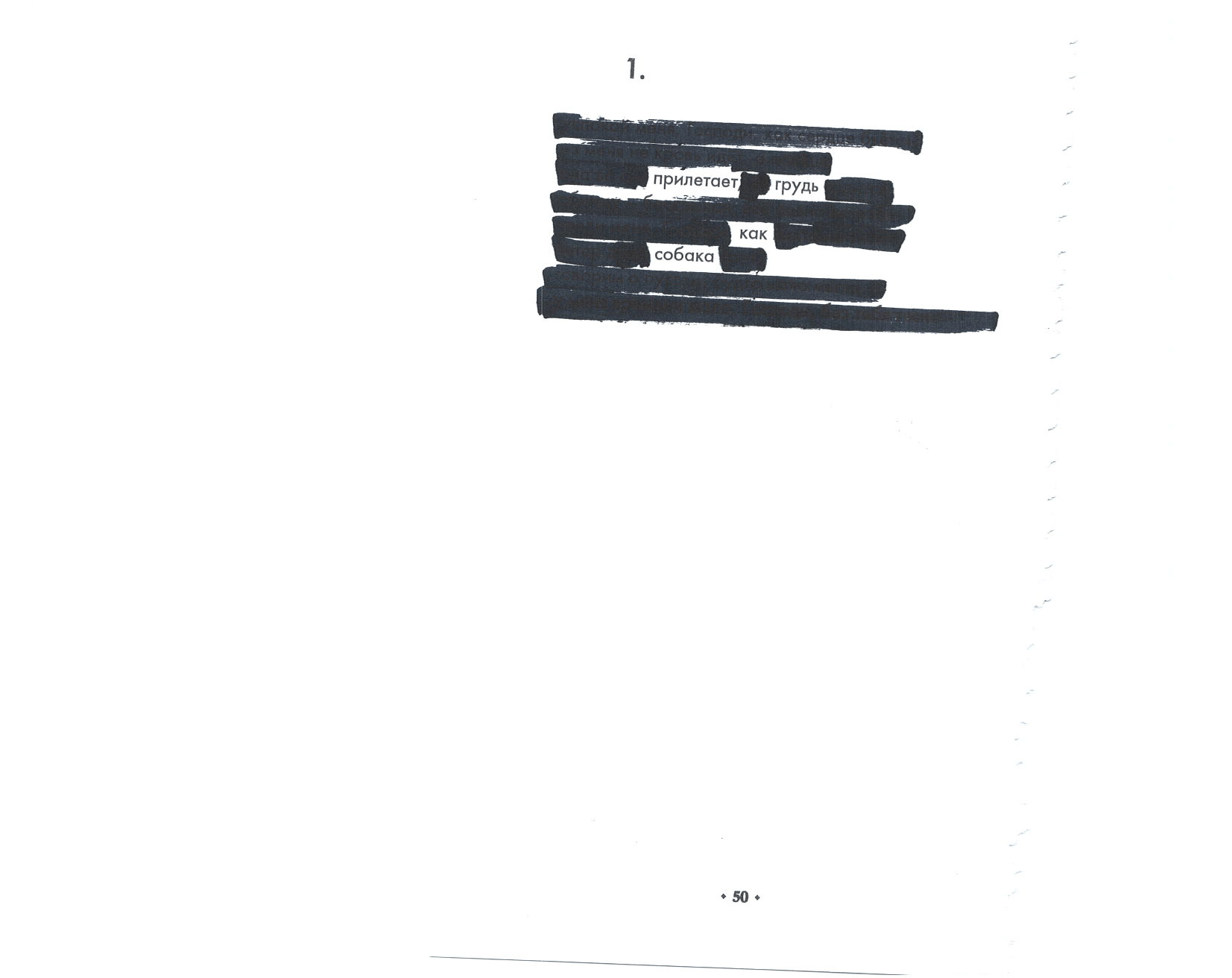
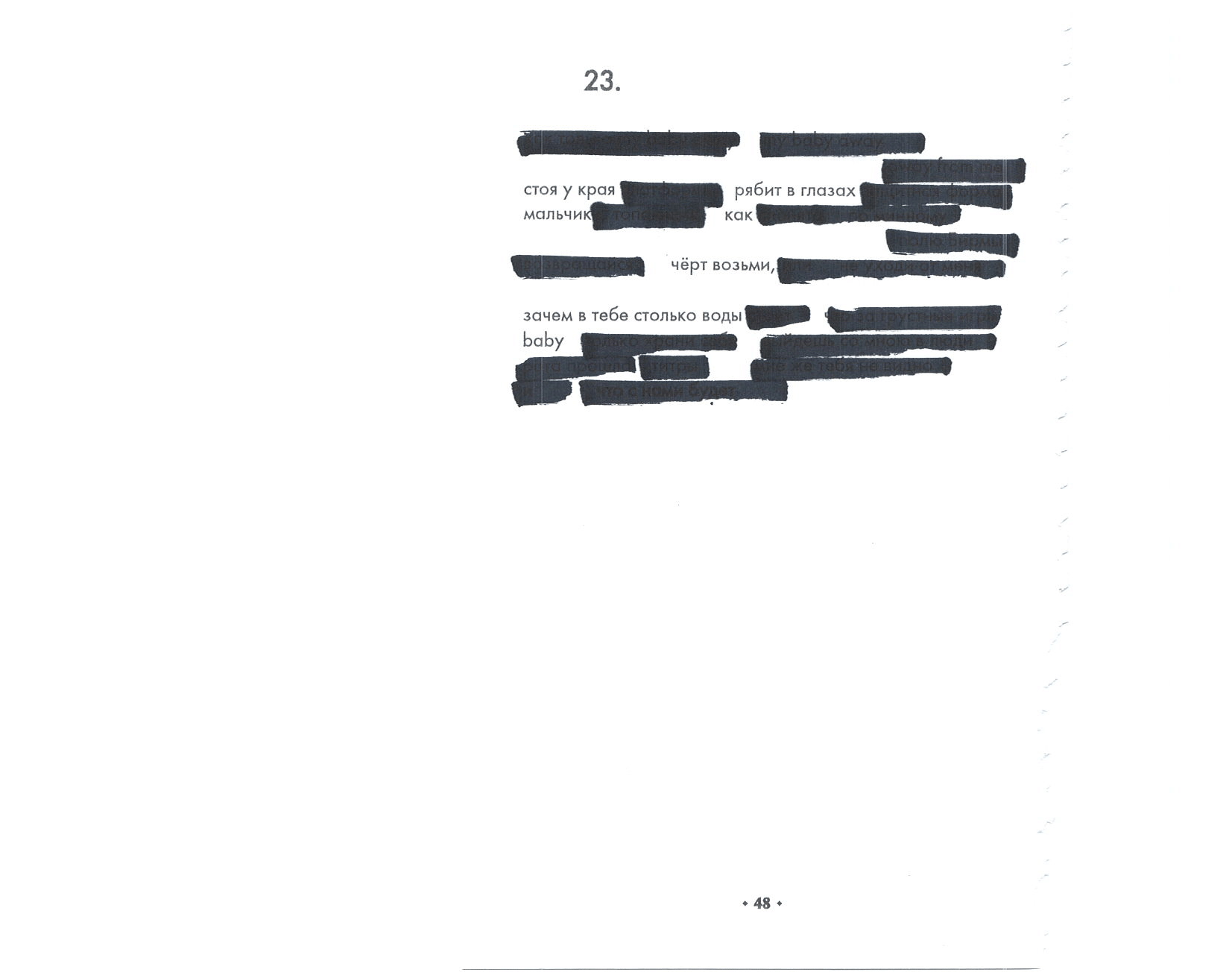
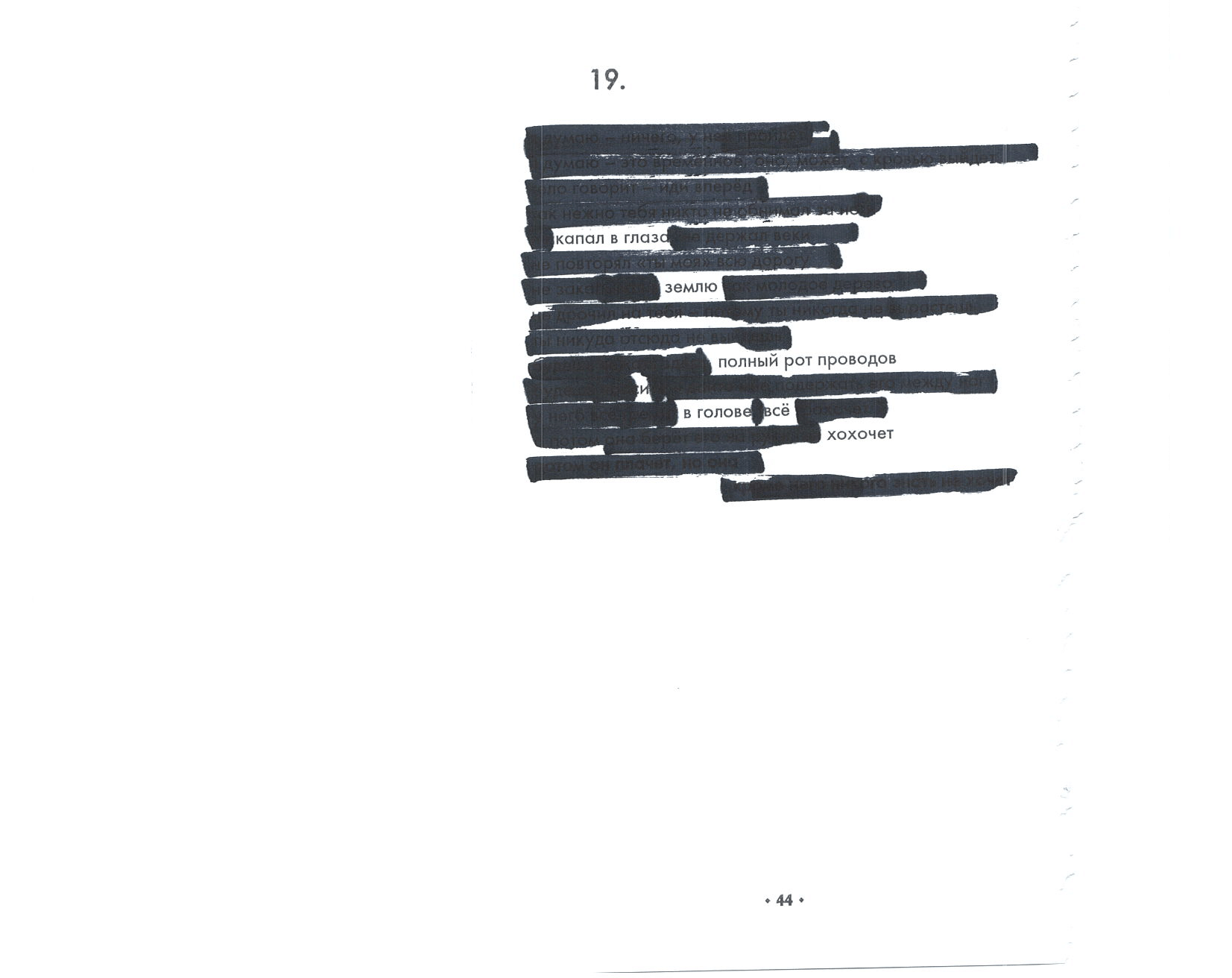
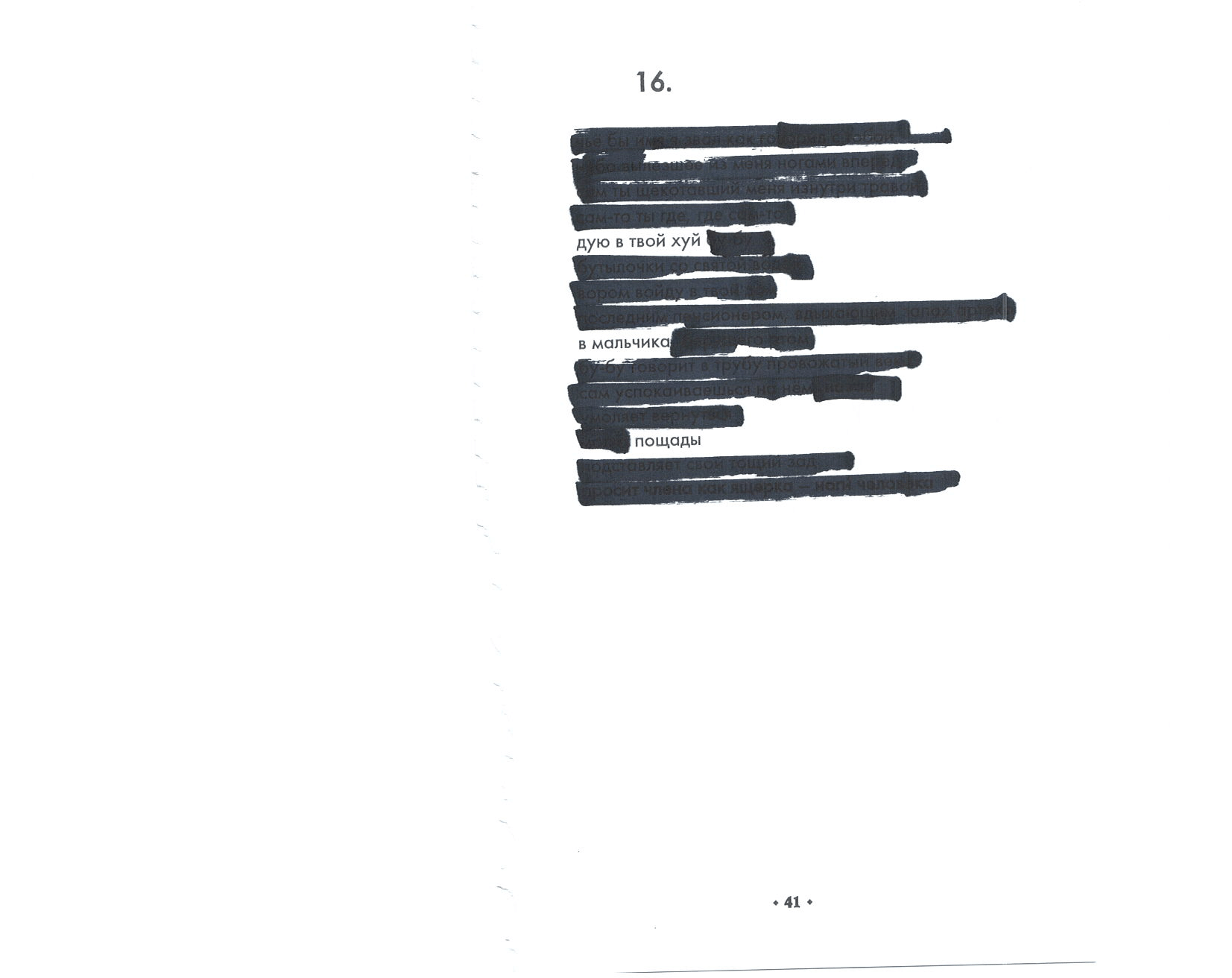
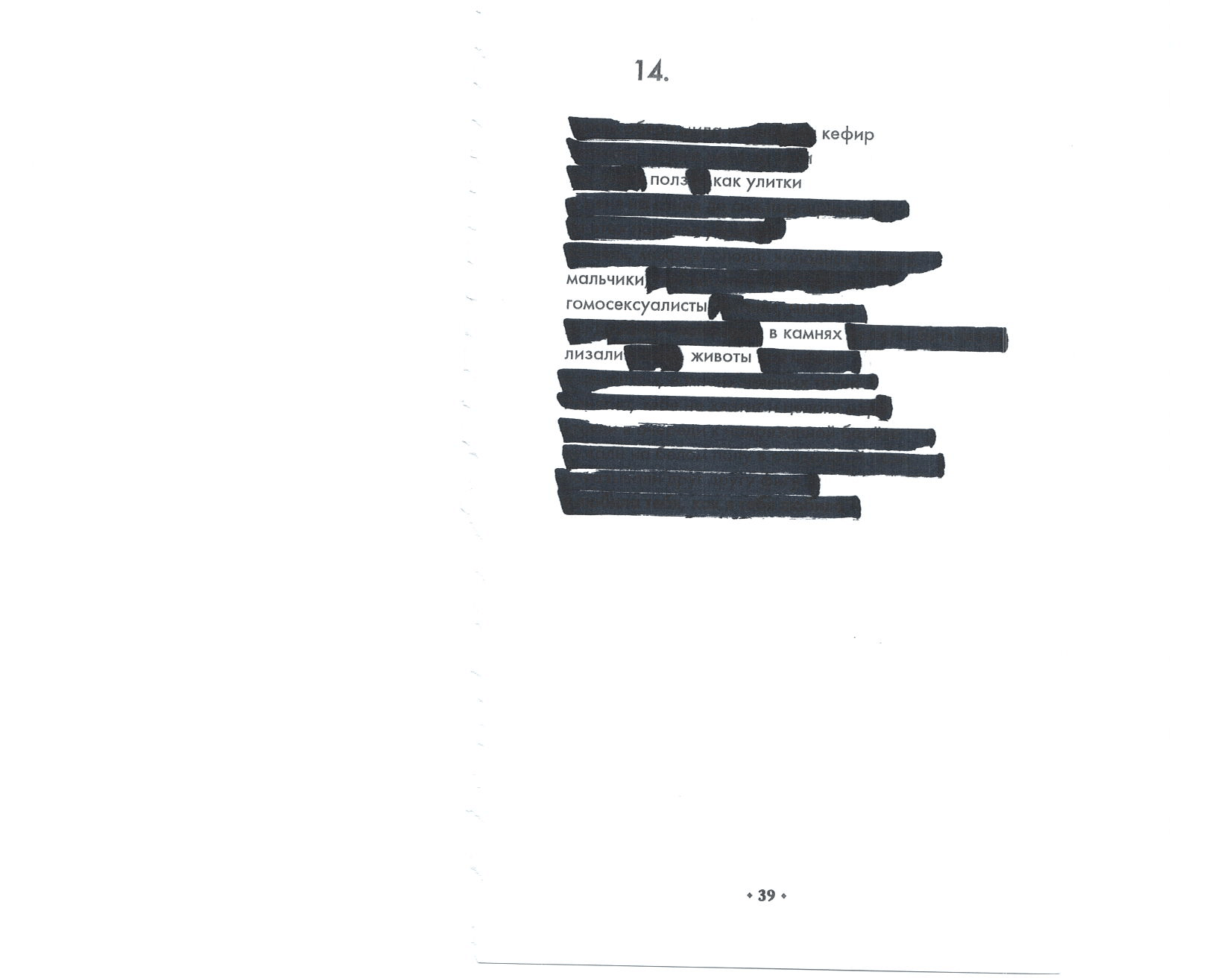
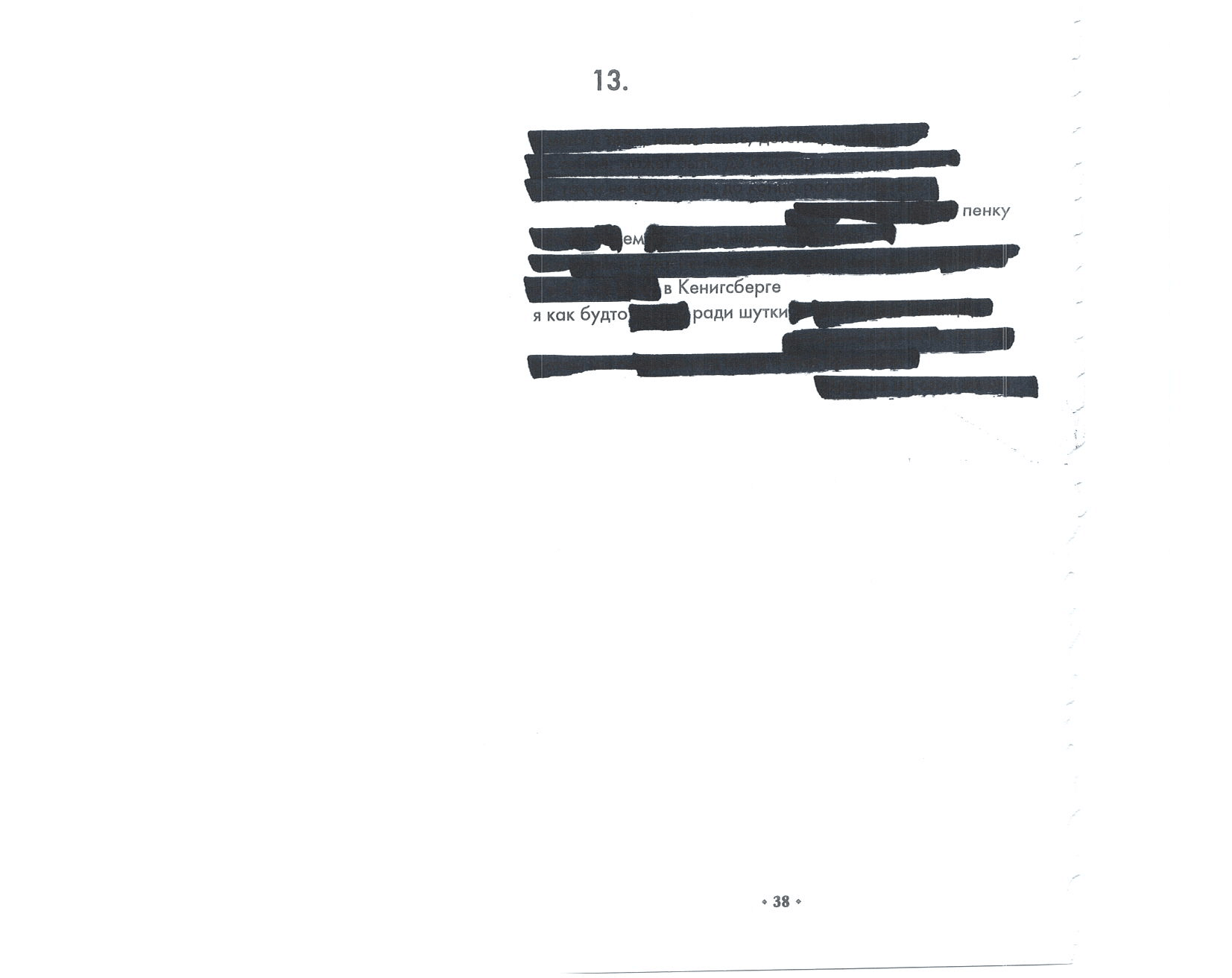
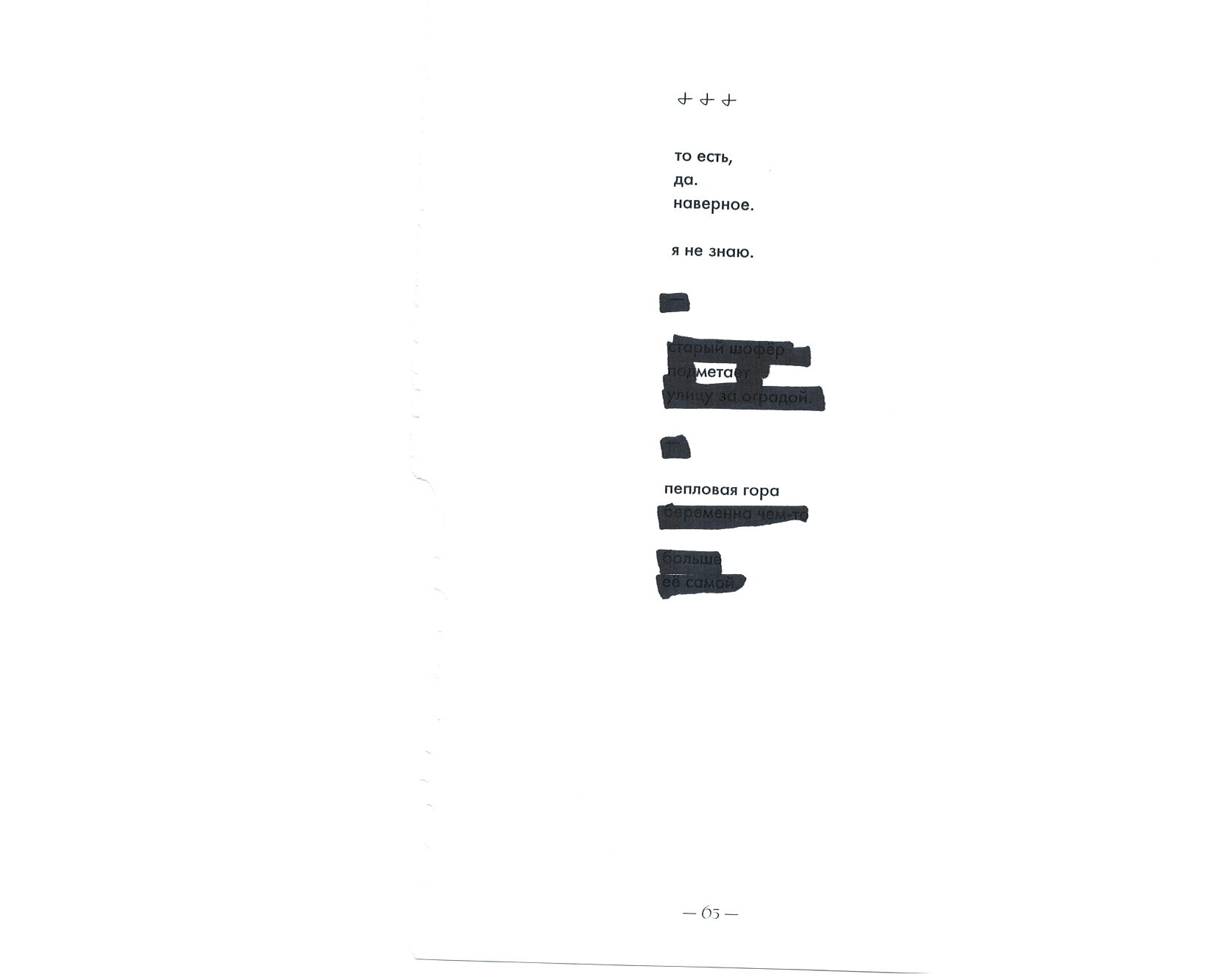

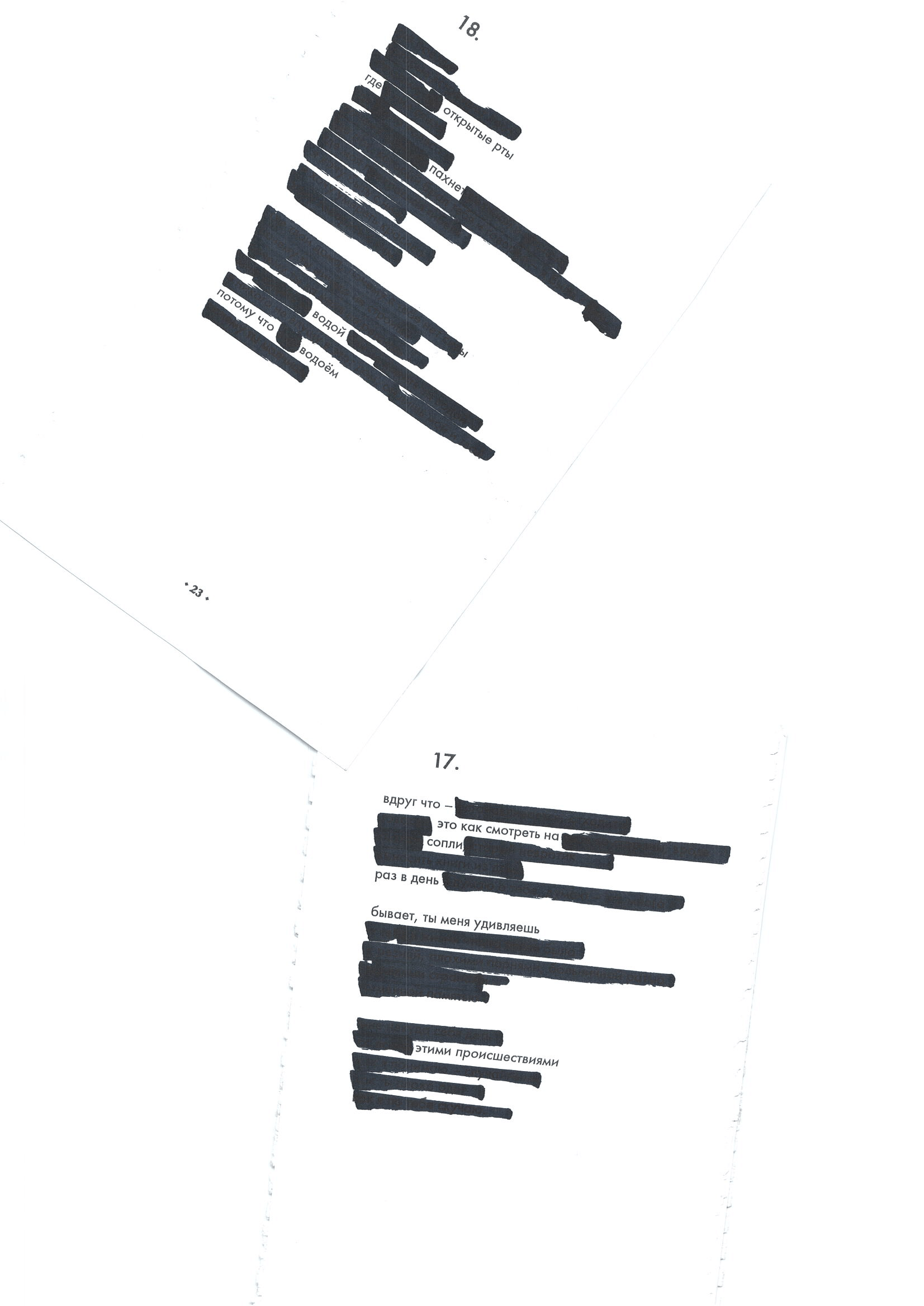
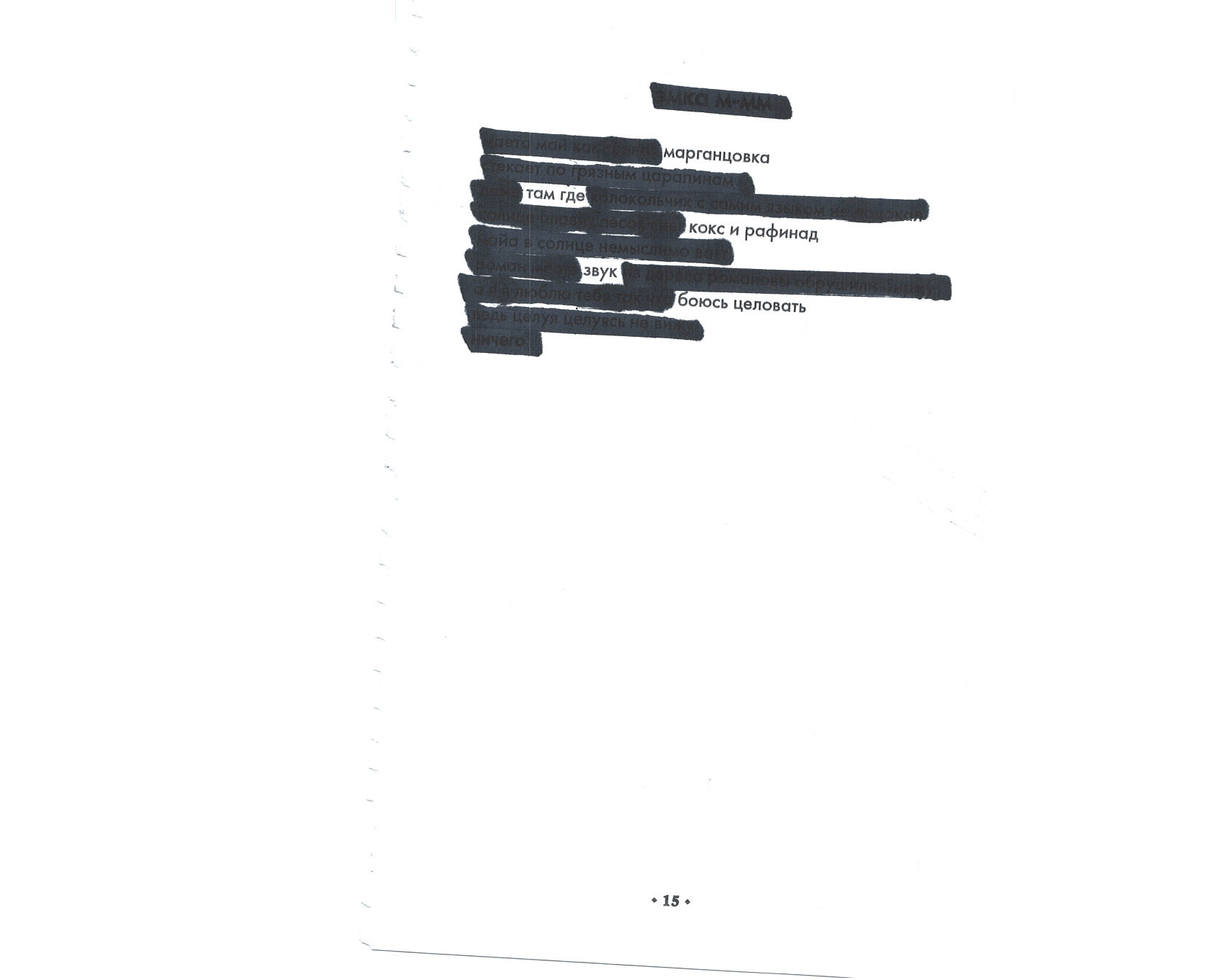
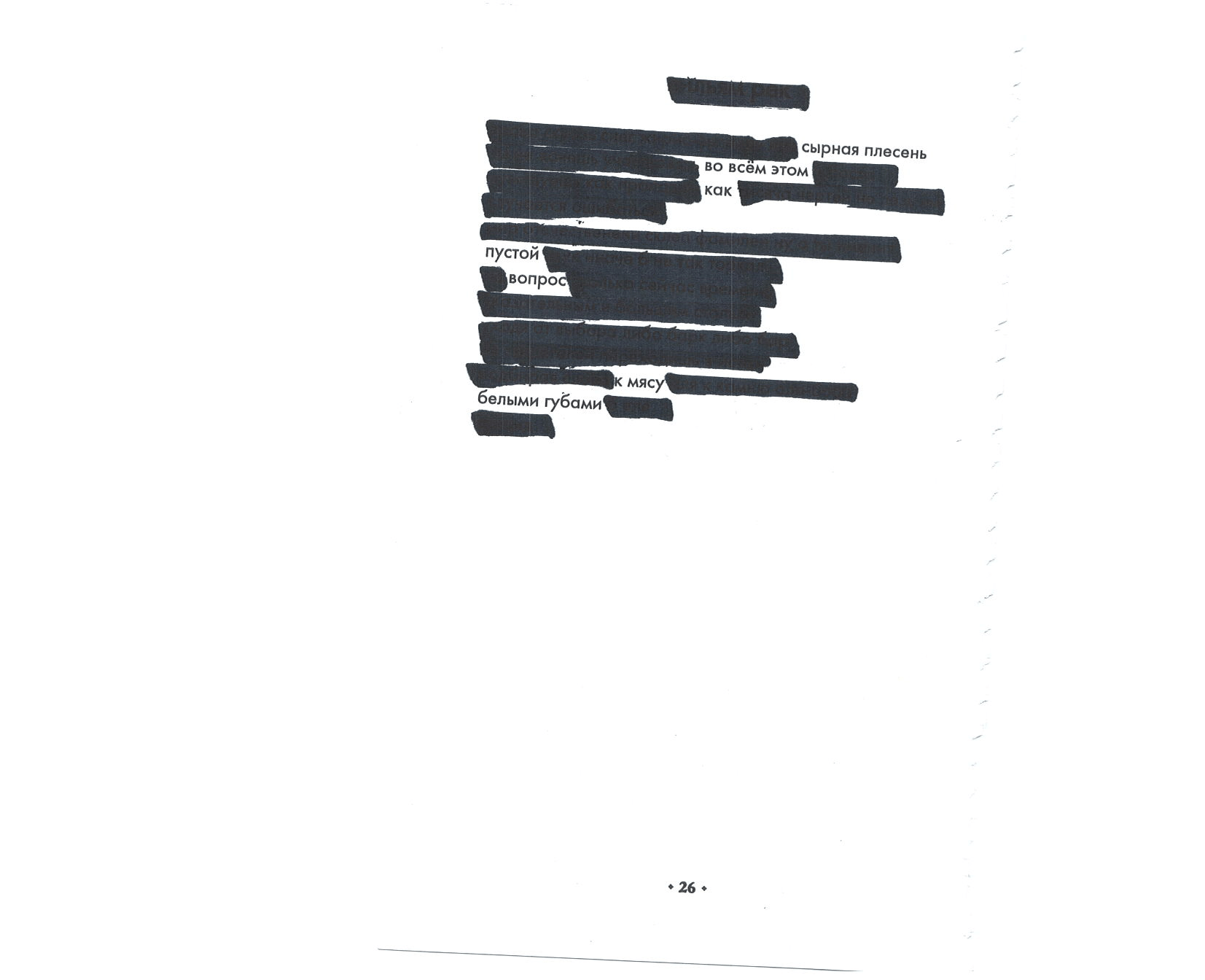
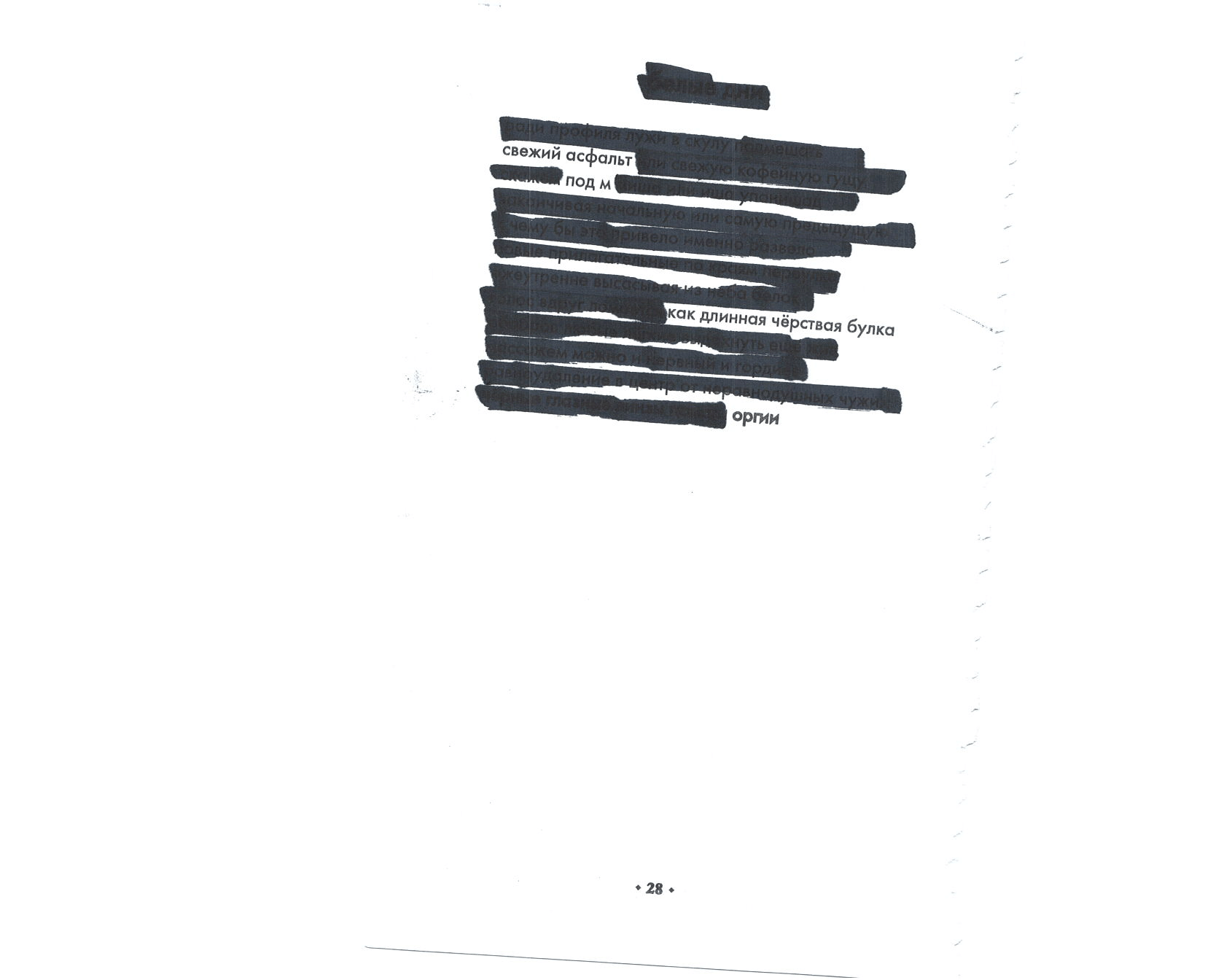
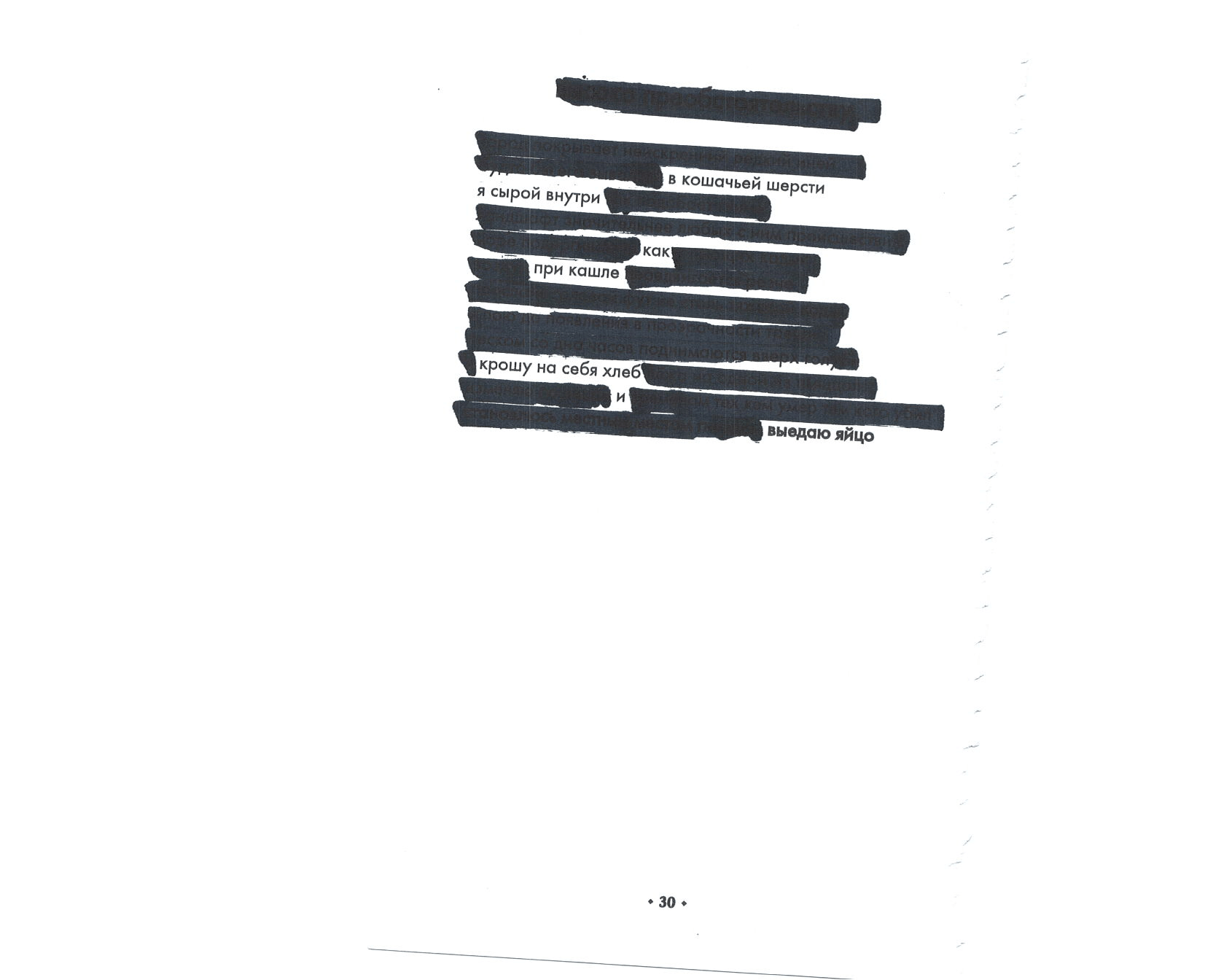
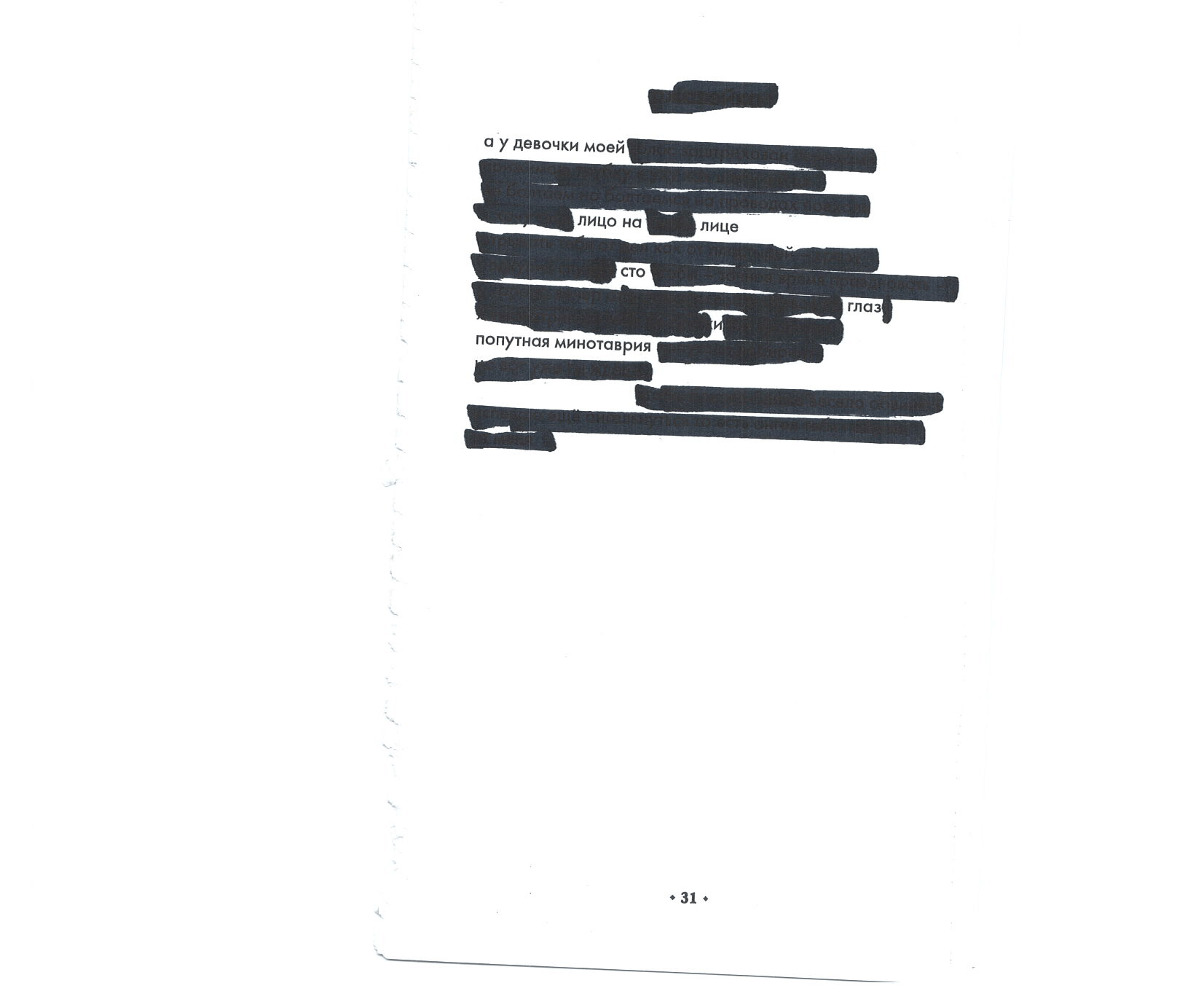
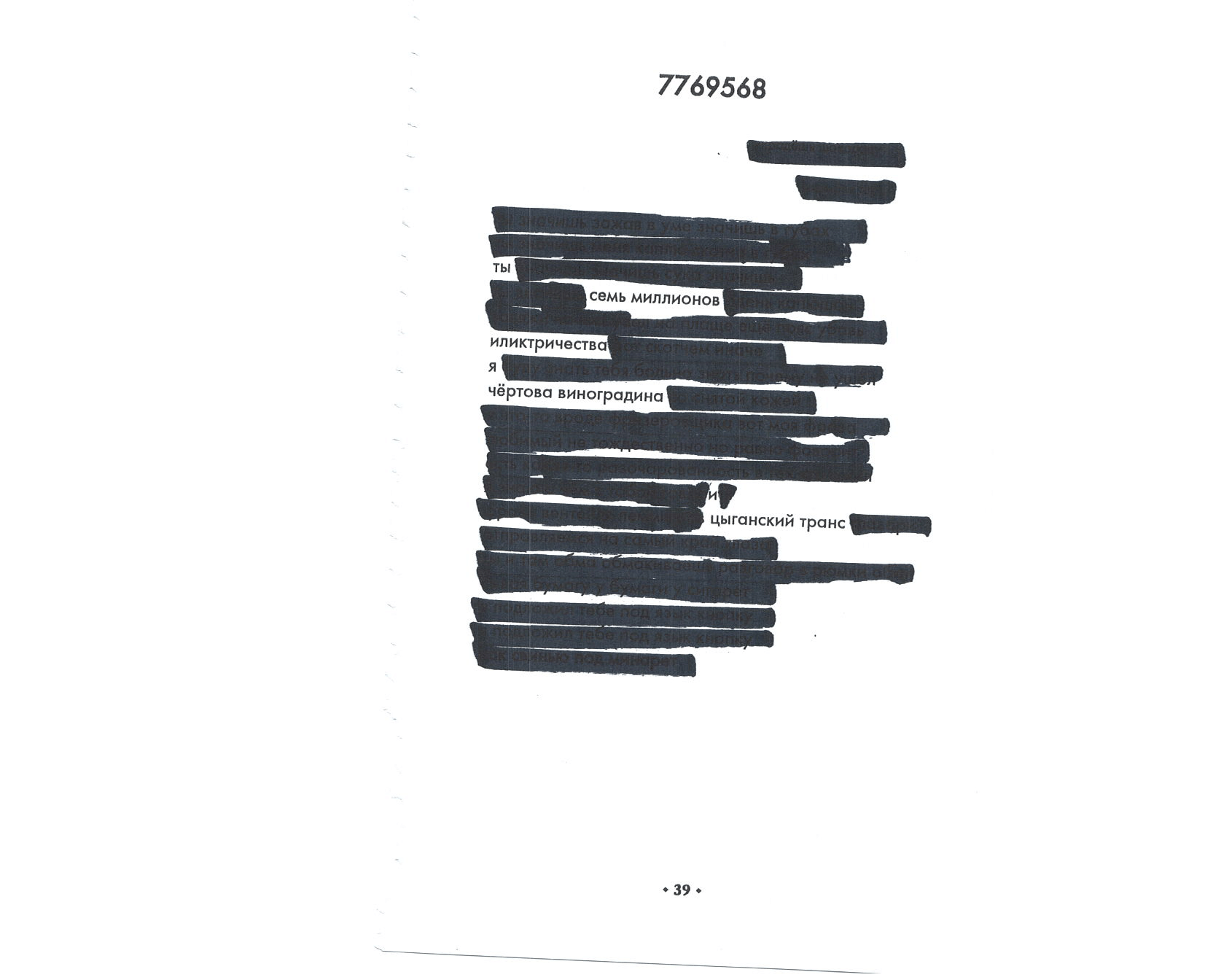
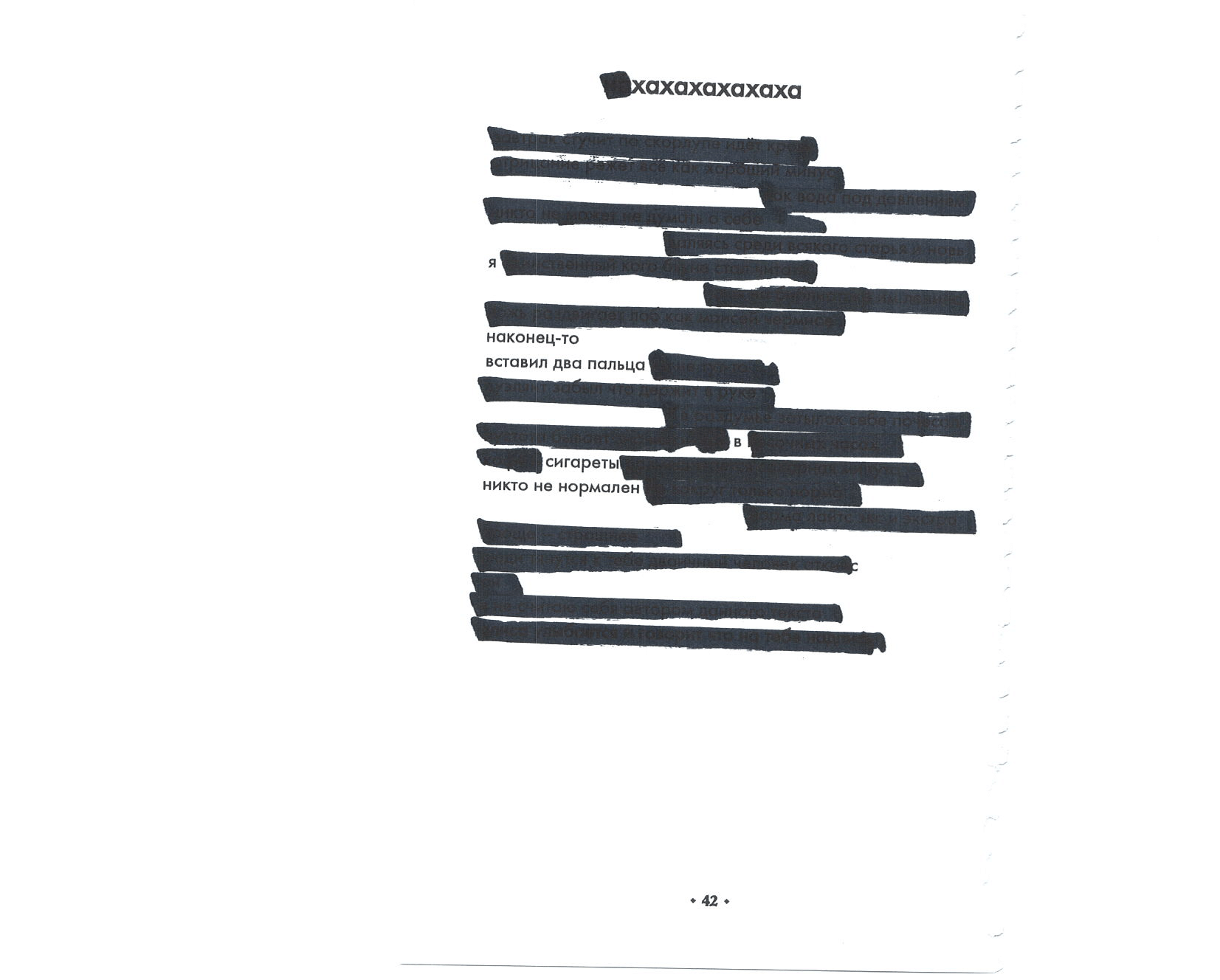
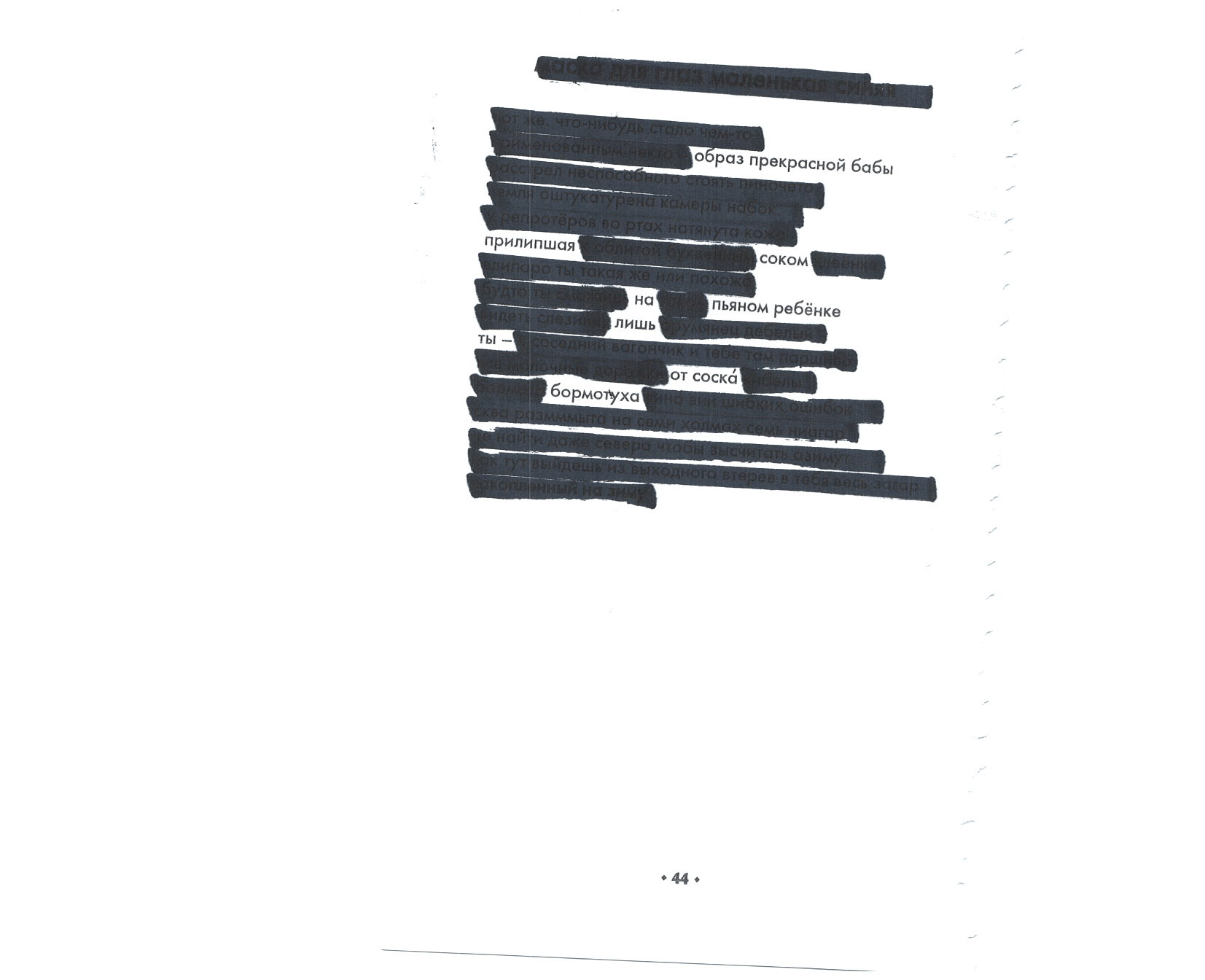
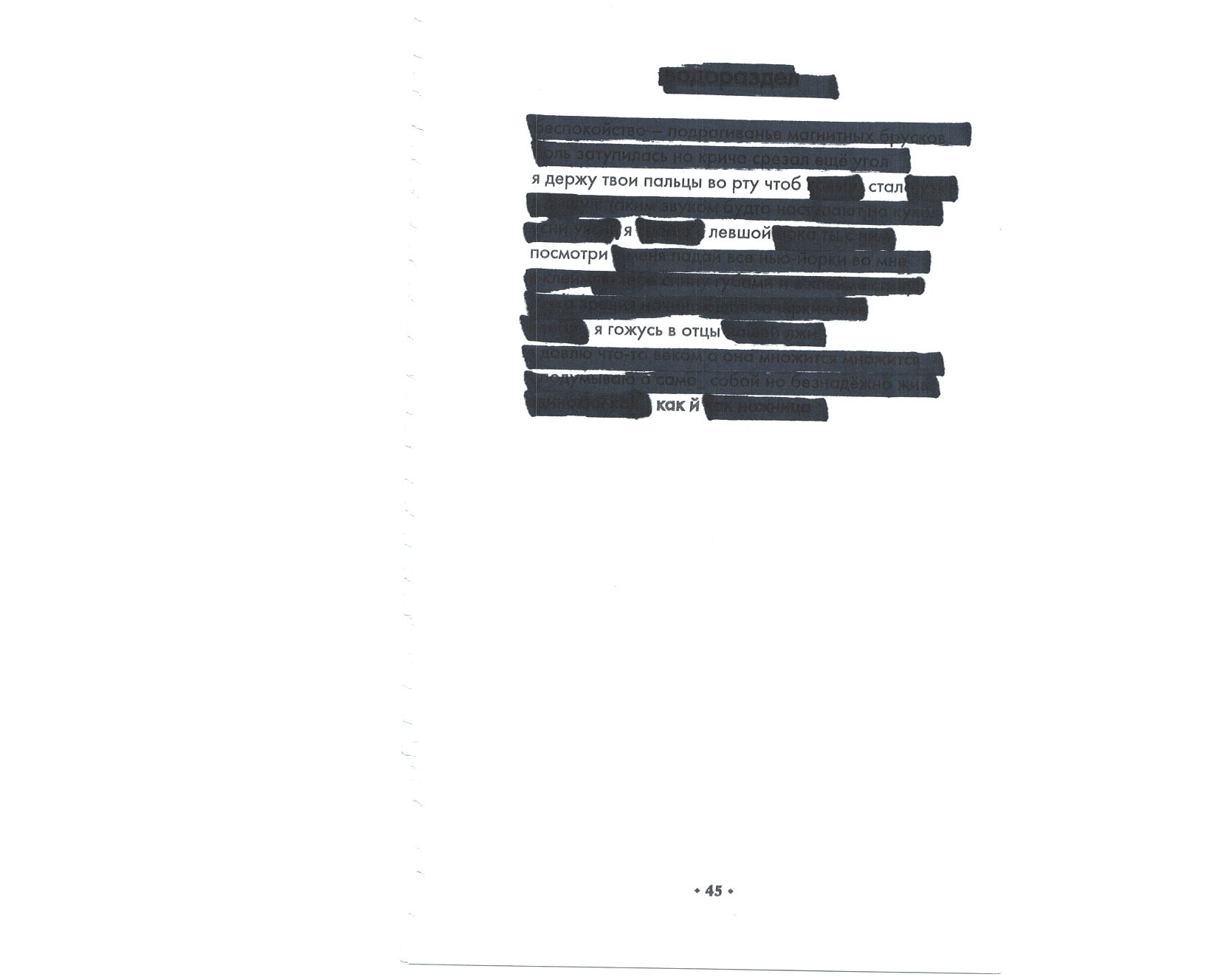
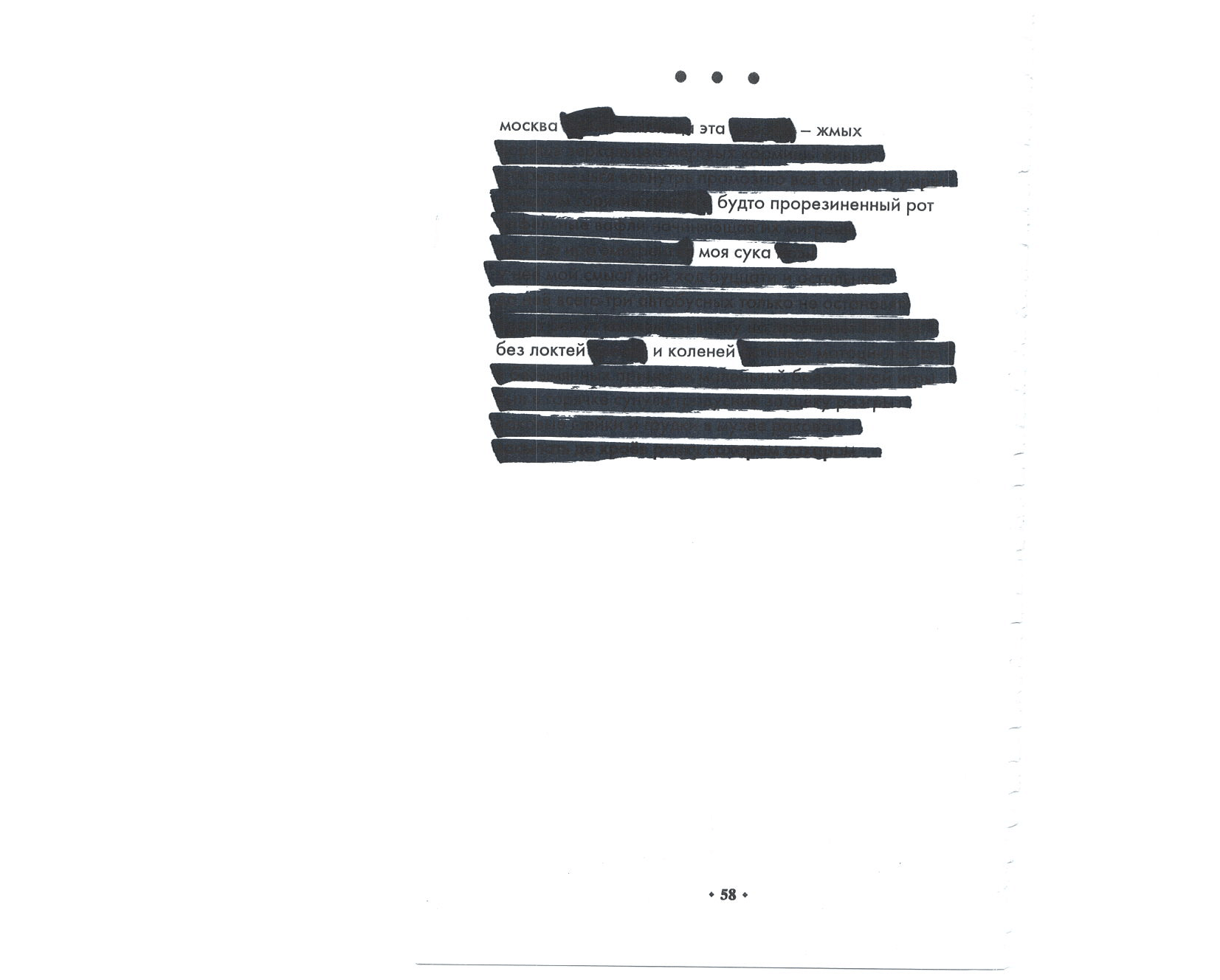
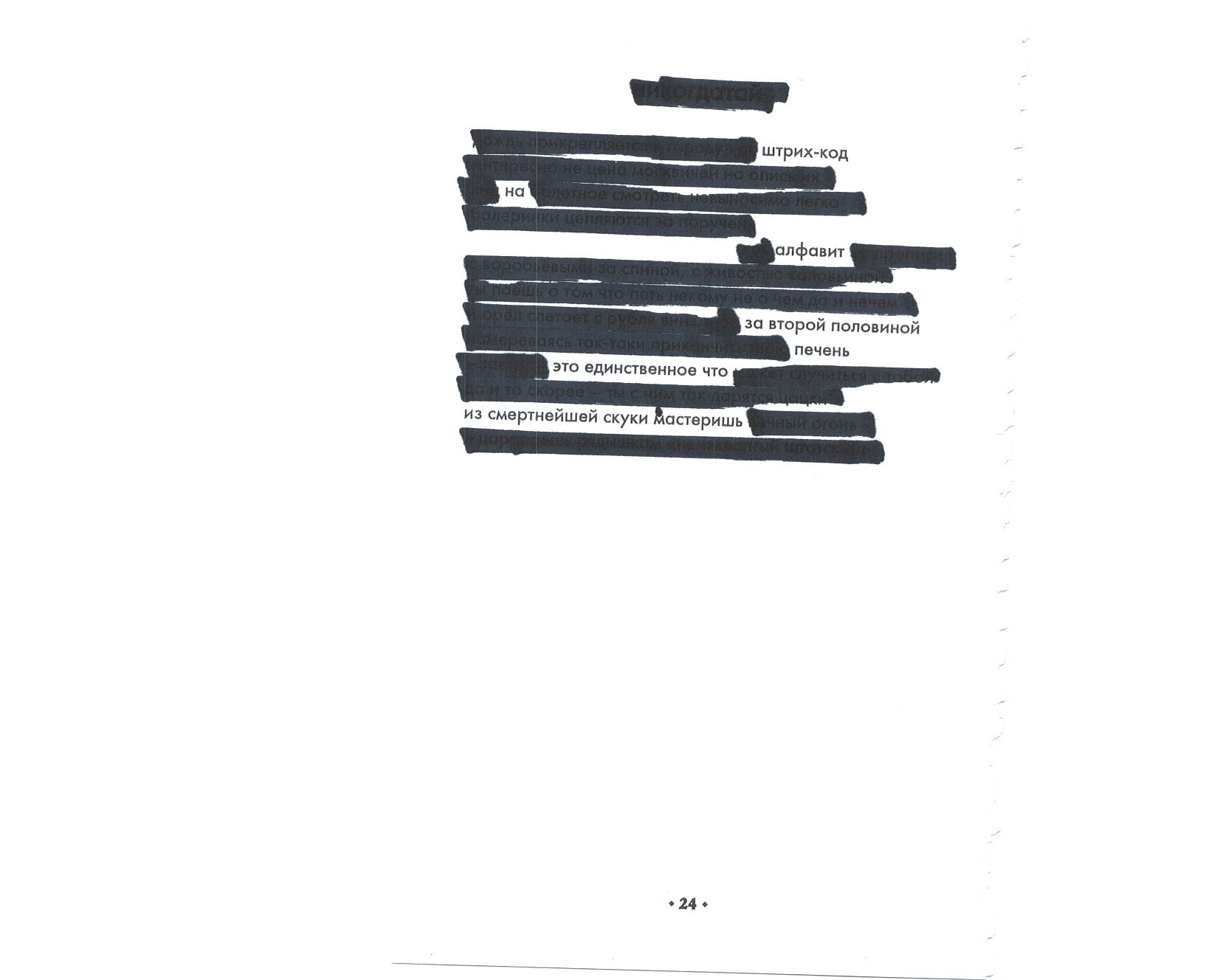
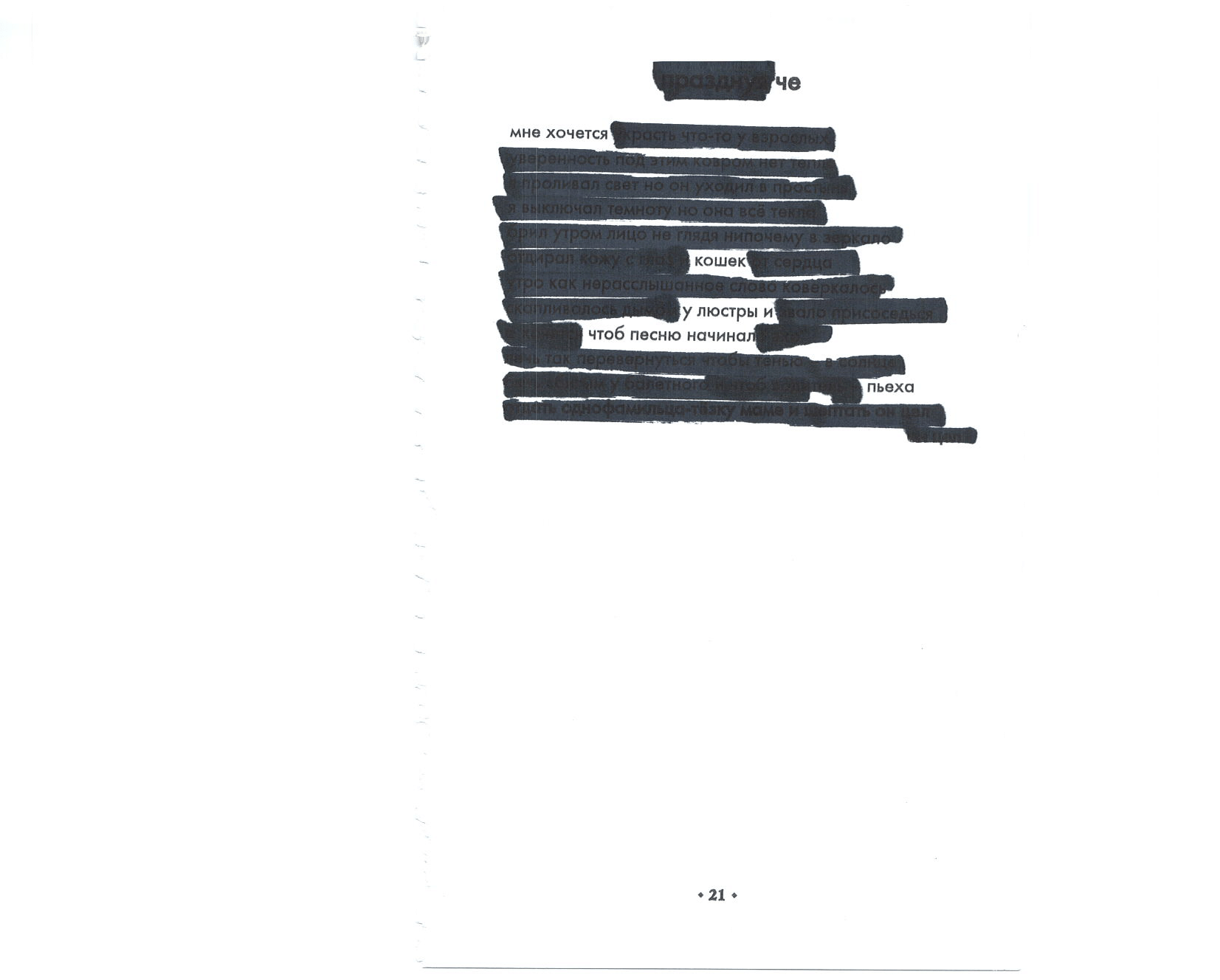
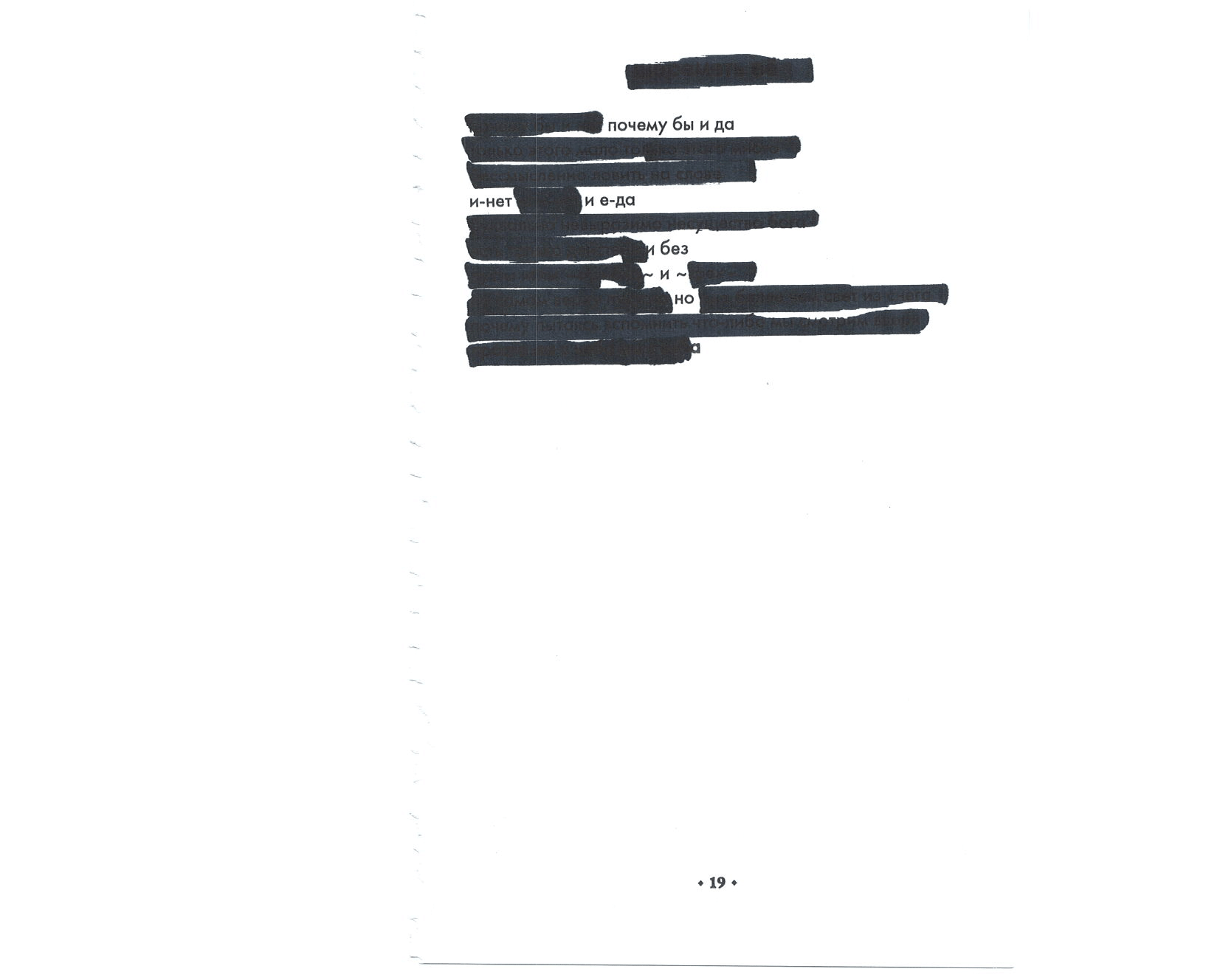
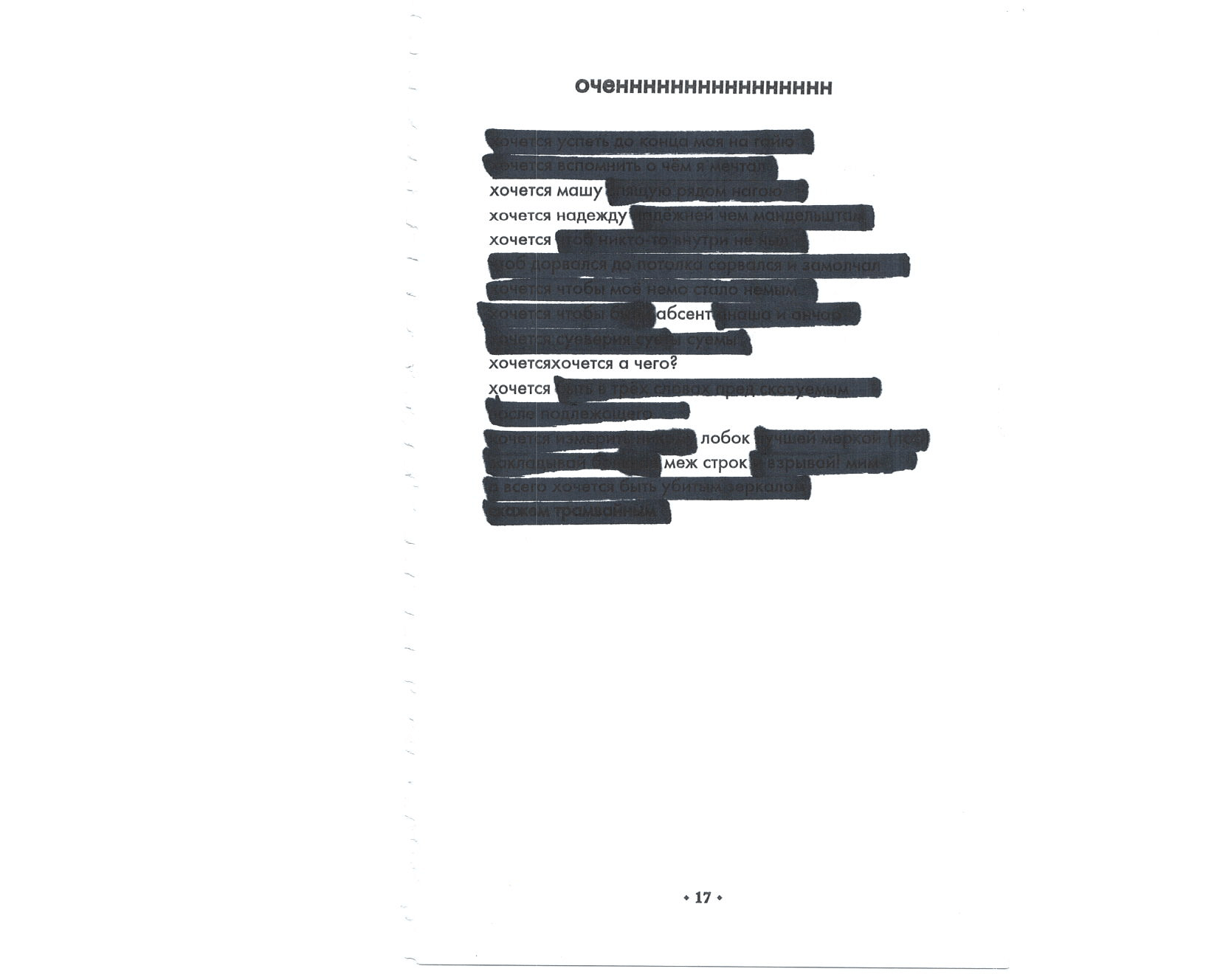
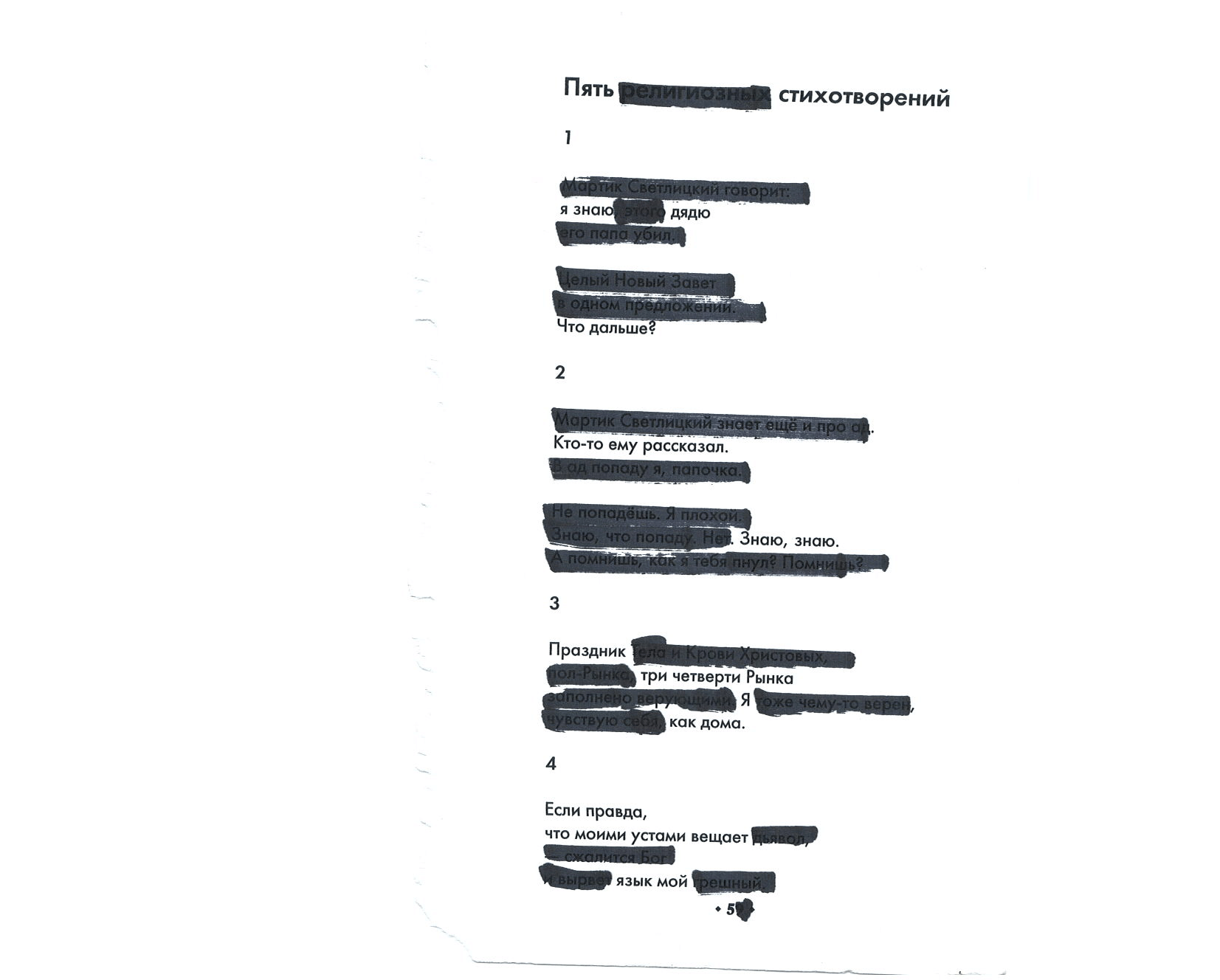
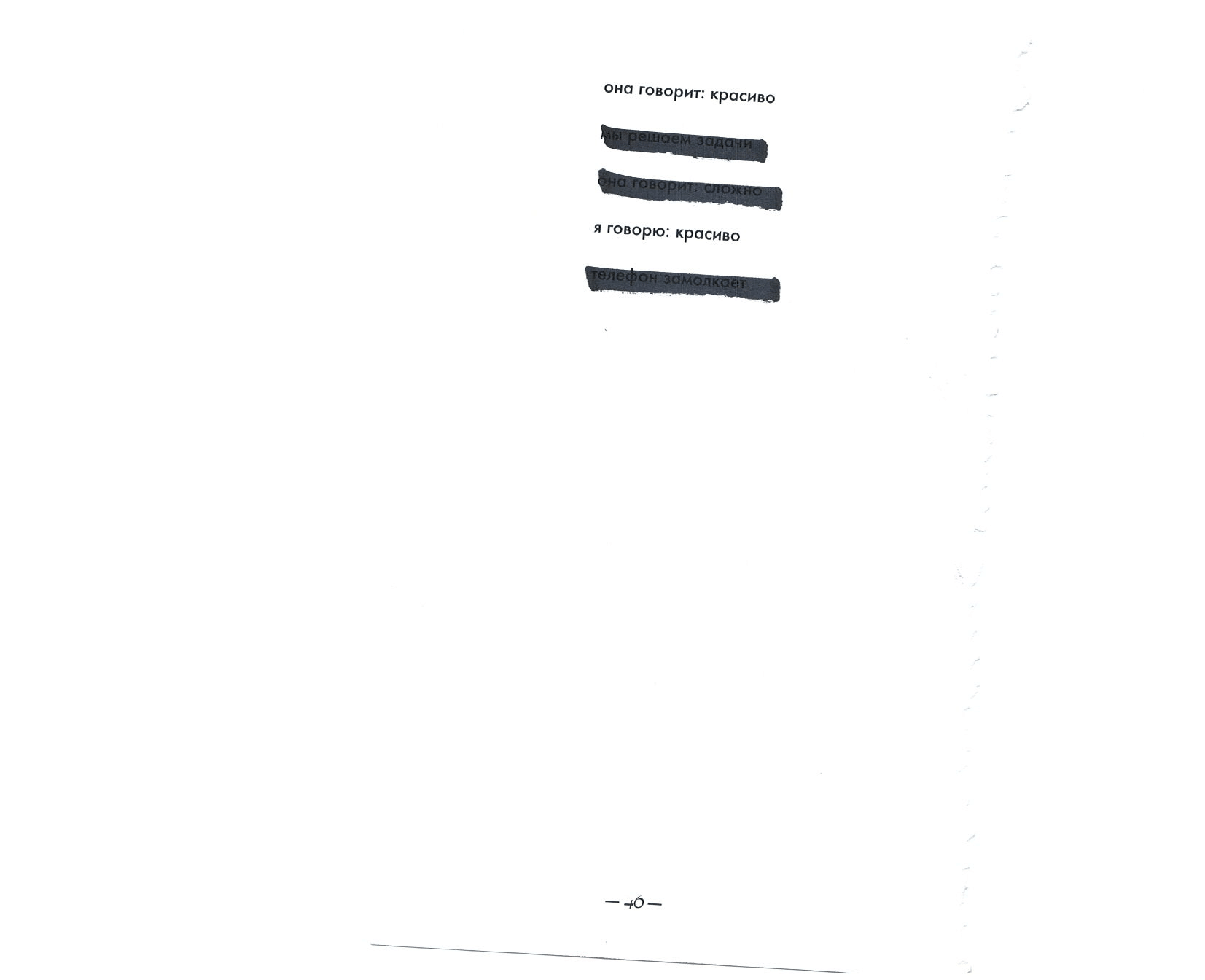
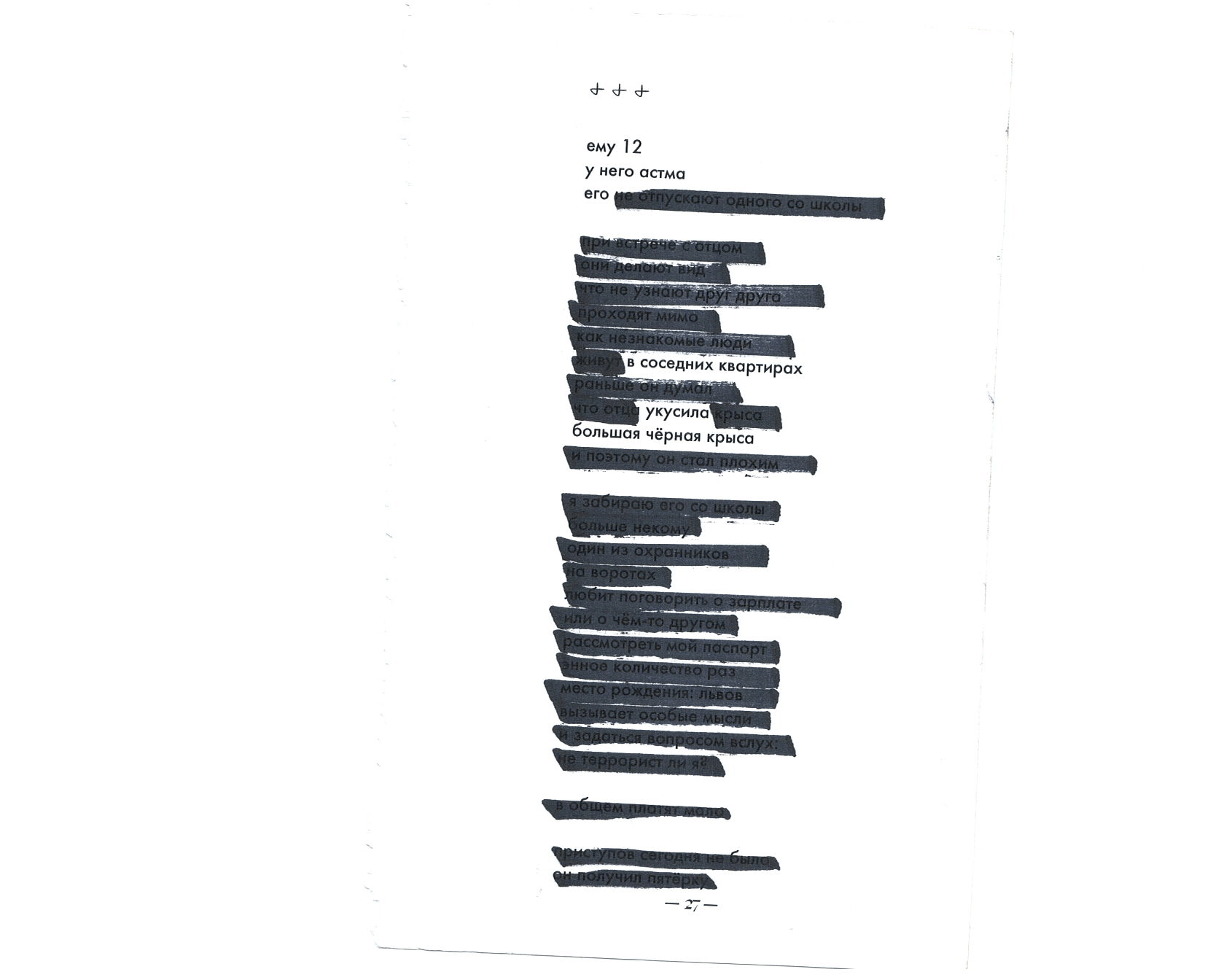
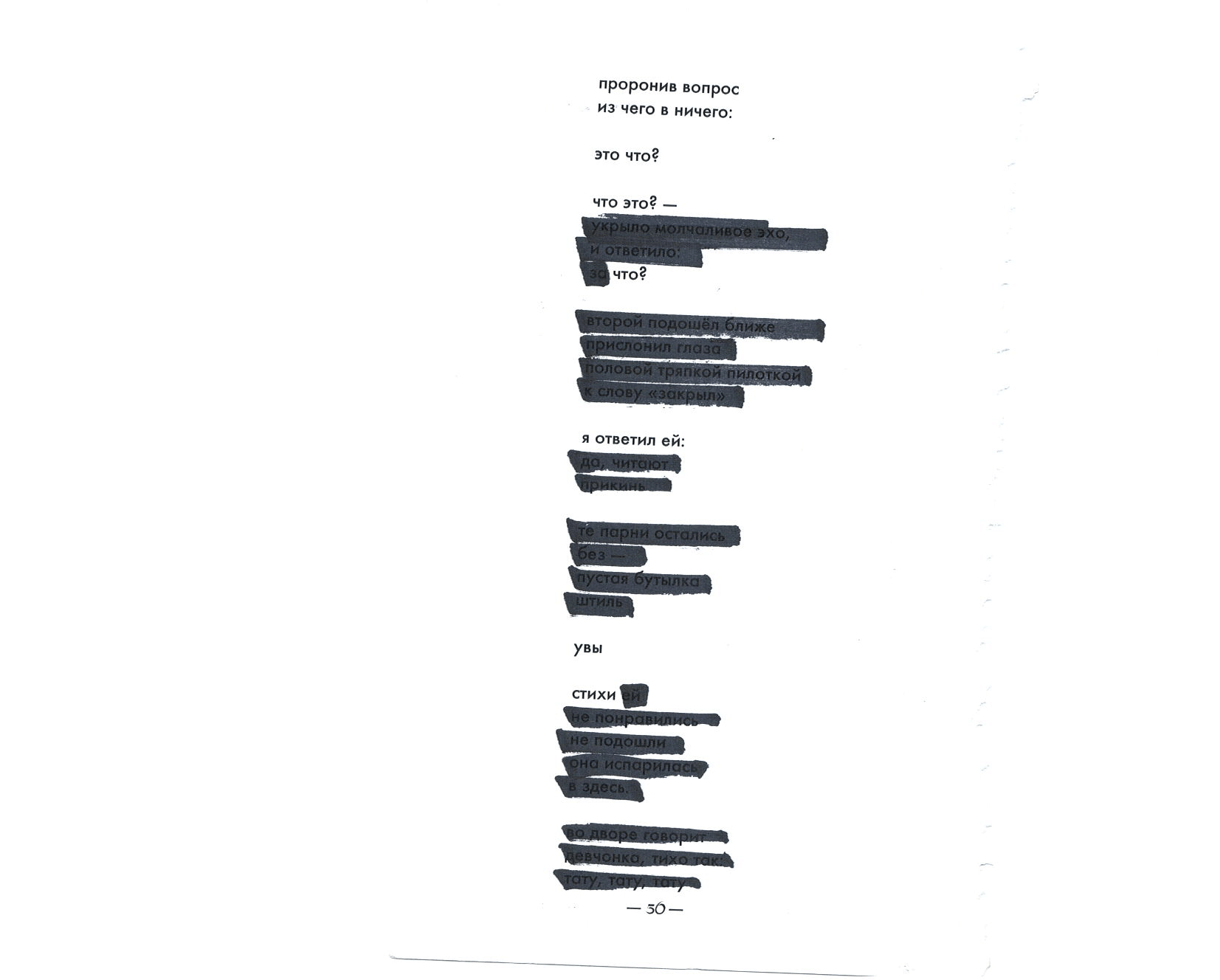
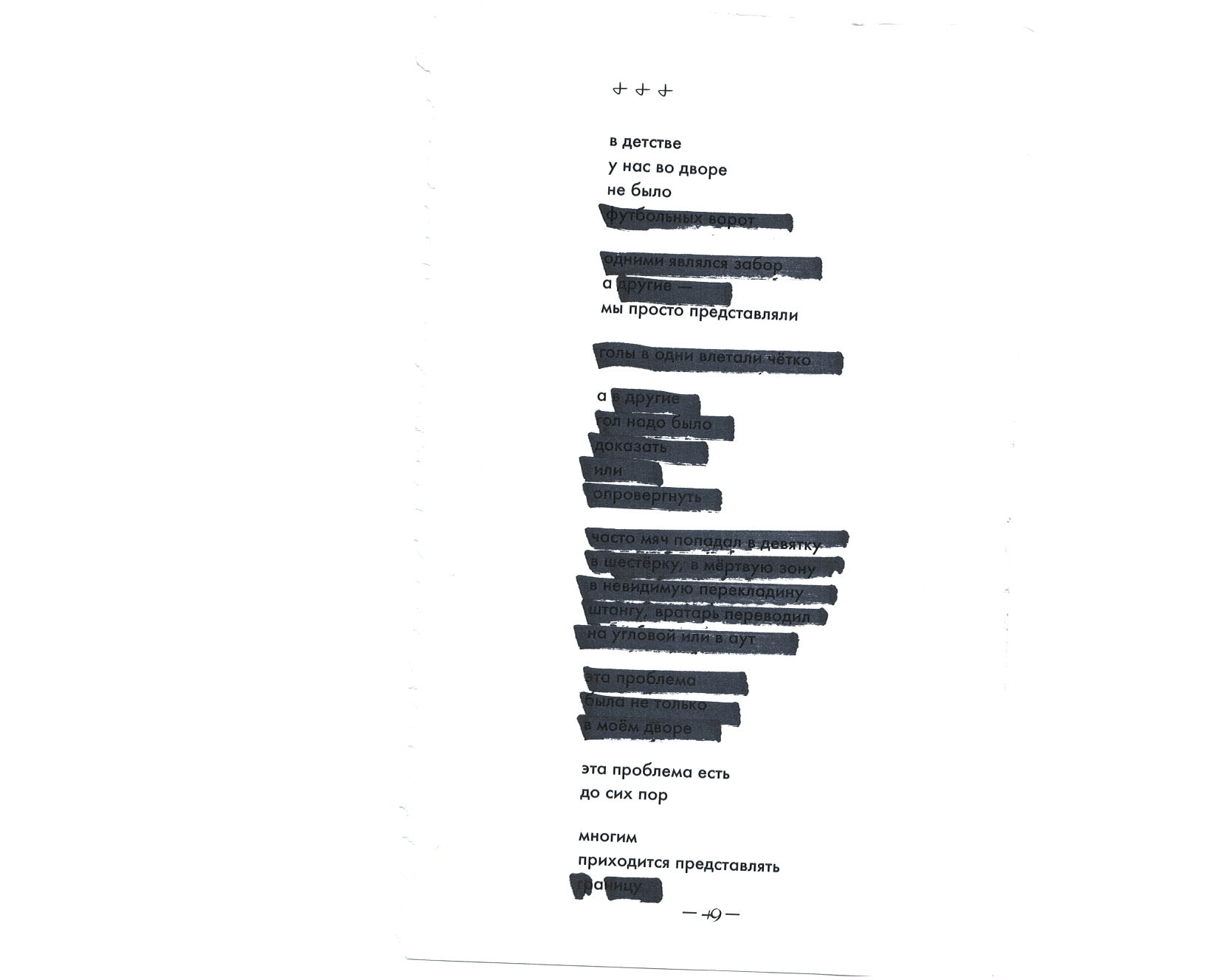
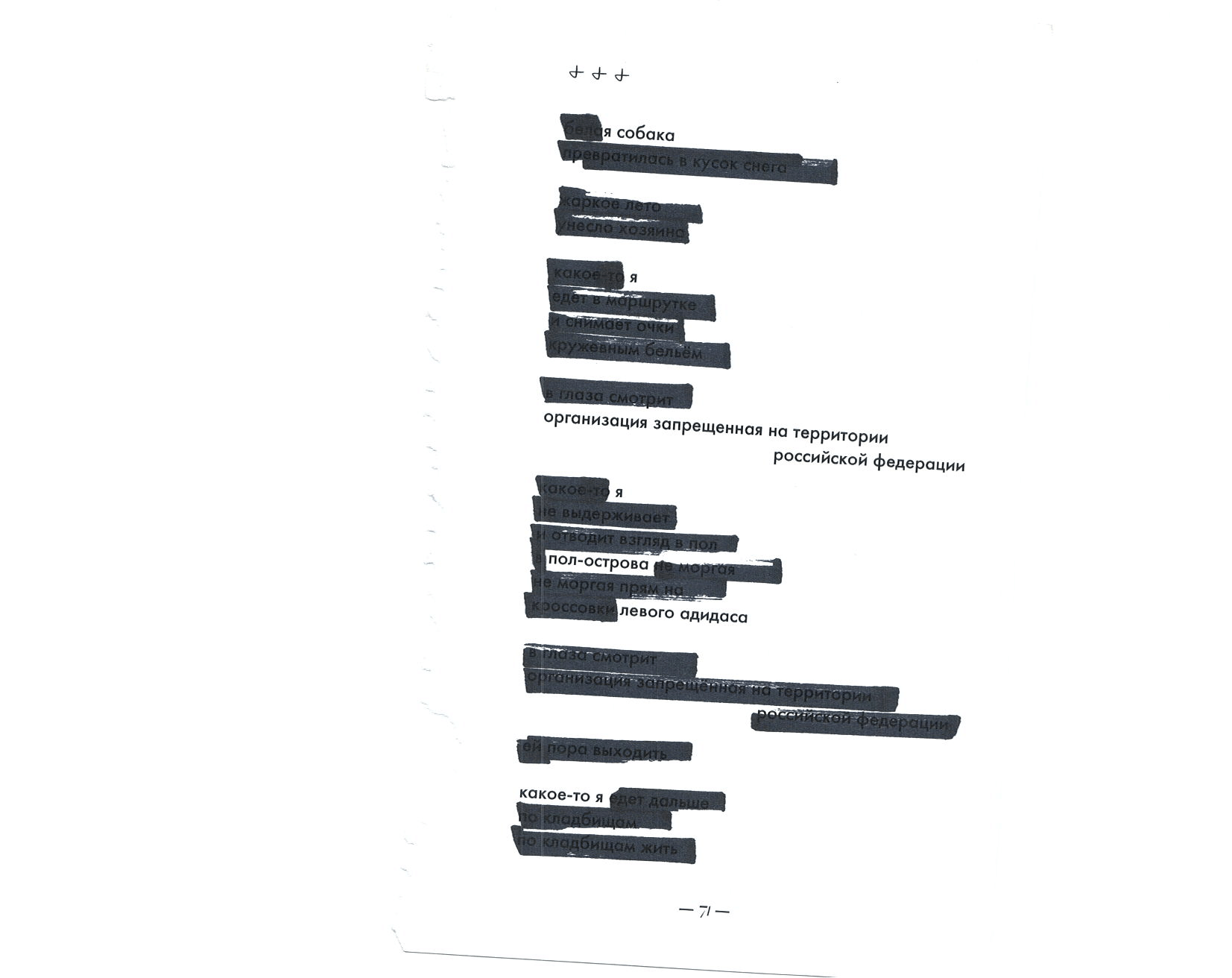
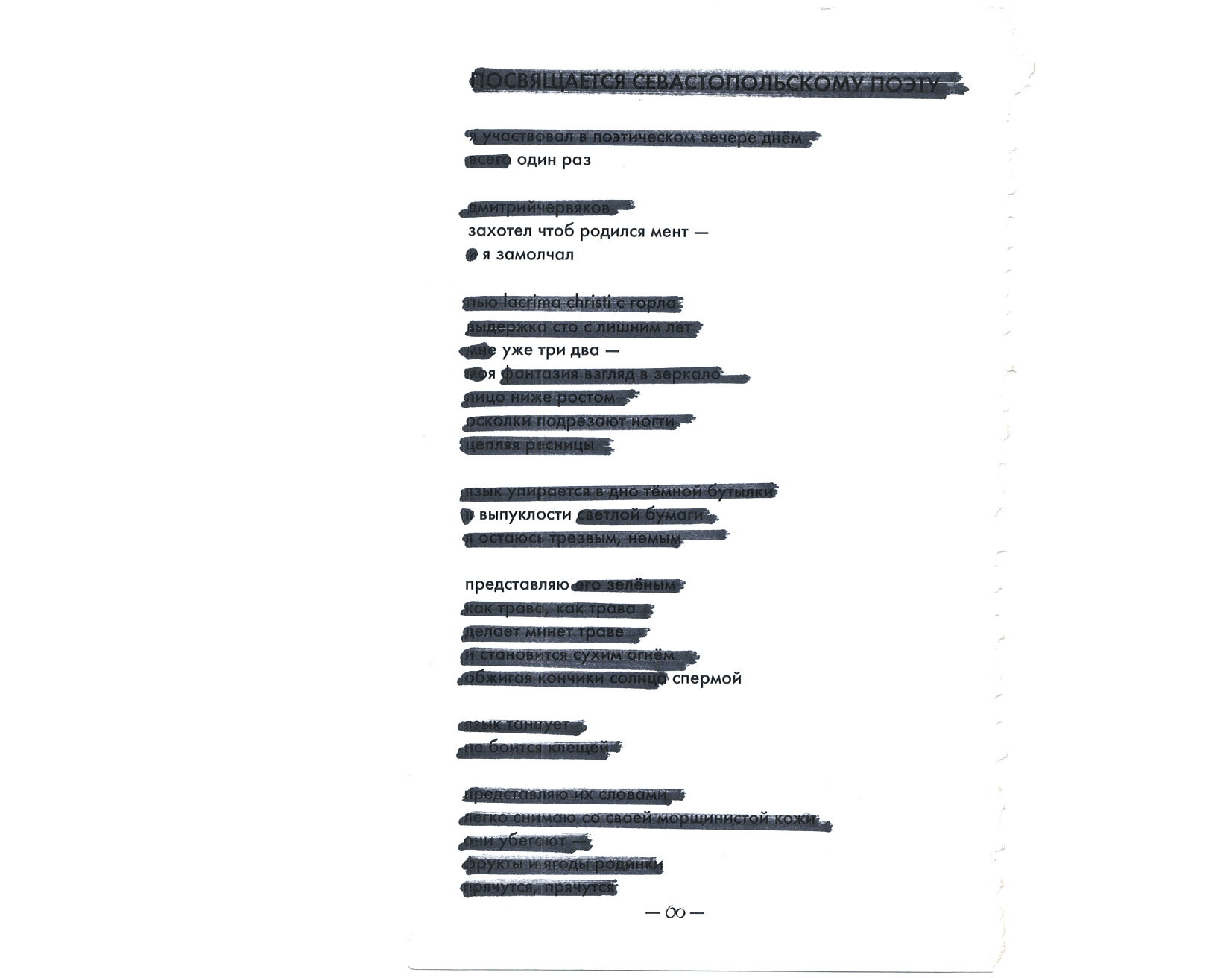
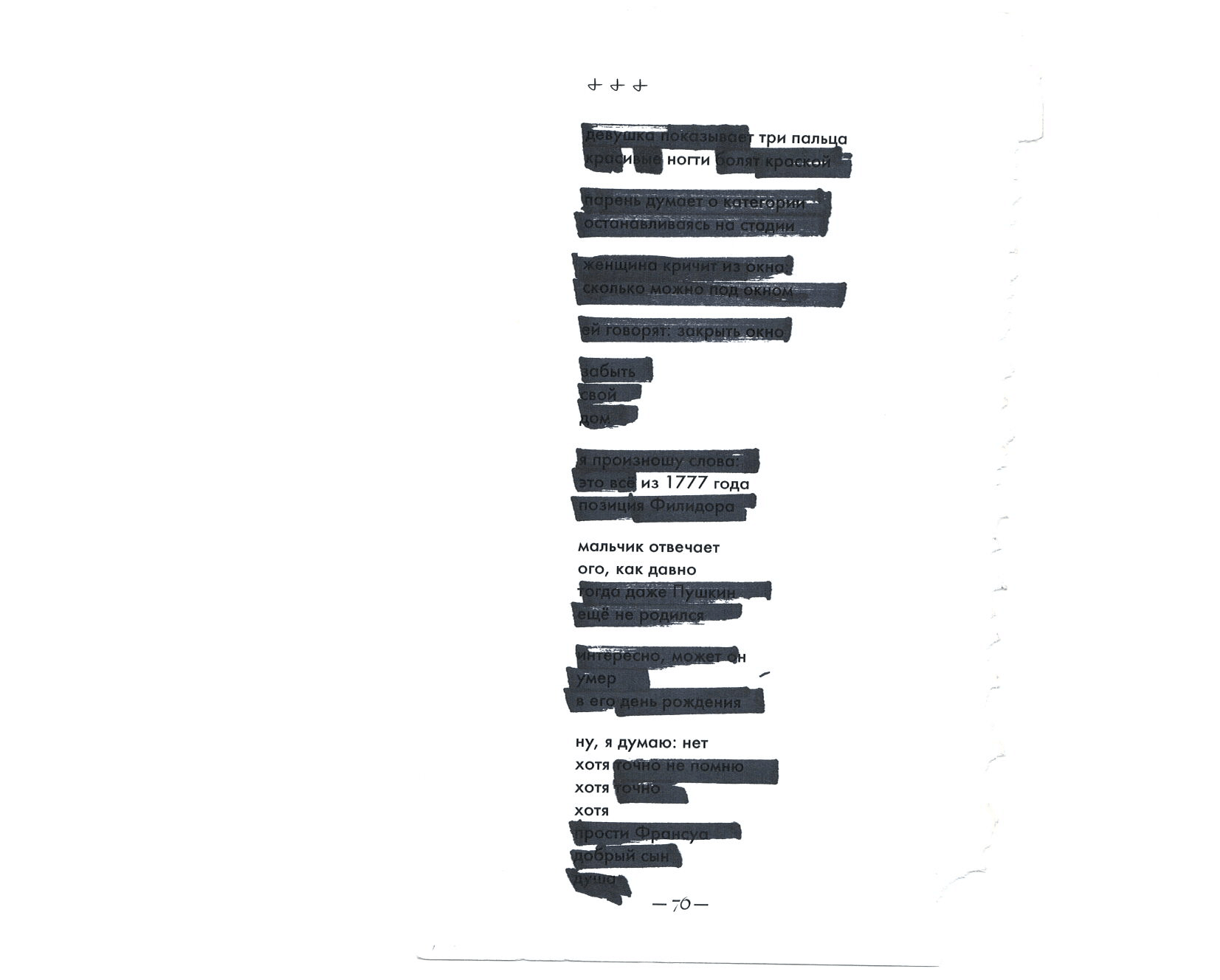
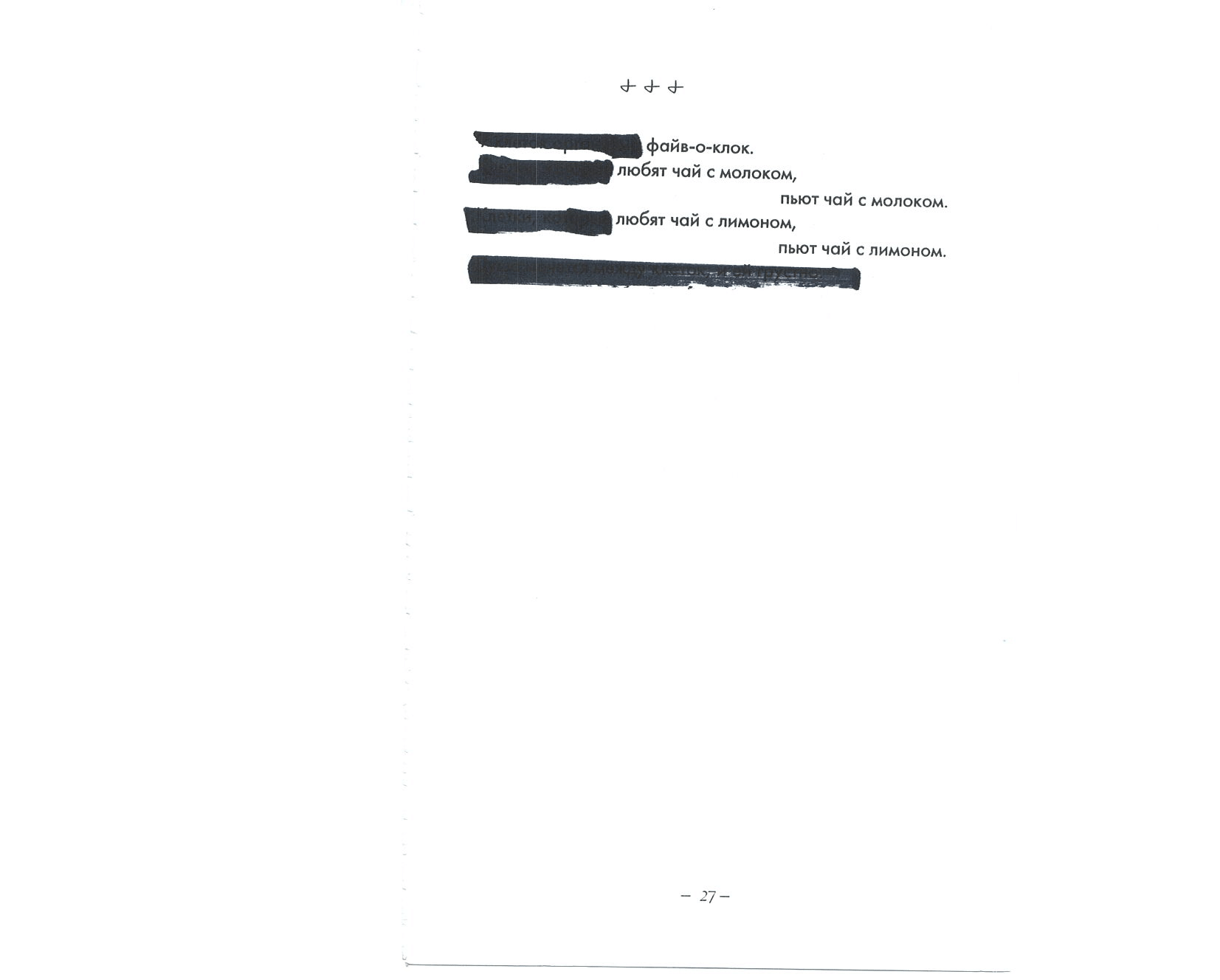
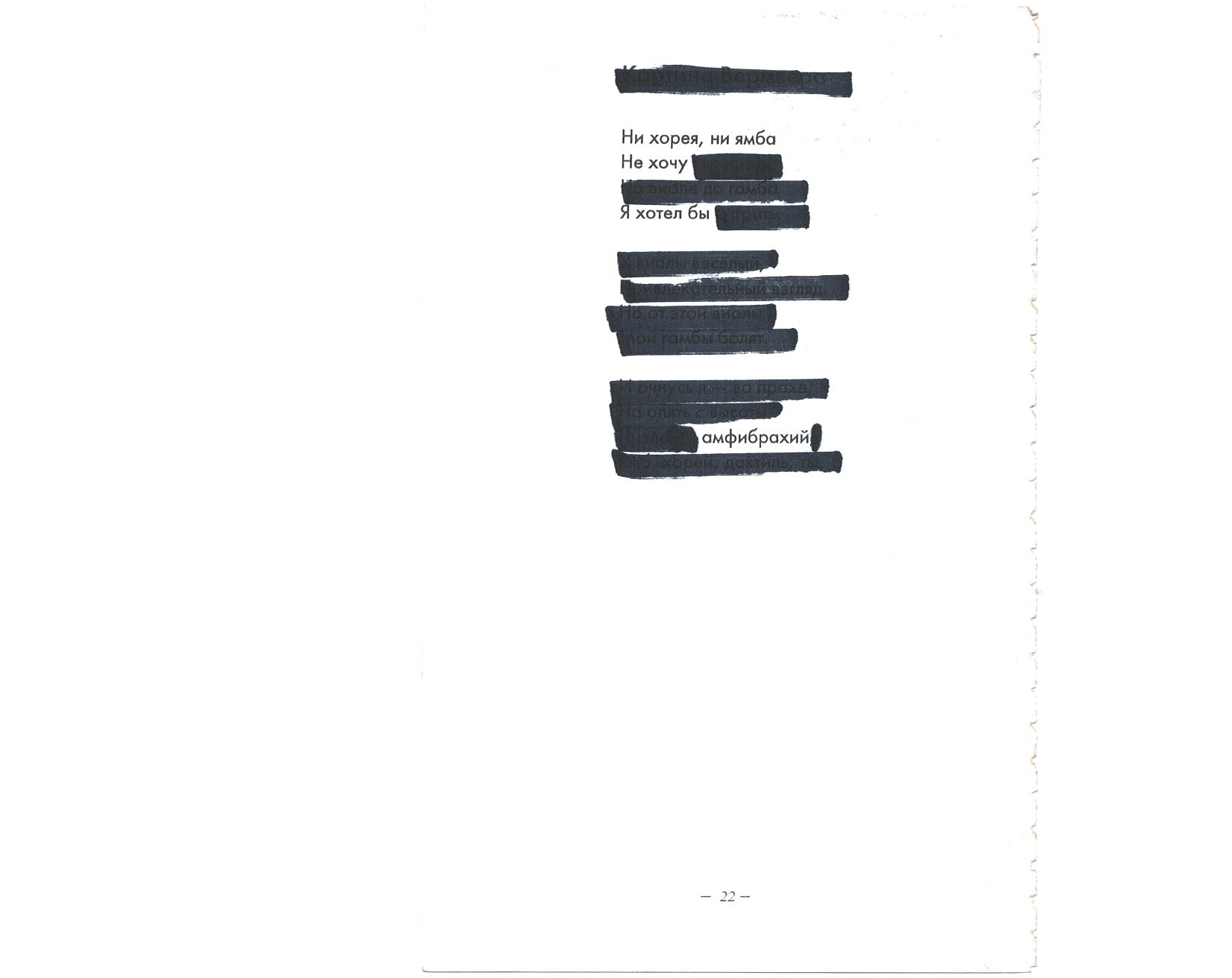

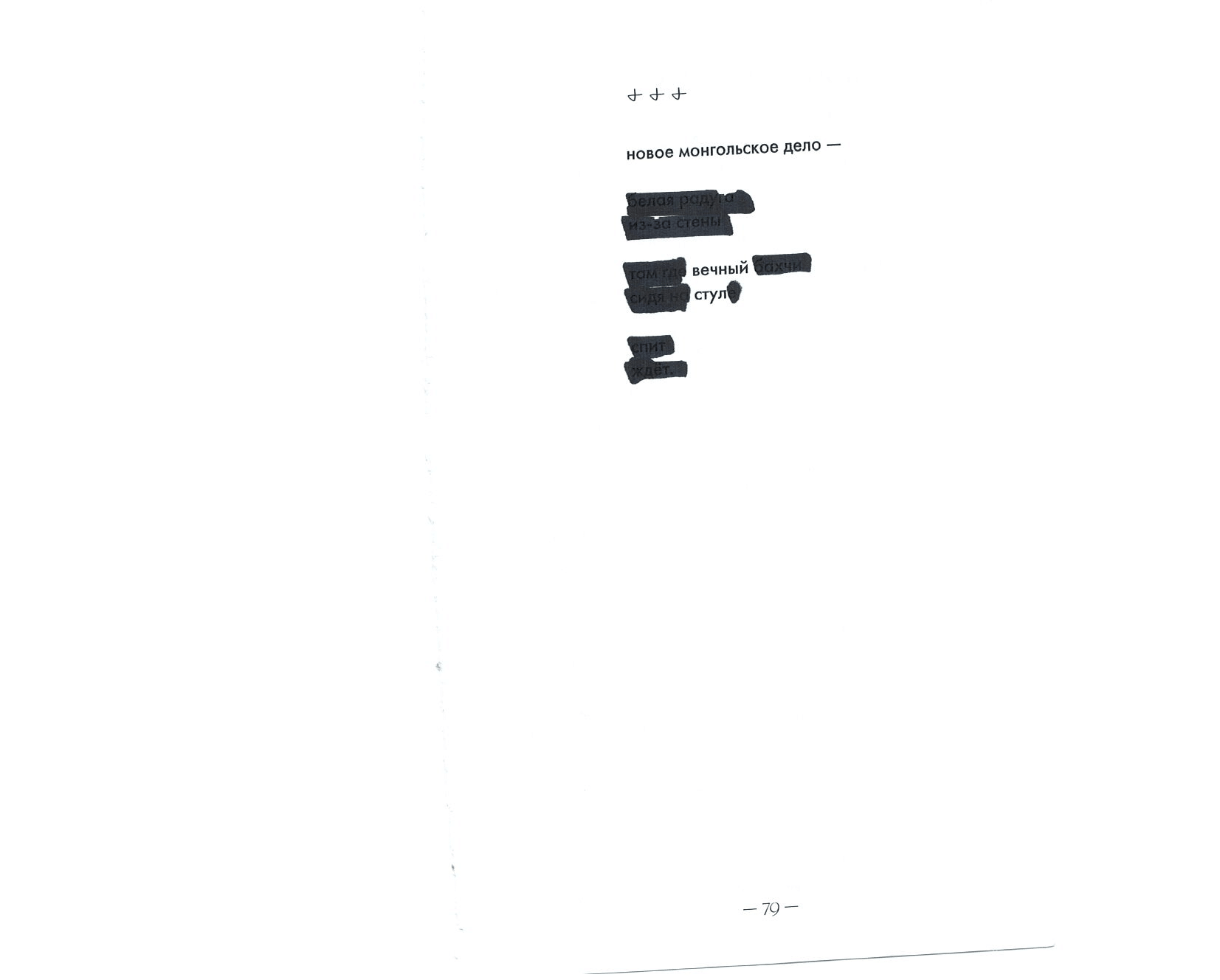
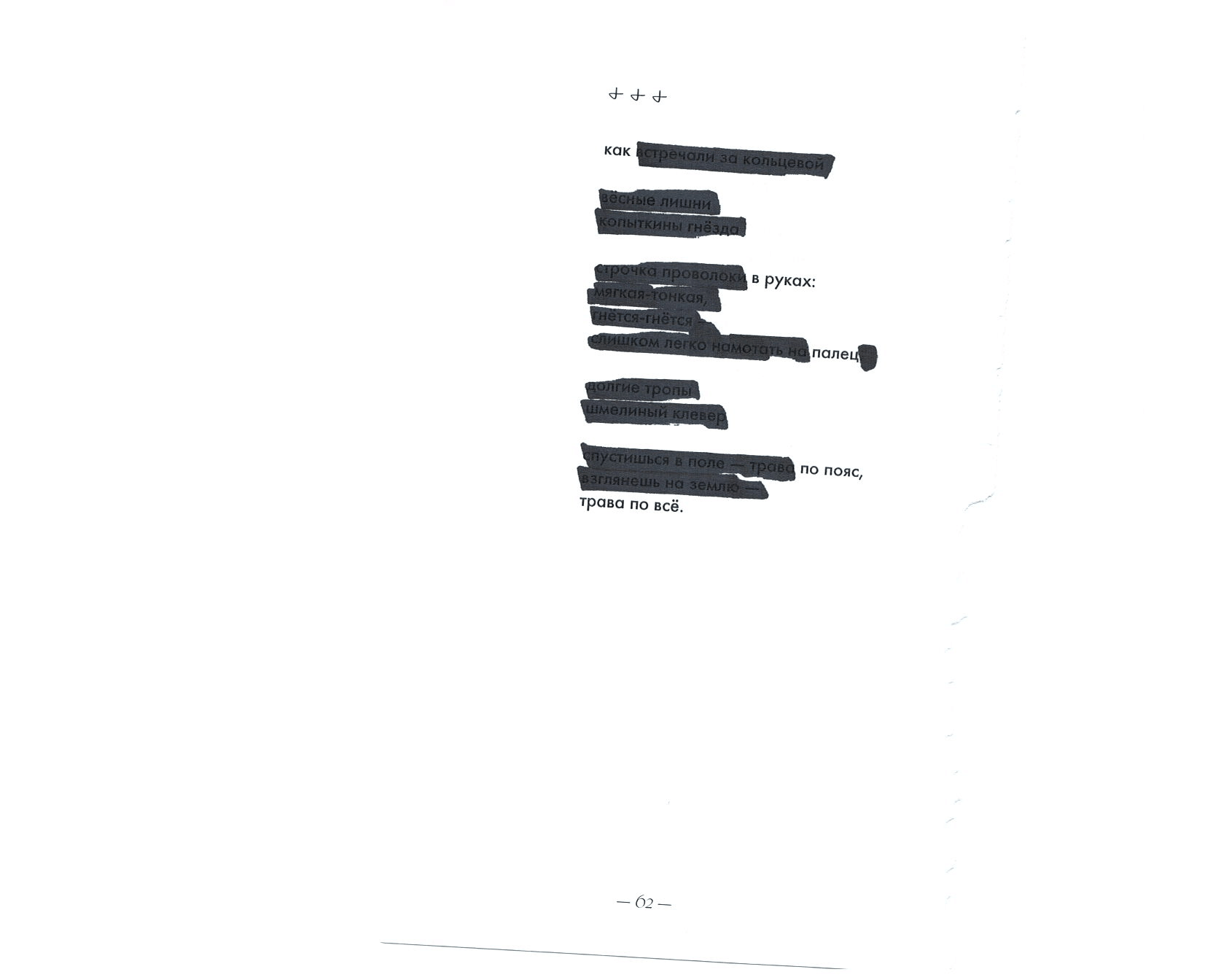
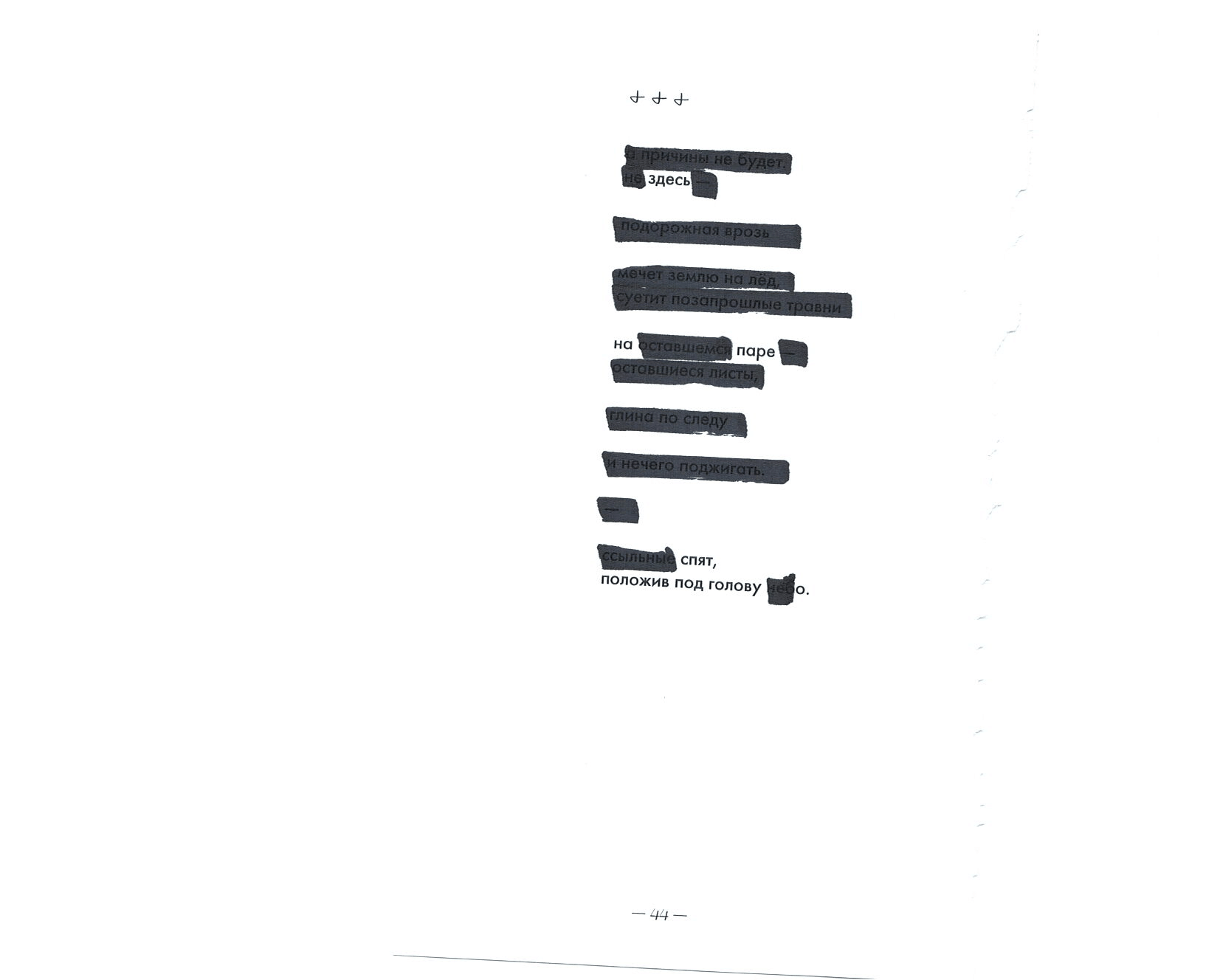
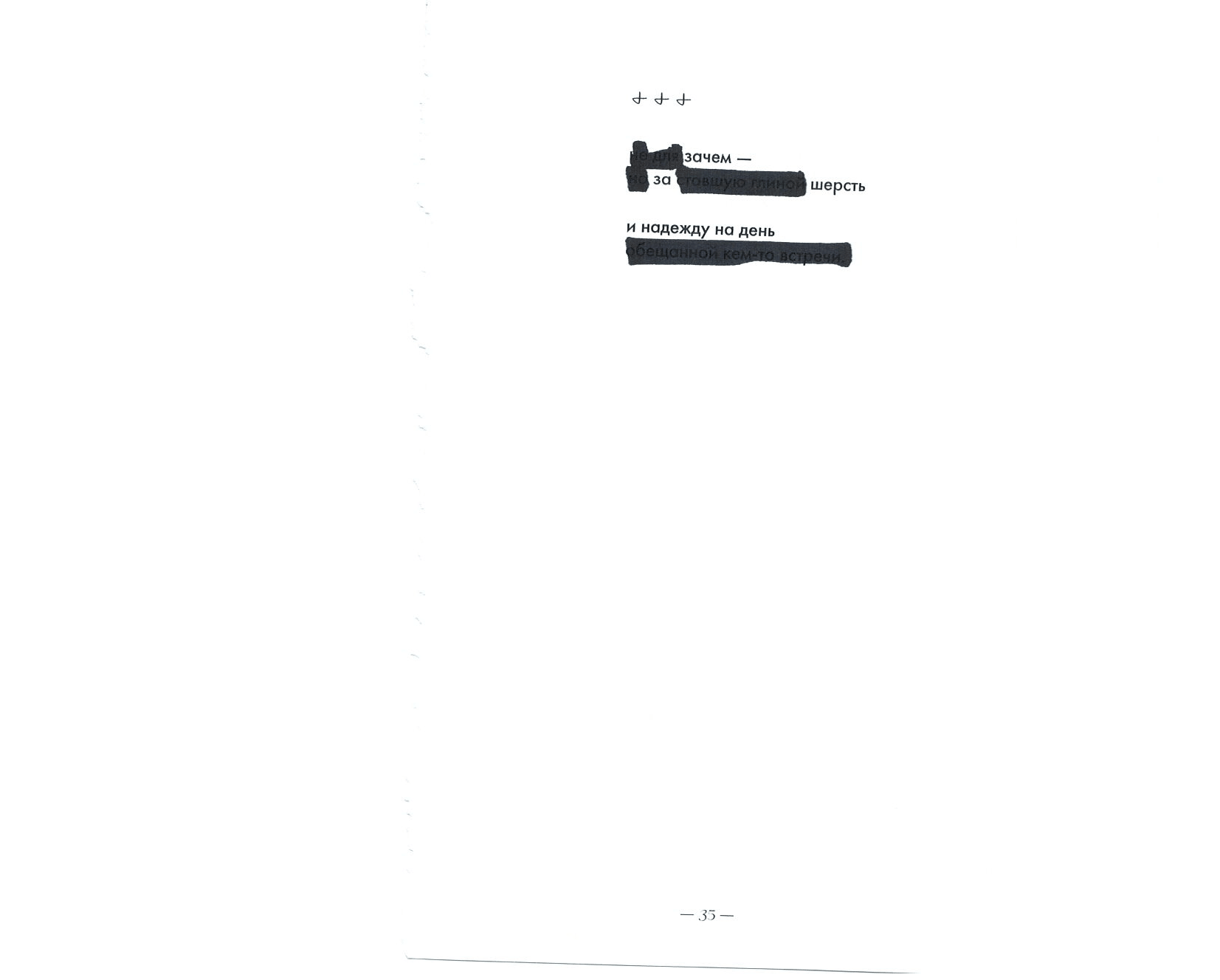
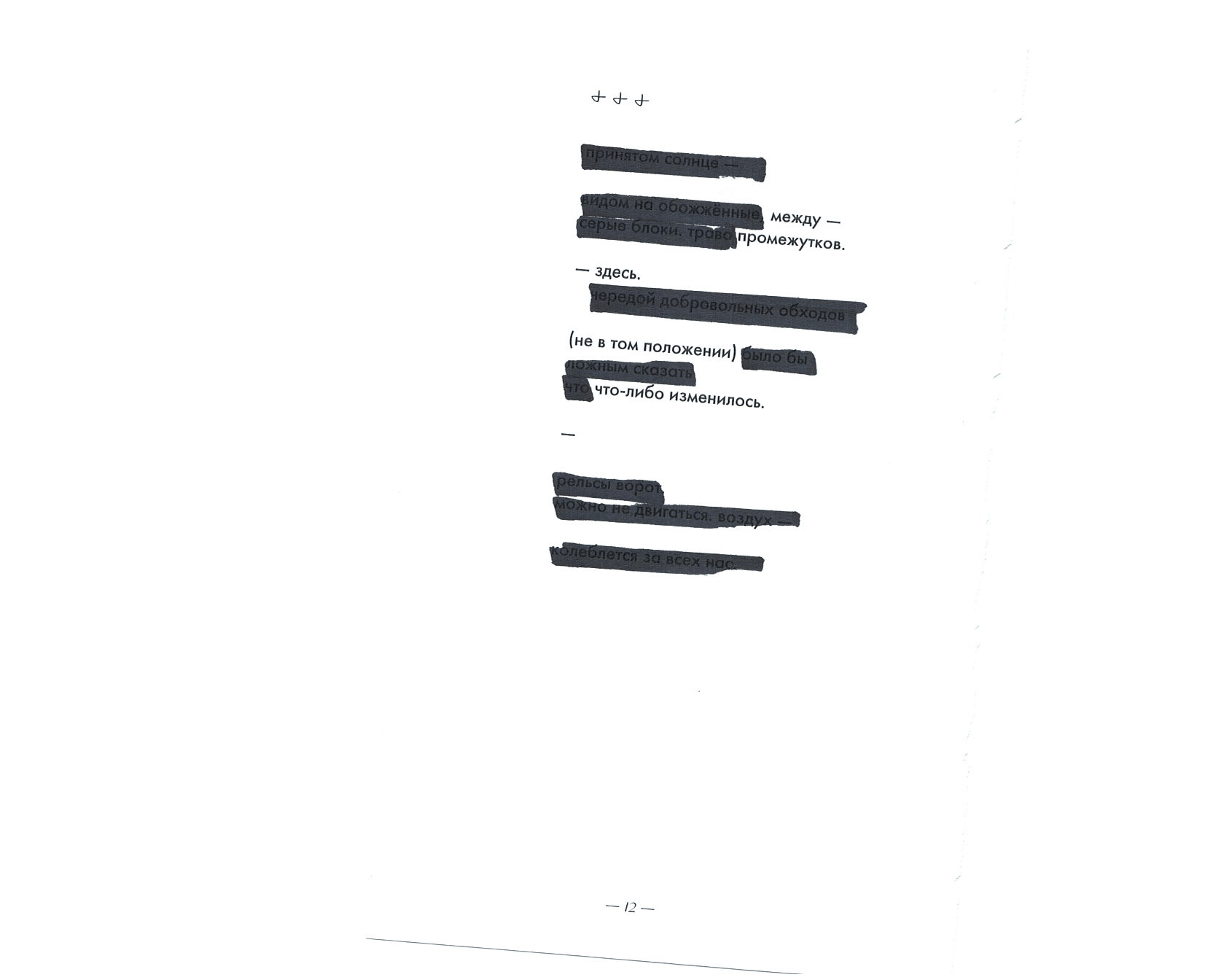
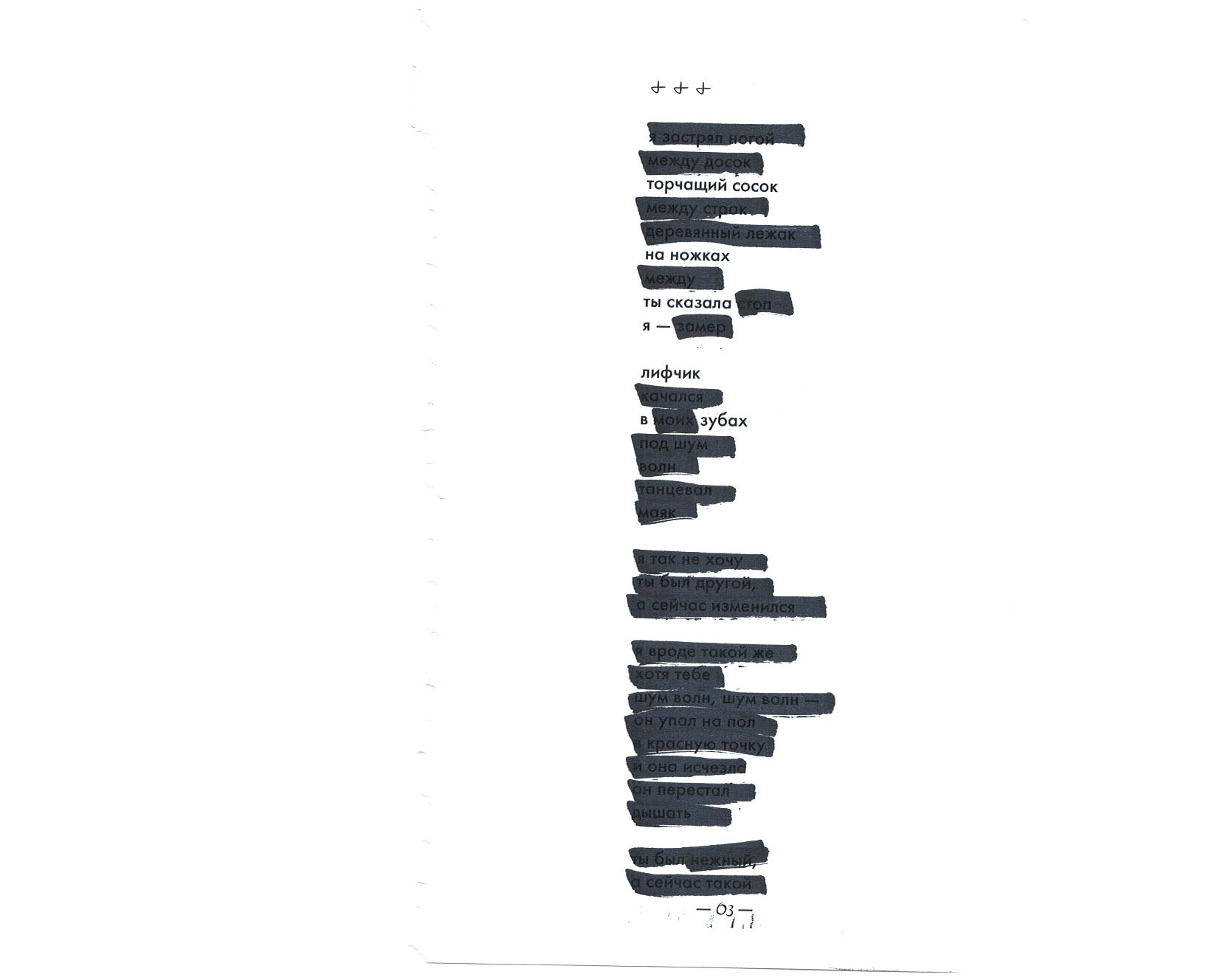
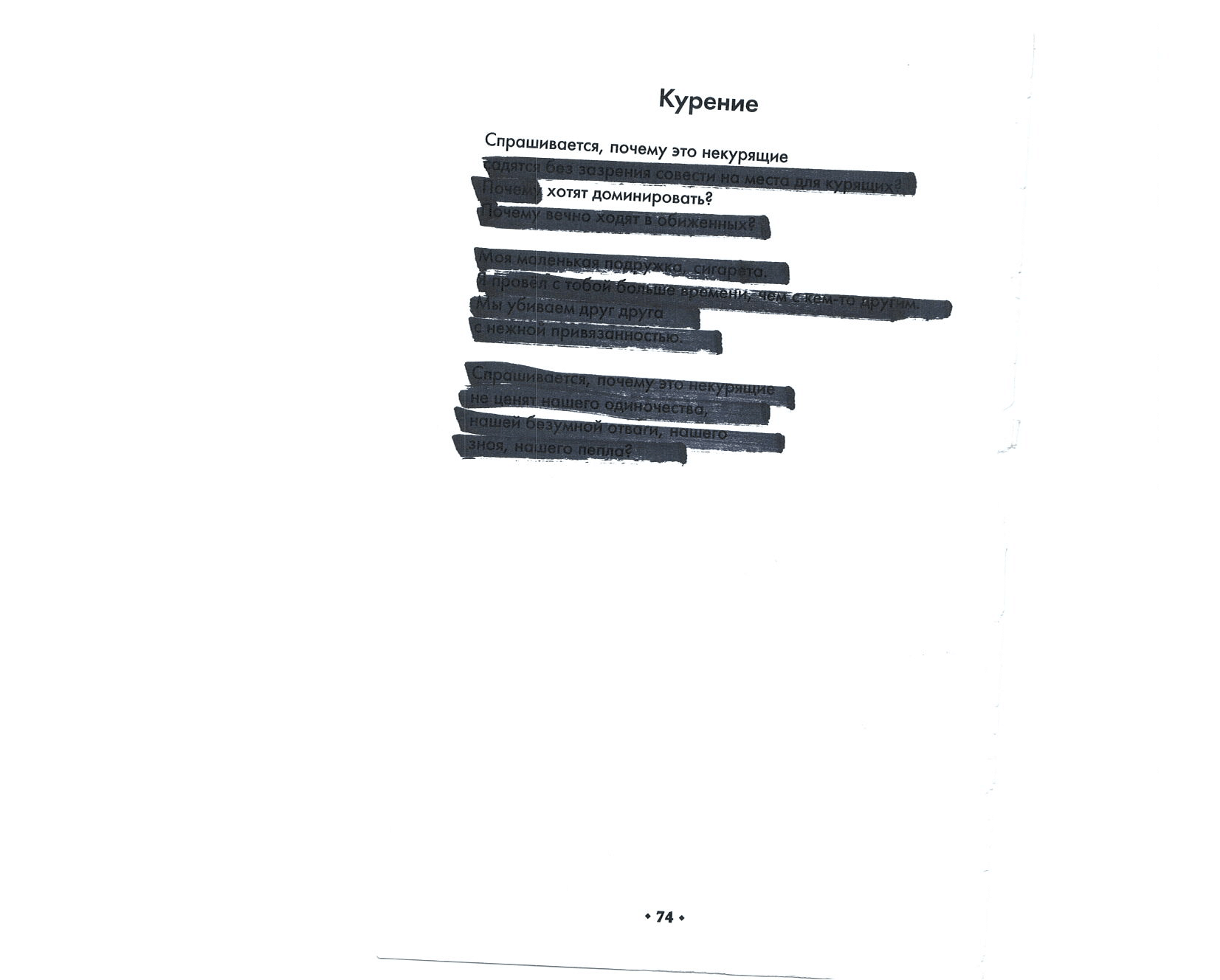
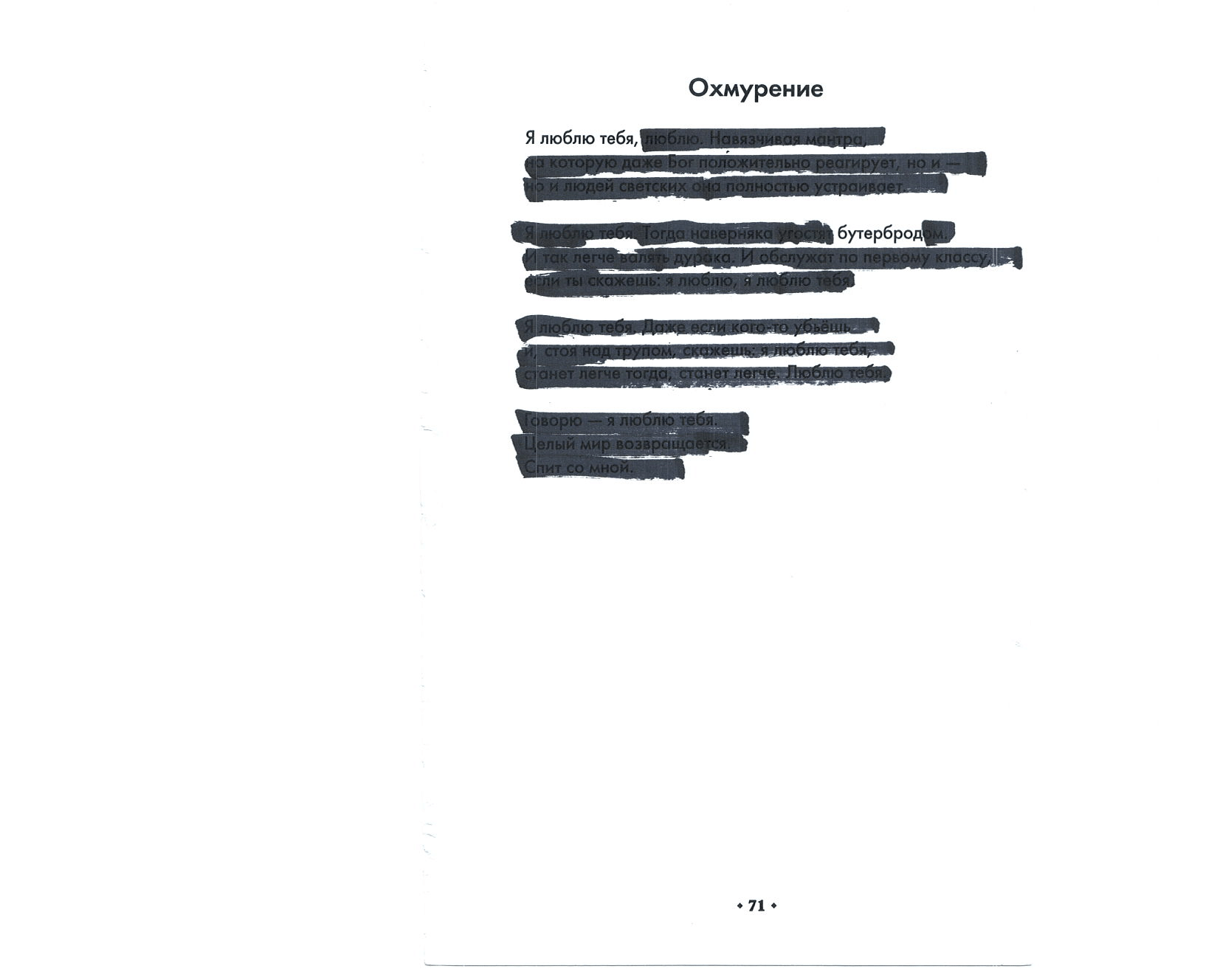
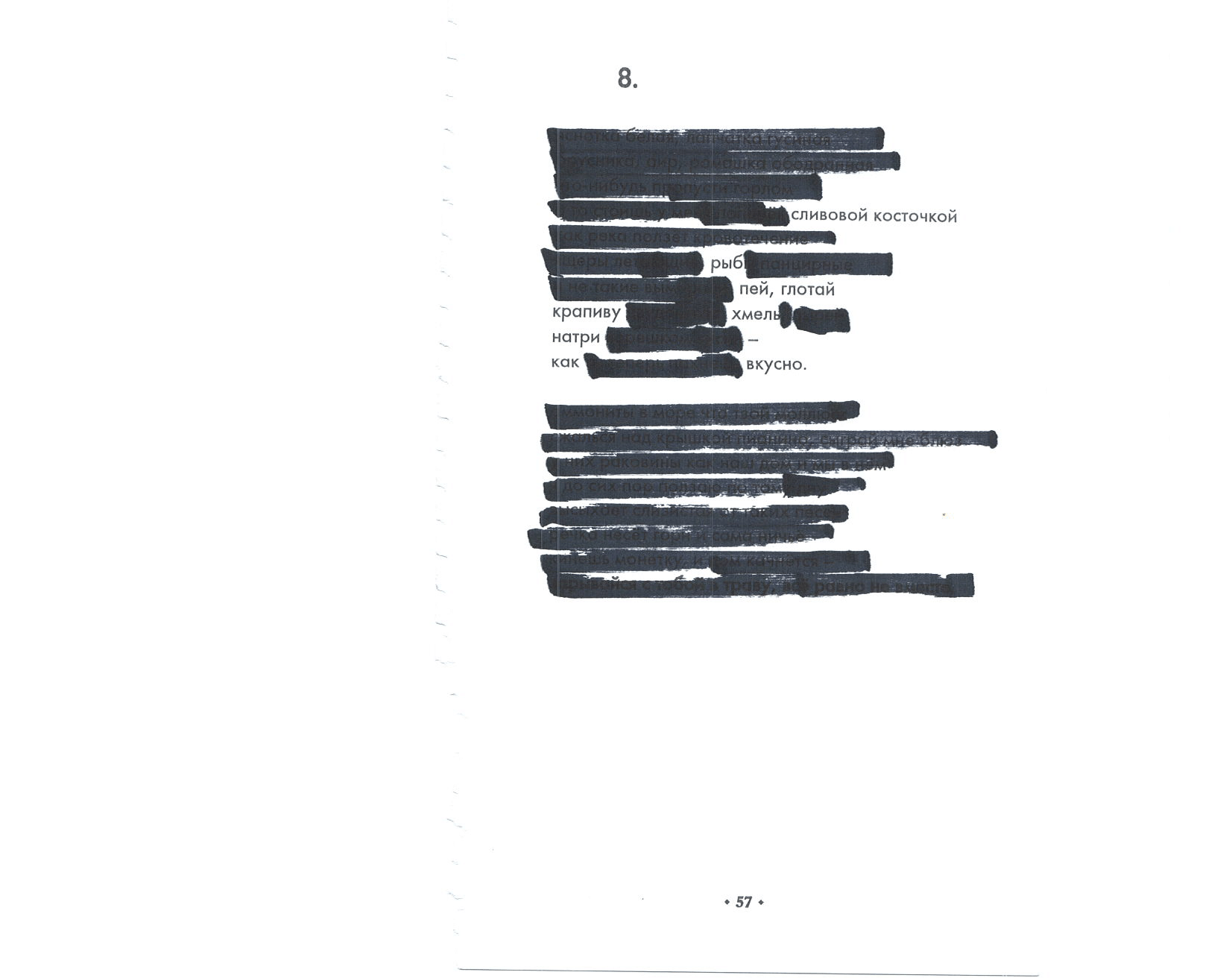
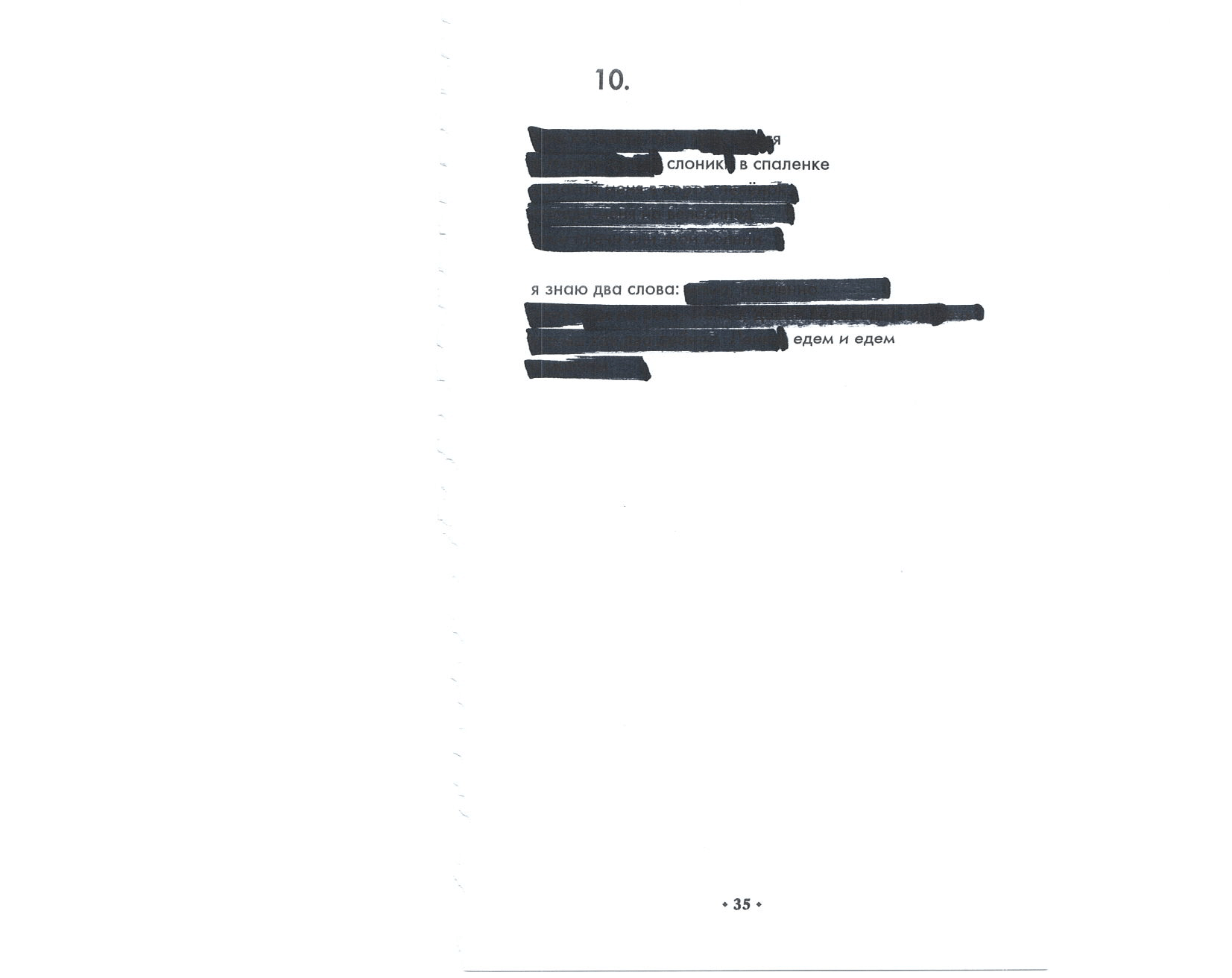
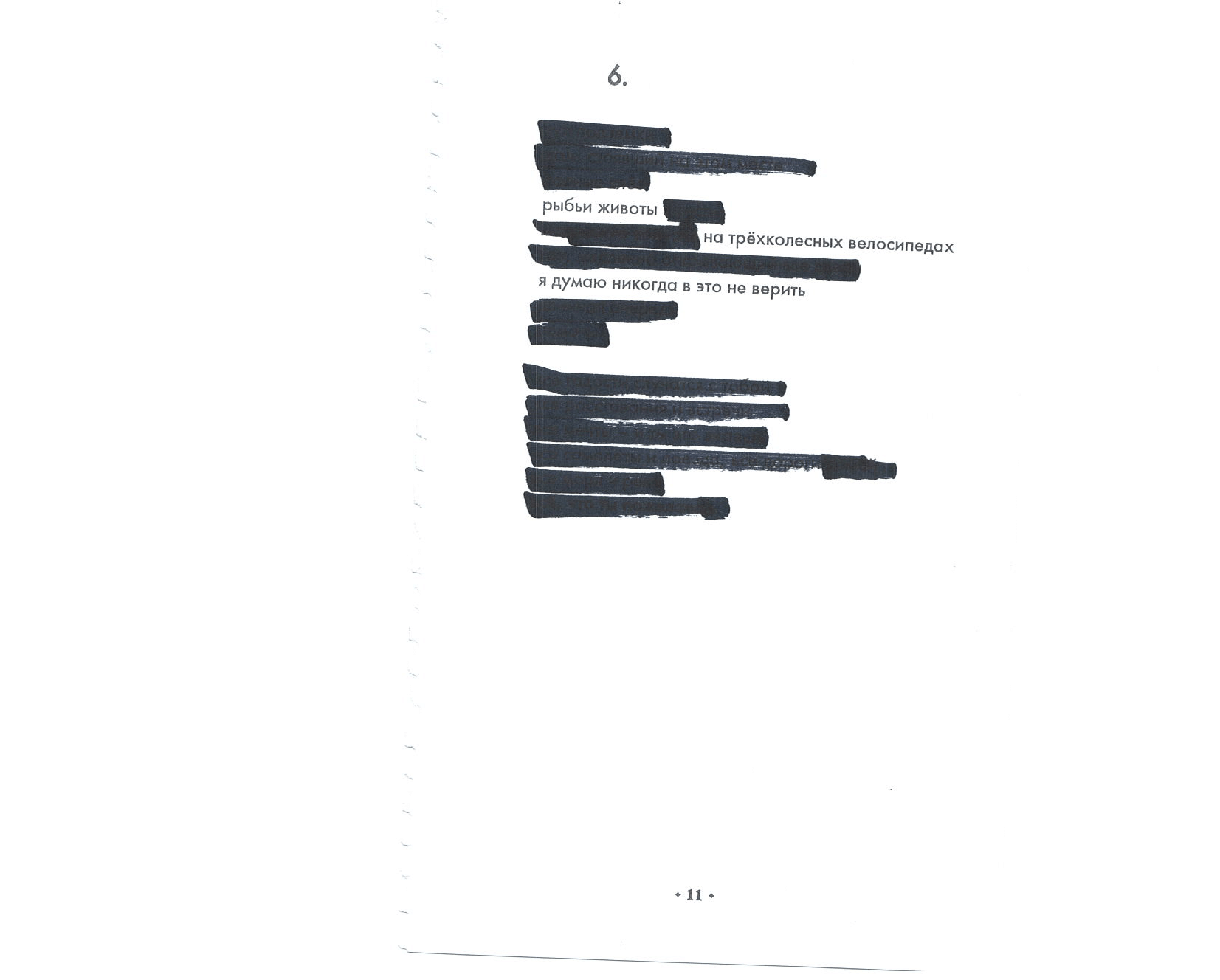
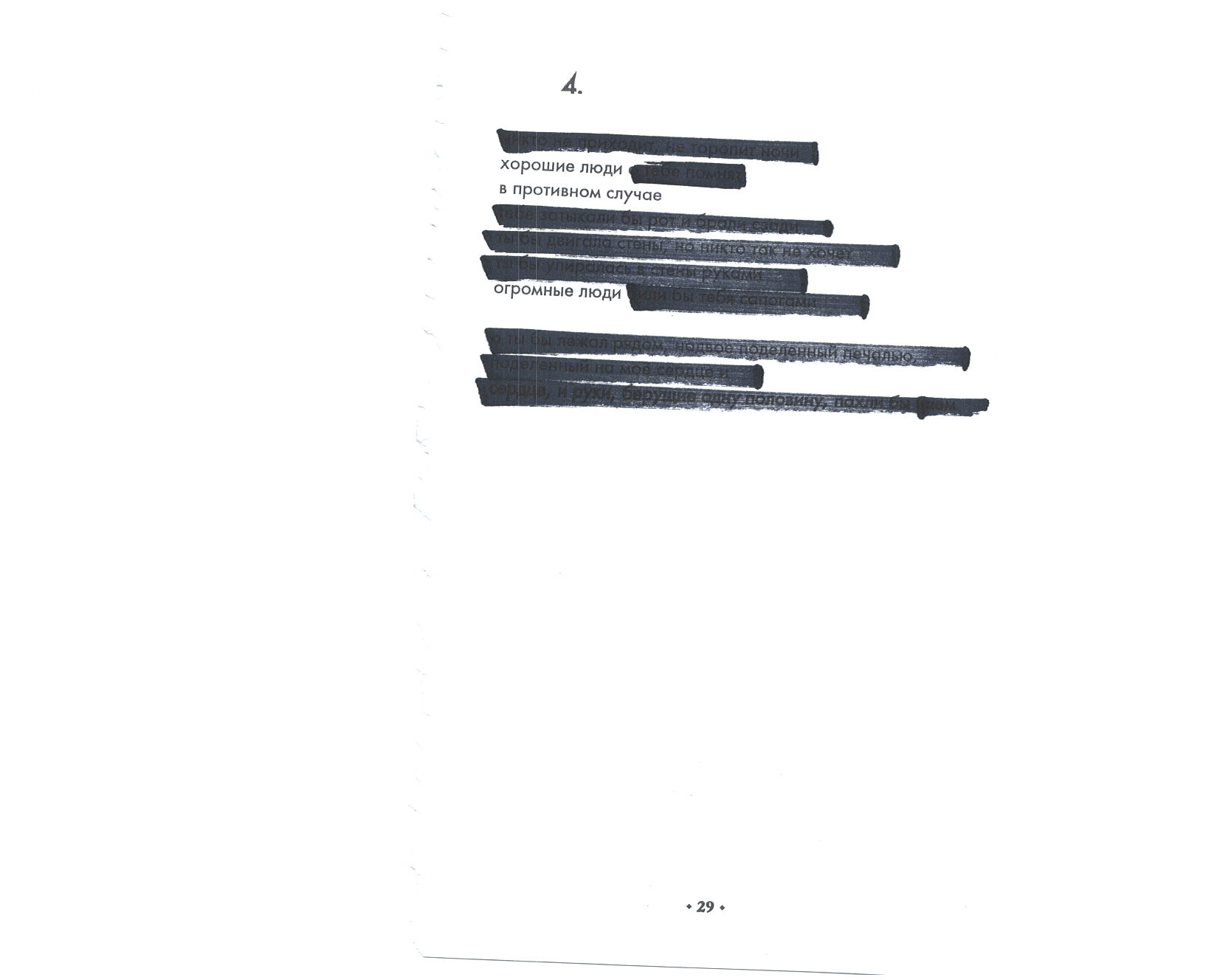
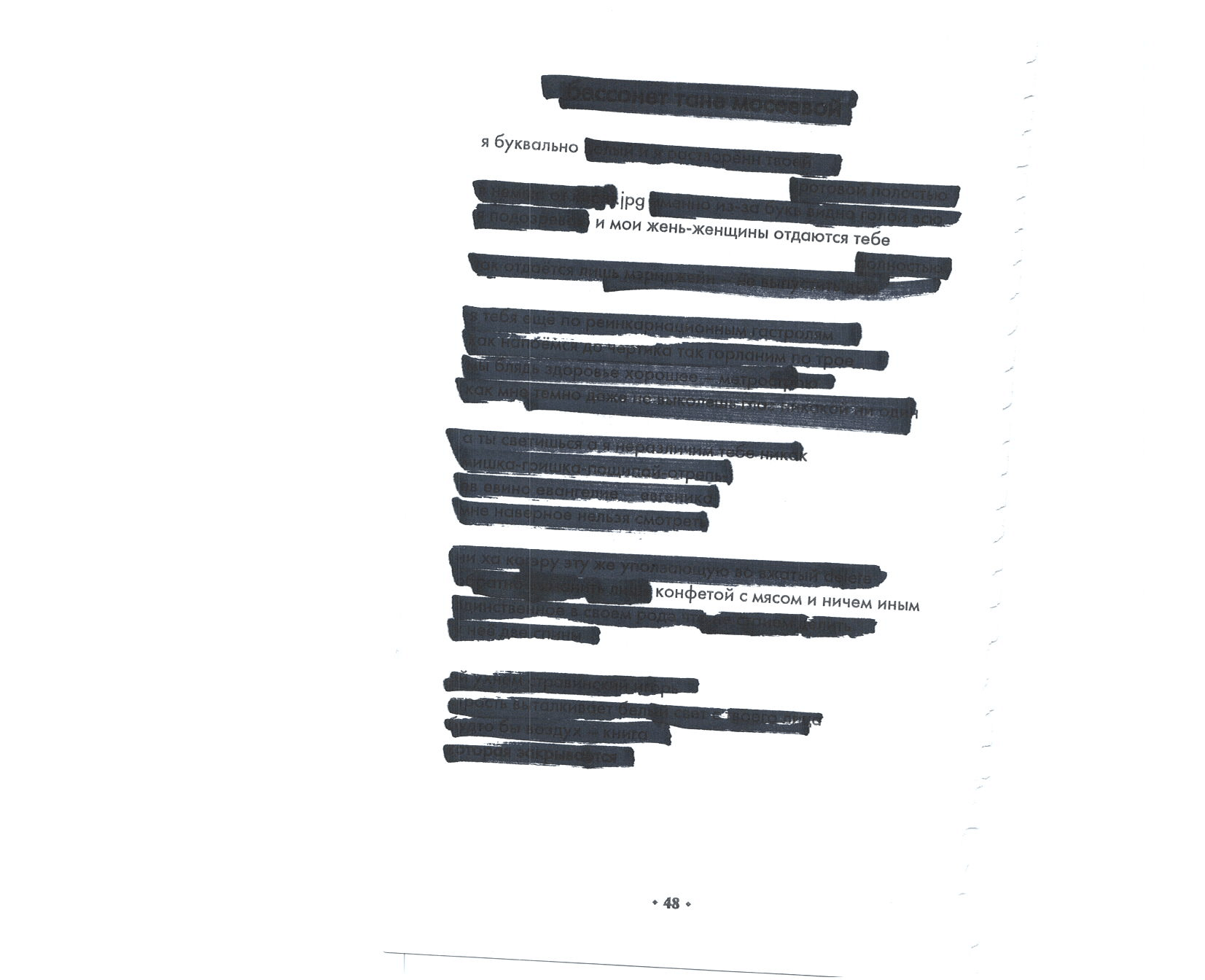
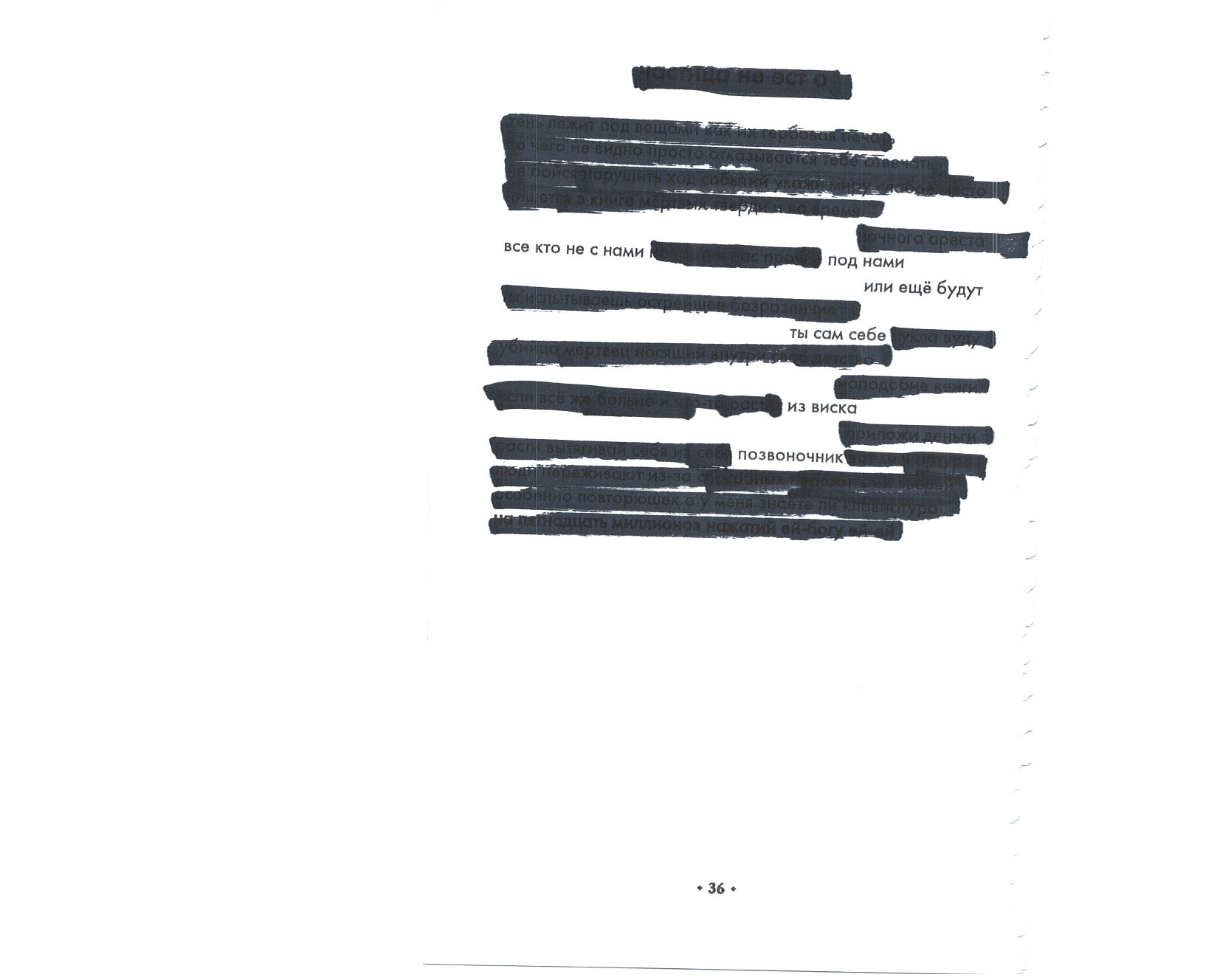
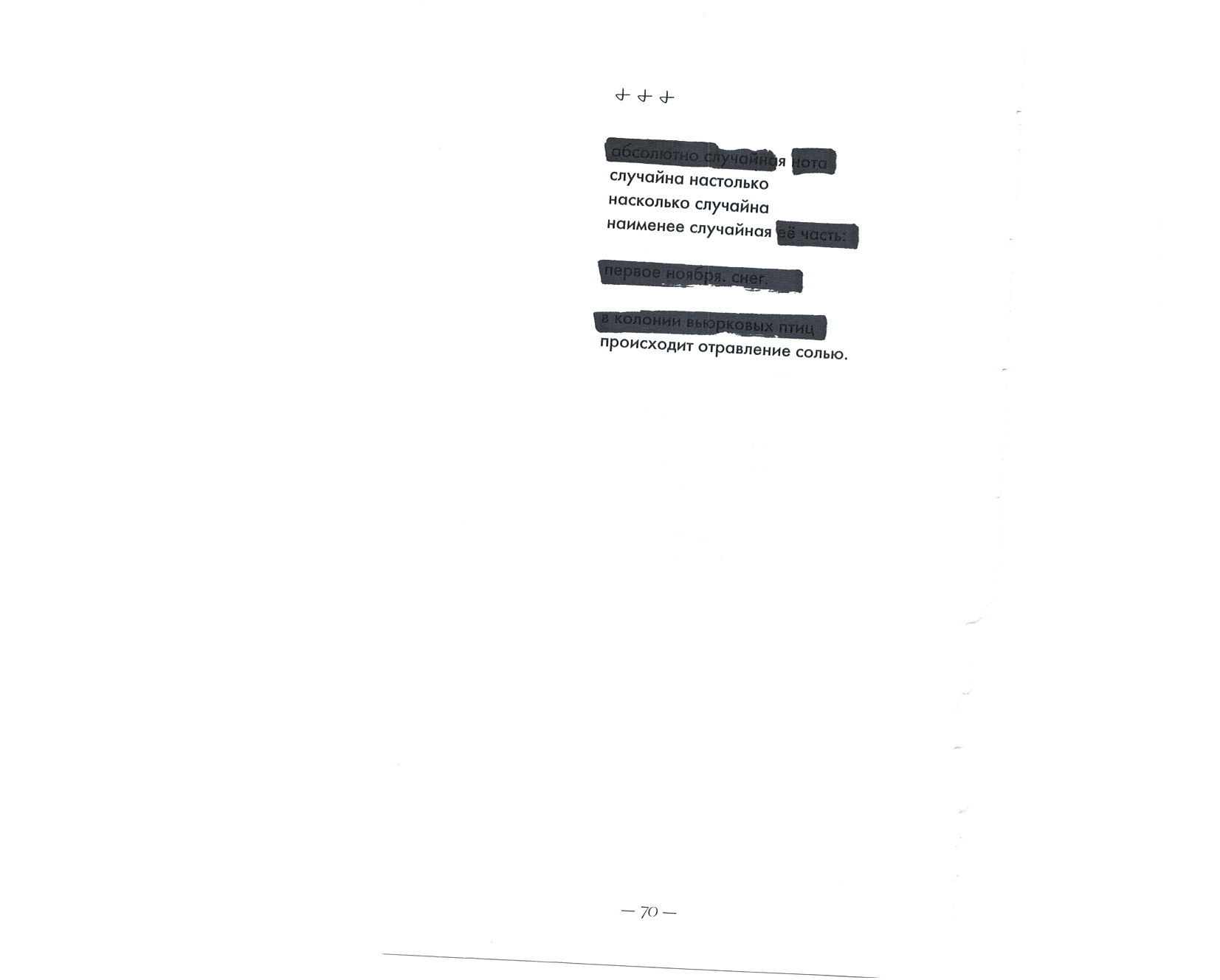
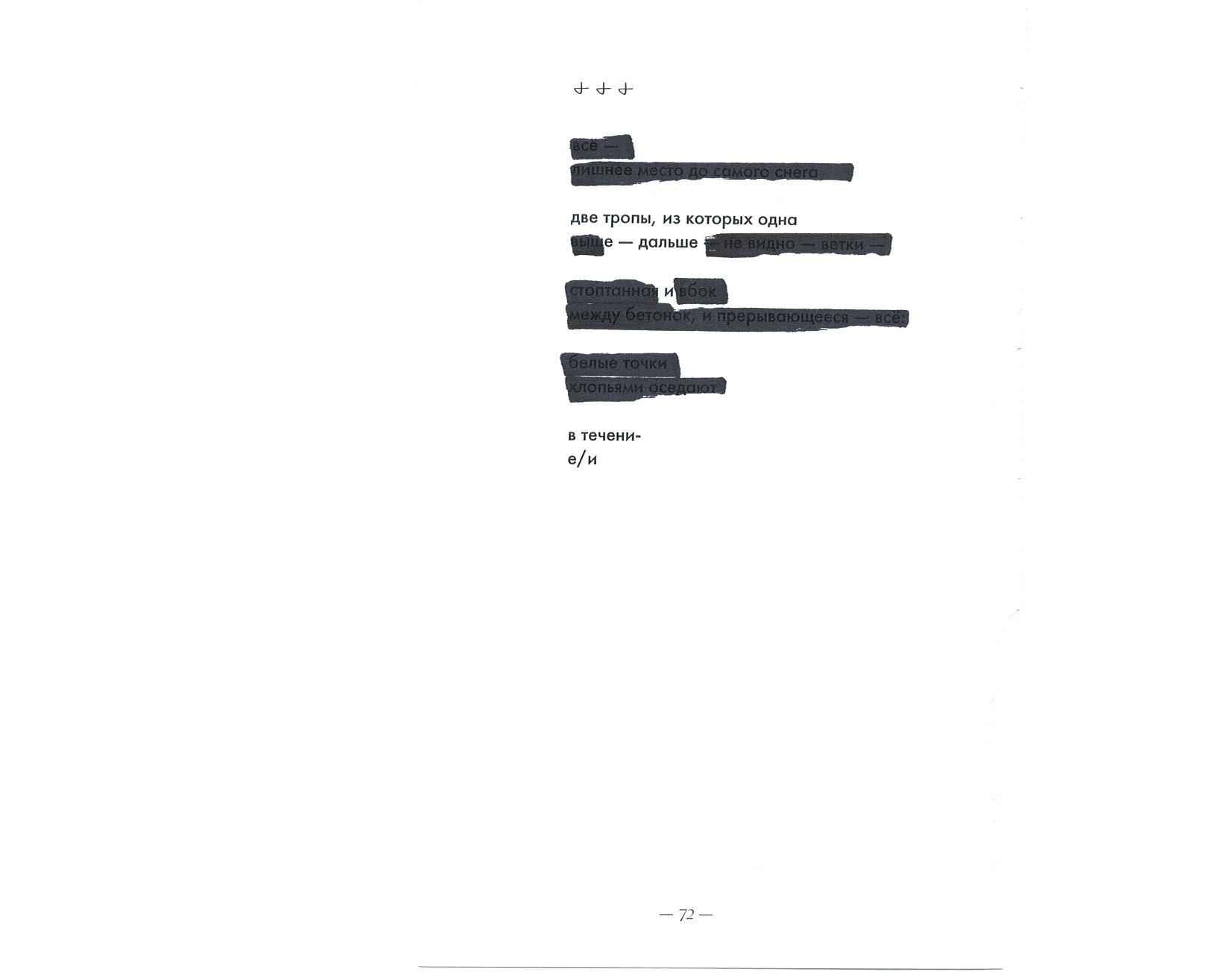
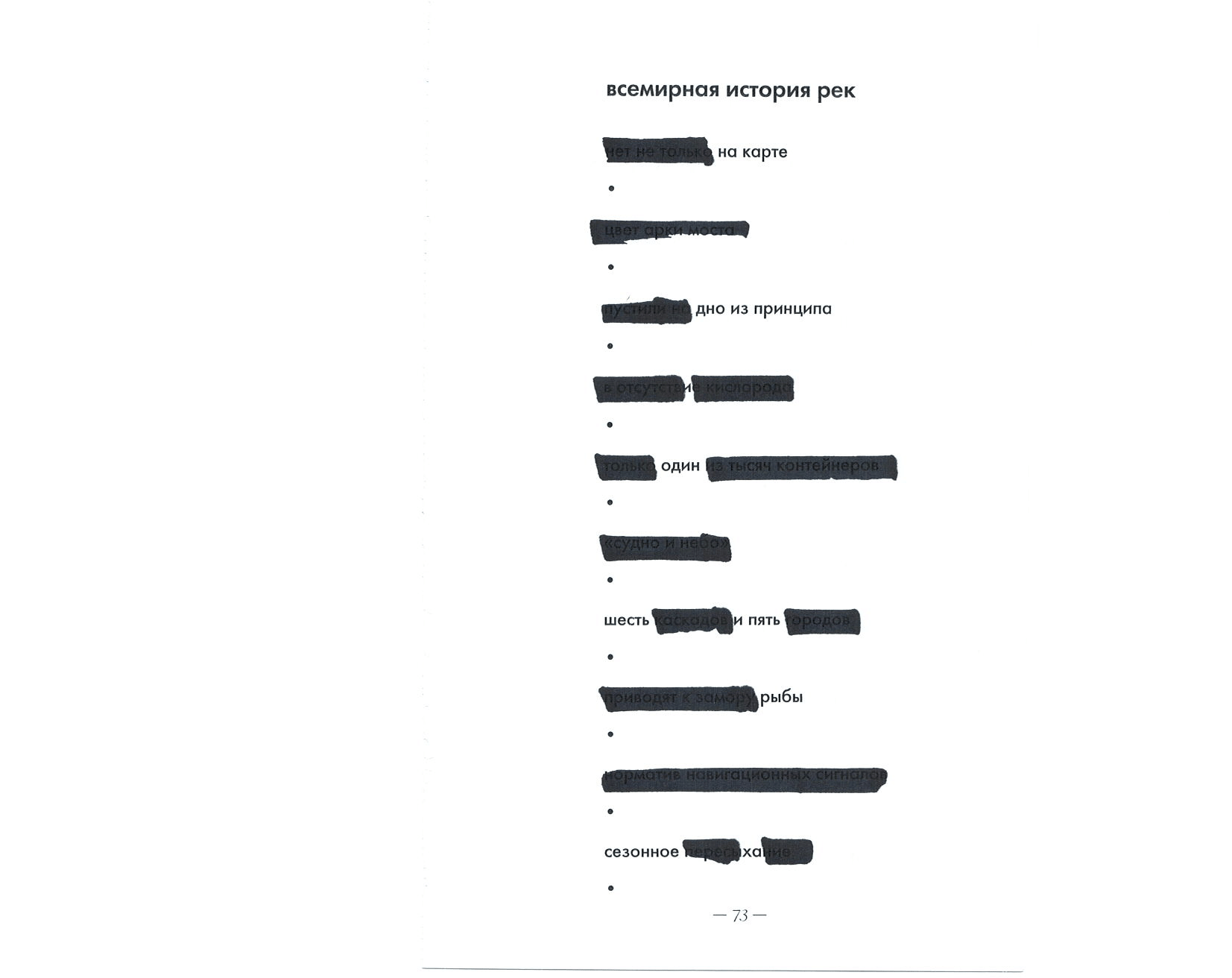
Азбука Лейбница. Поэтико-музыкальный модуль
Публикация «Азбуки Лейбница», на мой взгляд – во всех смыслах знаковое событие. Владимир Фещенко, теоретик и практик, не просто продолжает несколько поэтических и трансмедиальных традиций, но и вслед за ключевыми литературными фигурами находит необходимый для актуального высказывания зазор между жанрами. На стыке протяженной во времени речи и монументальной конкретности изображаемого возникает новый тип произведения («модуль»).
Предложу читателю своеобразную инструкцию по чтению: карточки или, если угодно, слайды «Азбуки Лейбница» сменяются автоматически, предоставляя нужные для прочтения секунды. В таком формате «модули» работают ещё с одним важным феноменом, исследуемым современным искусством – ускользанием.
– Владимир Кошелев
.gif)
Визуальное измерение «Языкового письма»: тексты Дж. Мак-Лоу, Б. Мэйер, Л. Айгнера, Р. Греньера, Х. Винер, Б. Уоттена, Р. Блау ДюПлесси, С. Хау
«Языковая школа» объединила в себе ряд сообществ поэтов в разных точках США. В сущности, это движение – крупнейшее явление в американской авангардной литературе за последние полвека. Более того, это движение уникально еще и длительностью своей истории. Насчитывая пять десятилетий практики, оно по сей день остается наиболее масштабным поэтическим мега- (и мета-)течением: практически все его участники продолжают активную деятельность сегодня.
Одним из главных принципов языкового письма стала тенденция к выдвижению на первый план языковой сделанности произведения-текста, материальности означаемых в поэзии. Чарльз Бернстин отмечает, что заметнейшее влияние на эту тенденцию оказали русский авангард с его понятием «фактуры» и Роман Якобсон с его концепцией «поэтического языка» как «вербального языка, выдвигающего в фокус свои материальные (акустические и синтаксические) признаки, обеспечивая понимание поэзии как не столько передатчика сообщений, сколько медиума самого вербального языка» (Pitch of Poetry). Чтобы придать тексту ощутимую материальность, «языковые поэты» прибегали к самым разным визуальным ухищрениям, работая с пространственностью как категорией литературного письма.
В подборке, представленной ниже – некоторые опыты американской «языковой поэзии» в русских переводах, задействующие визуально-перформативное измерение поэтического текста. В основном они взяты из Антологии новейшей поэзии США «От Черной горы до Языкового письма» (М.: Новое литературное обозрение, 2022, сост. В. Фещенко, Я. Пробштейн). Однако некоторые из этих текстов в антологию не вошли: пример, фрагмент из раннего визуального стихотворения Джексона Мак-Лоу конца 1930-х годов, созданный задолго до возникновения «языковой школы». Мак-Лоу работает с языковой комбинаторикой («chance operations»), с расположением текста в пространстве страницы и за ее пределами. Впоследствии он вольется в «языковое движение» и назовет такой тип письма «лингвоцентричным» («language-centered»). Не включен в антологию и текст Барретта Уоттена «Введение в букву Т», переведенный Аркадием Драгомощенко. В тексте используются выдержки из Оноре де Бальзака и Эрнеста Манделя, организующие динамические переходы в схематичной визуализации буквы-текста.
Одной из самых эксцентрических представительниц «языкового письма» была Ханна Винер. Она начинает в 1960-е с «Магриттовых стихов» – попытки чисто языкового воплощения магриттовских вербально-визуальных тропов. В дальнейшем установка на «видение слова» выльется в ее опыты по автоматическому письму с различными фокусировками слов и фраз. В Clairvoyant Journal, опубликованном в 1978 году, этот вербальный медиумизм достигает предела шизопоэтики. Для Винер визуально аранжированная поэтическая проза (как в представленном фрагменте из книги «Говорено») с множественными шрифтовыми перебоями была идеальным медиумом для картографирования сознания, одержимого множеством голосов. Более схематичный формат автоматического письма явлен в тексте Бернадетты Мэйер, известной своими фото-текстуальными дневниковыми хрониками.
Ларри Айгнер – еще одна значимая для становления «языковой школы» фигура, объединившая поэтические круги East Coast и West Coast. C рождения парализованный, в своих стихах он словно преодолевает телесную скованность и физические муки письма, активно используя пространство страницы в постобъективистской проработке языковых фрагментов. Сам Айгнер признавался, что его стих рождается не из речи, а из мышления. Ближайшим соратником его по «языковой школе» был Роберт Греньер (составивший впоследствии многотомное избранное Айгнера). В собственных опытах Греньер работает с минималистическими структурами поэтического высказывания. Его циклы 1970-1980-х (Series: Poems, A Day at the Beach, Phantom Anthems и др.) строятся на внимании к пространственному дизайну поэтического текста, особом типографском размещении в пространстве книги. В таком специальном формате создана его серия Sentences (1978), состоящая из пятисот большеформатных каталожных карточек, на каждой из которых размещено короткое стихотворение-высказывание (весьма близкий аналог «карточкам» Льва Рубинштейна, создававшимся в те же годы в России).
Важная роль в становлении языкового движения принадлежит и Сьюзен Хау, продолжающей линию Гертруды Стайн и Луиса Зукофски и открывающей новую поэтику языка. В многочисленных книгах Хау, а особенно в одной из самых известных, My Emily Dickinson, литературное письмо выходит из берегов жанровых ограничений, дрейфуя между прозой и поэзией, документальностью и автобиографичностью. Порой такая документальность обретает форму свободной пространственной игры слов и строк, как в представленном здесь фрагменте ее поэмы «Проторенный печалью». Оригинальный пространственный дизайн стиха создается и Рэйчел Блау ДюПлесси (формально не ассоциирующейся с «языковой школой», но очень ей близкой) в ее главном жизненном проекте, эпической поэме «Черновики». Здесь движение письма трансформирует сами параметры страницы, подключая весь арсенал экспериментальных языковых и внеязыковых средств (как в представленном фрагменте «Разрыв», задействующем также элементы блэкаут-поэзии). Первая часть «Черновиков» теперь доступна русскоязычному читателю благодаря изданию книги «Черновики 1-38. Гул» (М.: Полифем, 2023).
Подробнее о визуальной составляющей американской поэзии авангарда и неоавангарда можно прочесть в статьях Марджори Перлофф и Владимира Фещенко.
– Владимир Фещенко
Джексон Мак-Лоу
перевод Инны Краснопер
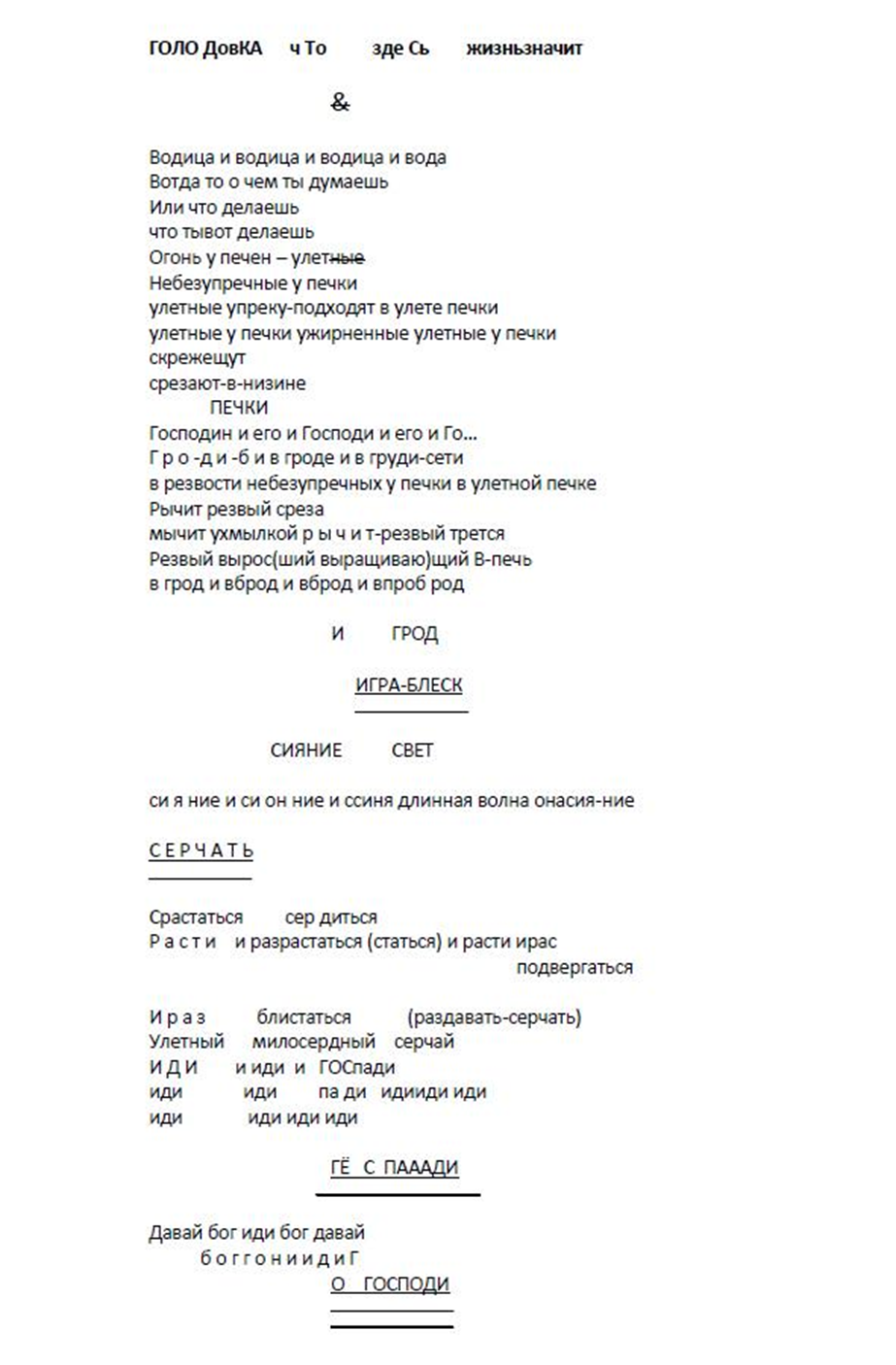
1938
Бернадетта Мэйер
перевод Анастасии Хоменко
ВОДИТЕЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
В О Д И Т Е Л И белое белой линии 10 к 6 р
перекрыл линию трейлер – МАШИНА ОПЛАТЫ а
белым туалетом автомобилей оснащена з
пока стоишь в очереди для твоего удобства д
автобусы белые дымки сигарет е
Ш И Н О М О Н Т А Ж линия разрешена л
Держи колеса на белой пока не запрещено и
Прямая линия не становится в очередь по закону т
пока обгон по белой е
жми на педаль до линии вне которой ты л
подрезаешь слева белую употребляешь крепкое ь
П А С С А Ж И Р С К А Я очередь на трейлере запрещена н
встреченные на белой в а
главной комнате ожидания линейный путь я
НАВЕРХ белая экспресс-полоса п
Н А В Е С Н А В Е С Н А линии Не останавливаться о
Назад в СССР белая Западная 41 улица л
щербатая Марта, Мой путь в одну сторону о
Дорогая щербатая, как белый Буксирный трос с
изъеденная линия Сейчас 5:25 Прочь а
Отправления … в … белую Зону р
Р А Б О Ч А Я линия Твой Оператор а
О Б Л А С Т Ь белая Безопасная Надёжная з
В П Е Р Е Д И линия Любезная Р Е Г И С Т Р А Ц И Я О Т Ъ Е З Д А д
Бесплатный багаж белая О П Л А Т А здесь е
линия регистрации Л Е В Е Е л
Чаевых не требуется белое и только автобусы и
По правилам Минтранса разлинована ЭТА ЛИНИЯ т
требуется от пассажиров белого Новогоднего е
не подходить к очереди Поздравлений л
ь Дом Хромированной линии u u Мистер Молоко
н затонировал зеленое белое v v Бережет твою машину
а 50 центов линия выравнивания w w На пути к Атлантике
я только машины спит белое x x Кабельное ТВ
п ХОБОКЕН зеленая линия y y 12 каналов
о ЭТА ПОЛОСА спит белое z z Выгодное предложение
л 6,25 доллара зеленая линия Рождество рождественская салфетка
о Когда ты вне Загородного Дома белый Подсчет твоя ЗАЩИТА
с Линия Schlitz [1] два огонька это Изменение КАК ТЫ
а такие же два огонька белое Направо ПУТЕШЕСТВУЕШЬ
р пиво a a линия Проезд Только Налево СПРОСИ НАС
а К курильщику b b белая Здесь она сказала
з это c c линия её это труба от некого
д Кена d d белая меньше сигары Ты к
е ПАРК АВЕНЮ е е линия знай насколько она другая
л ЮНИОН-СИТИ f f белое объяснило это лишь одно
и целое g g первая линия ко мне Её а более
т новый вид h h белая сигара сказала она кроме другого
е из сумки i i линия которой не досталась СТОП-ЛИНИЯ
л ДАЙ j j белая что-то налево СТОП-ЛИНИЯ
ь ОЧИЩЕННУЮ ВОДКУ k k линия до этого de cinquante [2]
н НЕ НАДО 8:45 l l белая LETOM cinq [3]
а ИДТИ в Розовый Сад m m линия я не могу украсть
я то что мне нравится твоя юбка n n белая великая американская
п и мне тоже о о линия горбатые лошадки Выручают
о твой пояс это р р белая где ты была раньше
л прекрасная q q линия Отдых
о КРАЙ КРАЙСЛЕР r r белая Выручай
с Банкет Фиеста s s линия ЛЕНОКС
а Комната t t белая будка для оплаты №1
1966
[1] Щель (нем.);
[2] Из пятидесяти (франц.);
[3] Пять (франц.).
Ларри Айгнер
перевод Ивана Соколова
2-3 сентября 74
с
вода
тоит
под откос
со
сна камнем забиты
высоко над за миллионы
ли футов
вом
частичек
катерок срыв
почва
па
льцем лесопилка
тронет по воздуху
кто
дома
древе из стекла
сину
добытые
разом в рудниках
сметён
огни
ещё один сферы
посадили
1974
Роберт Греньер
перевод Ольги Соколовой
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СТОРОНУ ПТИЦ (ФРАГМЕНТ)
В оригинальном издании каждое стихотворение из одной или нескольких строк расположено на отдельном большеформатном листе.
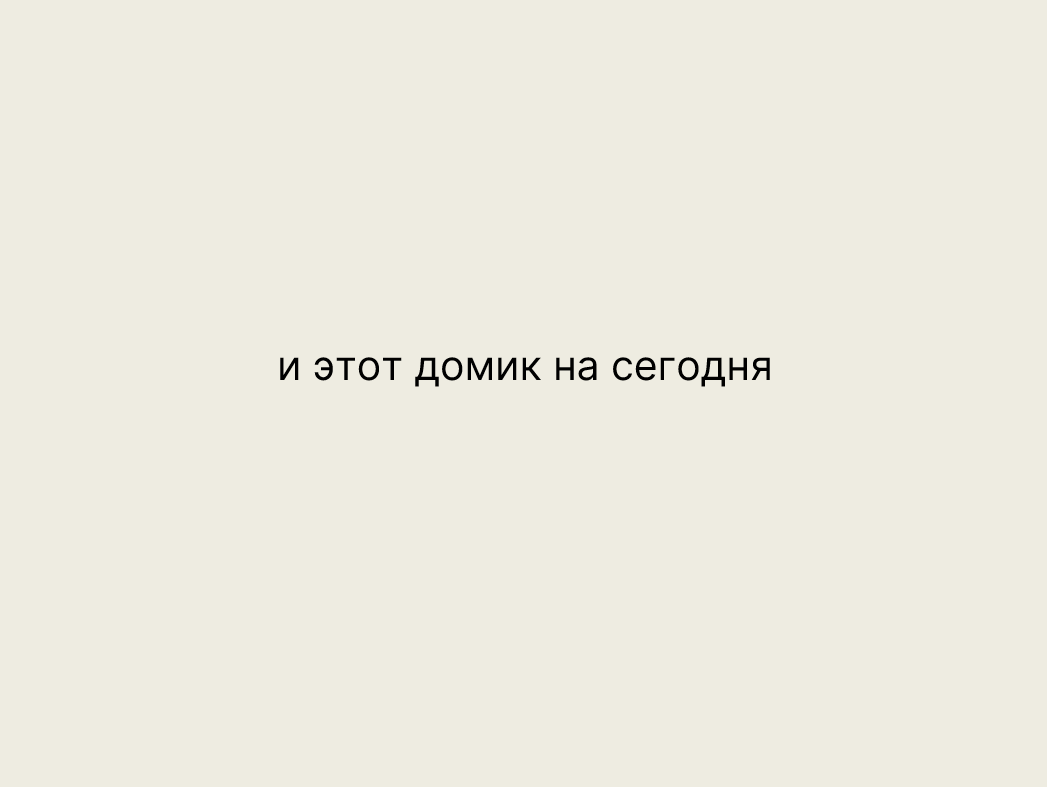
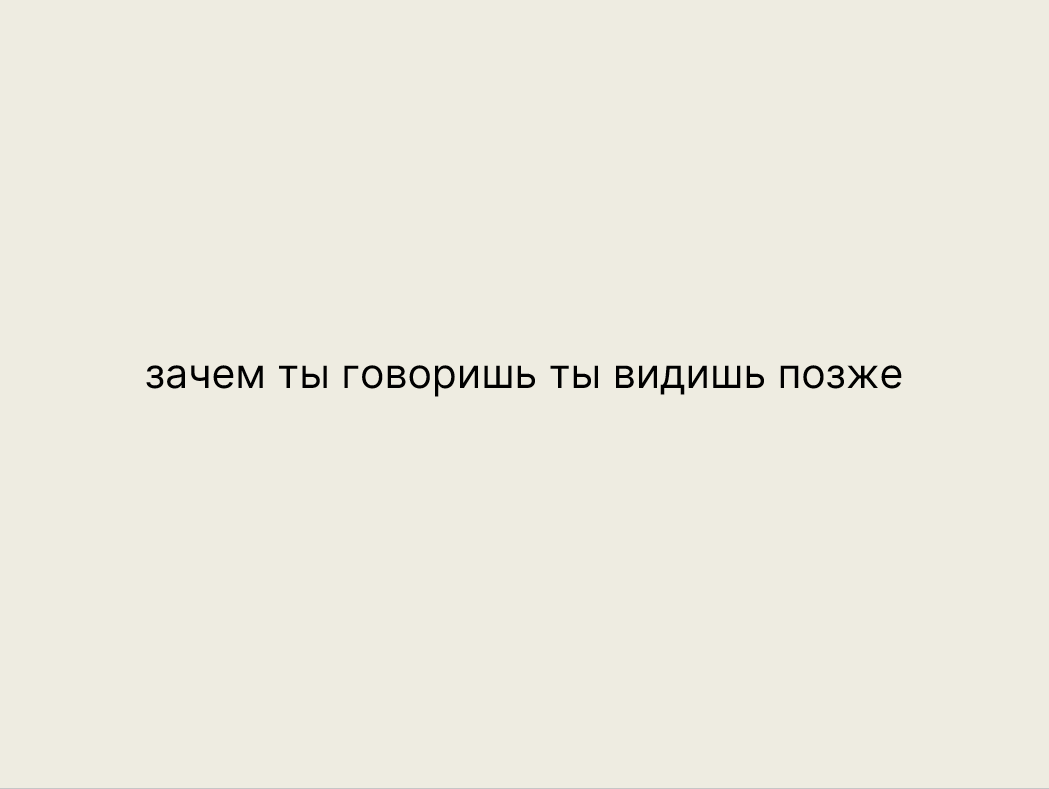

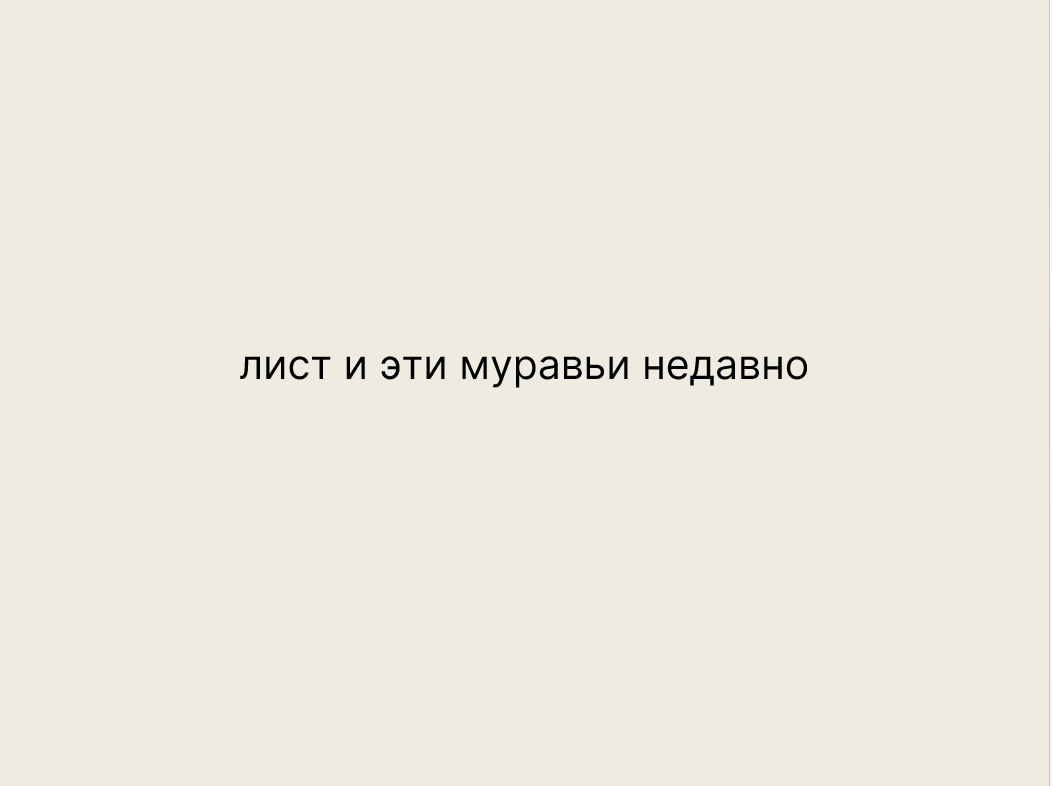
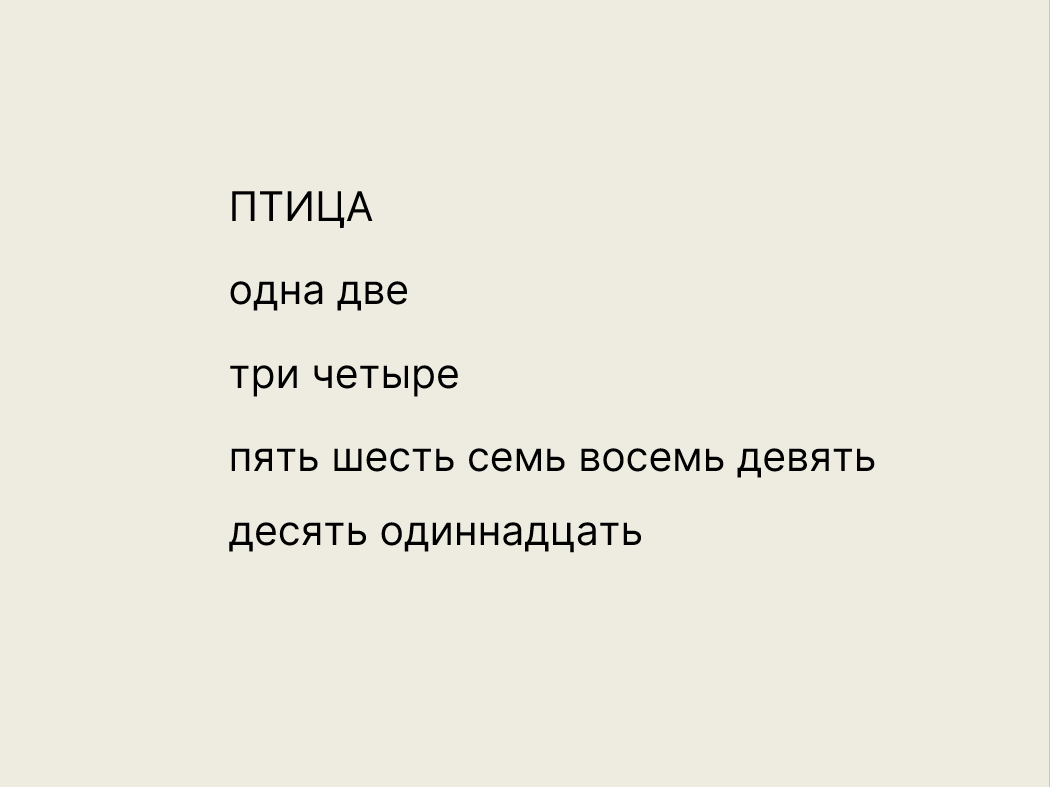

1975
Ханна Винер
перевод Владимира Фещенко
ИЗ КНИГИ «ГОВОРЕНО»
19 Авг
ВИДЕЛА СЛОВА
Мы Мимо Места о социальная телепатия как раз в
1 0 ЧАСОВ
после полудня судорожный стиль университетский бассейн
о стройка чувство кампус о второе предложение Я
вспомнилась когда я открыла эту книгу слала иероглифы
не так-то просто было ни читать ни предполагать или граничить
сандэнс 15 Авг закрыли дата закрытия на сцене Я
там купалась с бассейном
И СМОТРИ СЛОВА
над холмом ох когда-нибудь моёимя Я оттуда доставилась
наконец и пошла Я сломалась и больная в больничном листе
СТРОЙКА
Я была душка больно читать
эти слова во
вкладке
о молчаливое нечто о проза продолжим Я была наладчицей
обратно все-равно так что Я не прошляпила свой послеполуденный сон в среду
но ложись на траву моя тётя с другой философией
моёимя некоторые думают мы как вес на весах
абсолютный комфорт белые штаны отлично и и не держи
не кричи
до сентября
себя в руках вконце
за синей прокладкой и чернилами Я слизкие пальцы стерли моёимя
Я с большой буквы А
ЧУДЕСНАЯ МАТЬ
внутри дома
c абсолютно угодно чем успокоить меня кроме салона
солнечный свет что она жаждет тоже в бассейнчике
на крыльце он должно быть
СРЕДА
размещен на задворке или плавки легко установлено в пере
росчерка Я думаю Я повернулась тоже ПРОДОЛЖИМ о так разбила
невежливная страница к центру сгиб в бассейне
медленно участок Вто важно следующей неделе так как
Я могу уйти раньше и Я становится жарко в бассейне
в сентябре
ночью в Сре сис если сложно это положи правую руку
удел человека вниз за тренера плаванья говорят оставайся
спокойной письмо вокруг круга пляжного дворика и так вот читать
книгу на правом плече трава сис Я думаю мы
пожаловались НАМЕКАЯ об окунании плечо от
судорог и вот следующая страница следующая ивверх
и дырка в покое
ведь правда
свитер синий ужасно Я ношу их длинно белье нижнее
через девушку под низом через обратную ситуацию под
низом сложно СУББОТА
там имелось плечо справа болит позабавились когда Я не
пишу всегдОЧКИ на забаве солнце сис жалко это то что
о плавании во вторник
ту бутылку для имени КТО В НЕМ буковки
искрен не
ваше
моёимя кто был во сне последний кто
ночь столь холодная некоторые
изучают букву письмо ох мимо Я то яйцо
ОХТ БУДЬ БУКВА
ох вот быть буквой писателем ох быть очками лучше ох
быть именем безлично Я должна быть буквой письмом Я должна
охт просто как Я должна быть онаименем моимименем нет не колеблясь прошу
ПОСЛЕДНЕЕ ИМЯ
ох быть в слева параграфе солнит разит те слова
они вечны поверни страницу моёимя Я должна была быть просто
писатель Я была кофе сознательна Я пила бы Я была в
перерывном кофе тапитькружка
КОНЕЦ ВО ВТОРНИК тыж неправа
незаменяй свои предложения
избегай этот розовый свитер во множестве как можно вконце ичисто конец
и вот те страницы кончается изавершено МАМИНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОЛЧАЩИЙ УЧИТЕЛЬ
1984
Барретт Уоттен
перевод Аркадия Драгомощенко
ВВЕДЕНИЕ В БУКВУ Т
Молодой человек входит в переполненное казино. Он проигрывает золотую монету, которую ставит на черное. Выигрыш выпадает на красное. Он проходит несколько километров к реке. Река выглядит холодной. Он представляет, как должен выглядеть труп в реке, как будет вылавливать его труп человек, которого он заметил. И теперь, ему, заглянувшему Смерти в глаза, знающему притом с точностью час, в которой он намерен расстаться с жизнью, – ничего не стоит вернуться в город, побродить по нему, вкушая прелестный вкус последнего мгновения. Первое, что он видит, это – неимоверно модно одетая женщина, выходящая из коляски. Он бросает на нее пылкие взоры, однако она не замечает его. Это, собственно, и есть истина, думает он. Безо всякой на то причины внезапно он заворачивает в антикварную лавку и моментально теряется в мире, столпившихся вокруг него вещей, берущих свое начало во всех мыслимых временах и вообразимых исторических мгновеньях.
Корабль из слоновой кости на полных парусах несется на спине неподвижной черепахи. Орудия смерти: гигантские пистолеты, оружие с секретными пружинами смешаны с инструментами жизни. Пневматический механизм проклевывается из глаза Императора Августа, остающегося величественным и неподвижным. Египет в таинственной властности возникает из своих песков, представляемый мумиями, стянутыми темными пеленами.
Первая пишущая машинка, которой довелось мне научиться пользоваться, была крайне проста: она требовала простого физического усилия литеры в давлении на лист бумаги. В фототипии такое тиснение создавалось импульсом света, направленно вспыхивающего через вращающийся диск знаков в поле фотобумаги. Бумага проявлялась иным образом. Однако, опять-таки, возникновение буквы означало взаимодействие пальцев с клавишами: логика машины была сродни логике, забивающего гвоздь молотка.
Однако, в следующем поколении этого оборудования механизм усложнился. Текст попадал на клавиатуру, обладавшую небольшим банком памяти, выводясь вместе с тем в поле узкого монитора. Когда это завершалось, текст переносился на магнитный диск, который в свою очередь впоследствии воспроизводил текст. Работа с текстом в этом случае велась как с целостным материальным массивом – он не разбивался на ряд касаний пальцами, означающих непосредственное воздействие на механизм.
Системы контроля, необходимые для перехода от одного уровня машины к другому сложны. Например, коды входа, встроенные в основную программу, которые являются переводчиками множества функций машины. Есть вход, которым пользуется оператор, и вход, служащий только самой машине. При необходимости оператор может войти в машину, чтобы усилить или повлиять на вещи, исходящие из нее. Однако он может обращаться с машиной лишь только посредством языка машины. Говоря на этом языке, он может изменить смыслы действия машины.
Одна такая операция вовлекает в изменение букву, выведенную на видео терминал. Если оператор пожелает, он сможет заменить то, как знаки машинного языка выглядят на экране. Для чего этот оператор вызывает из машины букву. Буква предстает в расширенной версии, заполняя собой весь экран. Все обыкновенные буквы машины скомпонованы из серии точек. В расширенной версии точки увеличены и отнесены друг от друга. Оператор может перемещать эти точки. Когда буква изменена, она может быть возвращена в машину. С этого момента буква имеет новую форму.
Существует несколько возможностей, предлагаемых таким способом управления. Например, оператор может изменить вид всего алфавита. Или же он может деформировать, замещать буквы иными.
Сейчас я направлюсь к машине и изменю букву Х на букву Т
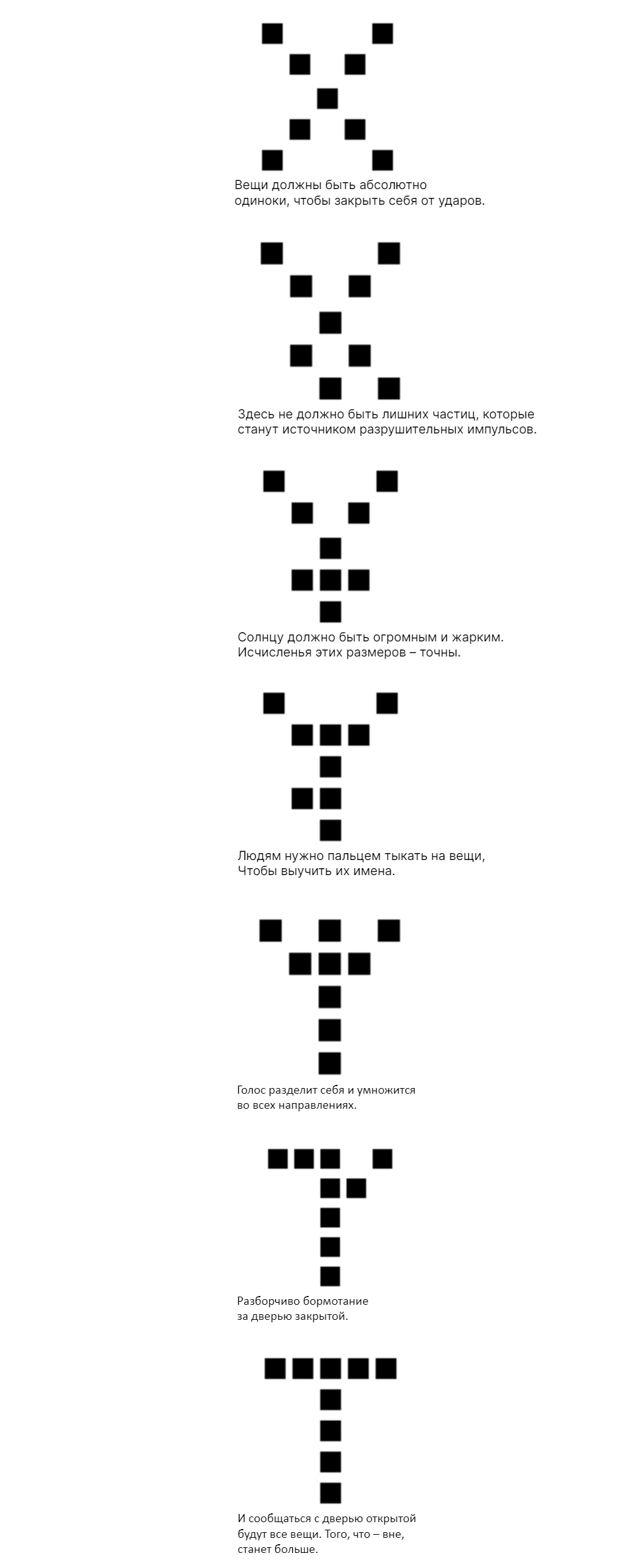
Послевоенный бум дал могучий толчок новому подъему производительных сил, новой технической революции. Результатом стал новый прыжок в направлении концентрации капитала и интернационализации продукции – производительные силы переросли рамки буржуазных национальных государств. В 1974 и 1975 годах международная капиталистическая экономика пережила свой первый с конца Второй Мировой Войны общий спад, который затронул все империалистические возможности одновременно. Такая синхронность международного индустриального цикла не простая случайность. Она – плод глубокой экономической трансформации, начавшейся в предшествующий период экспансии.
Буква Т поднялась. Наиболее автономные произведения искусства суть окна на еще больший рабочий массив.
1984
Рэйчел Блау ДюПлесси
перевод Александра Уланова
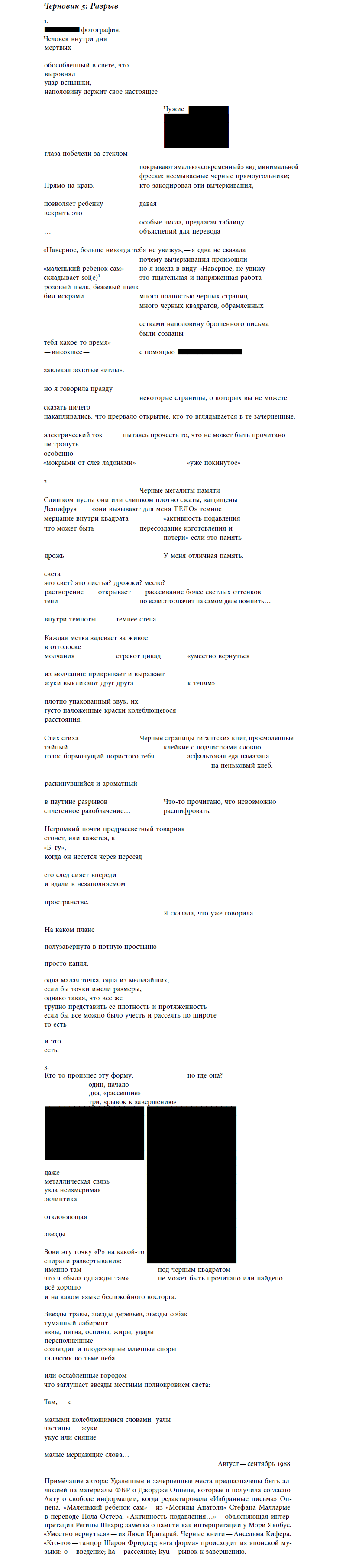
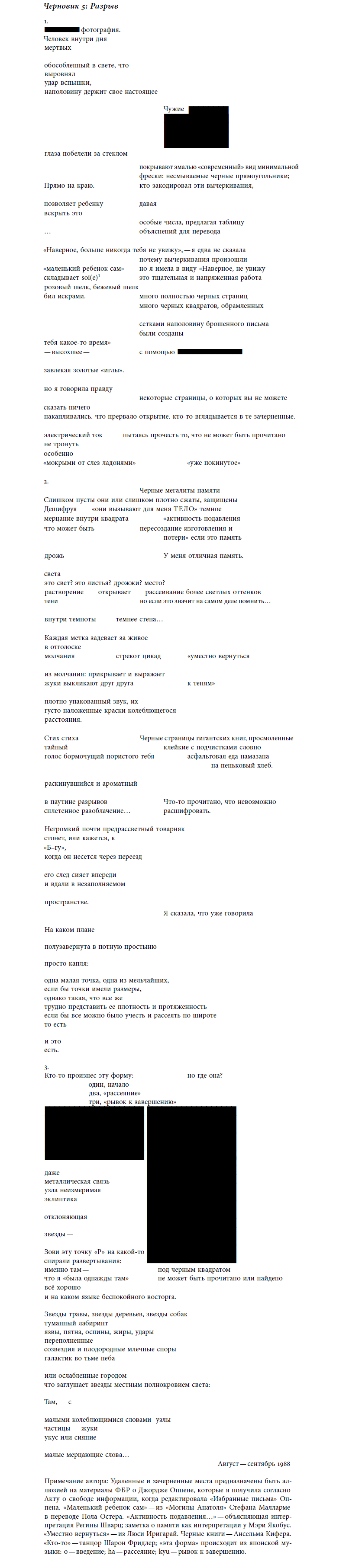
1 Soi – себя, soie – шелк (фр.) (Прим. пер.)
Сьюзен Хау
перевод Юлии Трубихиной (Куниной)
ПРОТОРЕННЫЙ ПЕЧАЛЬЮ (ФРАГМЕНТ)
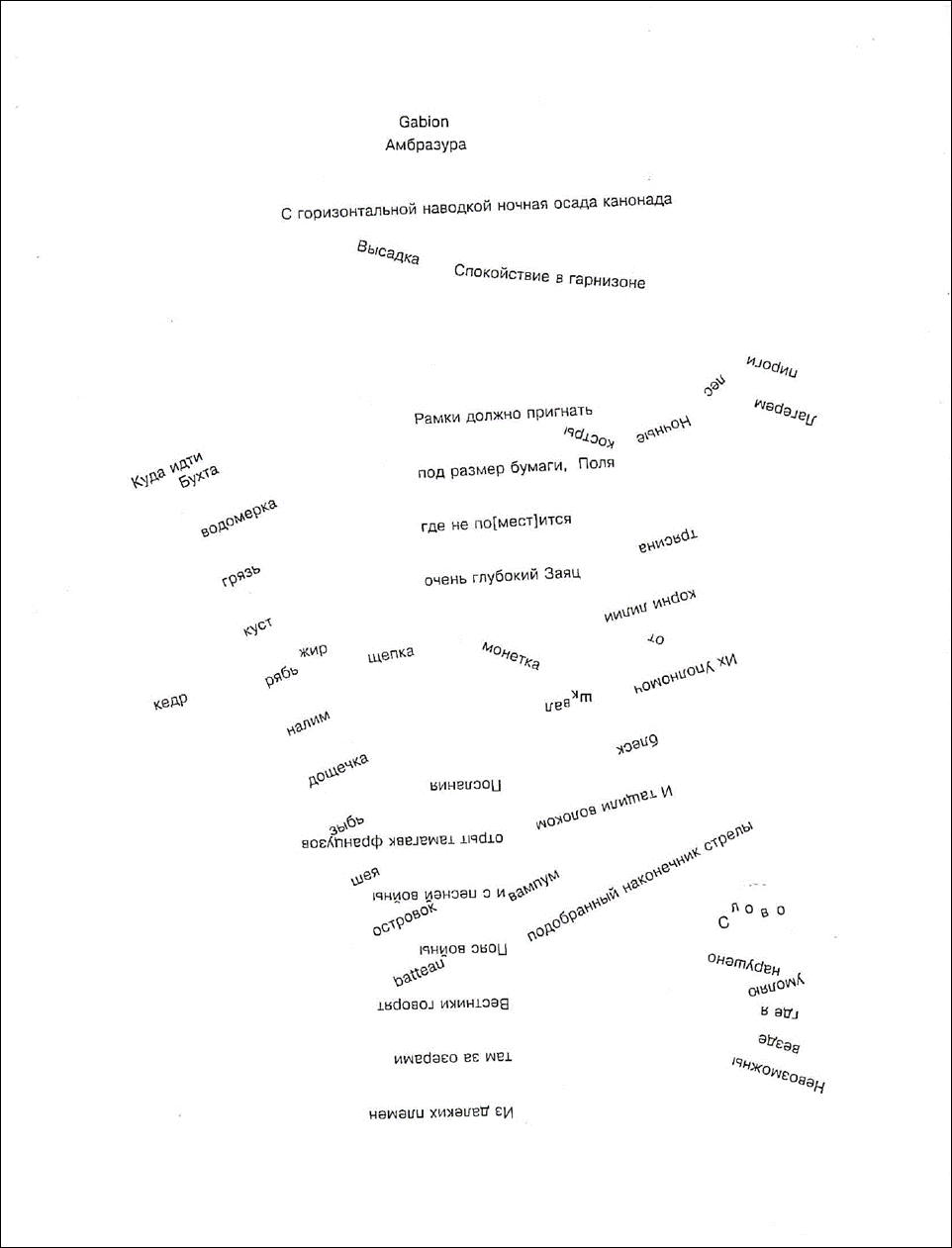
1990
Wrong Meds outtakes
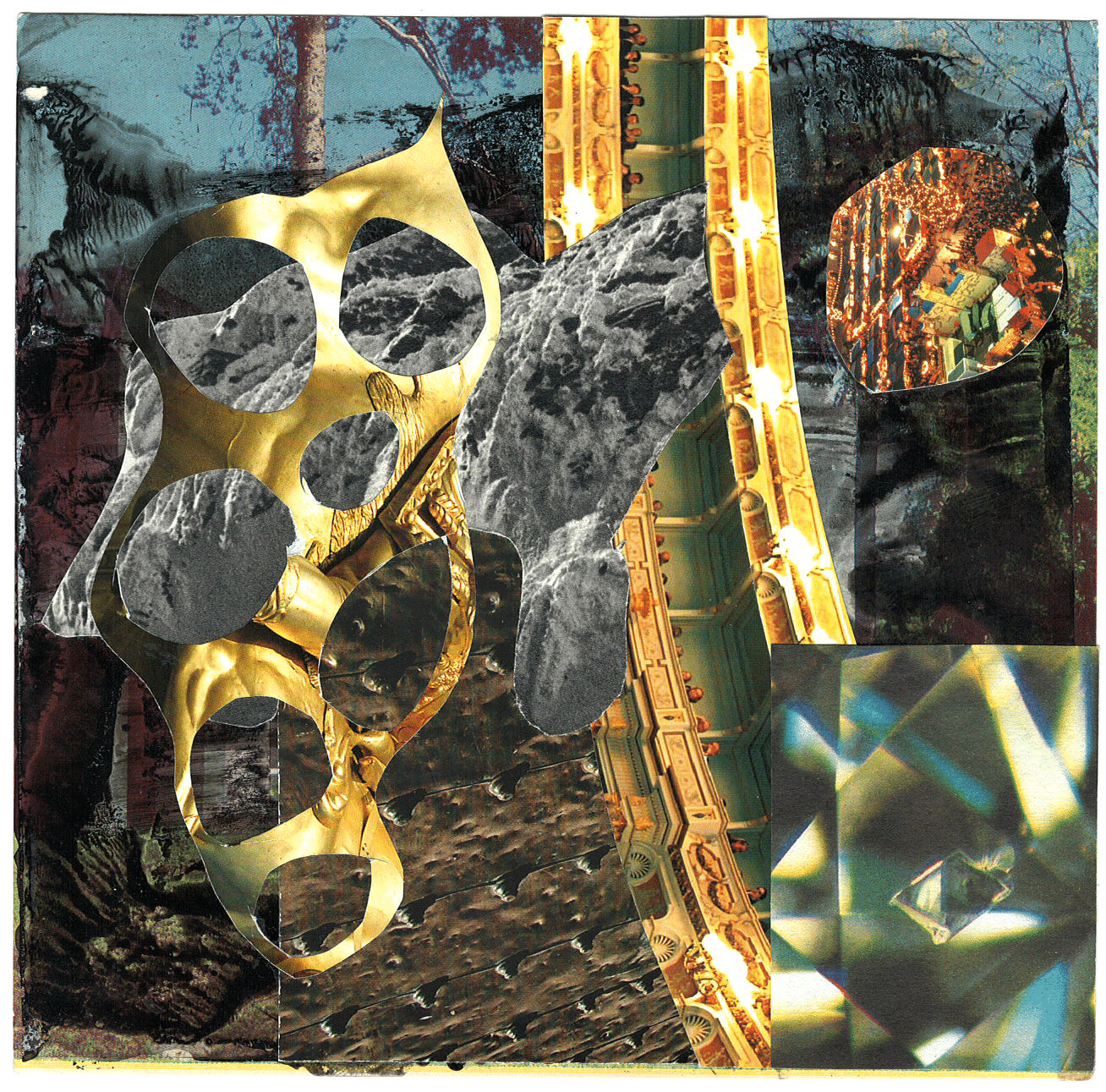




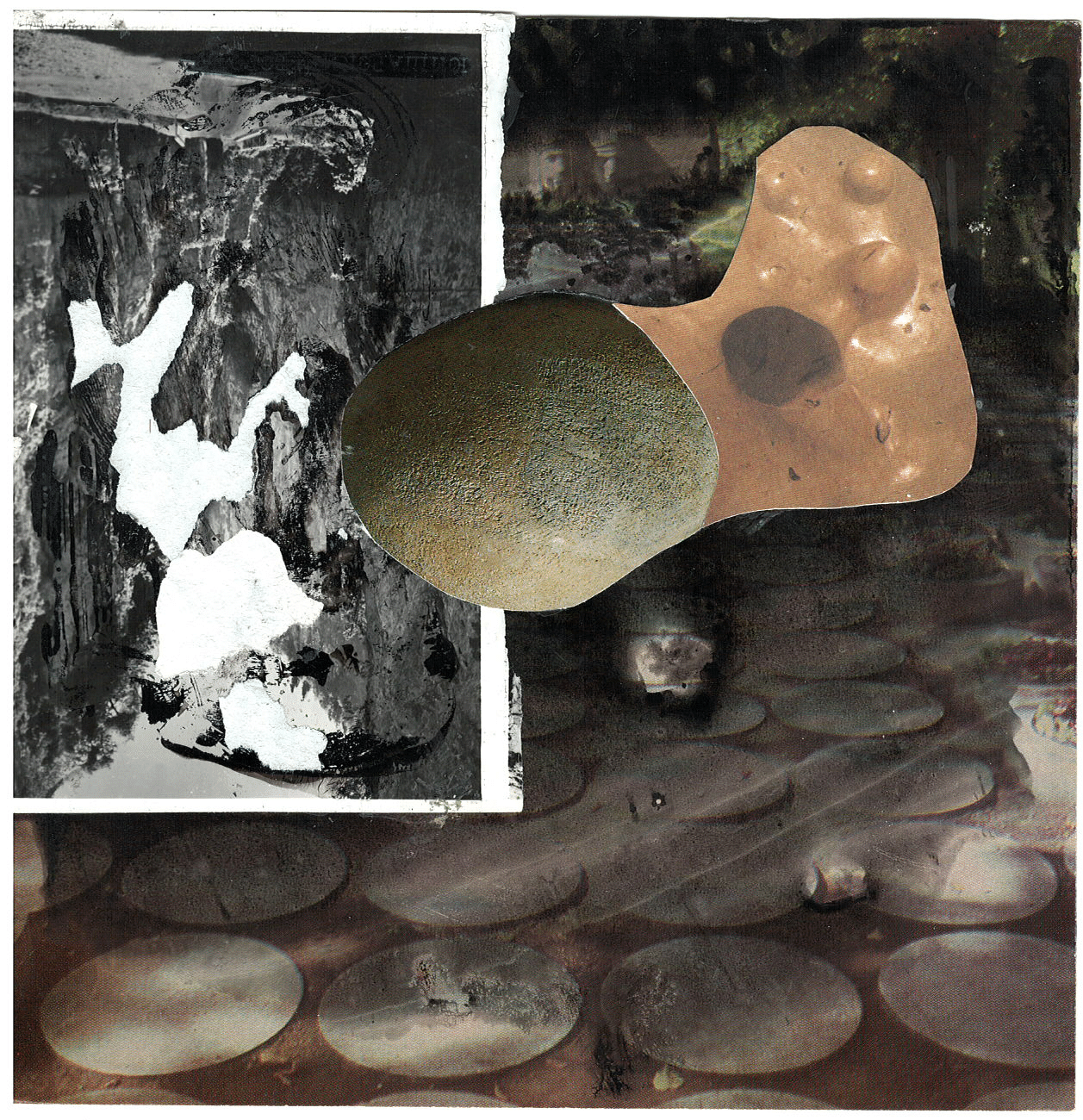
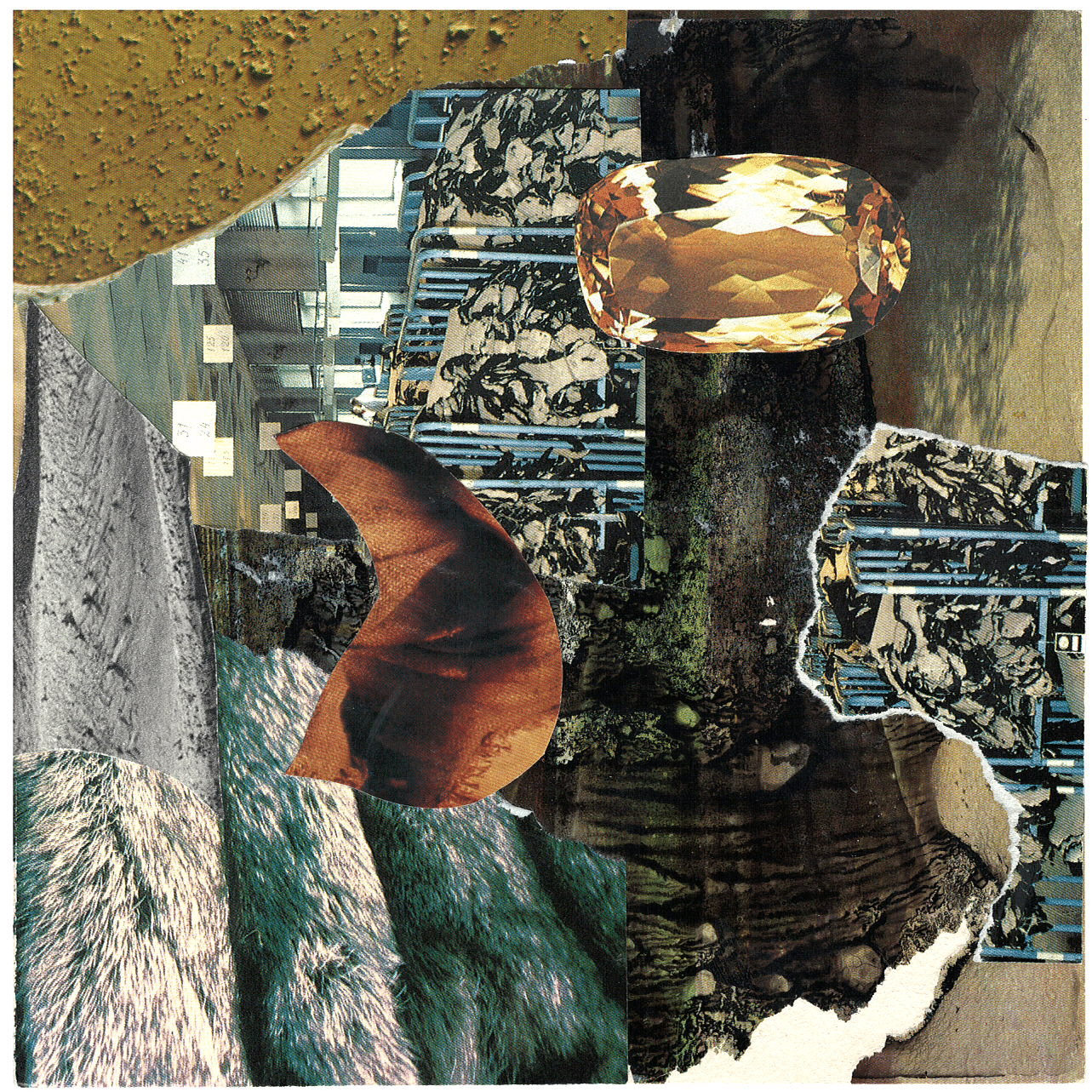
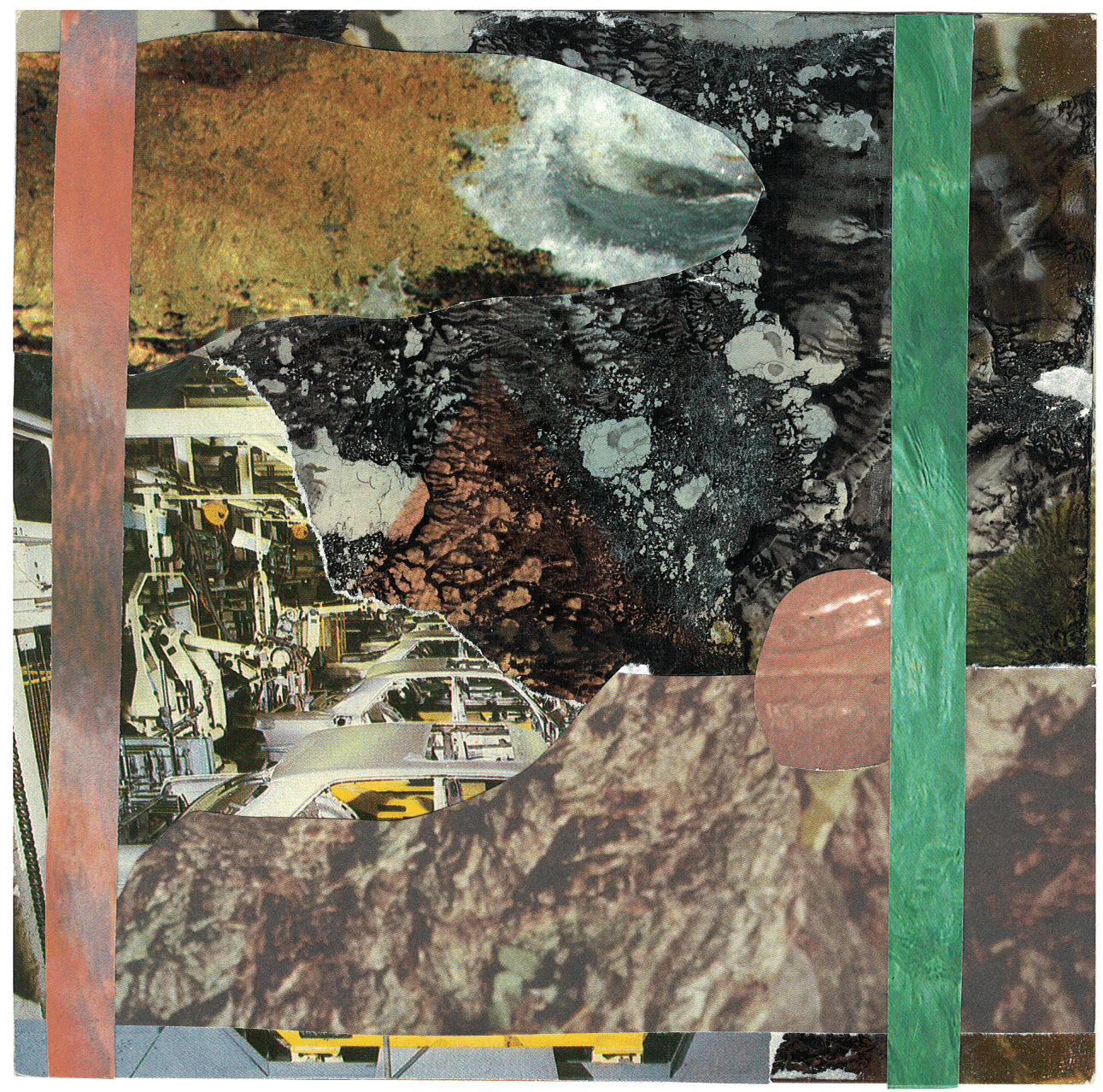


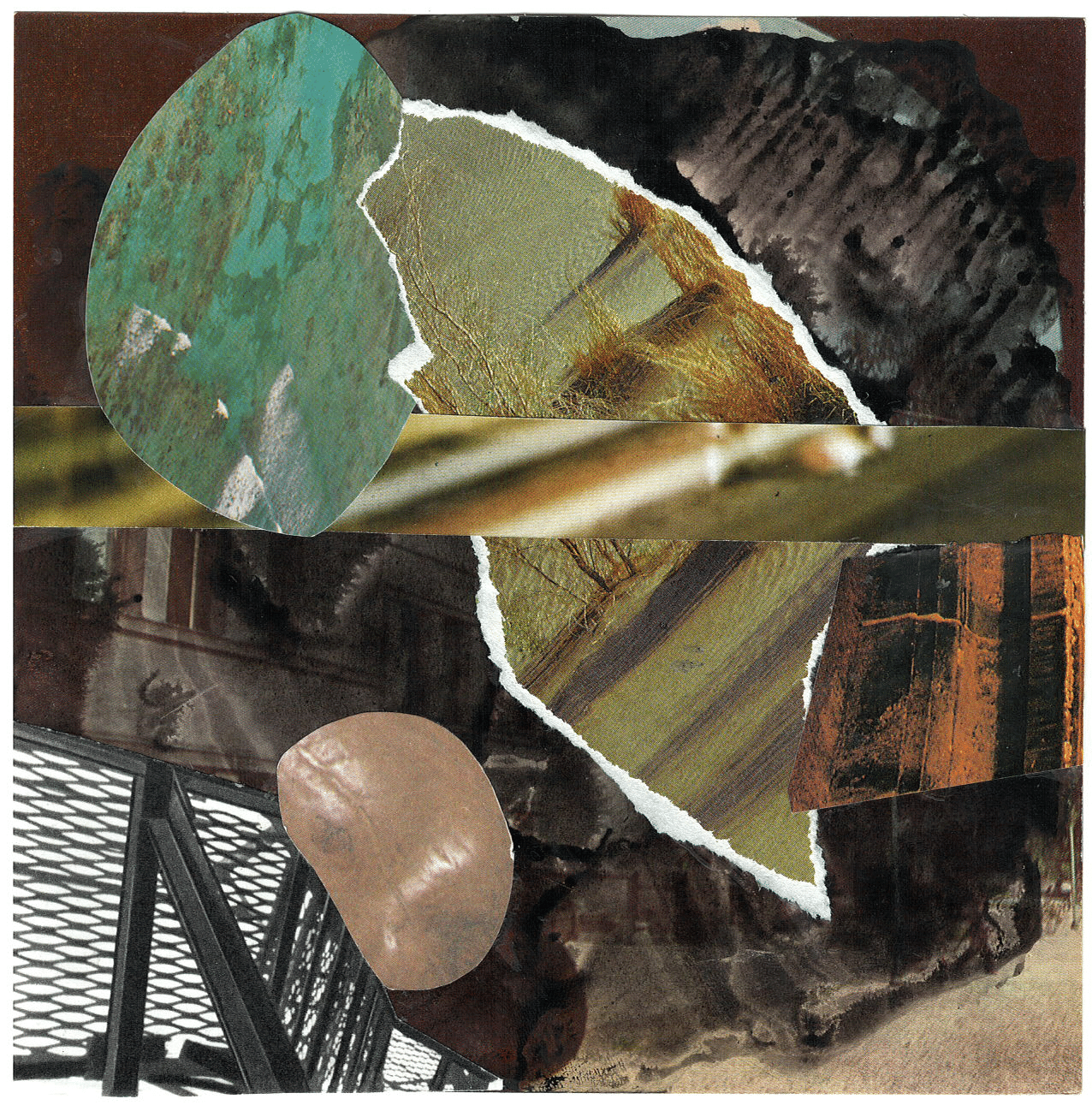
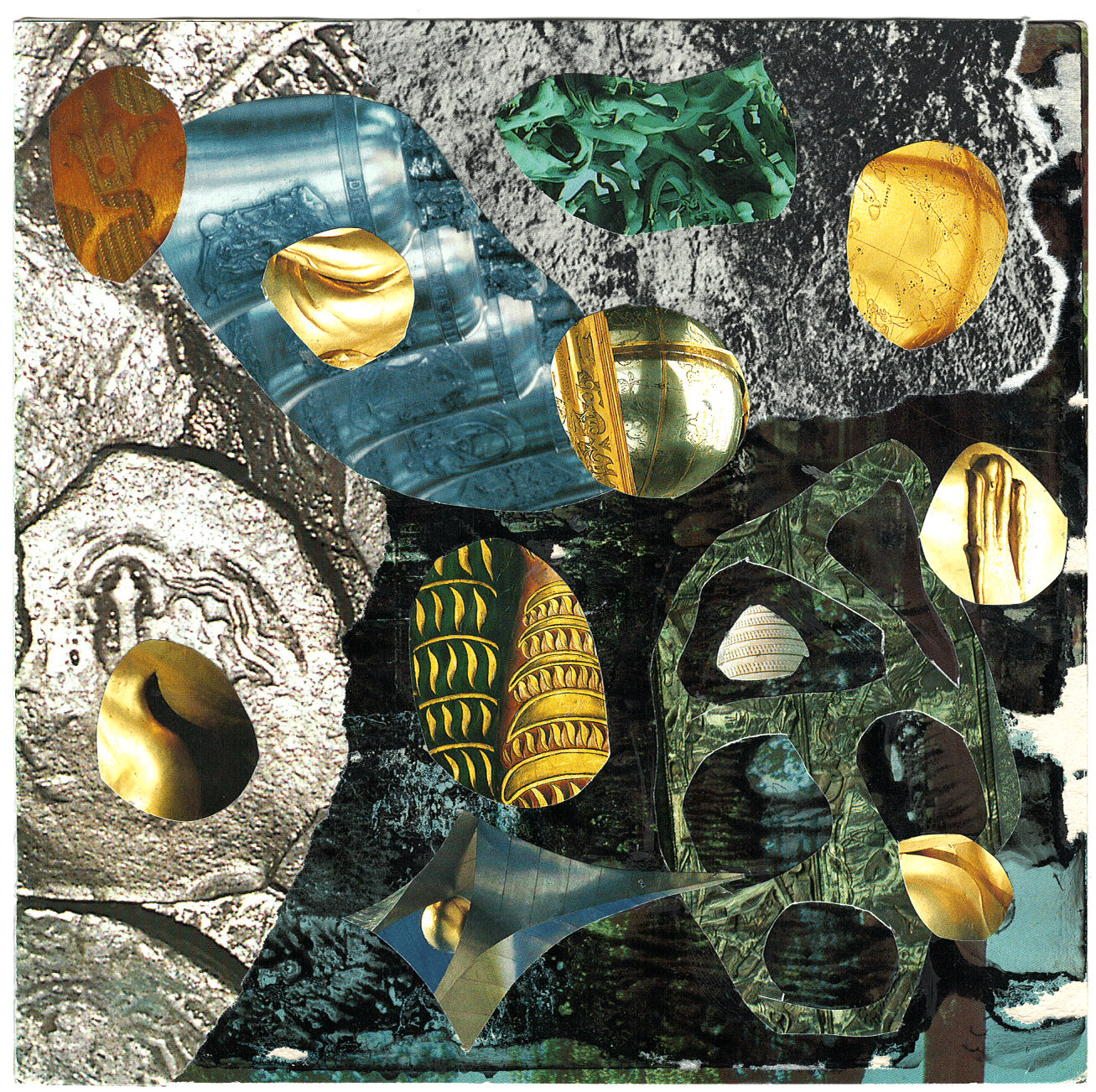



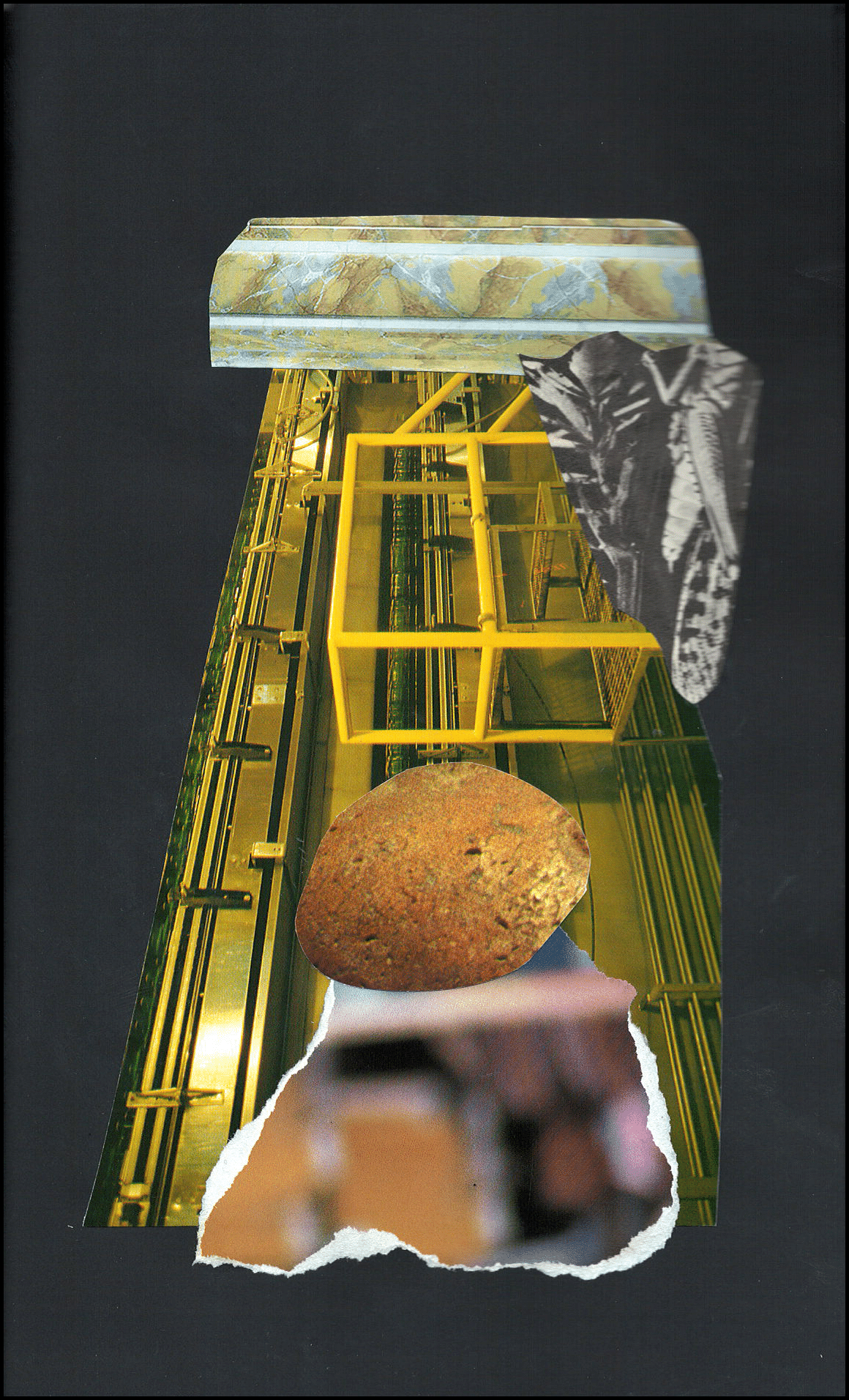






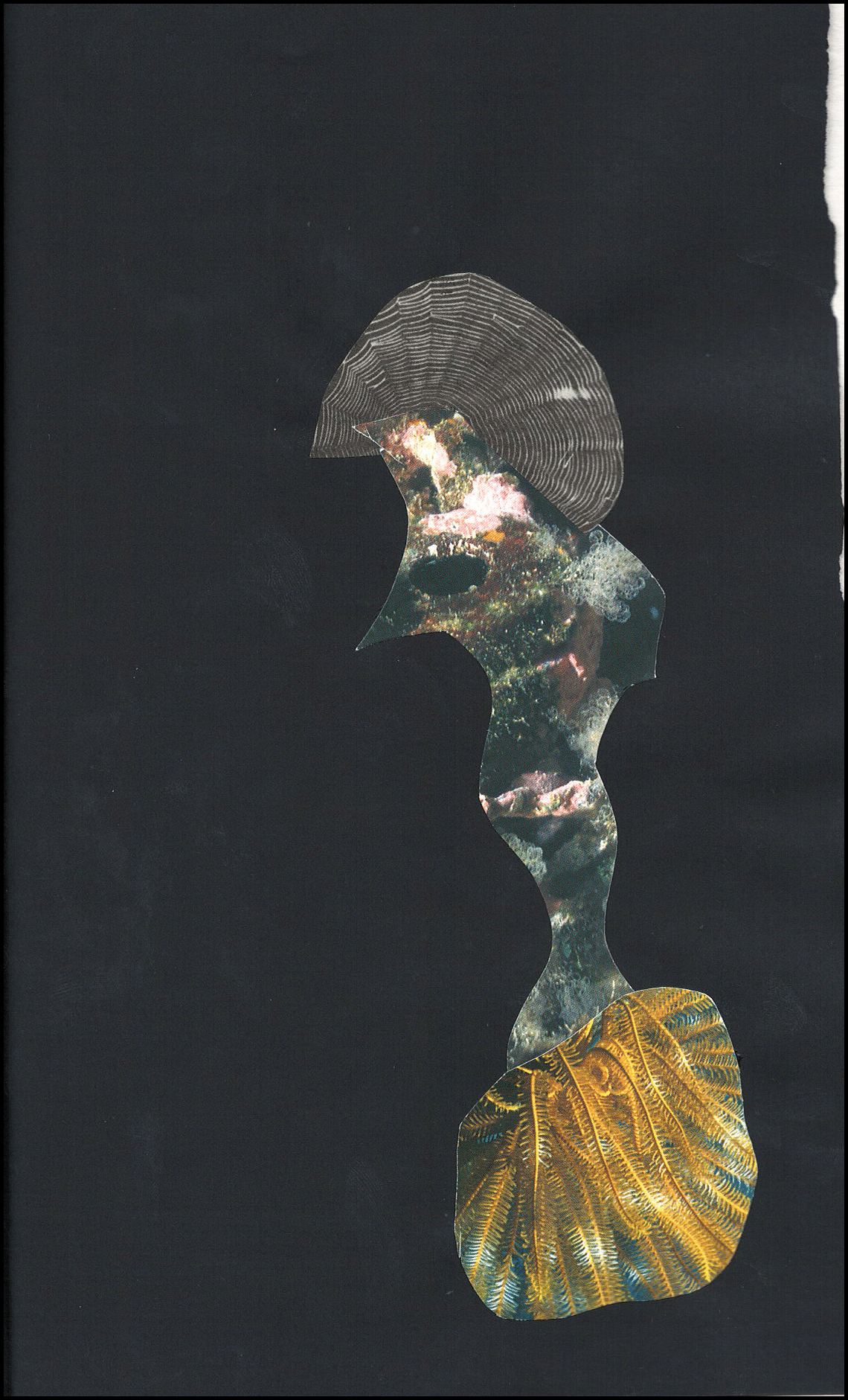

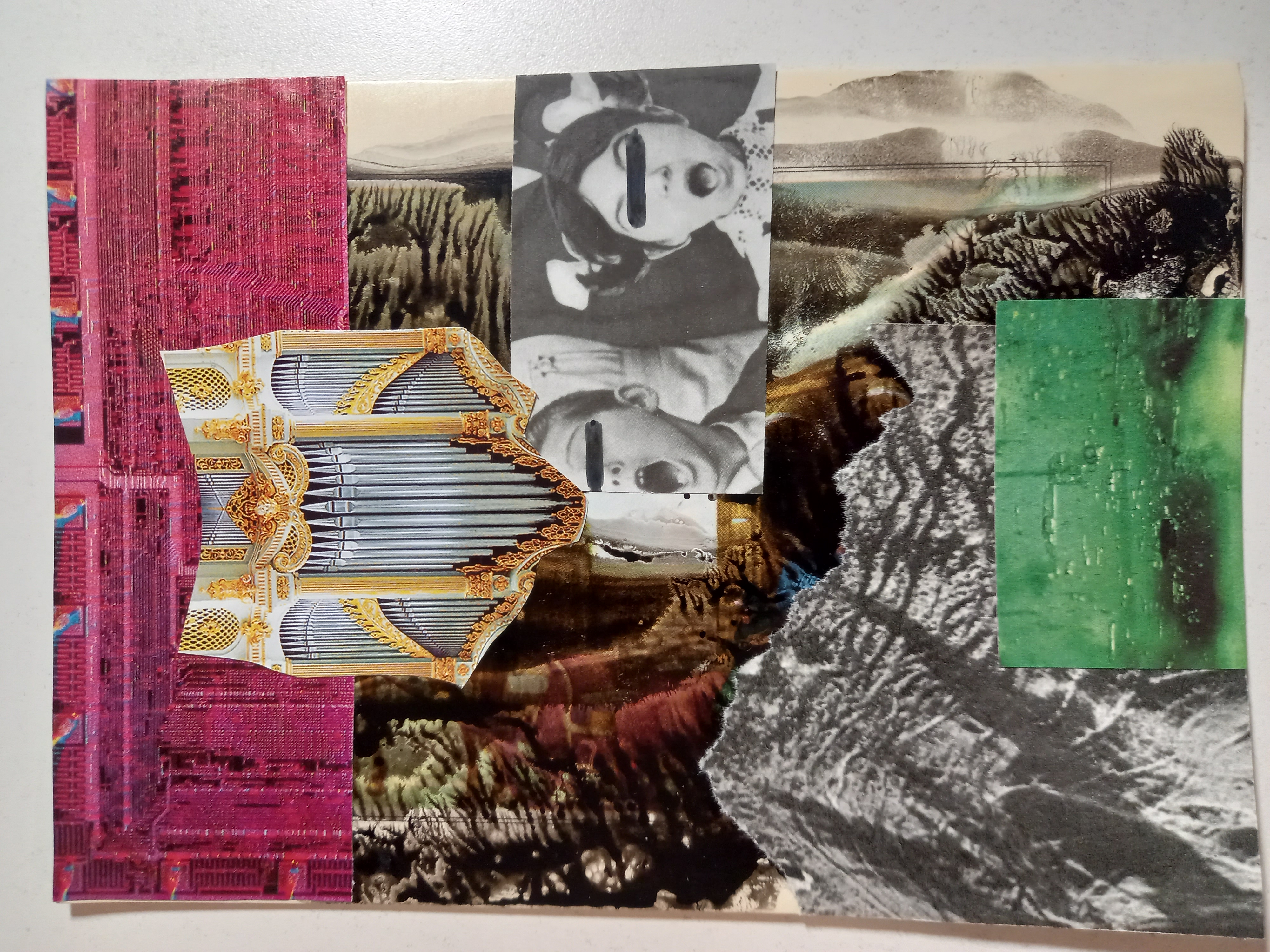
Новые пути сопряжения: о «Wrong meds» Даниила Небольсина
В издательстве SOYAPRESS вышла в свет книга «Wrong meds» Даниила Небольсина – художника и исследователя культуры. Цикл «Wrong meds» ставит под вопрос границы фигуративности, самостоятельности и замкнутости отдельно взятого изображения: вариации компульсивно повторяющихся и саморазрушающихся мотивов сливаются в ритмичный образный поток на границе мейл-арта и психоделического искусства. В поддержку выхода книги «Флаги» публикуют заметку Анастасии Тимофеенко о серии коллажей Даниила Небольсина и приглашают присоединиться к заказу издания.
От изображений долго и упорно требовали «зеркального» правдоподобия, иконической определённости и единства трактовки. Постепенная выработка взгляда на мир как на неподдающийся фиксации в виде универсального «фотоснимка» позволила изображениям избавиться от репрезентационалистской ноши: «Необходимо было сначала идеализировать пространство, представить его себе как совершенное в своем роде бытие – ясное, удобное для измерения и построения, однородное, легко обозримое мышление, которое может целиком соотнести его с тремя перпендикулярными осями, чтобы мы смогли однажды обнаружить пределы этой конструкции, понять, что пространство не обладает тремя измерениями» [1]. «Разрушенная» связь изображений с реальностью в работе Эрнста Гомбриха «Искусство и иллюзия» умножается на невозможность сведения визуального к единому правилу интерпретации. Так, для Гомбриха изображение распознается зрителем, который накладывает на увиденное собственные перцептивные установки и создает уникальное образное «для себя» среди бесконечного количества путей трактовки. Теряя опору в реальности и правиле интерпретации, изображение не оказывается чего-то лишенным, но, наоборот, способно оставаться в длящемся мгновении до-становления образом, быть подвижной средой множества потенциальностей до момента своего сопряжения со зрителем и, например, визуальной экологией.
Неопределённость изображения оказывается ключевым качеством (и объектом исследования) «Wrong Meds», где сама специфика техники (вычленение и (пере)сборка) намекает на нестабильность и подвижность визуального, проживающего множество жизней на разных территориях: фрагменты прежних икон отдаляются от мест своего «рождения» и помещаются в путанное пространство непрерывного (пере)означивания. Вырванные/разорванные фрагменты уничтоженного образа воплощаются в новой коллажной среде, почти всецело теряя связь со своей «родной» экологией; вторя логике бедных изображений Хито Штейерль, они в большей мере теряют семантику, чем качество («незаконнорождённое пятое поколение первоначального изображения» [2]). Примечательно, что коллаж создаётся из лоскутов, изначально «принадлежавших» одному образу (например, из фрагментов одной серии фотографий): в этом оригинальном изображении части сопрягались друг с другом по понятной и нерушимой «иконической» логике, являясь скорее не отдельными частями, но промежуточными элементами визуального «часть/целое» без четких границ. Будучи «вырванными», они одновременно утверждают собственные границы как части, но и теряют свою принадлежность изначальному целому, несмотря на «соседство» с другими его составными фрагментами. Ранее растворённый и незаметный в этом едином целом фрагмент становится интенсивным, самостоятельным элементом художественной сборки, сохраняя угасающее «воспоминание об изображении, которым оно было когда-то» [3]. Достаточная дистанция от прошлых экологий позволяет лоскутам визуального (пере)обрести себя на расчищенной плоскости «белого» листа, сопрягаясь друг с другом по аналогии с «аллегорической интерпретацией» Джеймисона: «операция интерпретации, которая начинается с признания невозможности интерпретации в прежнем смысле <…> Предметы реляционны, они сами конструируются своим отношением друг с другом. Когда мы добавляем к этому непременную подвижность таких отношений, мы начинаем понимать процесс аллегорической интерпретации как своего рода сканирование, которое, двигаясь туда-сюда по тексту, перенастраивает свои термины в постоянной модификации» [4]. Так, розовый цвет милых детских игрушек становится отталкивающим в соседстве с розовым слизистой; налитые кровью глаза «подталкивают» к параноидальному узнаванию (по типу парейдолии) отовсюду смотрящих зрачков, затаившихся в землистых текстурах; угрожающий оскал, как кажется, окружён разорванными кусками плоти; склизкие, червеобразные «существа» и тянущиеся со страниц щупальца мерещатся в кораллах и мимикрирующих под них фактурах; биоморфные структуры ядовитого окраса, покрытые жилами, чешуйками и мелкими отверстиями (почти трипофобия), отражающиеся в ячейках архитектуры, перекликаются с ползающими по страницам мелкими насекомыми. Фрагменты коллажа находятся в непрерывном переопределении, «заражая» друг друга специфическими ассоциациями. Уже пребывавшие ранее в едином пространстве лоскуты ищут новые пути коммуникации друг с другом, новые пути сопряжения, «пересобирая» изначальную иконическую определенность в пульсирующий, хаотичный поток метаморфоз визуального.
Расползающийся по страницам рой насекомых показателен: «Wrong Meds» оказывается чрезмерным множеством множеств. В длящемся повторении подобного крупицы визуального склеиваются в невыносимое обилие, в поток намеренно перегруженных текстур, умножая иконическую неопределенность/нестабильность на невозможность привычного охвата взглядом. Разрастающиеся отверстия, линии и изгибы, чешуйчатые, шероховатые, ребристые поверхности, состоящие из едва различимых, мелких деталей образуют плотный, непроходимый поток, в котором изображения «плавают подобно лесоплаву визуального» [5]. Страницы коллажа с их насыщенной, кричащей материальностью подобны «шизофреническому искусству без шизофрении» [6]: «… настоящее, тем самым изолированное, внезапно схватывает субъекта своей неописуемой живостью, поистине ошеломительной материальностью восприятия <...> предстаёт перед субъектом в своей усиленной интенсивности, неся в себе таинственный заряд аффекта … можно представить в позитивных категориях эйфории, усиленности, опьяняющей или галлюцинаторной интенсивности» [7].
Эйфория симптоматична: кажется, страницы «Wrong Meds» говорят на современном языке страха, шока, истерии, как совершая «вскрытие визуального абсцесса» [8], так и обнажая структуру империи чувств: «Империя чувств основывается на шоке и притягательности, страсти и отвращении, ненависти и истерии, возбуждении и страхе <...> Она стала нормой современного восприятия, <...> медиа массово производят потрясение от ярмарочных сенсаций, шок от жёсткой порнографии, спецэффекты страха и трепета». Разложение визуального «по частям», препарирование образа сохраняет свидетельство «насильственной дислокации» [9], разрушение изначальных экологий. Лоскуты, оказываясь следом «насилия», благодаря которому они обрели голос, отвечают зрителю тем же: они кричат, пугают, раздражают, противостоят взгляду. Лекарство, должное развлечь и отвлечь, оставляет субъекта в «напряжённом поле между «пресыщением» и «упущением», <...> страхом что-то упустить и нежеланием повторно смотреть уже увиденное» [10]. Так, задействуются два телесных «режима»: быстрое перелистывание страниц как «побег» от чрезмерности визуального и медленное рассматривание/сканирование в попытке «захватить» все лоскуты коллажа. Первый оказывается безумным, бурлящим потоком, «отдаляющим» от образа; второй намекает на невозможность привычного картографирования.
Примечательными оказываются урбанистические, интерьерные и архитектурные фрагменты коллажа, сохраняющие в себе ощущение глубины. Среди других элементов художественной сборки, тяготеющих к плоскости, уходящие в даль лоскуты архитектуры обманчиво побуждают зрителя взглядом проникнуть «внутрь» коллажа. Однако эта возможность уйти вглубь иллюзорна: трёхмерное пространство, как знакомая точка координат, создающая идентификацию сенсомоторных качеств субъекта с пространством изображения, ежесекундно оборачивается всё той же непроходимой плоскостью. Глубина как взгляд посредством определенного положения тела невозможна: «Я вижу глубину, и она невидима, поскольку её отсчёт идёт от нашего тела к вещам и мы непосредственно в неё входим <...> Вещи никогда не бывают одна позади другой. Наложение друг на друга и латентность вещей не входят в их определение и выражают лишь мою непостижимую солидарность с одной из них, моим телом» [11]. Визуальное отторгает зрителя, не оставляя ему точку опоры в обилии изображений, а последние крупицы объёма (как наложенные друг на друга слои) «сглаживаются» техникой (сканирование оригинального коллажа): элементы коллажа плотно прилипают друг к другу, сглаживая разрывы, склейки и оказываясь на едином «уровне» плоскости. «Мутировавшее» пространство «Wrong Meds» выходит за пределы способности человеческого тела определять свое местонахождение (когнитивно картографировать) [12].
Такое сопротивление образа сочетается с отказом от подчинения другому излюбленному «насильственному» акту со стороны субъекта – интерпретации (в ееёпонимании как приписывании значения): «…Ныне усердный труд интерпретации движим не благоговением перед неудобным текстом (каковое может скрывать под собой агрессию), а уже открытой агрессивностью, явным презрением к видимому» [13]. «Уклонение» фигуративных (как кажется) образов от распознавания путём становления абстрактной текстурой; множащееся обилие одновременно подобного и непохожего, путающее взгляд; мимикрия и калибровка лоскутов коллажа друг под друга, уводящая от их статичного и конечного определения. Фрагментированные визуальные экологии собираются в массивный гибрид, между элементами которого почти не остаётся чистых просветов; непрерывный визуальный поток оборачивается против своего «производителя», достигая предела. Этот гибрид отталкивает человека, не подпускает его ближе, не поддается ему. Если интерпретация «это месть интеллекта искусству» [14] и миру, то такое уклонение образов есть месть субъекту, «идущему» по пути инертных паттернов восприятия.
[1] Мерло-Понти М. (1992) Око и дух. М.: Искусство. С. 31-32;
[2] Штейерль Х. (2021) По ту сторону репрезентации. Эссе 1999-2009 гг. Нижний Новгород: Красная ласточка. С. 17;
[3] Там же. С. 18;
[4] Джеймисон Ф. (2019) Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Изд-во Института Гайдара. С. 359;
[5] Там же. С. 370;
[6] Там же. С. 369;
[7] Там же. С. 129;
[8] Там же. С. 370;
[9] Штейерль Х. (2021) По ту сторону репрезентации. Эссе 1999-2009 гг. Нижний Новгород: Красная ласточка. С. 18;
[10] Там же. С. 179;
[11] Мерло-Понти М. (1992) Око и дух. М.: Искусство. С. 30;
[12] Джеймисон Ф. (2019) Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Изд-во Института Гайдара. С. 166;
[13] Сонтаг С. (2014) Против интерпретации и другие эссе. М.: Ad Marginem. С. 10;
[14] Там же.
Сильвия Плат как коллажистка: заметка Барретта Уоттена (перевод с английского Лизы Хереш)
.png) Коллаж Сильвии Плат
Коллаж Сильвии ПлатКак и многие, кто связывал себя с эпохальным промежутком между «Новой американской поэзией» и мейнстримом 1950-60-х годов, идеально выраженным антологией «Hall, Pack, and Simpson’s New Poets of England and America», я скептически относился к Сильвии Плат, культу её самоубийства, четвёрке Плат – Секстон – Лоуэлл – Берримен и любому виду исповедальности. Они, являясь основными фигурами писательского воркшопа (который вёл в университете Бостона Лоуэлл – пер.), задали такие условия лирического высказывания, что оно, максимально приблизившись к норме стиховой культуры, стало культурной нормой само по себе. Но за время, прошедшее после мейнстрима и феминистского прочтения Плат в 60-70-е годы, многое изменилось. Лирическая поэзия оказалась под давлением языкового письма, а ревизия поэтики Плат в гендерном и контекстуальном прочтении как бы открыла её заново, позволив увидеть в её негативности не просто формальную и экспрессивную, но критическую и культурную составляющую.
Читая книгу Жаклин Роуз «Призраки Сильвии Плат», мы можем найти описание ее коллажа 1960 года. Это изображение связывает Плат с культурной логикой 50-х годов и одновременно проясняет её решение взяться за такую формальную задачу.
Тогда, читая Плат на фоне Лоры Райдинг – значительного, но малоизвестного влияния, которое Плат разделила с Тедом Хьюзом (который, вероятно, видел себя в мультиавторстве поэта Роберта Грейвса и Райдинг и их конечном синтезе в «Белой богине»), – мы можем сконструировать другую Сильвию Плат.
В переосмыслении пары Грейвс/Райдинг в духе Плат/Хьюз аскетический негативизм Райдинга встречается с георгианским стихосложением Грейвса, создавая гибридную лирику, которая раздвигает и подрывает её сущность собственной противоречивостью. Роуз считает, что это соединение приводит к состояниям фантазии в тексте; но это не выражение феминистского гнева или признание в интимных секретах. Скорее, возникает более публичное измерение презентации себя у Плат, которое поддерживается коллажем (как содержанием, так и формой) в описании Роуз:
Существует необычный коллаж, который Плат собрала в 1960-е годы. В центре – Эйзенхауэр, сидящий за своим столом. В его руки Плат вложила стопку игральных карт; на столе лежат таблетки для пищеварения («Tums») и фотоаппарат, на котором позирует вырезка модели в купальнике. К модели прикреплен лозунг «Каждый мужчина хочет видеть свою женщину на пьедестале»; на её живот нацелен бомбардировщик; в углу – маленькая фотография Никсона, произносящего речь. Спящая пара со щитками на глазах сопровождается надписью: «По всей Америке наступило время ЕГО И ЕЁ». В левом верхнем углу фотографии – новость: «Самый известный из ныне живущих проповедников Америки, чьи кампании религиозного возрождения охватили десятки миллионов людей как в США, так и за рубежом». Как и все коллажи, этот коллаж предлагает себя как набор фрагментов. Он также не похож на картинку-головоломку или ребус – модель, которую Фрейд предложил для языка сновидений. Коллаж показывает Плат, погружённую в войну, потребительство, фотографию и религию в тот самый момент, когда она начала писать стихи, которые вошли в сборник «Ариэль». Это показывает, что она вобрала в себя многочисленные проявления той самой культуры, в противовес которой, по распространённому мнению критиков, они часто создавали или интерпретировались после» (Rose, Haunting of Sylvia Plath [Harvard UP, 1991], 9).
Остается только полностью ввести поэтику Плат в рамки той же культурной логики, которая породила «Новых американских поэтов» – вспомните, например, «Супермаркет в Калифорнии» Гинзберга – эта ревизия, если задуматься, позволит нам избежать разрыва между авангардом и мейнстримом, или поставангардом/школой тишины, который так долго мешал нам думать о поэзии.
Рэйчел Блау ДюПлесси. Восемь коллажей (с автокомментариями в переводе Лизы Хереш)
Два коллажа из книги «Черновик CX: Букварь». Этот 27-страничный цикл представляет собой абецедариум – по одному коллажу на каждую букву латинского алфавита, а также короткие стихи афористического/притчевого толка. (Номер черновика также равен 110; в то время как в большинстве черновиков используются арабские цифры, в некоторых они отсутствуют). «X» и «Y» из «Букваря», каждый коллаж 13 см x 21 см [5¼ дюйма – 7¼ дюйма], 2009, материалы: цветная бумага, картон; нитки, вырезанные буквы из журналов.
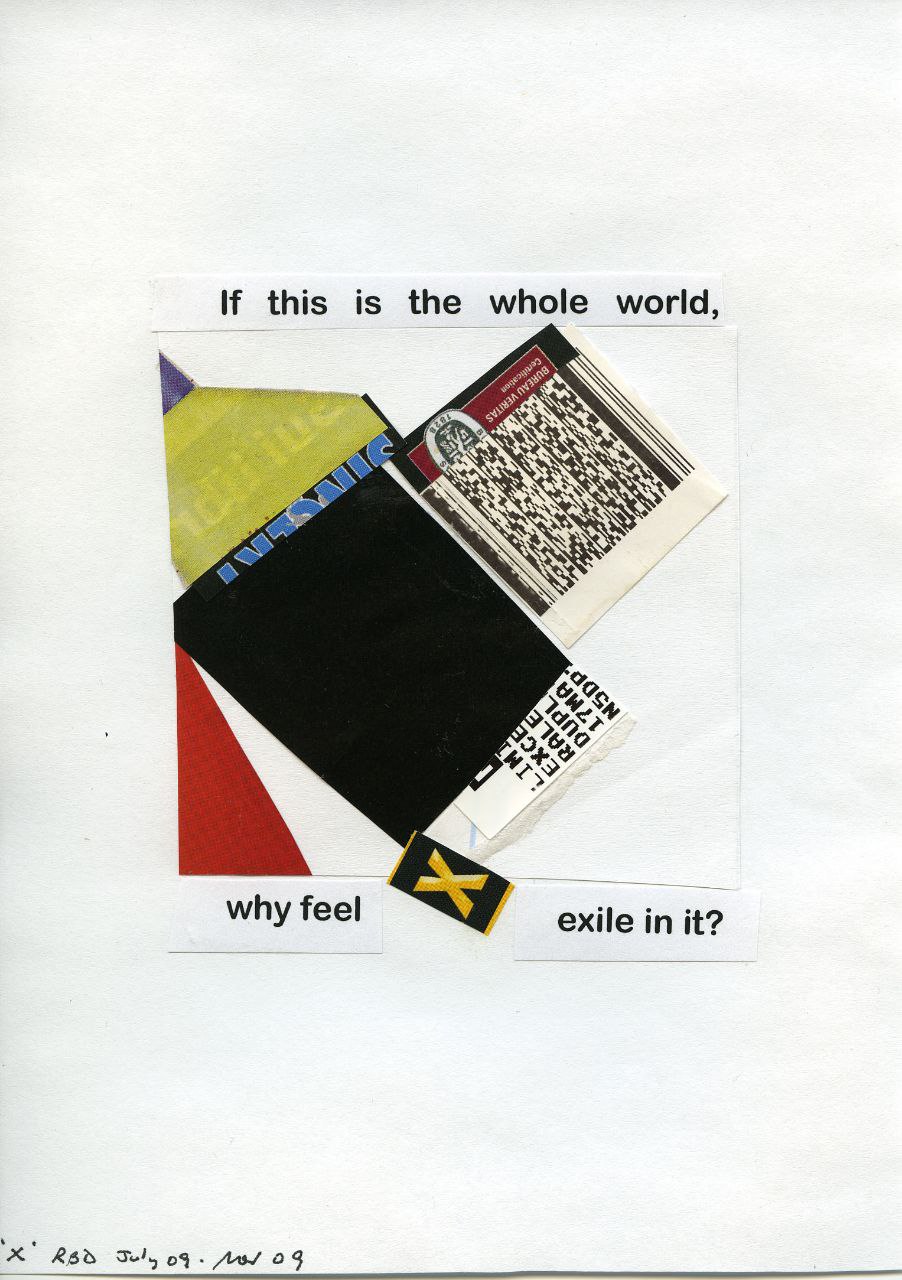

Два коллажа из книги «Жизнь в носовых платках». Цинциннати: Materialist Press, 2023. В книге 111 страниц, 48 стихотворений-коллажей. Коллажи, 22 см x 28 см [8½ x 11 дюймов], сделаны в 2017-2018 годах. Материалы – винтажные платки, другие ткани, кружева, обрезки, нитки, бечевки, бумага (например, билеты, бумага для оригами). Вообще книга представляет собой некое продвижение по женской жизни, учитывая то, что платок это обаятельный и провокативный аксессуар. Эта работа в духе memento mori: чувство потери (предметов, людей, времени), ощущение того, что вещи пачкаются, рвутся, ломаются, количество одной маленькой личной жизни и памяти, которое может быть сжато или закодировано в этих, казалось бы, незначительных объектах.

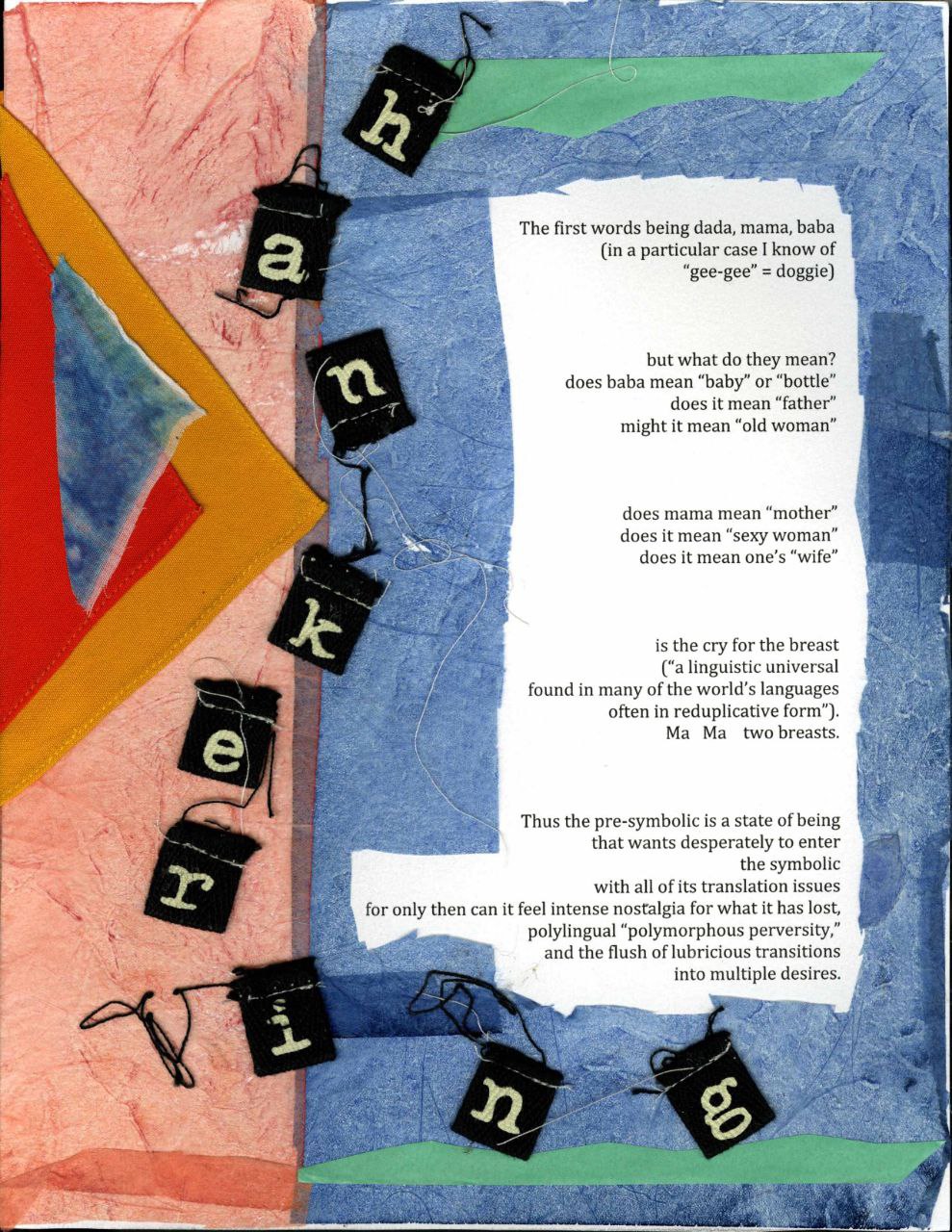
Четыре коллажа из серии «Collage-Homage». До сих пор продолжающаяся серия коллажей, откликающихся на работы художников-коллажистов, которыми я восхищаюсь, и предлагающих визуальные комментарии. Размеры и даты разные.
.jpg)
«Бо», по мотивам Курта Швиттерса. 15¼ x 23 см {6 x 9 дюймов}. Сделано в феврале 2007 года. Материалы: цветная бумага, бумага с чернильными каракулями.
.jpg)
«Приглашение к коллажу», по мотивам коллажиста Ирвина Кремена. 17½ см x 25 1/3 см. [7 x 10 дюймов] . Февраль 2020 г. Материалы: картон, ткань, лента, рваный переплет, цветная бумага.

.jpg)
«Флаг» основан на работах различных художников-феммажистов, таких как Мириам Шапиро. 11 x 14 дюймов; июнь 2012 г. Материалы: сетчатая ткань, лента, пластиковая лента, перо и чернила.
Дебора Райт. Из цикла «—15»: три коллажа (с предисловием Владимира Кошелева)
В своей визуально-поэтической серии «—15» Дебора Райт поднимает вопросы, связанные с взрослением и историей своей семьи. В комментарии, приложенном к работам, Райт пишет: «"—15" – это своеобразный молодёжный сериал, состоящий из пятнадцати эпизодов, каждый из которых представляет фиксацию одного года моей жизни, сочетающих в себе элементы драмы, чёрного юмора и ироничного нуар-панка». «Флаги» публикуют три работы из этого цикла.
Использование смешанной техники (например, в работах «No My Father #4» и «Family Album #9») заставляет зрителя задуматься о самой природе коллажа, как способа сочетать несочетаемое. По всей видимости, метод Райт можно рассматривать как метавысказывание на тему взросления, когда ребенок как субъект складывается из совершенно разных частей, доступных ему по праву рождения, географии, институций, занятых его воспитанием.
Райт удаётся аутентично использовать текст в рамках визуальных работ. Так, её пре-рыв-истая, вы-рва-ванная из контекста речь становится закономерной частью экспрессивного высказывания. Наиболее показательной в этом отношении оказывается работа «No My Father #4», изображающая монструозную природу – не отца Райт, но некой Фигуры, которая её отцом не является. Такое утверждение через отрицание может отсылать нас к известному произведению Рене Магритта «Вероломство образов» (1928-1929) и фразе «Ceci n’est pas une pipe» («Это не трубка»).
С некоторой осторожностью работы Райт можно назвать сюрреалистическими, но не такими, как полотна того же Магритта, а например, такими, как фильмы Дэвида Линча. К слову, первая короткометражка Райт называется «Мистер Линч не продолжает курить» («Mr. Lynch doesn't continue to smoke»). Во многих своих фильмах, если не во всех, Линч акцентирует внимание зрителя на телесности. Райт также поднимает вопросы о границах тела, анализируя в том числе его эмоциональное состояние и чувства другого (в данном случае ребёнка) по отношению к чужому телу. «No My Father #4» – одно из программных заявлений Райт – вроде бэконовского «Портрета папы Иннокентия X».
Конечно, цикл Райт посвящён памяти – о детстве и тинейджерстве, когда из-за частых стрессовых ситуаций, человек теряется в реальности, но при этом, хоть это и травматично, способен зафиксировать её неожиданные грани. Так, в пасторали «Radio #2» и экфрасисе «Family Album #9» Райт совершает поворот головы и на расстоянии длиной в условные 20-25 лет пытается оценить свои воспоминания. Они должны принять те или иные «формы», но как их найти? Есть подозрение, что Райт пытается вскрыть механизм эстетизации памяти: радио (но что такое «радио»? – звуки природы? радиоволны? крики радио-няни?) – становится центральным образом-определением, которое нельзя описать, но можно назвать. Смыслы «Family Album #9», кажется, можно рассматривать в той же области, однако с некоторыми дополнениями (неудивительно, ведь эта работа создана «спустя семь лет» после «Radio #2»). Теперь образы «подменяют» друг друга ещё динамичнее (красный диван – это красное море; мясо, которое тает в руках у матери – становится айсбергом; упавший шкаф может отсылать к кораблекрушению и так далее).
Думаю, что разговор о Райт своевременен не только по причине актуальности поднимаемых ей проблем, но и в связи с поисковым интересом в области визуально-поэтических практик, который мы можем наблюдать среди молодых русскоязычных авторов.
– Владимир Кошелев
 No My Father #4
No My Father #4 Radio #2
Radio #2 Family Album #9
Family Album #9Перекличка
В 1992 году я приехал к Очеретянскому в Fair Lawn, что в Нью-Джерси. До дома добрались к вечеру. Пили чай. Пришёл Андрюша Тат, глаза блестят, настроение озорное. Перешли на водку. К середине попойки и пришла идея «Переклички». Текст был составлен к утру (я уже опаздывал на самолёт), было решено напечатать три экземпляра: Саше, Андрею и мне. Мой экземпляр я видеоизменил, посвятив его моему другу, замечательному чувашскому поэту Геннадию Айги. Очеретянский долго уверял меня, что отправит мой экземпляр по почте на берлинский адрес (я хотел отменить выставку и остаться в США ещё на пару дней), но в спор вступил Тат и окончательно переубедил меня.
Письмо не пришло ни во время выставки, ни после её окончания, ни через год. Однако пару месяцев назад мне прислали ссылку на лот онлайн-аукциона. Это был тот самый экземпляр! Естественно, я его выкупил. Он перед вами.
– Даня Данильченко
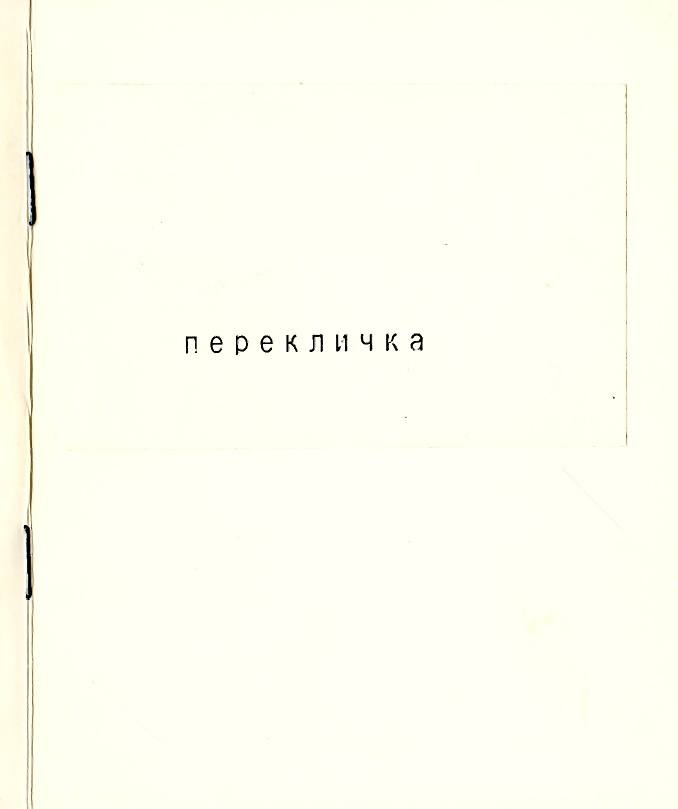
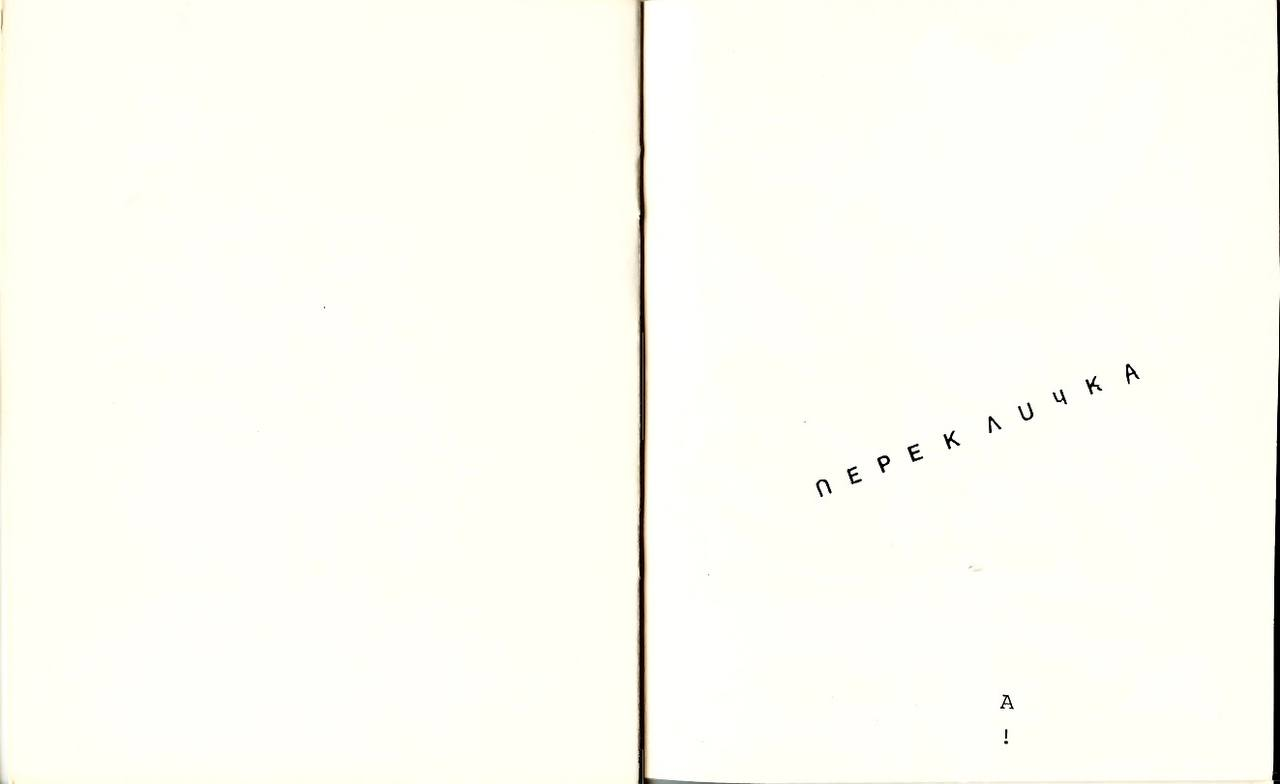
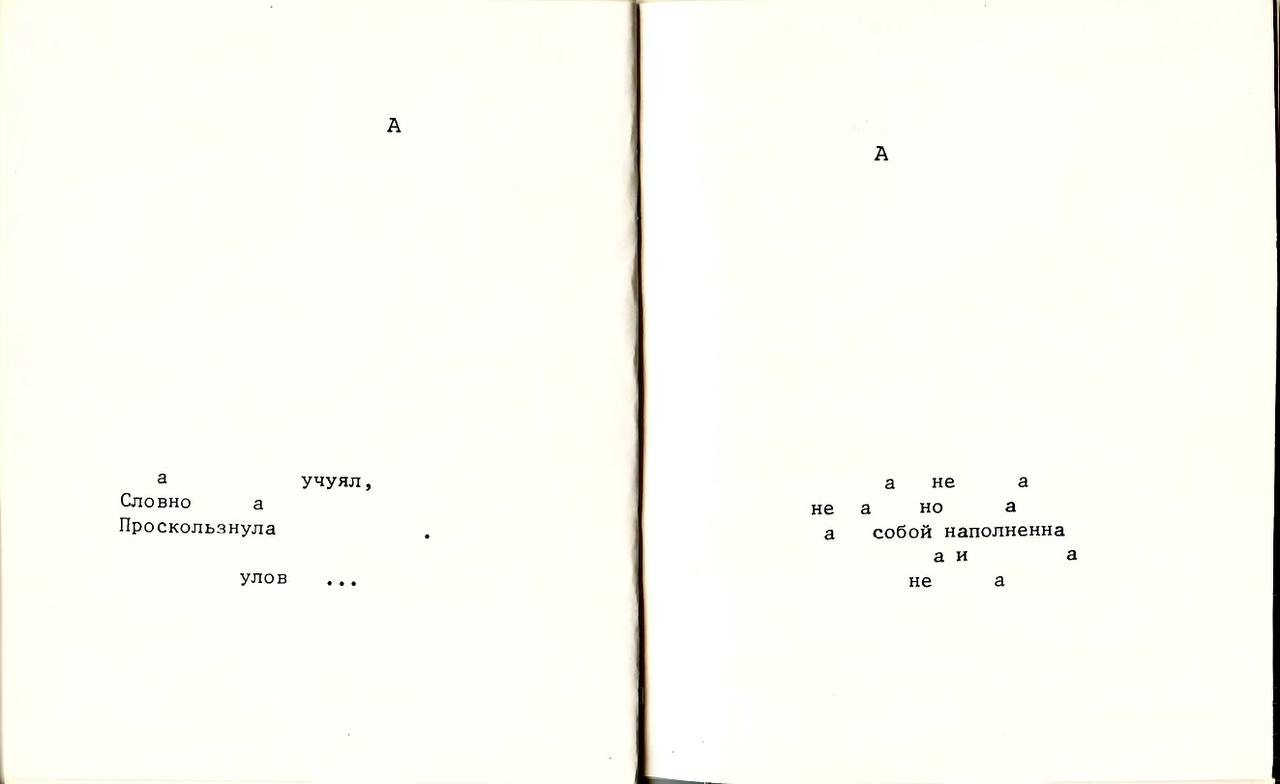
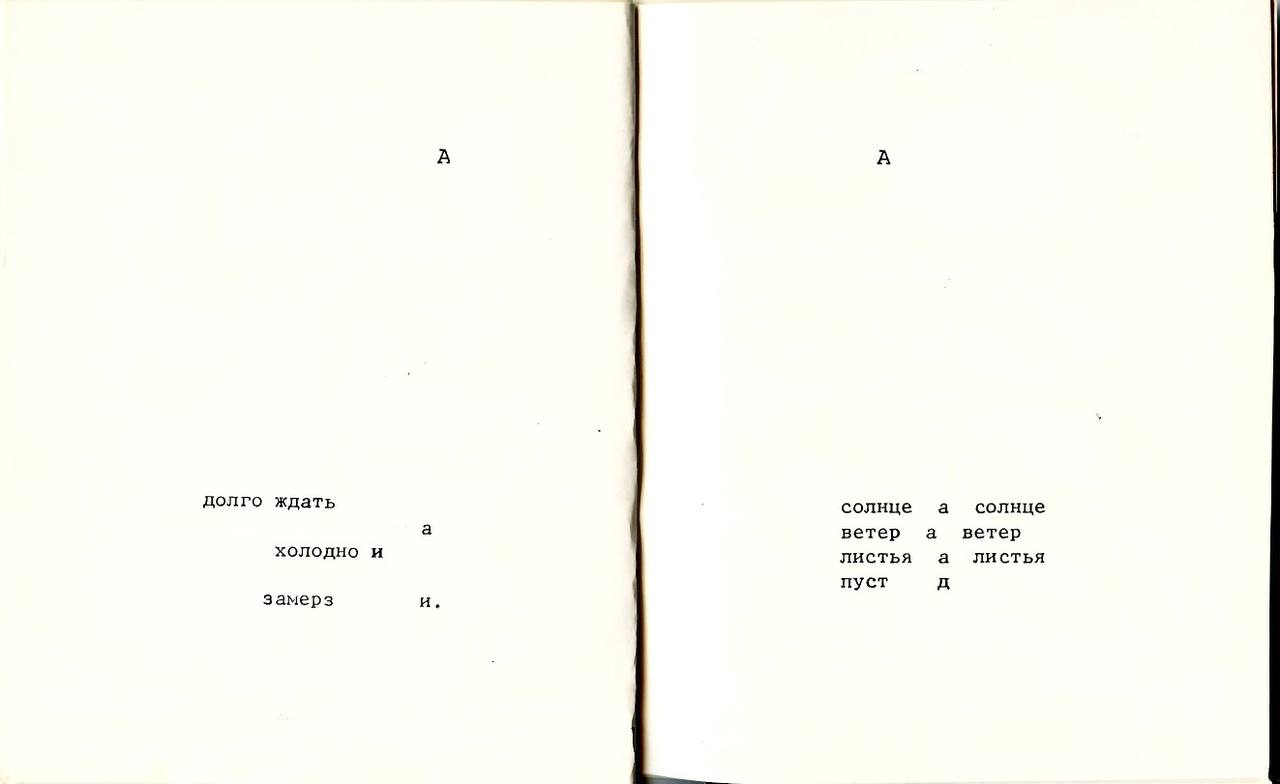
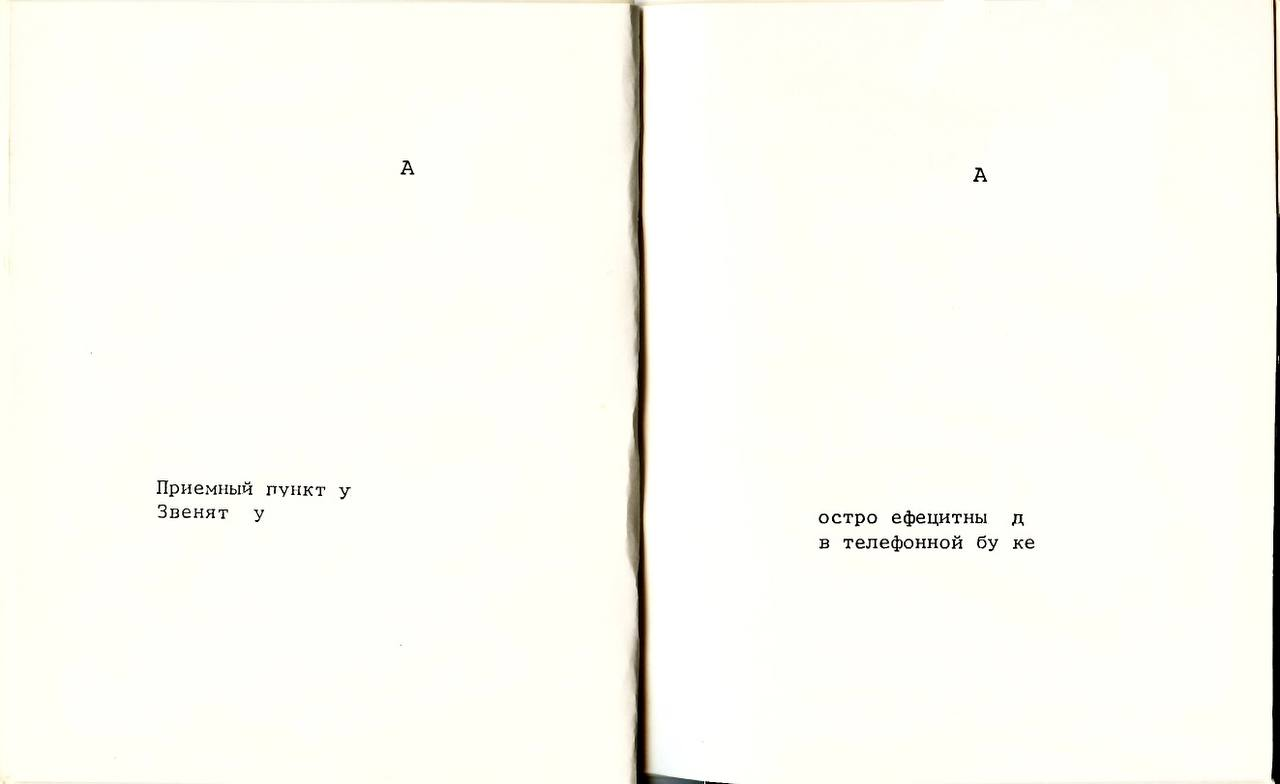
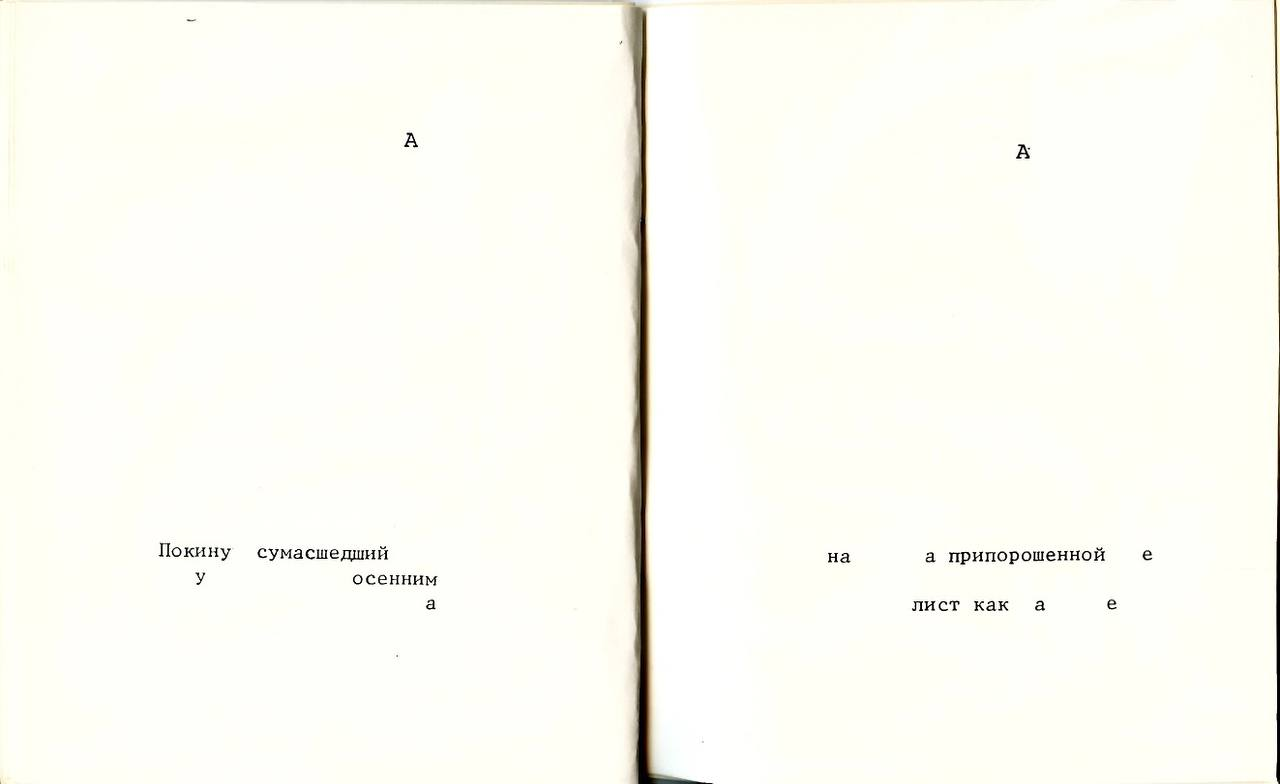
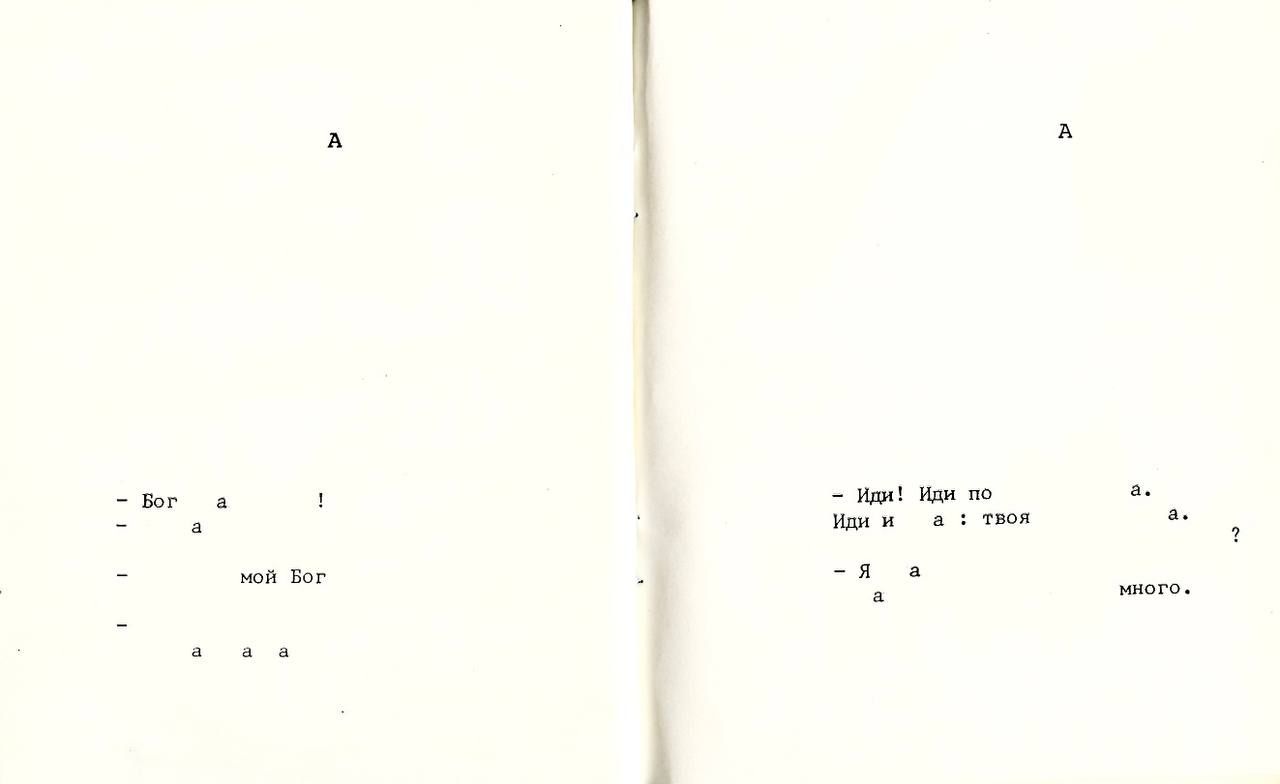
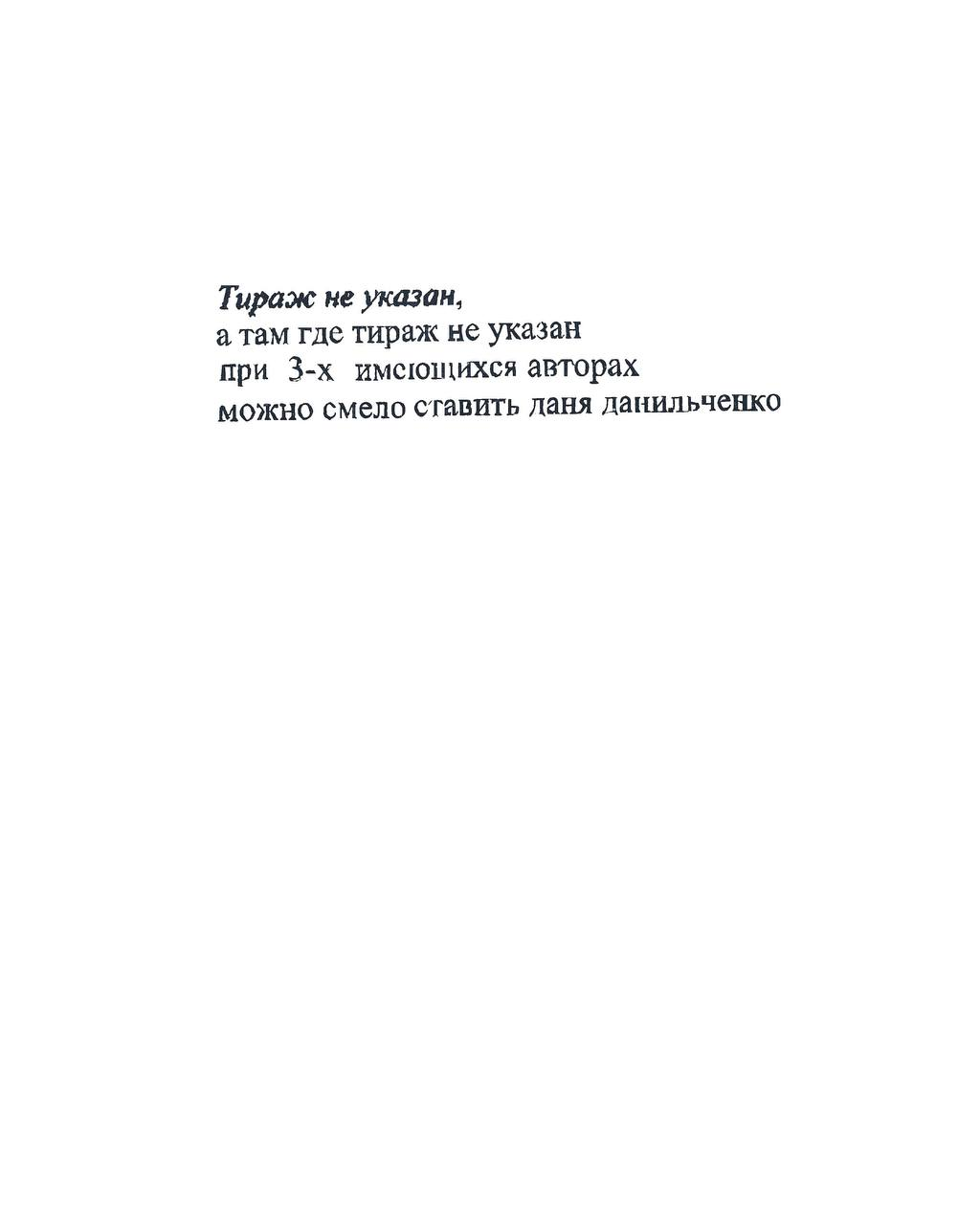
Свободные судьбы слова
Эту подборку моих визуальных стихотворений составляют: электронная работа «Белый свет» (2010) и бумажные работы (размер А4 или А3), сделанные с 2010 по 2023 гг. (из циклов «Слитно-раздельно», «Маршруты», «Летающим (летящим)», несколько работ из последнего цикла «36 видов Соколиной горы», а также лист рукотворной книги «Невидимые поля»). Во многих коллажах использованы нотные фрагменты партитур композитора Ираиды Юсуповой, с которой мы сотрудничаем уже много лет (с нашего первого совместного видео-проекта «Овь», посвящённого Велимиру Хлебникову); в одном коллаже использован листовертень Дмитрия Авалиани (сделанный им для нашего совместного проекта), в другом – рукописный текст Вилли Мельникова, подаренный мне.
Визуальные стихи (коллажи) были показаны на персональных выставках: на III театральном фестивале им. О.И. Янковского (Саратов, 2014), в Доме-музее П.В. Кузнецова (Саратов, 2015), в Зверевском центре современного искусства (Москва, 2015), в Доме-музее В. Хлебникова (Астрахань, 2017) и др., а также на групповых выставках в ГЦСИ (Москва, 2016, 2018), в международном арт-проекте «Сигналы и знаки» на «Биеннале поэтов. Поэзия Китая и России» (Москва, 2017), в Artplay (Москва, 2019, 2020) и мн. др.
– Татьяна Грауз




.jpg)
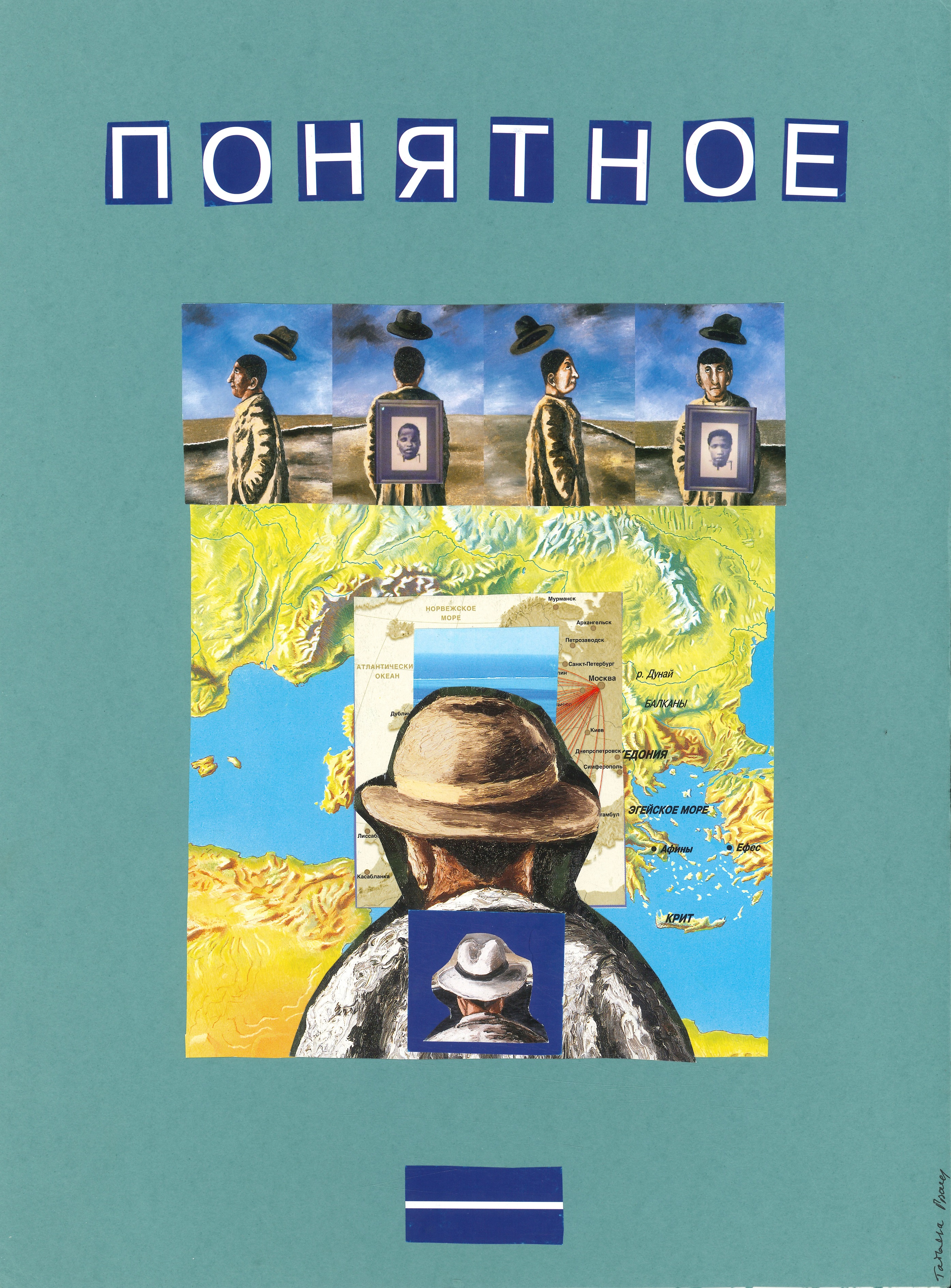
.jpg)
.jpg)
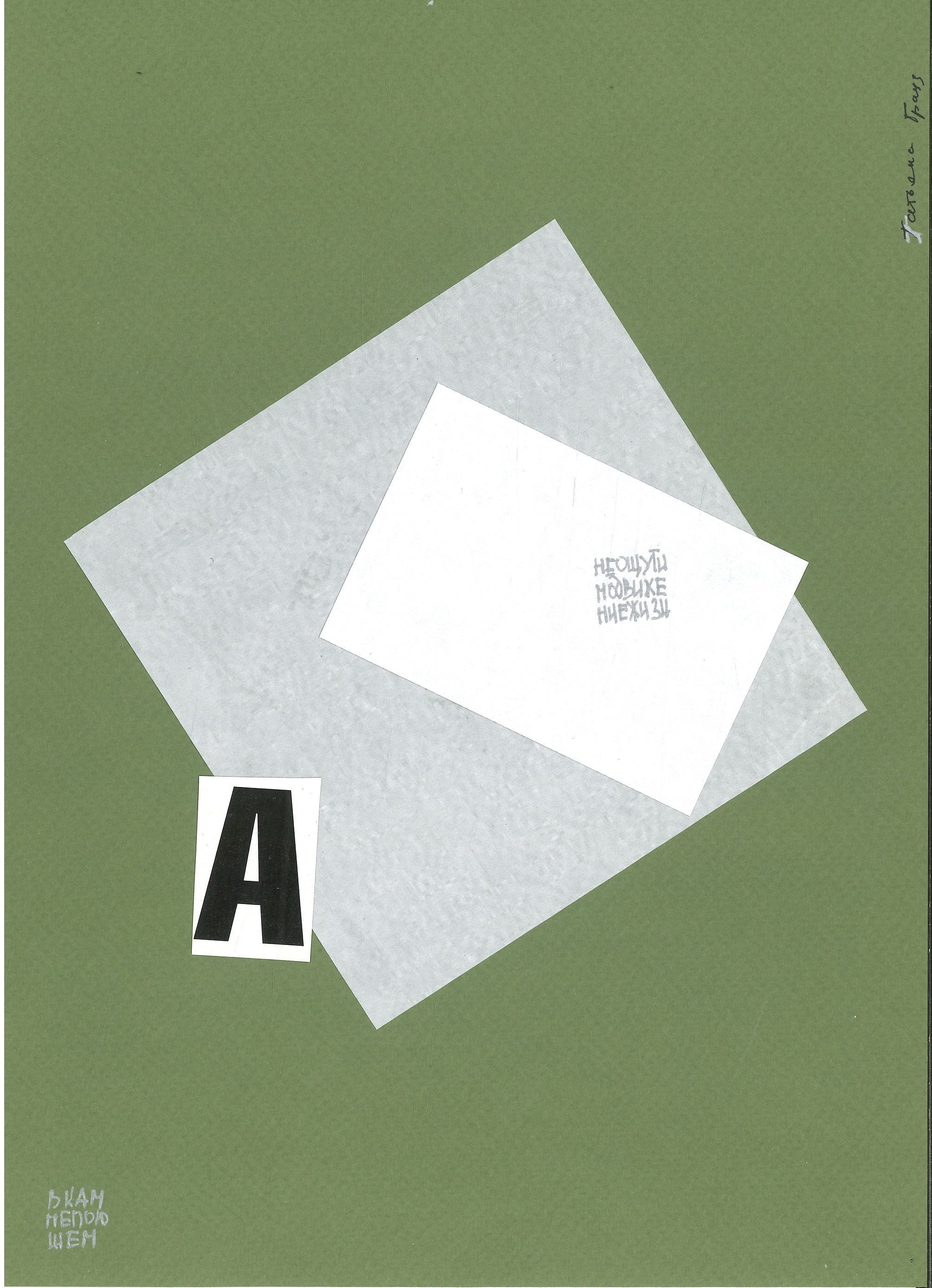
В ритме ритма
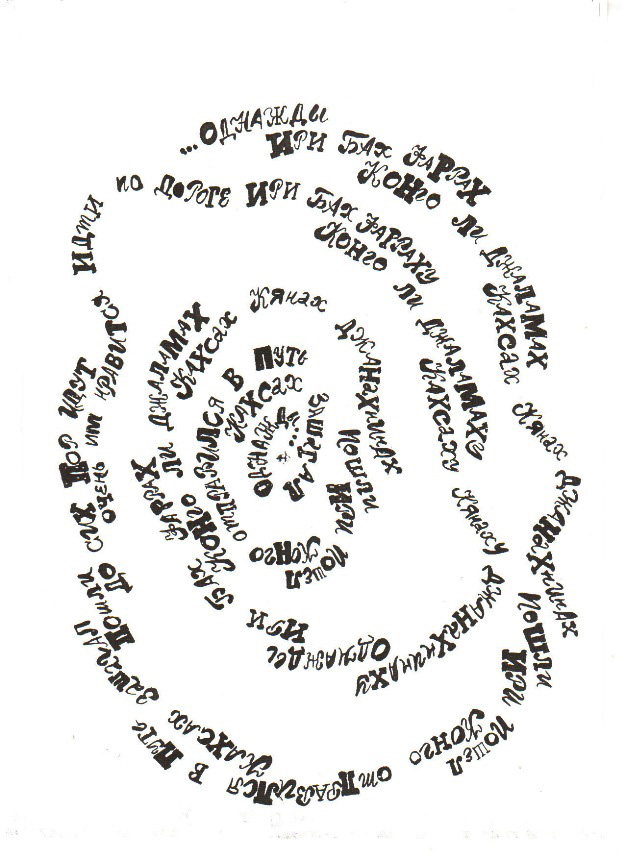

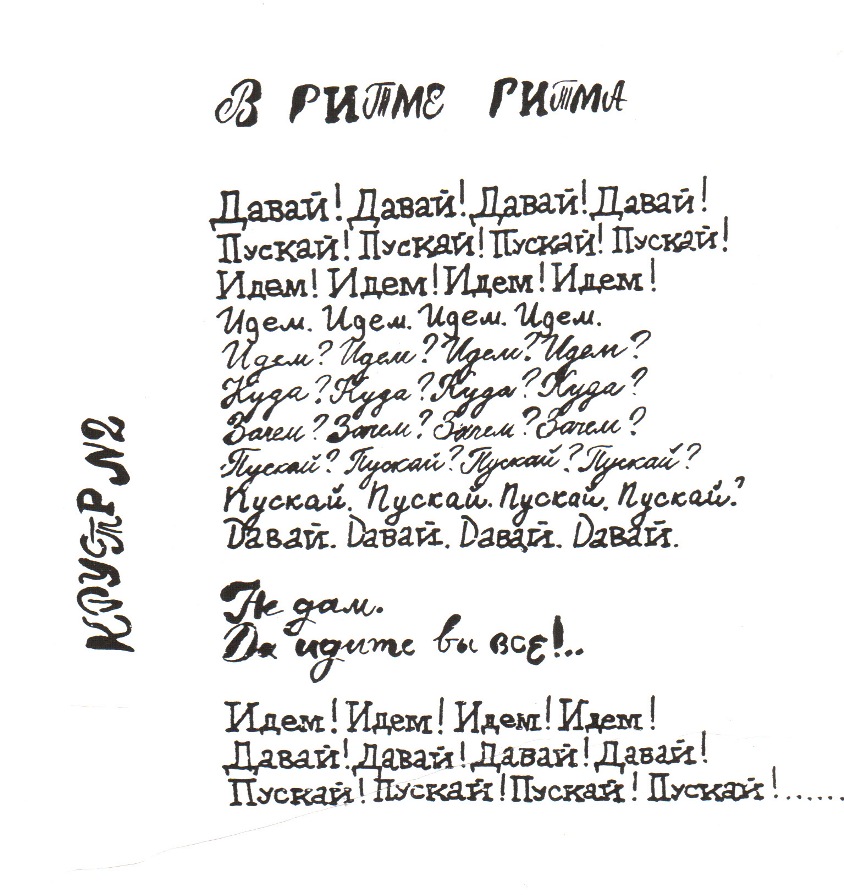
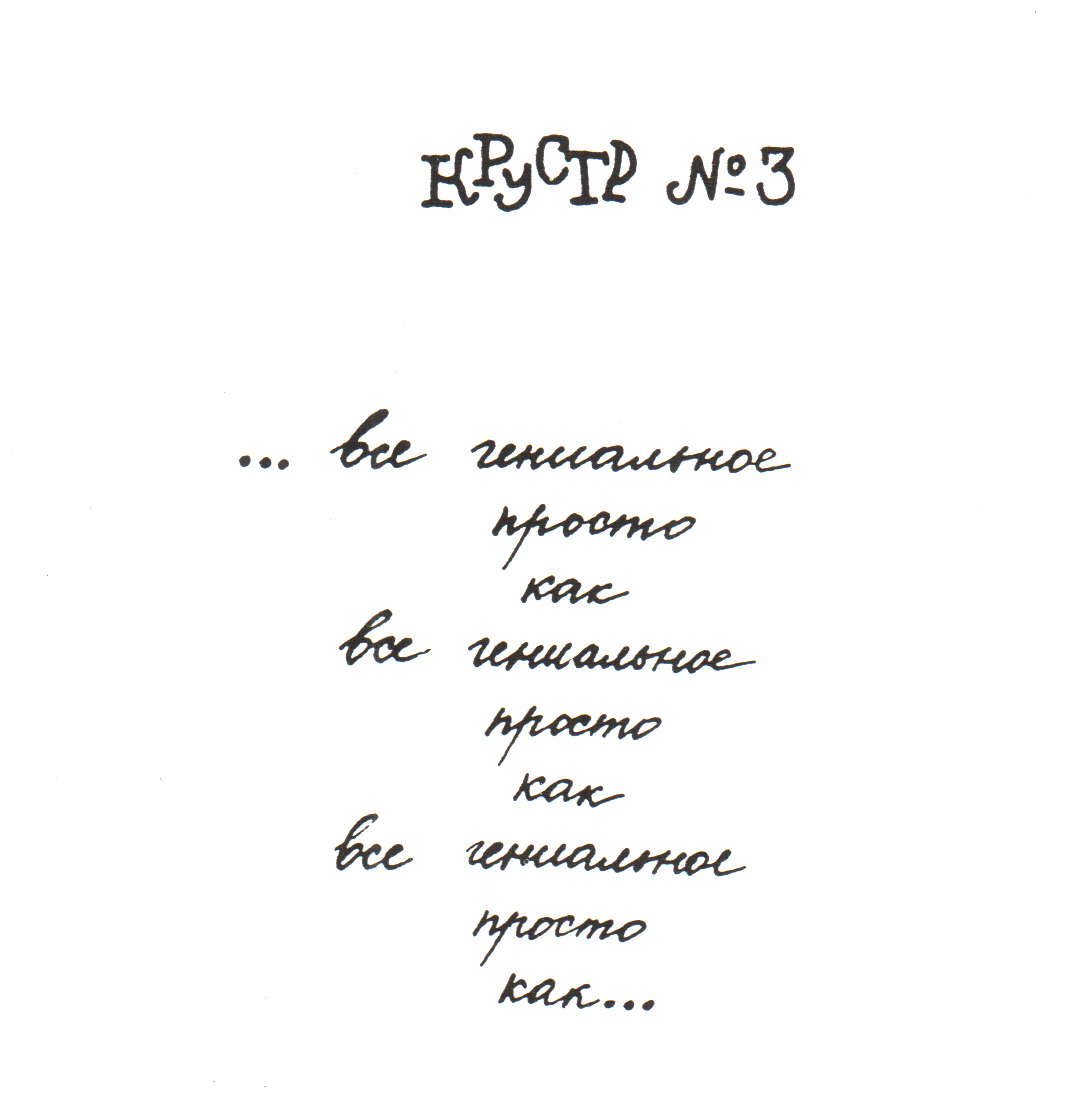
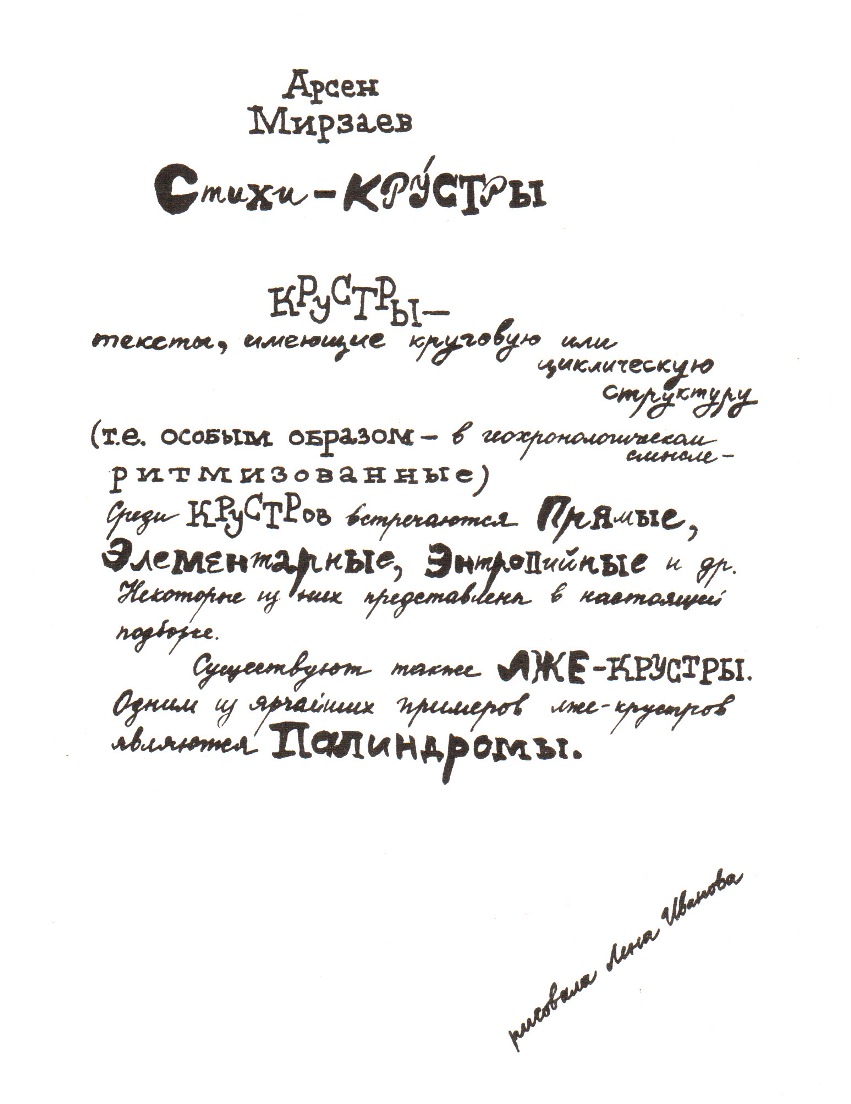
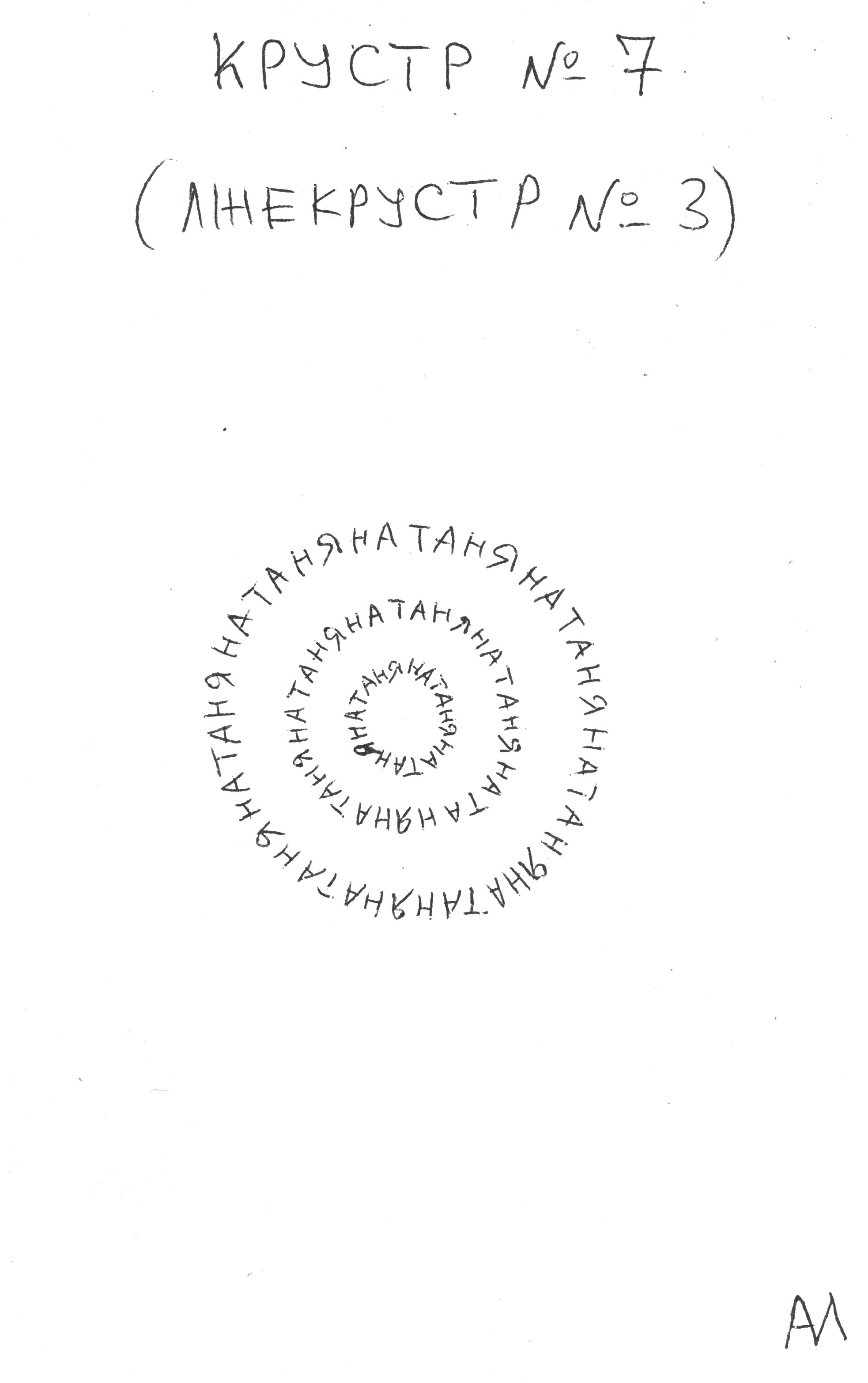

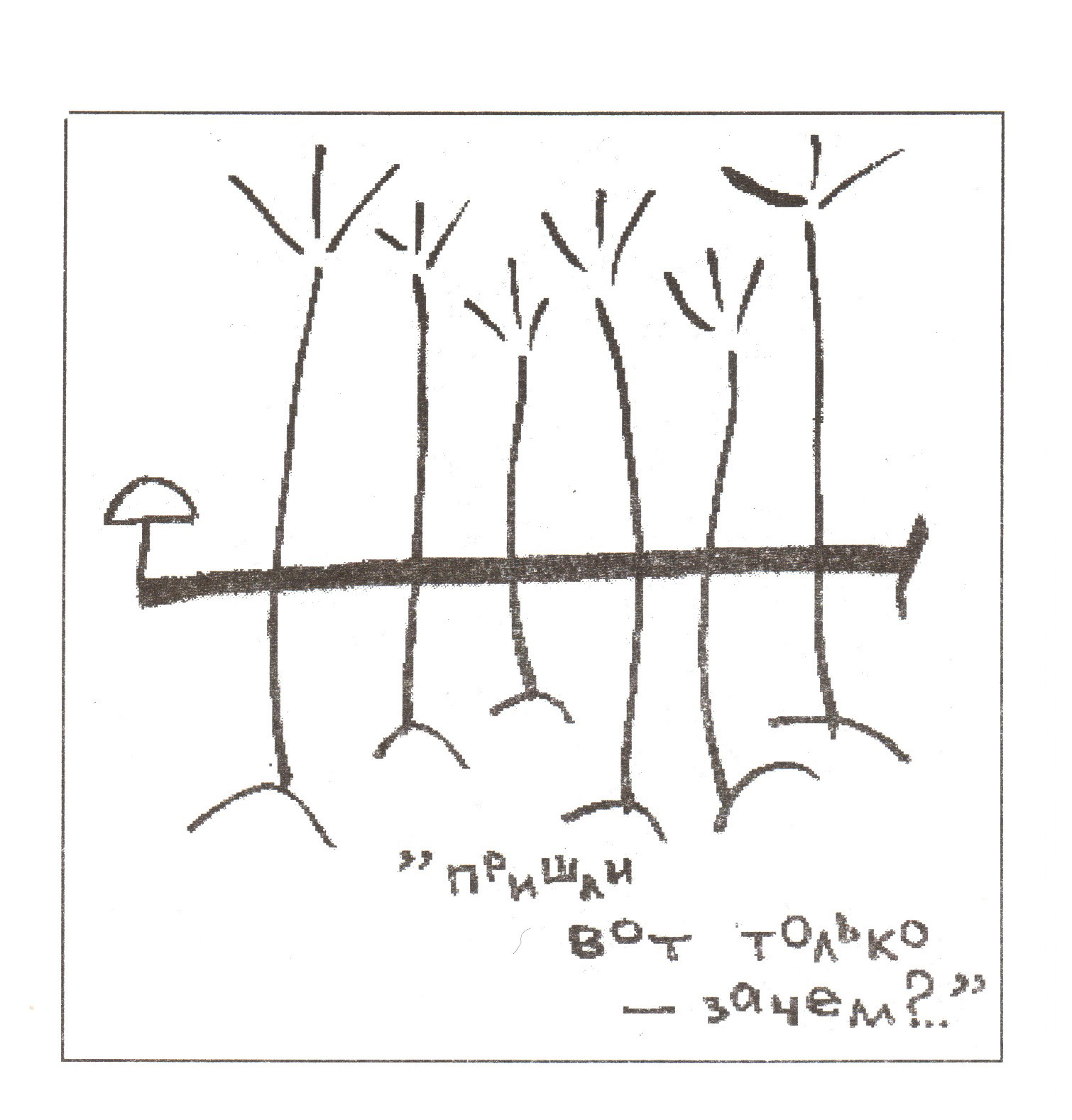
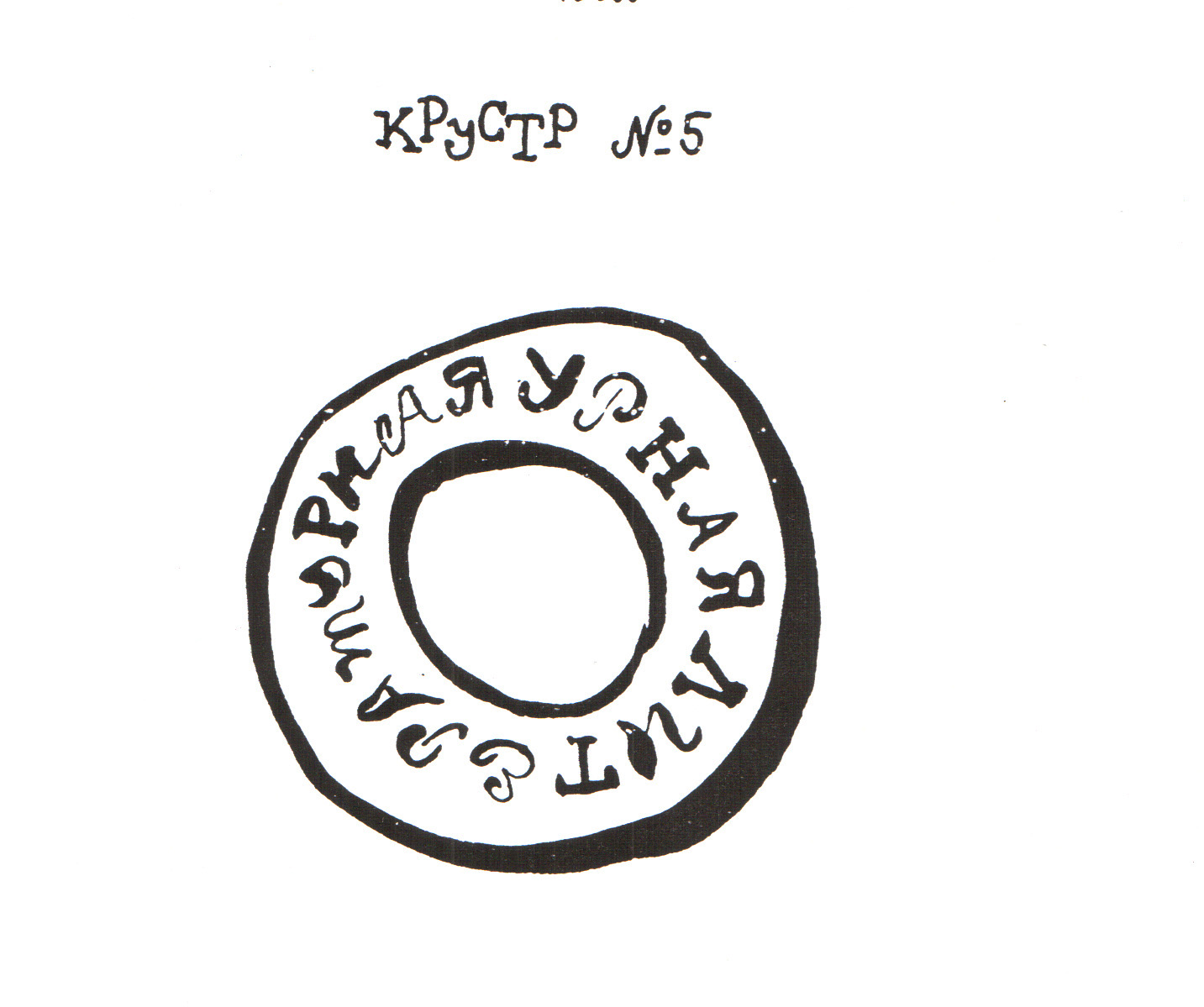
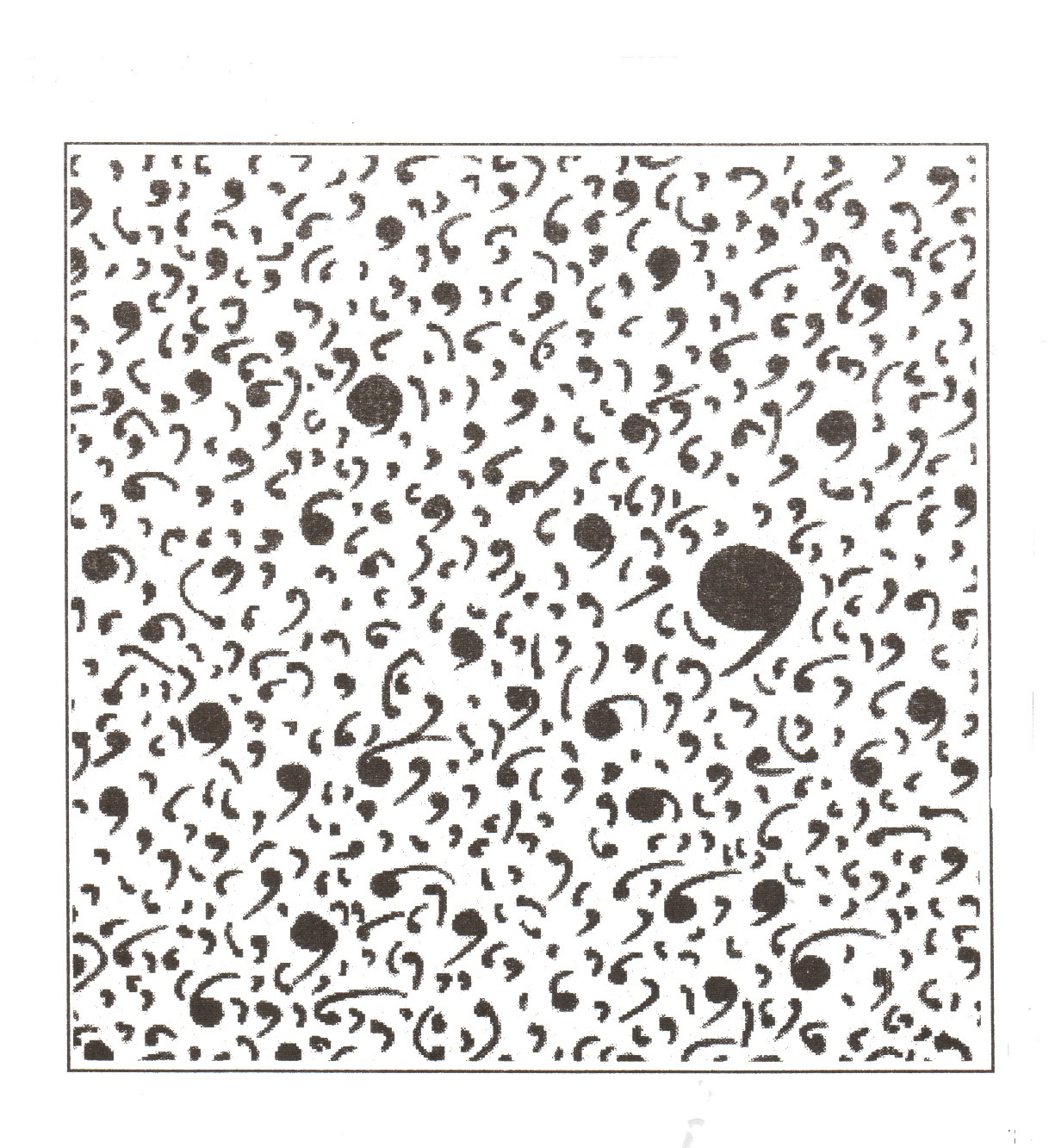
Твое имя для утешения
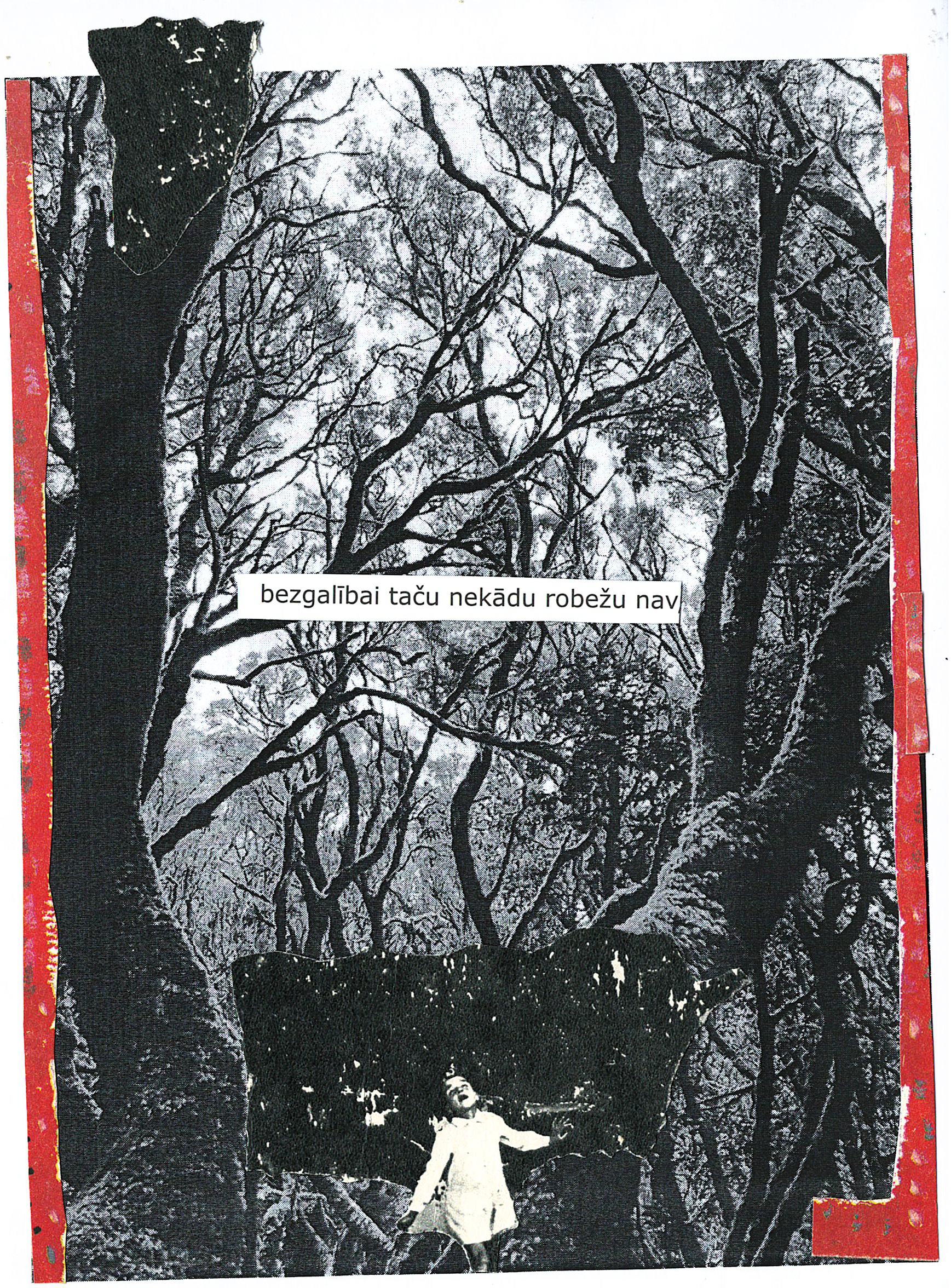
бесконечность ведь не имеет никаких границ
здесь и далее – авторский перевод с латышского
.png)
.png)
Всю жизнь я тосковал
по свободе
Наконец я нашел
пустоту и остров
.png)
.png)
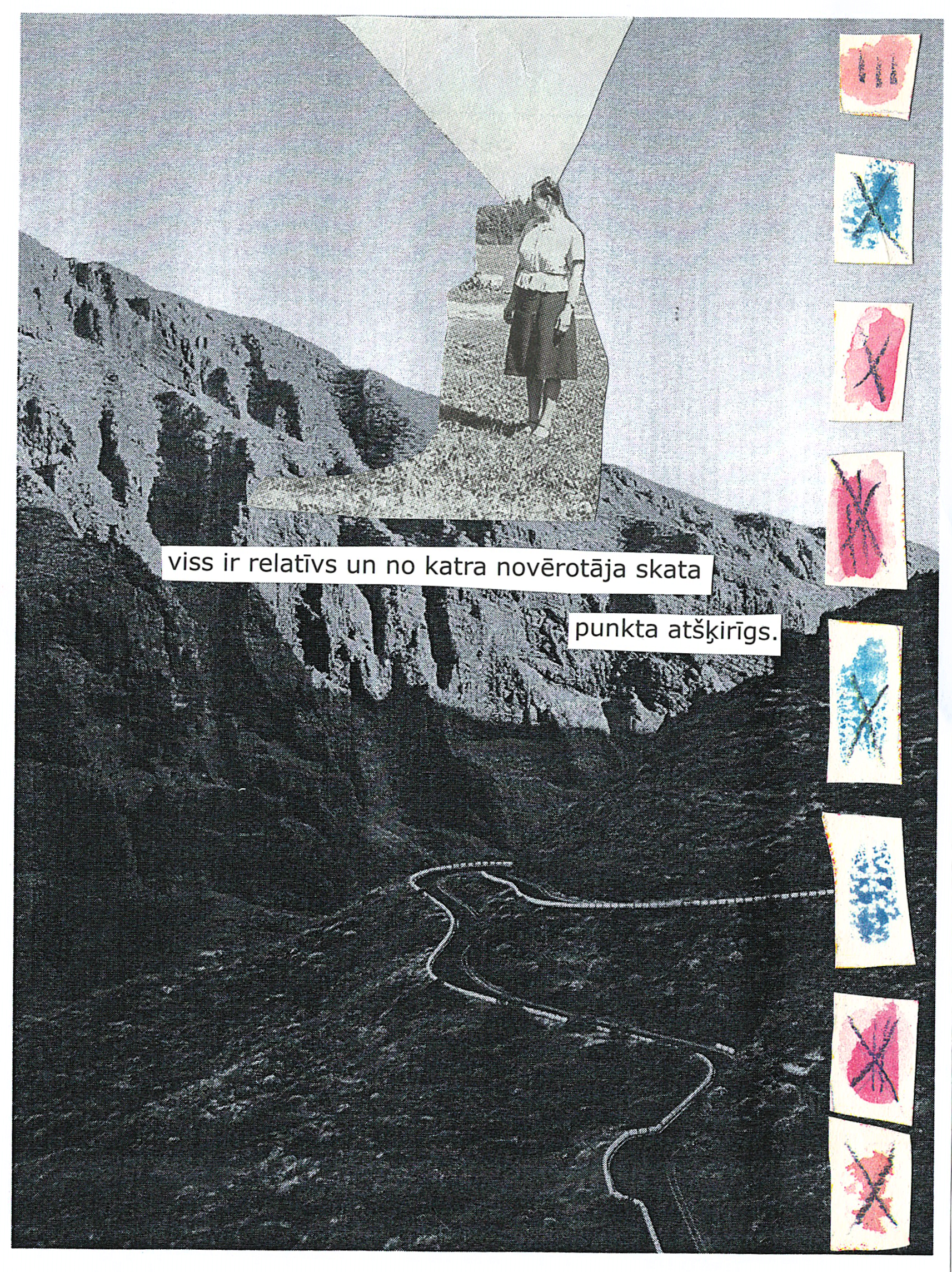
все относительно и зависит
от точки зрения каждого смотрящего
.png)
Каждый из нас приближается к своей пропасти.
небеса глубоко над головой
хотя бы можно закрыть глаза
над всем этим воссияет
великая звезда.

человек
посеял на обочине фиалки
и долго вслушивается в темную пустоту.
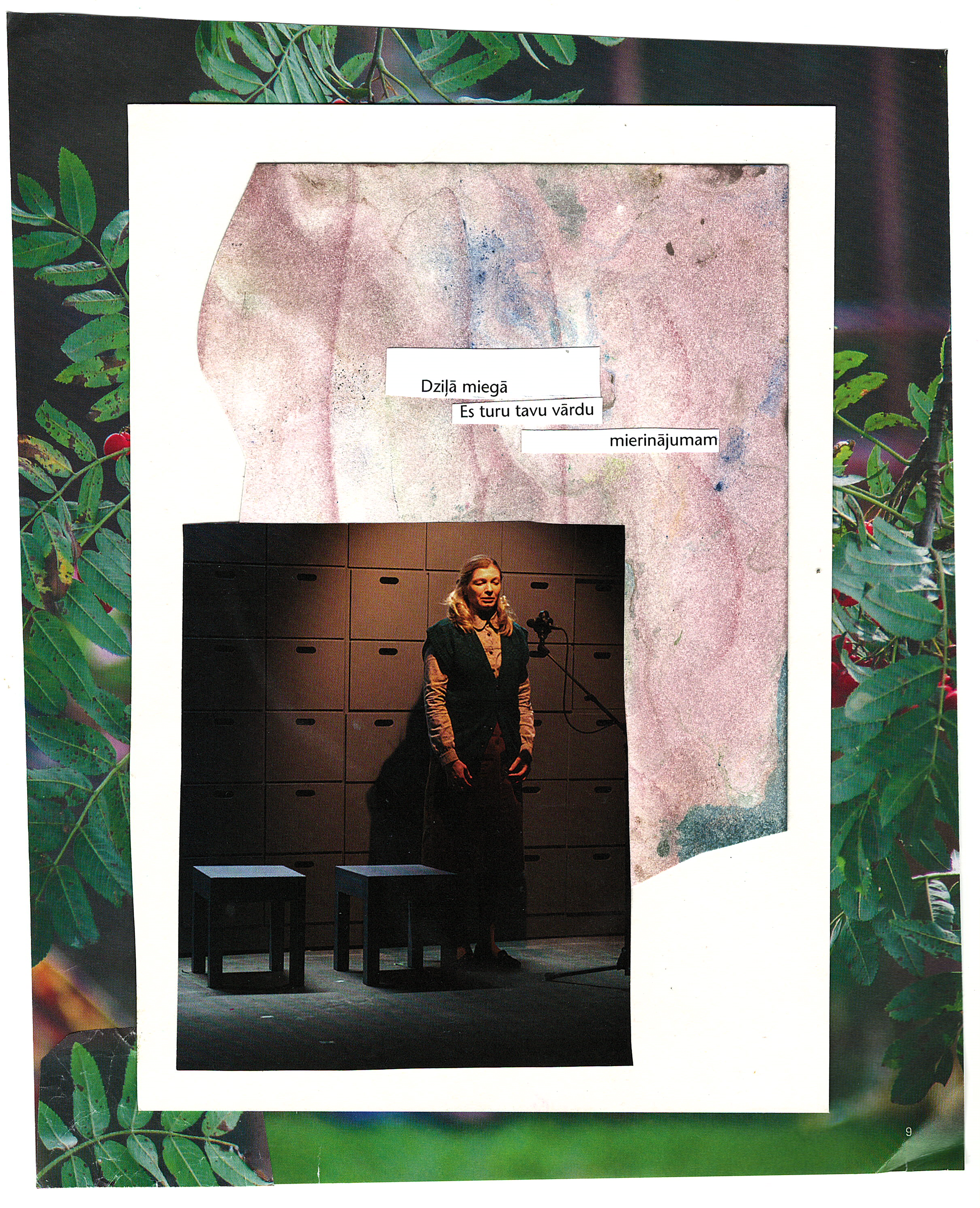
В глубоком сне
Я держу твоё имя
для утешения
.png)


ты слышишь жизнь
Бог выжимает свет вниз
сквозь плоть поэзии
я всё же могу писать
бидону с молоком
Views




заплатки
Наклон головы: три коллажа
%20(1).png) Наклон головы
Наклон головы Зажмурено
Зажмурено Новелла о любви к синему
Новелла о любви к синемуИзбранное
Этот проект – исследование эротического текста.
Одним из толчков к нему была игра. Вдвоем мы приходили в книжный магазин, доставали любовные романы и начинали читать выдержки с обложки. Игра была в том, что читающий пропускал слова, и нужно было отгадать, что пропущено.
Он впился губами в … после чего она … он зарычал, и его руки скользнули по… она посмотрела на его … и почувствовала трепет в …
Тогда я поняла, что вне зависимости от того, какие вставлять слова, текст продолжает работать. Более того, может быть, пропуск, взаимозаменяемость, легкость, необязательность слов и делают его эротическим?
Изначальная мозаичность текстов, слабая связь слов между собой привлекли меня. Я начала исследовать эротическое с помощью вычеркивания, разрезания, переставления и неожиданного соединения. Эти текстовые упражнения я собираю в тематические серии на винтажных советских наборах открыток.
– Саша Демченко
-1.png)
-1.png)
-1.png)
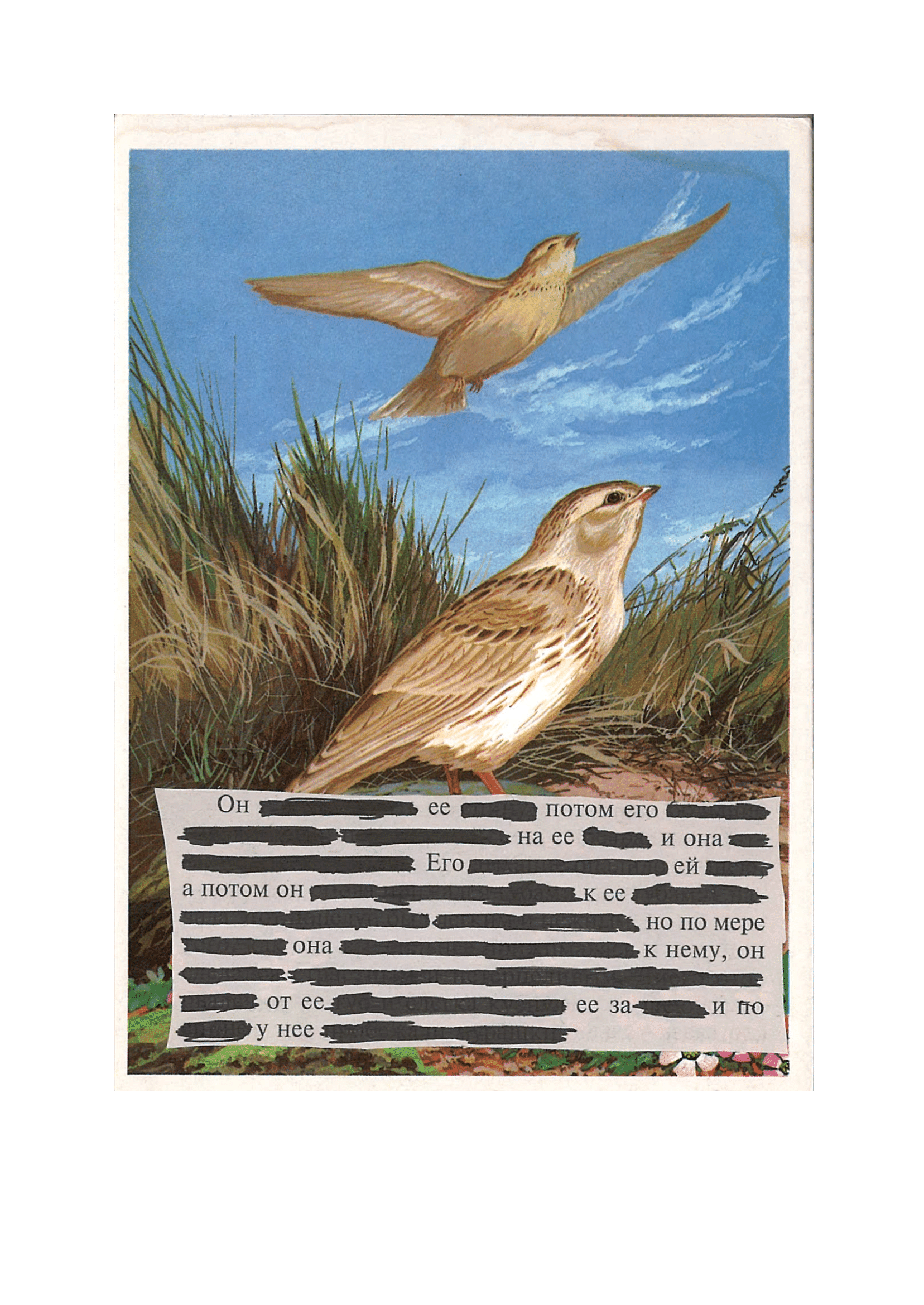
-1.png)
-1.png)


-1.png)
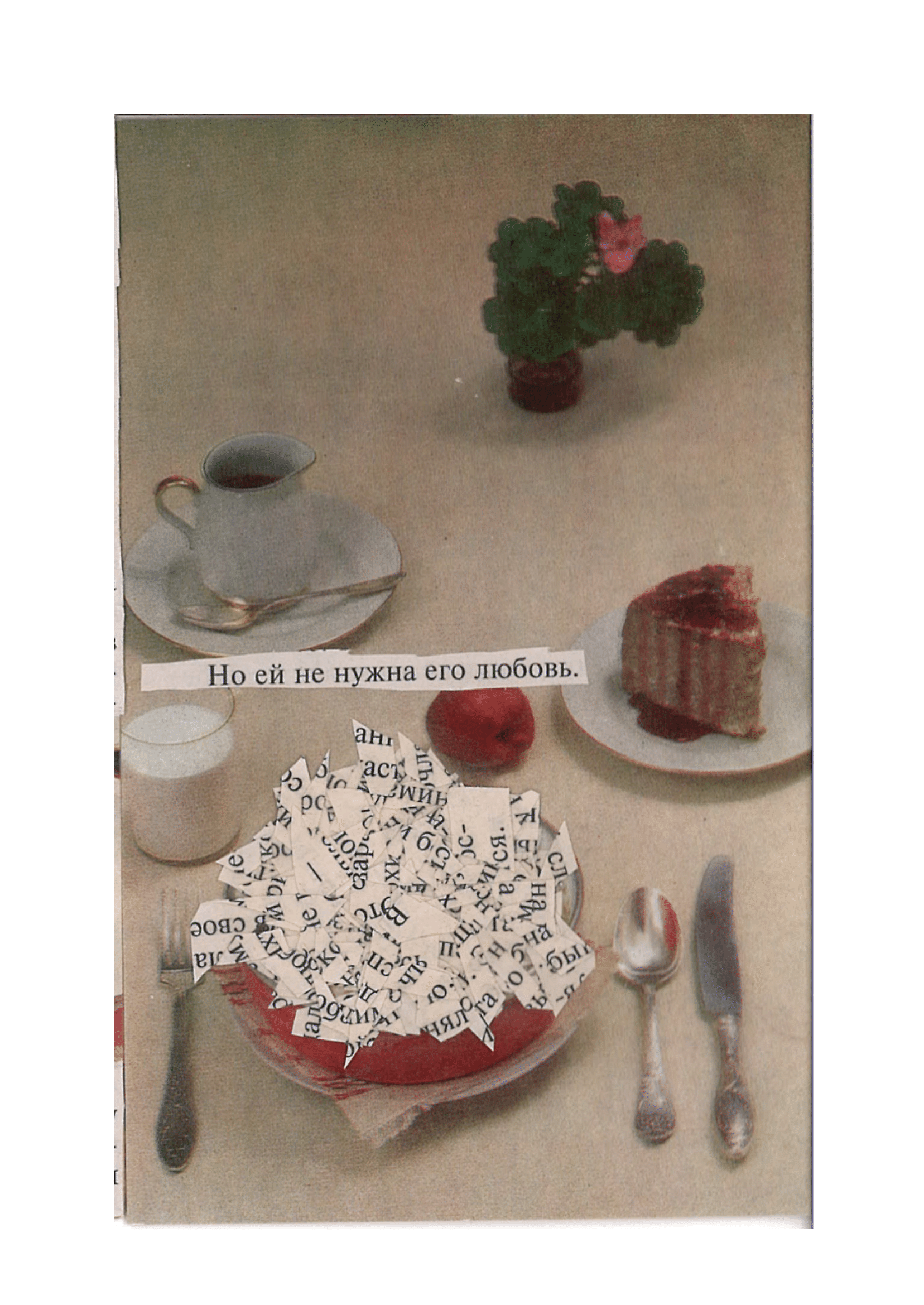
-1.png)
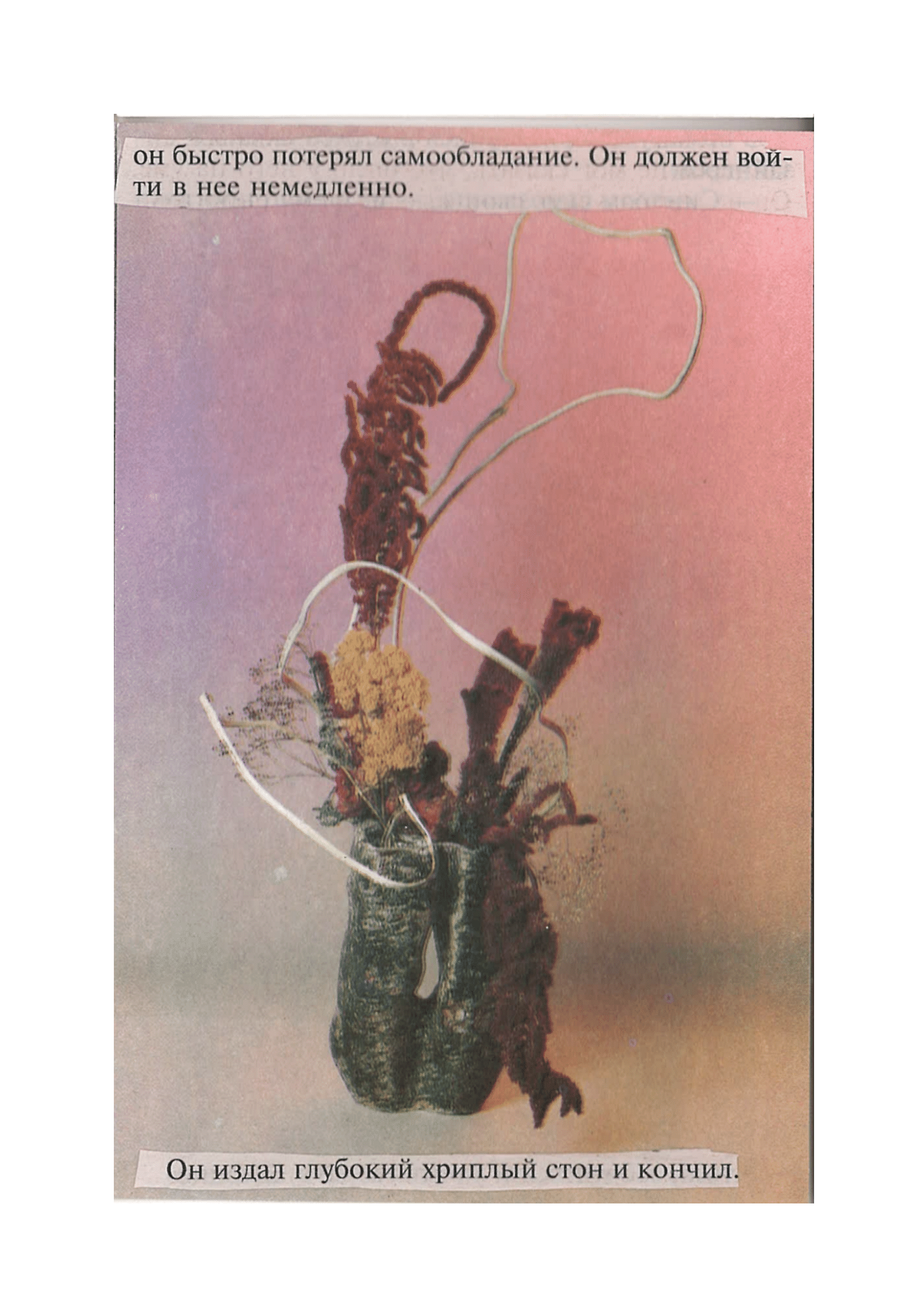
メモリーズ (memories). Стихотворения и глитчи
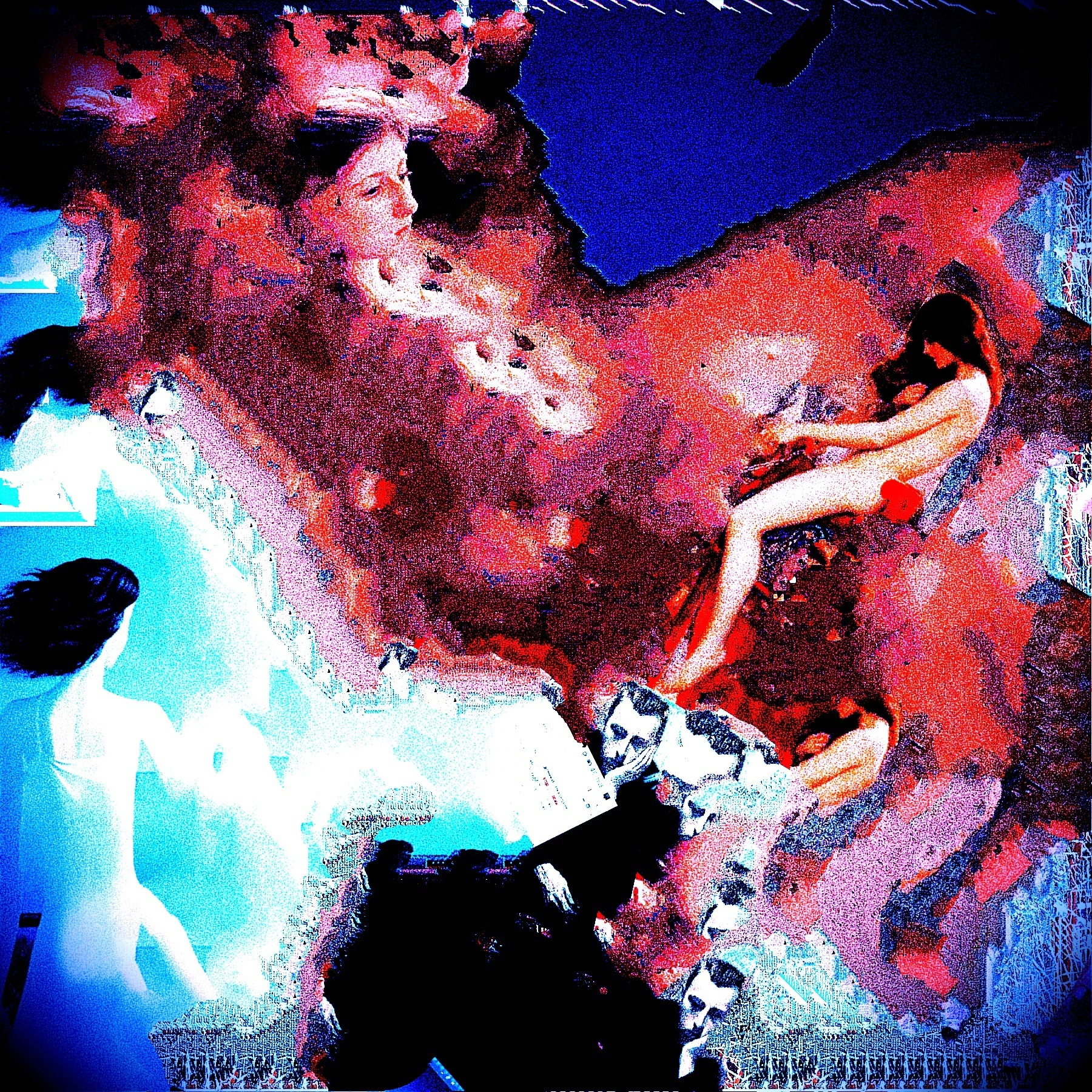 Синева приносит печаль
Синева приносит печаль
memoriam matris
в наше капиталистическое время
у продуктов быстро меняется лицо
вн ут ри пе ре ме ща ют ся «под виж ные» мо ду
ли ко то ро го , соз да вая к
аж дый раз но вые ком би на ц
маманумаманумаманумаманумаманумама
нумаманумаманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаманумаманум
аманумаману
сво его ро да «кар ти ну», ви зу аль ную
или слу ховую. В оп ре де лён ном смыс ле К. п. п
ро дол жи ла тра ди цию фи гур ных сти хов ан
тич но сти, Сред не ве ко вья и ба рок к
о, а так же впи та ла опыт по эзии
мороженным копать асфальт
по ней не катаются
маманумаманумаманумаманумаманумаманум
аманумаманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаману
маманумаманумаманумаману
в ли те ра ту ре К. по лу чил ши ро кое рас про стра не
ние в на прав ле ни ях, ис поль зо вав ших тех ни ку
фраг мен та ции тек ста, «скле ен но го» из не
свя зан ных внеш ней по ве ст во
ва тель ной ло ги кой эпи зо дов, в т. ч. ци тат,
думаю вы наелись
гречка грязнулька
маманумаманумаманумаманум
аманумаманумаманумаманумаману
маманумаманумаманумаманума
манумаманумаманумаману
маманумаманумаманумаманумама
нумаманумаман
те ра да да из ма раз ви ва ли идею К. в раз
ных на прав ле ни ях. Ж. Арп соз да
вал аб ст ракт ные К. из клоч ков ра зо р
ван ной бу ма ги; К. Швит терс вво
в свои т. н. мерц-кар ти
не толь ко пло ские, но и объ ём ные пред ме ты,
по доб ран ные на ули це. Ро ма ны-к
ол ла жи М. Эрн ста пред
став ля ют со бой аль бо мы
с аб сур ди ст ски ми
Когда-нибудь и речка стане чище
Это пастораль?
маманумаманумаманумаманумаманума
манумаманумаманумаманумама
нумаманумаманума
манвер ти ка лей, че ре дую
щумаманумаоран же
вы ми тманумаманумаману
маманумаманумаманум
аманумаманумаманумамануком пр
и зон тао зи ции 1913–14 вы страи ва ю
т ся из го лей и их ся в дрет
яр коб ном рит ме; цве ми, о на ми
Ляпнул
«самокат не лодка»
маману
маманумаману
маманумаманумаману
маманумаманумаманумаману
маманумаманумаманумаману
маманумаманумаману
маманумаманумаману
маманума
манумаман
умам
ану
Твоё брюшко
как подушка
маманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаманумамто
вая гам ма на сы ща о-го лу бы ми
, ро зо вы анумаман
умаманумаманумаманумаманумаман
умаманумаманумаманумаманум
аманумаманумам
анумаману
мама
ну…
 Откровение наготы
Откровение наготы
memorias patris
покаприветприветп
окапокаприветкакд
елакакделаприветп
окакделапокакакделап
риветприветидиопокатак
акдеоакусприветладекакд
освиданокаказмиролегид
иограммпокакило
................т..............
...............е................
...........к................
...........с...............
.............т.............
глуб..................
...........черно......
......окий...........
........бок.........
......ень........
........же.......
........ щи.....
.......бло......
...глобобло
бсинийстолбг
ородящийсятройперебройденносвялы
глобтробногомостэтотмосттыидешьпоне
мунатретьемгодутыидешьп
онемусзеленойводойнаспинеподмостомглоб
.....к........
.....р.......
.....а......
.....с......
....н......
....о.....
.воетабайдардондолзëмпëрталотцабаевв
атоградземыклопкрылсёлыслов
яркаярскярцыкраснобаить,
краснобайка, красноватый, красноводск,
красноводцы, красновский, красногорск,
красногорцы, красногубый, краснодарка,
краснодарцы, краснодонцы, краснозобик,
краснокамск, краснокожий, краснолесье,
краснолицая, краснолицый, красноногий,
красноножка, красноносая, красноносый,
краснопёрка, краснопёрый, красноречие,
краснорожий, краснорядец, краснотелка,
краснохвост, красношейка, краснощёкий,
краснощековармеецв-аслиглазыйглиньегрудыйз
ёмныйкрылыйкрышийломкиймордаямордыйпевце
вречиворыбныйсловиеуфимскфлотецярск
ийармейкаармейскбайствоквишерск,
красноводский, красноголовец,
красноголовик, красноголовый,
красногоровка, красногорский,
краснодарский, краснодеревец,
краснодерёвый, краснодонский,
краснозаводск, краснокаменск,
краснопогодье, красноречивый,
краснорядский, красноталовый,
красноуральск,красноцветныйгвардеецголовникд
еревныйдеревщикзвёздныйзнамёнецзнаменсккочанныйомкостьпольский
сельский слободск турьинск фигурный
флотскийармейскийватенькийвишерскийгвардейскг
линистыйзнамённыйкирпичныйперекопскречивостьстойкость
под глыбой лежат
чьи то кости
пищат да пищат да пищат
как жаба
пищит да пищит да пищит
все дети такие, ты не такой, будь как такие
а ты вот какой
рос без отца рос без отца
ну и рос без отца
как и все
но не все
принимают тебя
ты такой
они не такие
ах так вот они какие.
 – Устал? – Спроси ещё раз!
– Устал? – Спроси ещё раз!Бугреющее Аршынны. Юдолъб сенйи
мне привычно слышать реакции «тарабарщина» или «испытываю невозможность подключиться к этому тексту» на мойи говорпиши.
но слышу и «что-то в этом есть»
в эйтом есть оттскакивающая подкожная речи, сбивчиво-рваные шумовники и наговоры, всемтеломнавались сдерживаемые возгласы,
в эйтом есть йазыковое днк, которое пытаюсь расшифровать через сталкивание с другими текстами/языками слышимыми и видимыми
пишу для журнала Флаги подборку
половина уже есть
отвейты на 8 живых поэтов сделал, эйтого достаточно
но выписал 8 мертвых еще, на них тоже сделаю, атаму ж редакторы решат
поскольку узнаваемость ббылых расшаперивает вразор настолько, что возможность «подключиться» бө(йё)льше כֿходящих ттаקगᎹйᎠлов
но с живущими бө(йё)льше дверцеватостей ҕҥөһүющих
– Йан Илошвай
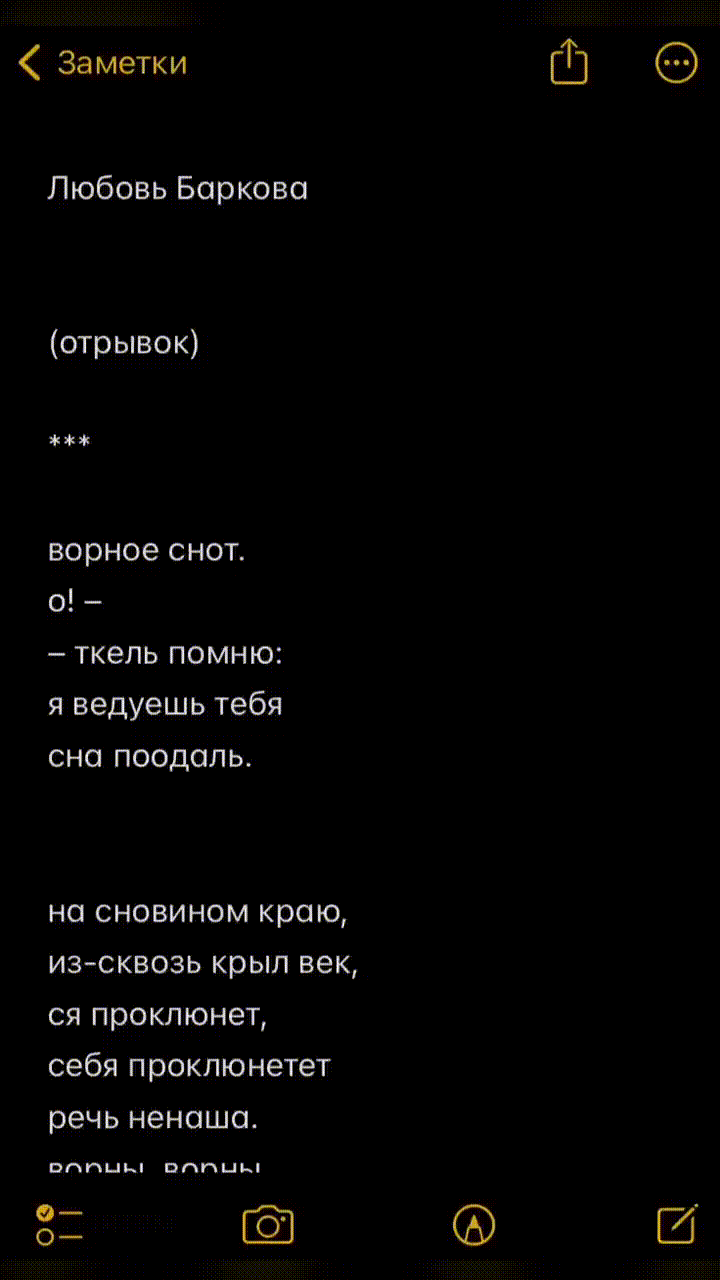

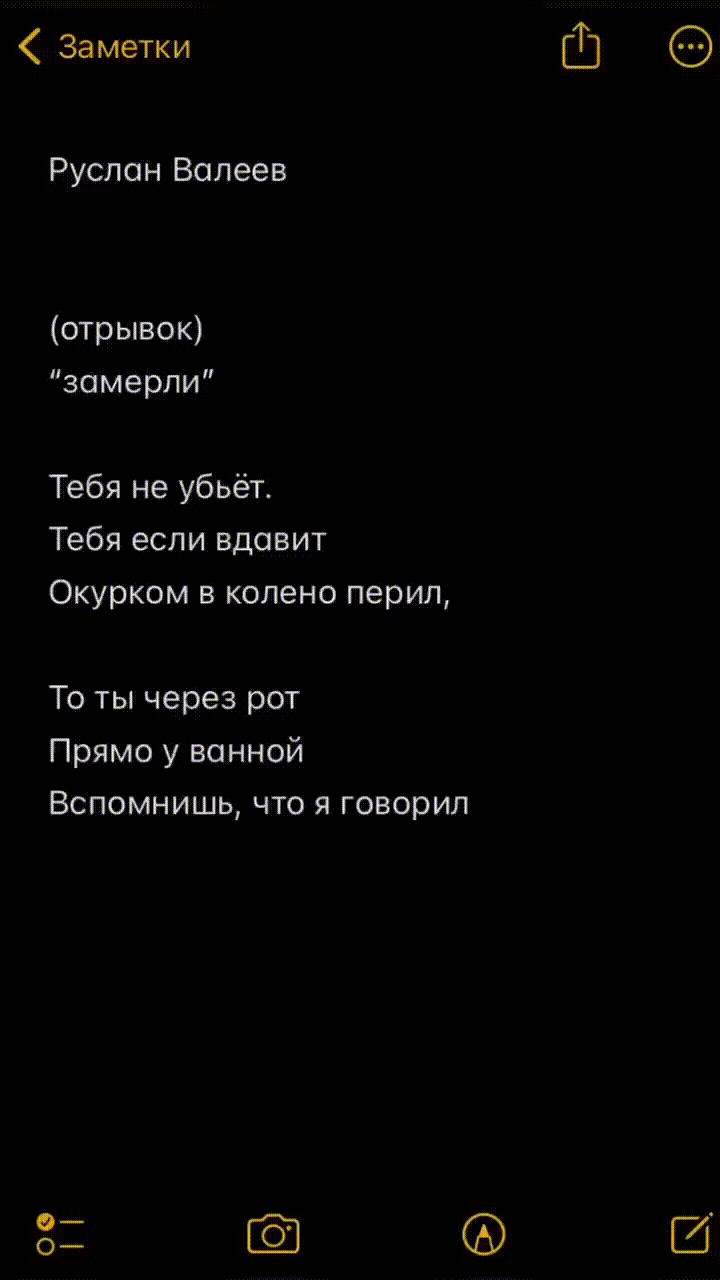
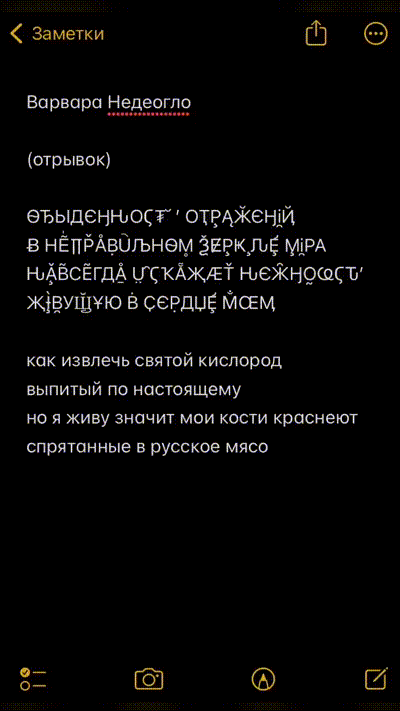

.gif)

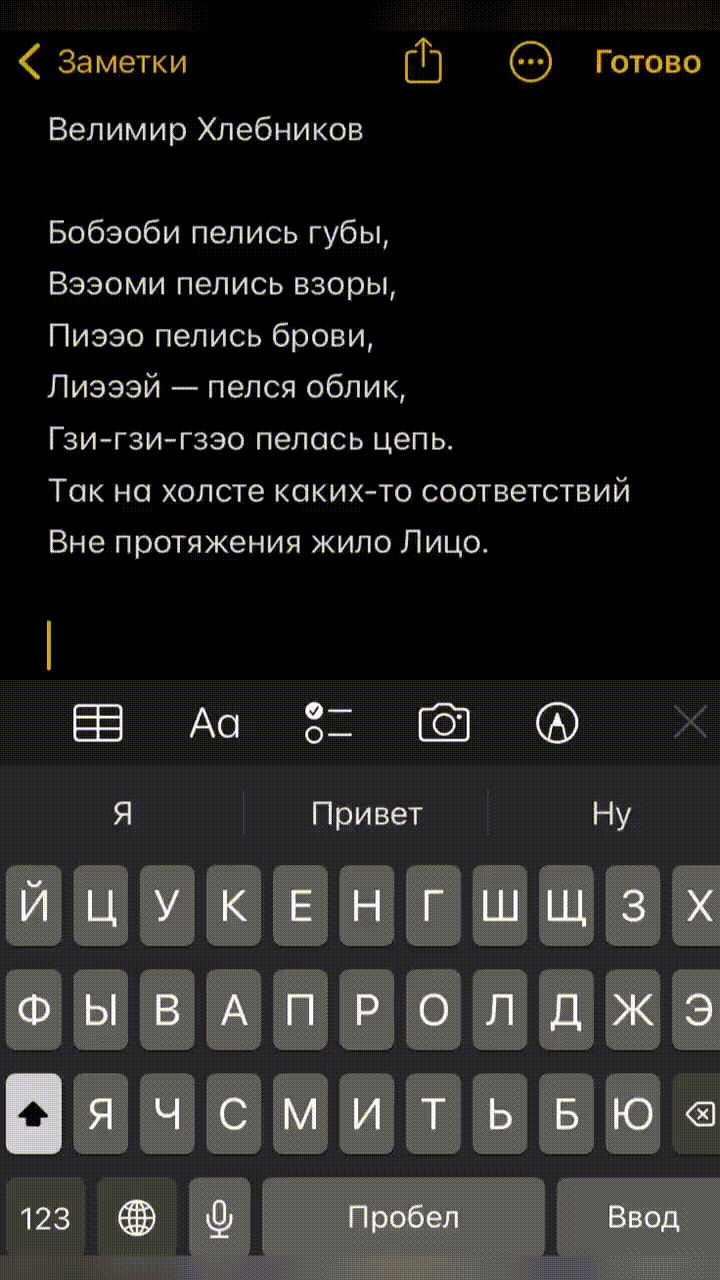
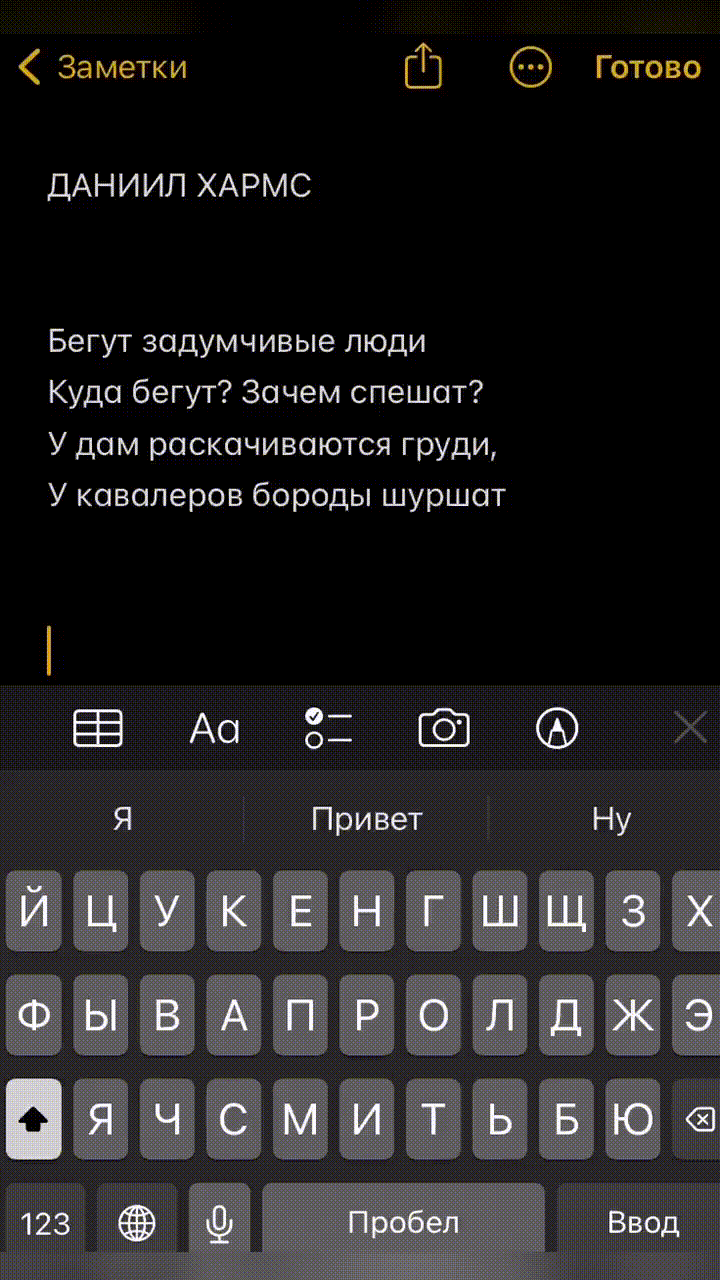
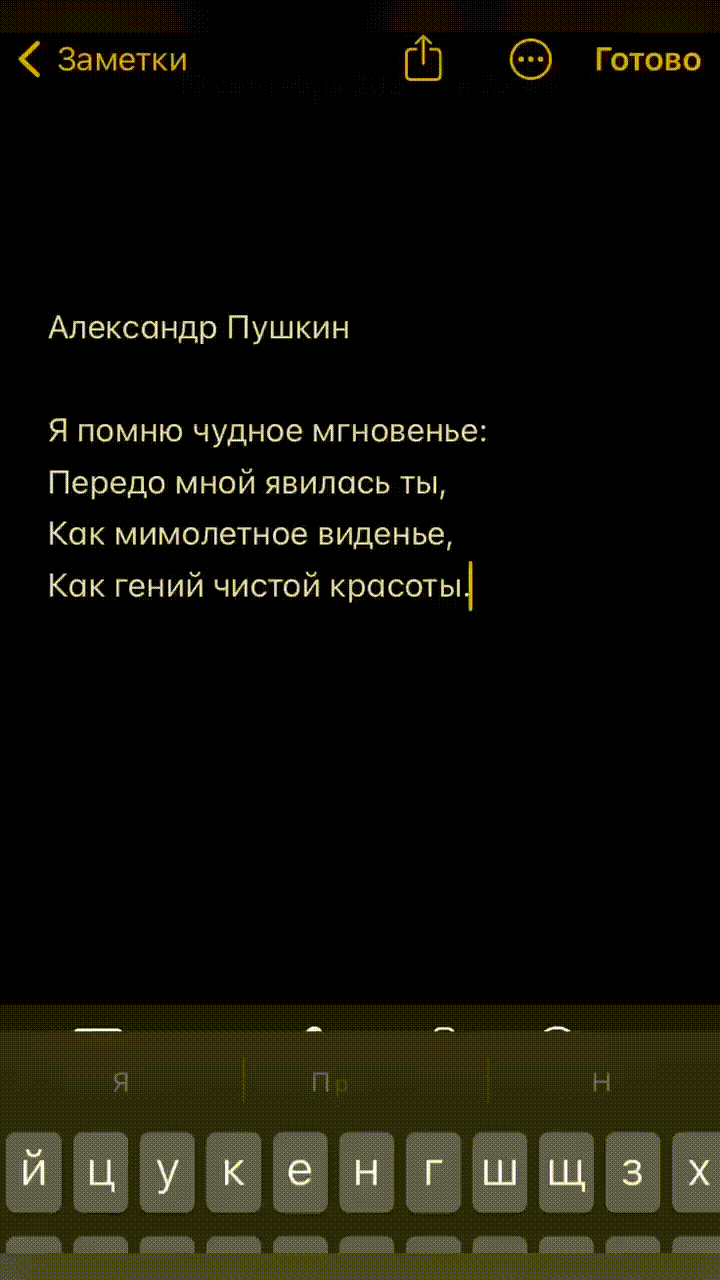
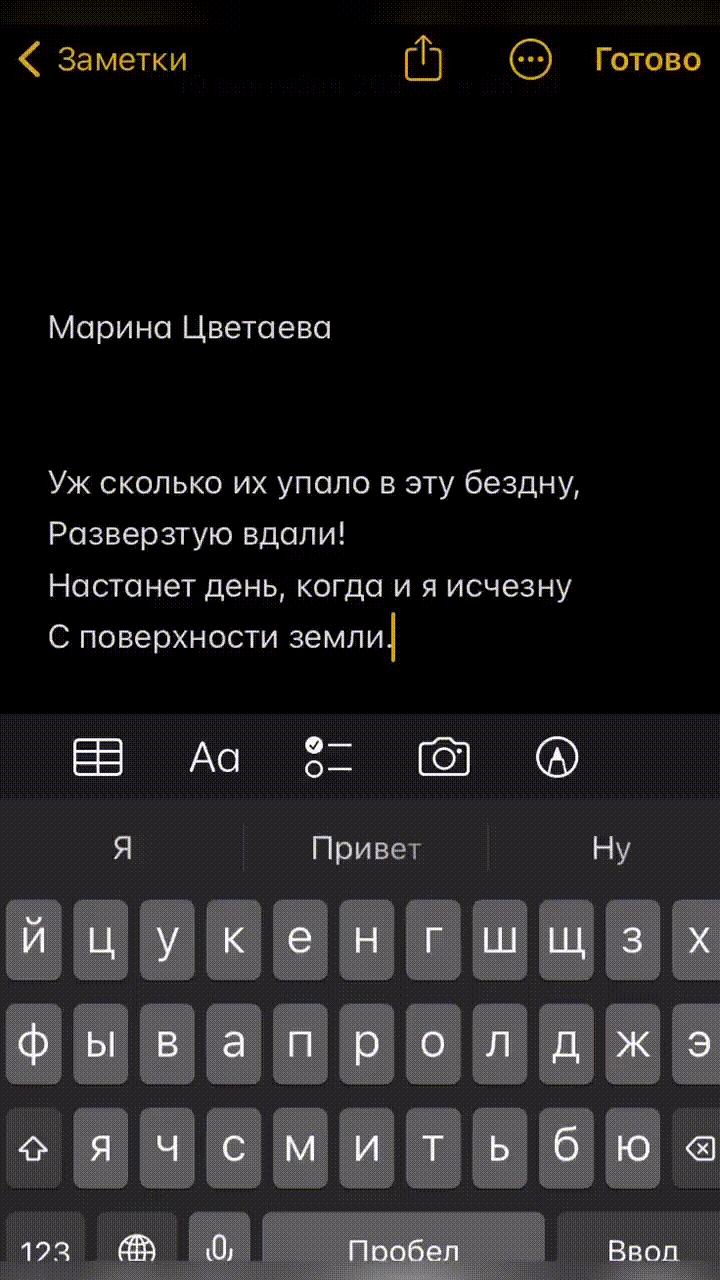
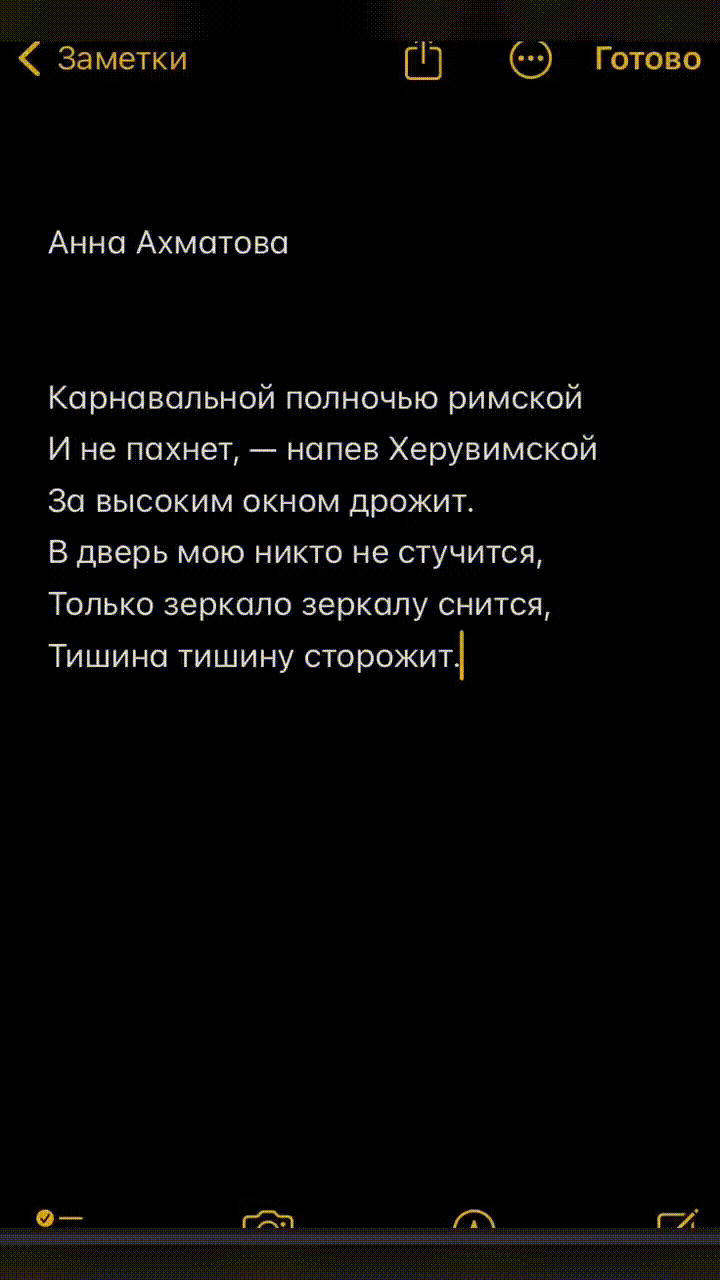
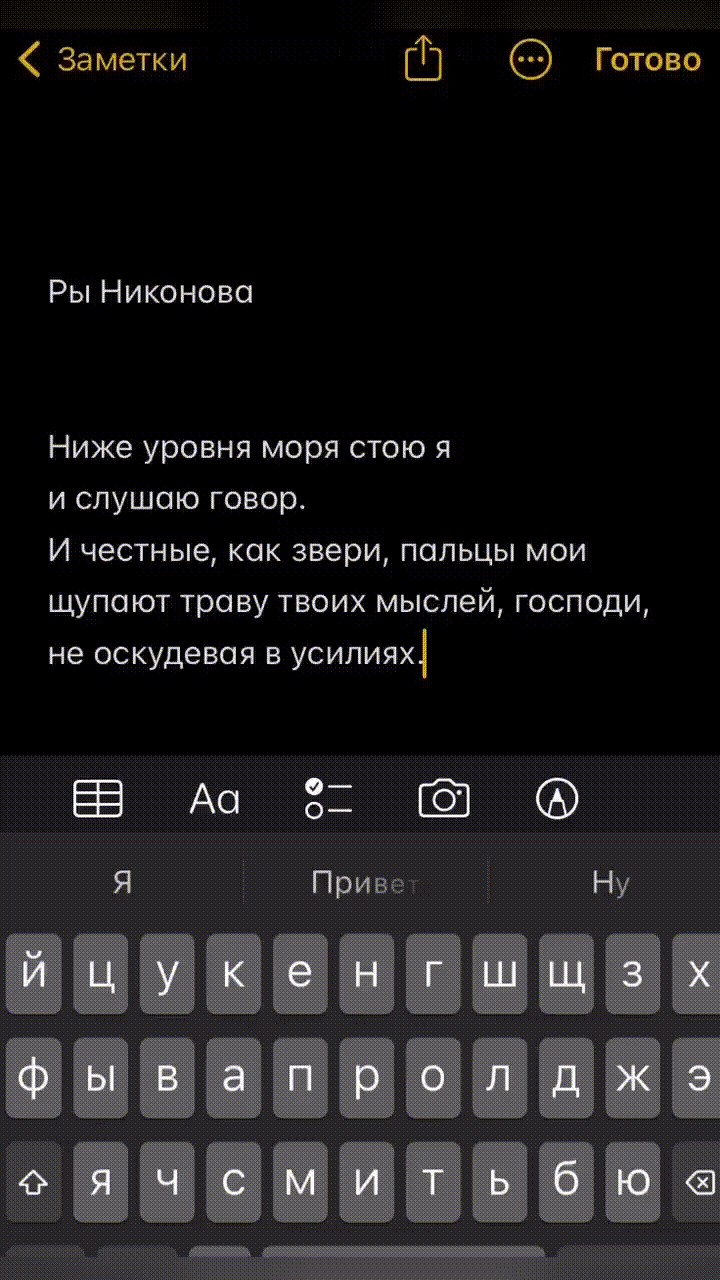
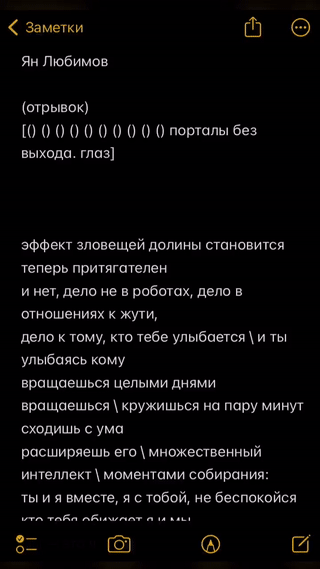


Голем Садовой
Осенью 2023 года проект о культуре самиздата Nizina (кураторки Кристина Сергеева и Кристина Шкилева) проводил на базе центра современной культуры «Нулевая комната» в Самаре лабораторию коллективного зина, участники которой занимались творческими исследованиями города. Результатом нескольких дней прогулок, разговоров с местными жителями и энтузиастами сохранения исторического облика города (отдельная благодарность Светлане Соболевской) стал мой визуальный цикл. Коллективную книгу, в которую он вошел, можно найти на передвижной полке зинов проекта Nizina.
улица садовая никогда не меняла названия. начинается от берега реки самара и заканчивается улицей полевой, но мы ходили обратно. пиня гофман (гойфман) никогда не существовал, но что ты одет как пиня, т. е. неряшливо, карманы набиты всяким. по легенде, ты был ювелиром, австрийским подданым, пленным, бродяжничал и подсвистывал, безобидный. разорившись, потерял рассудок или ребенком повредился умом от увиденного. люди уходят в рассказы о самих себе, их руки дрожат, одна придерживает запястье другой, когда приходится указать направление. бюрократия сместила деревянные дома в перспективу замороженного плана, а кирпичные каретные сараи разобрали на печи еще в войну. остатки стекол в окнах, заколоченных неологизмами. слои: вот хлам, вот все еще белый потолок с лепниной переходит в стены, все еще уют, проем, тень. лучше не знать, что в ней ночует и что спалит этот дом. по ошибке, конечно, под снос шел соседний. вы снимите нашу разруху, отправьте путину: деревянный ампир, рациональный модерн. или вы шпионы из газы. следы от скоб. трещина – объект культурного наследия. если бы тут жили, но всех расселили и бюджет кончился. за памятник тебе проголосовали, но не поставили. с проблемами, которые он спровоцировал, еще предстоит разобраться.






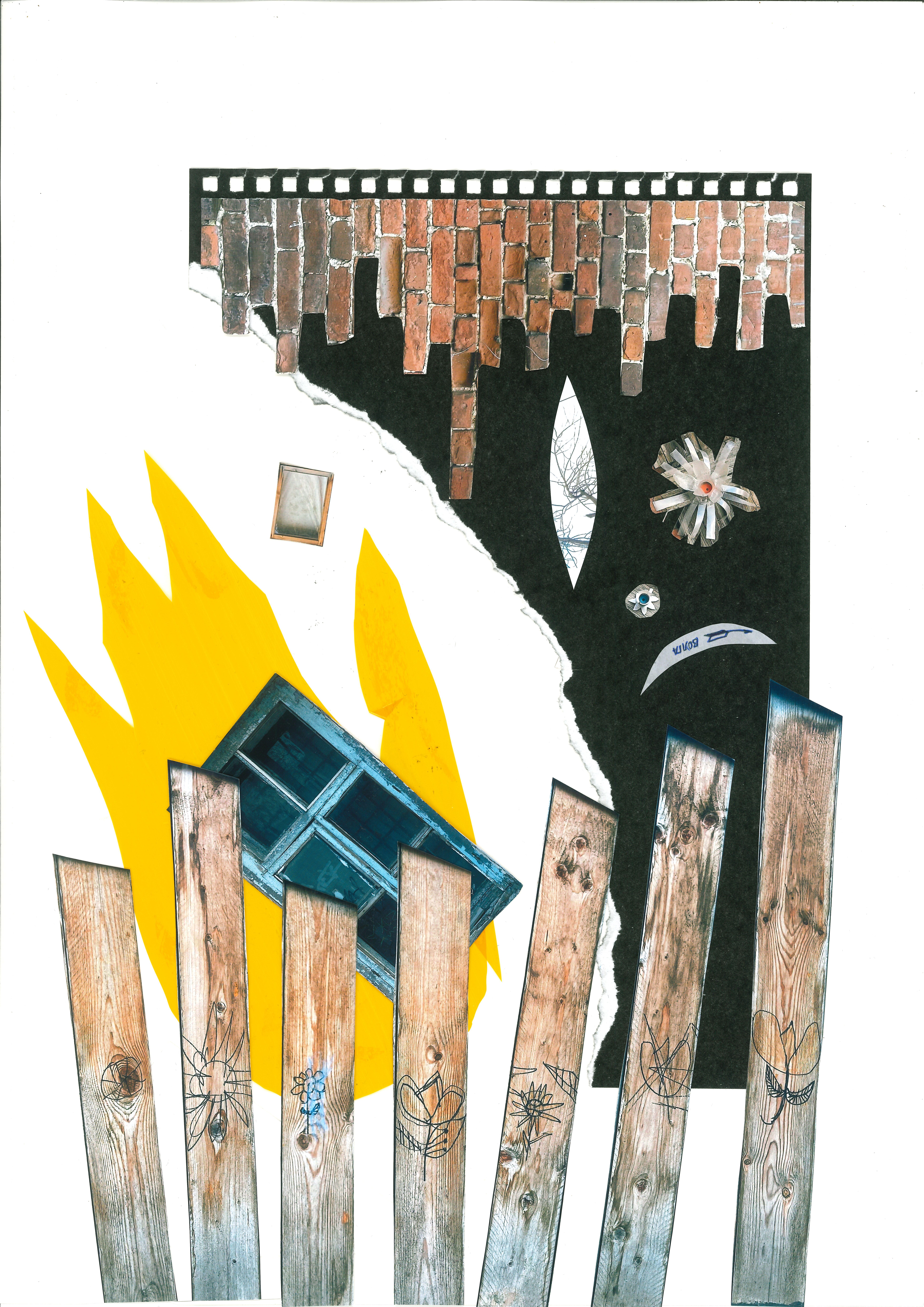

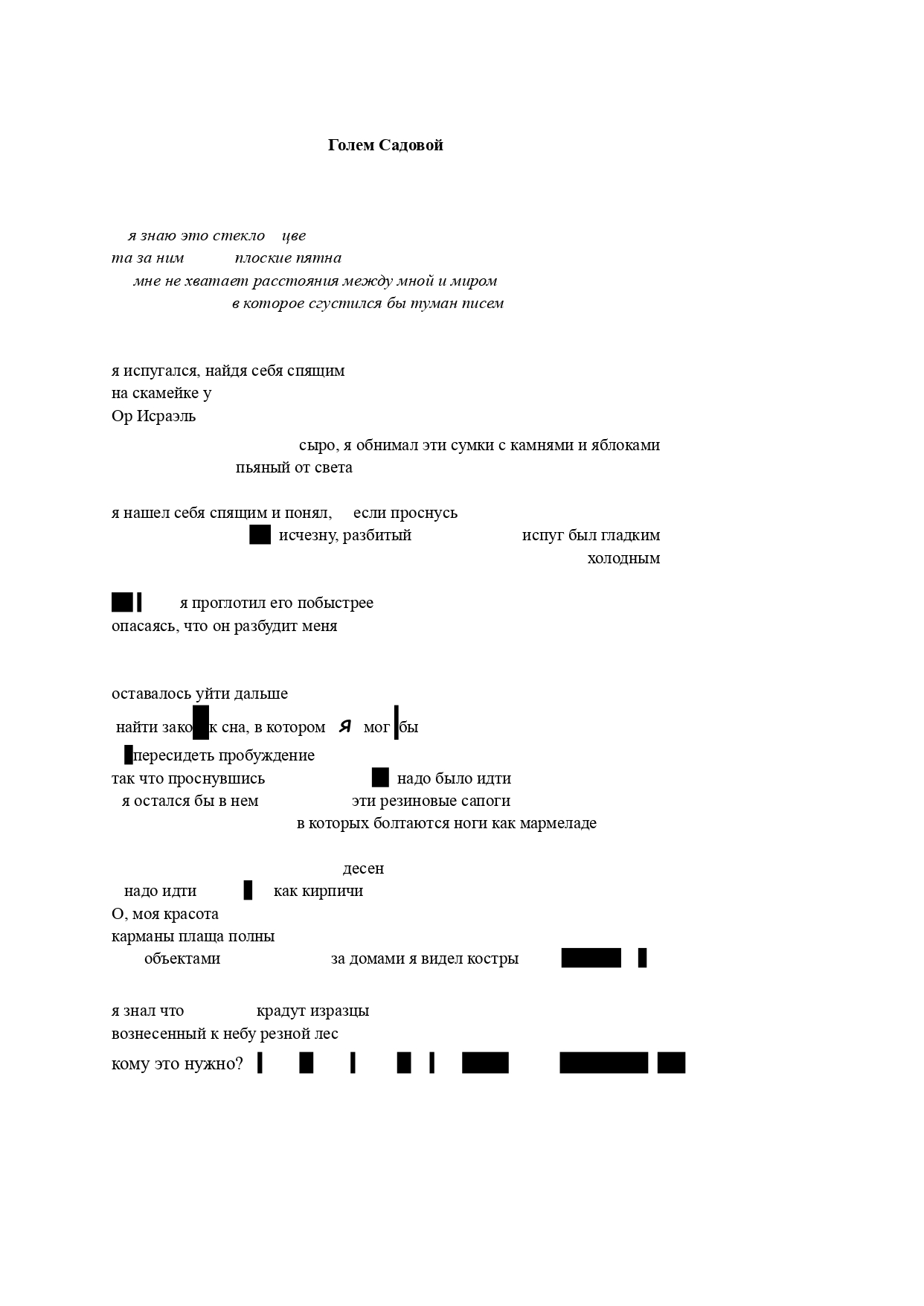
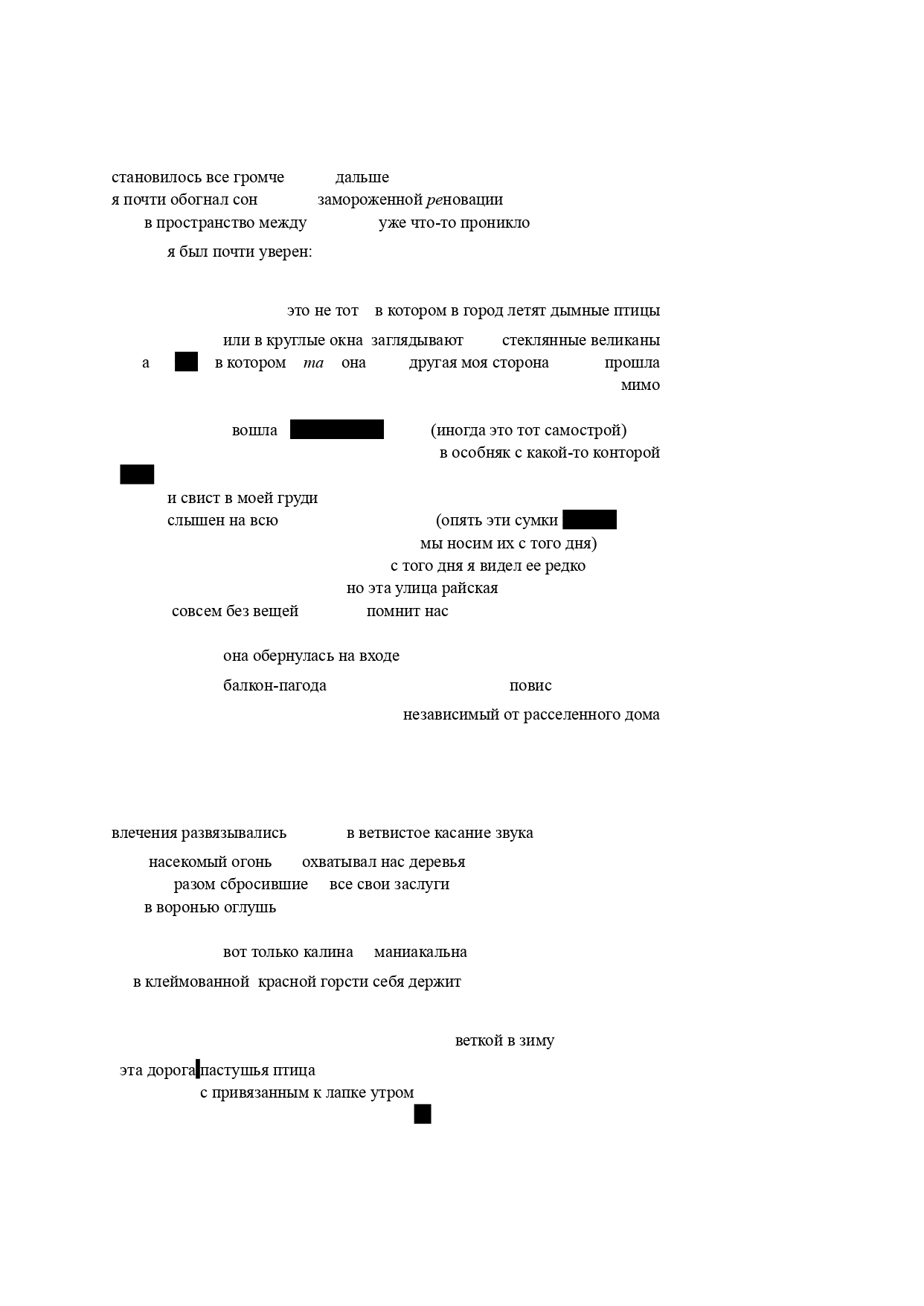

Триша Лоу, Тайлер Антуан. Шумная и мегадружелюбная (перевод-переложение Милены Степанян)


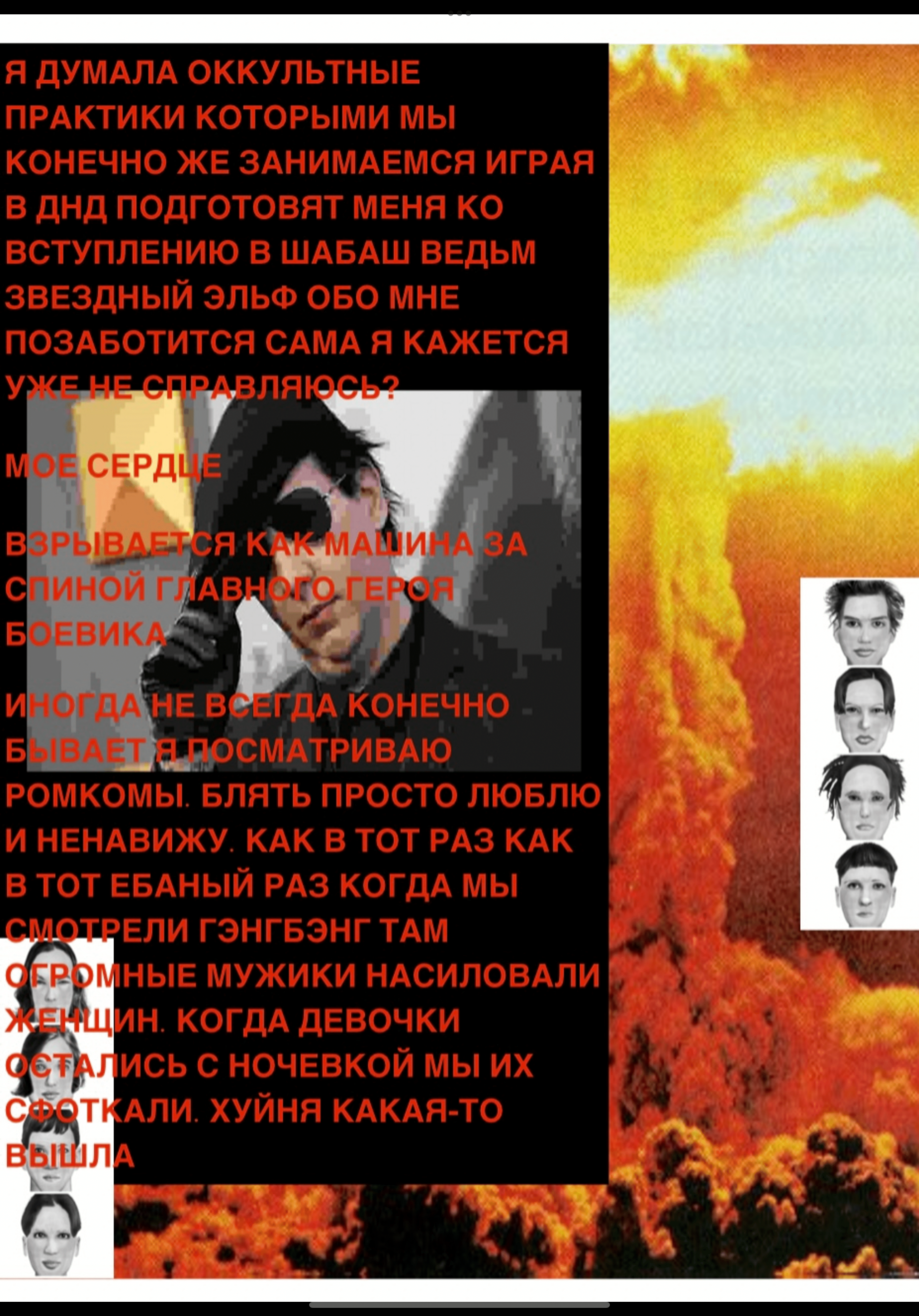
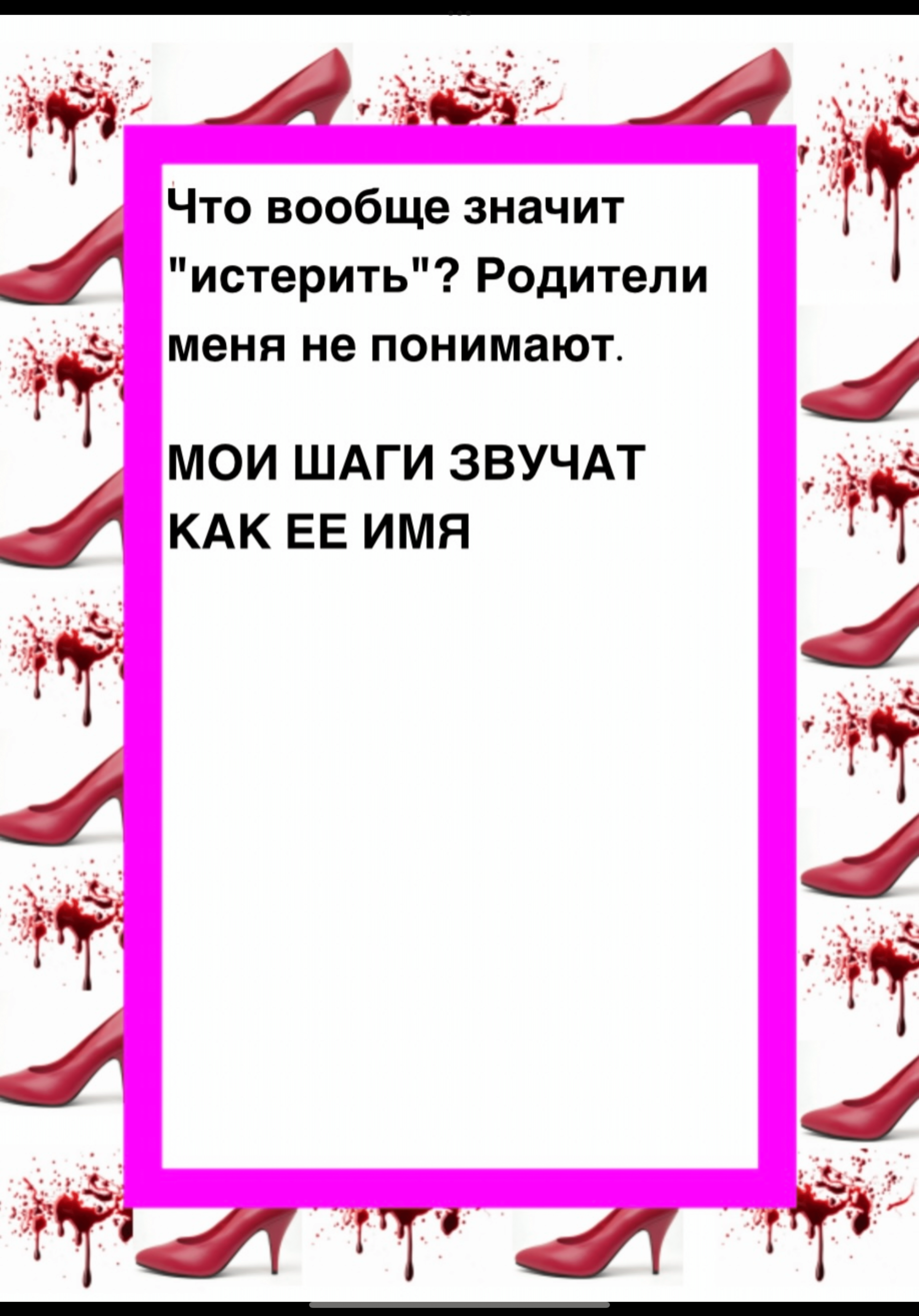
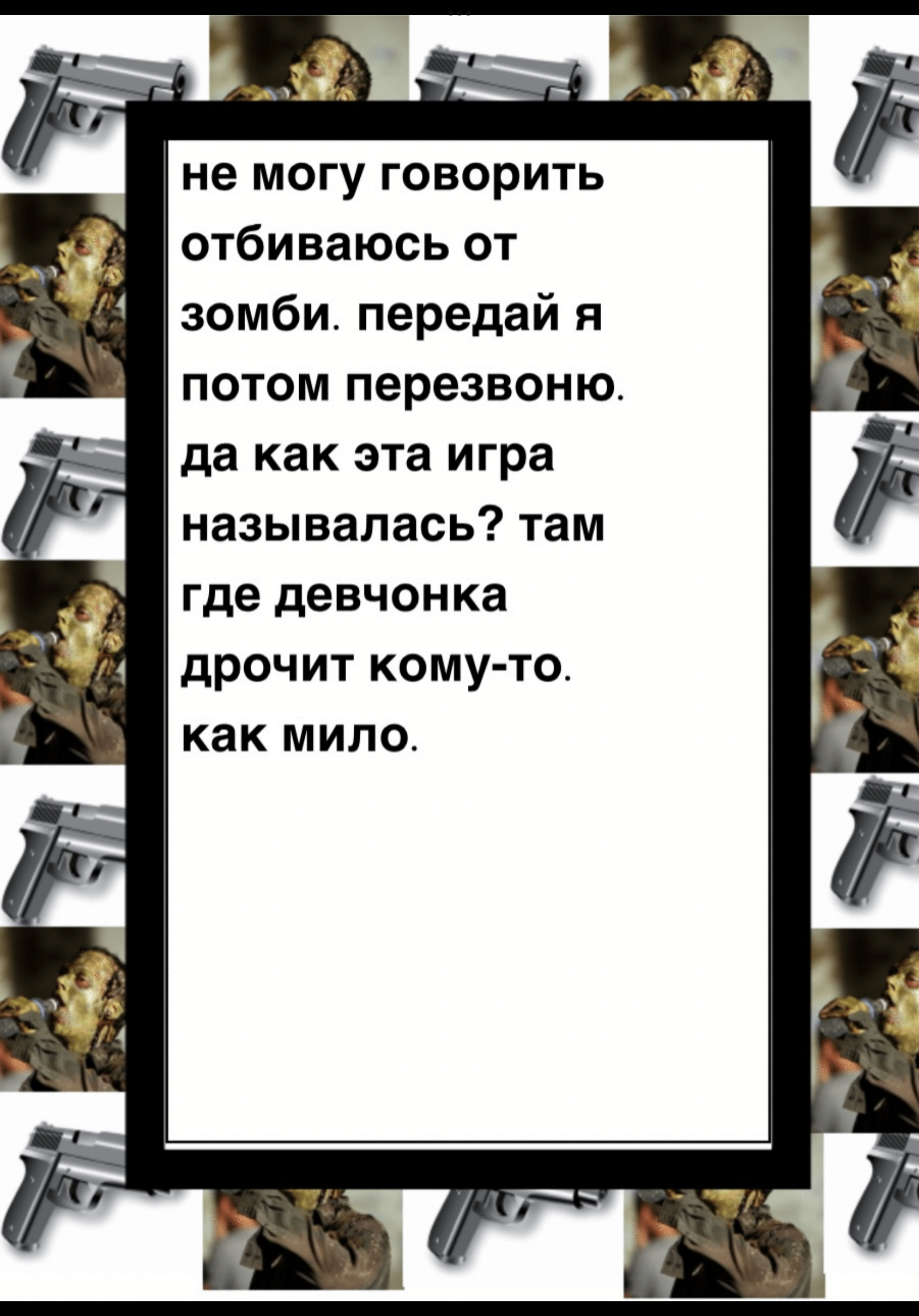
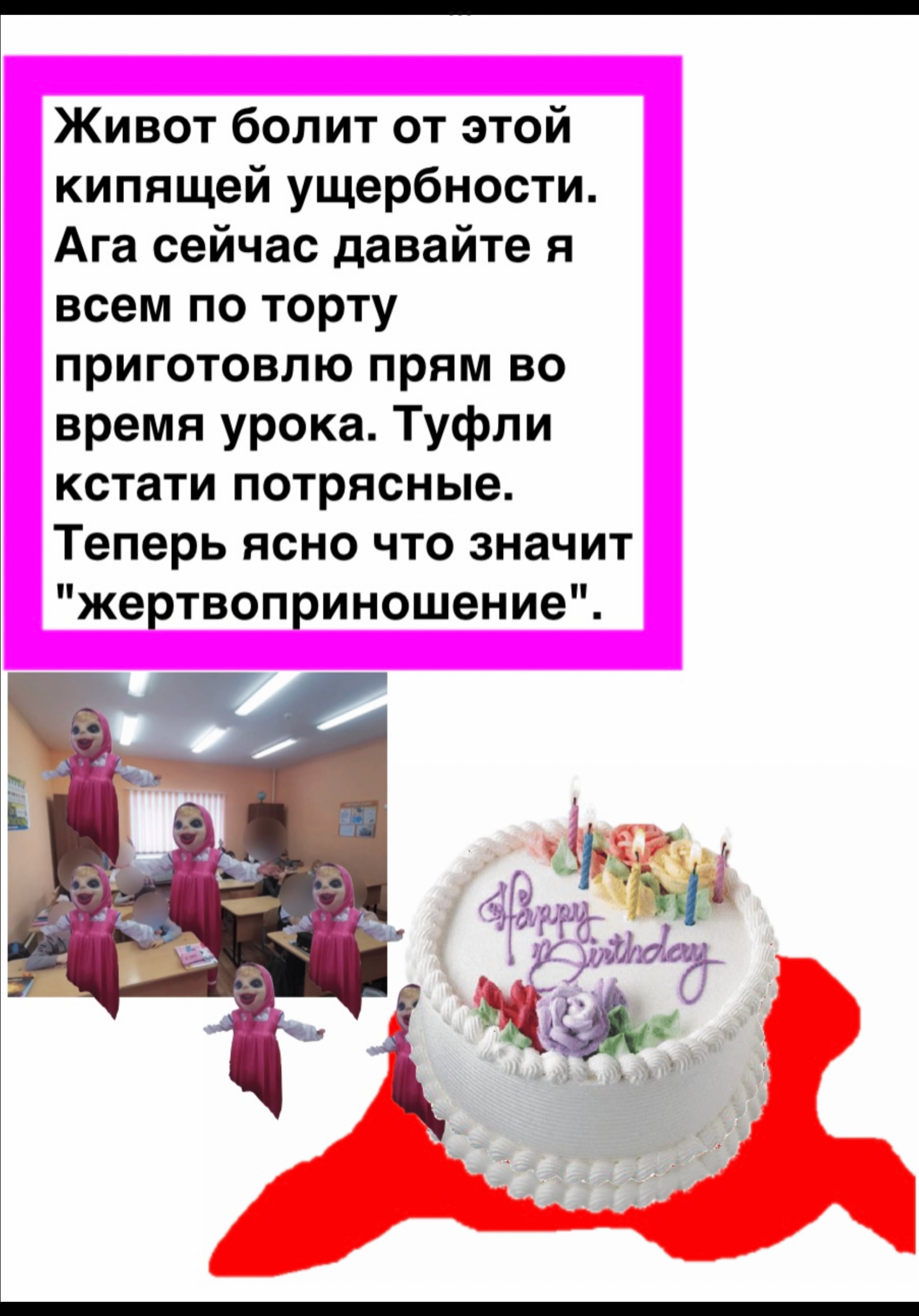
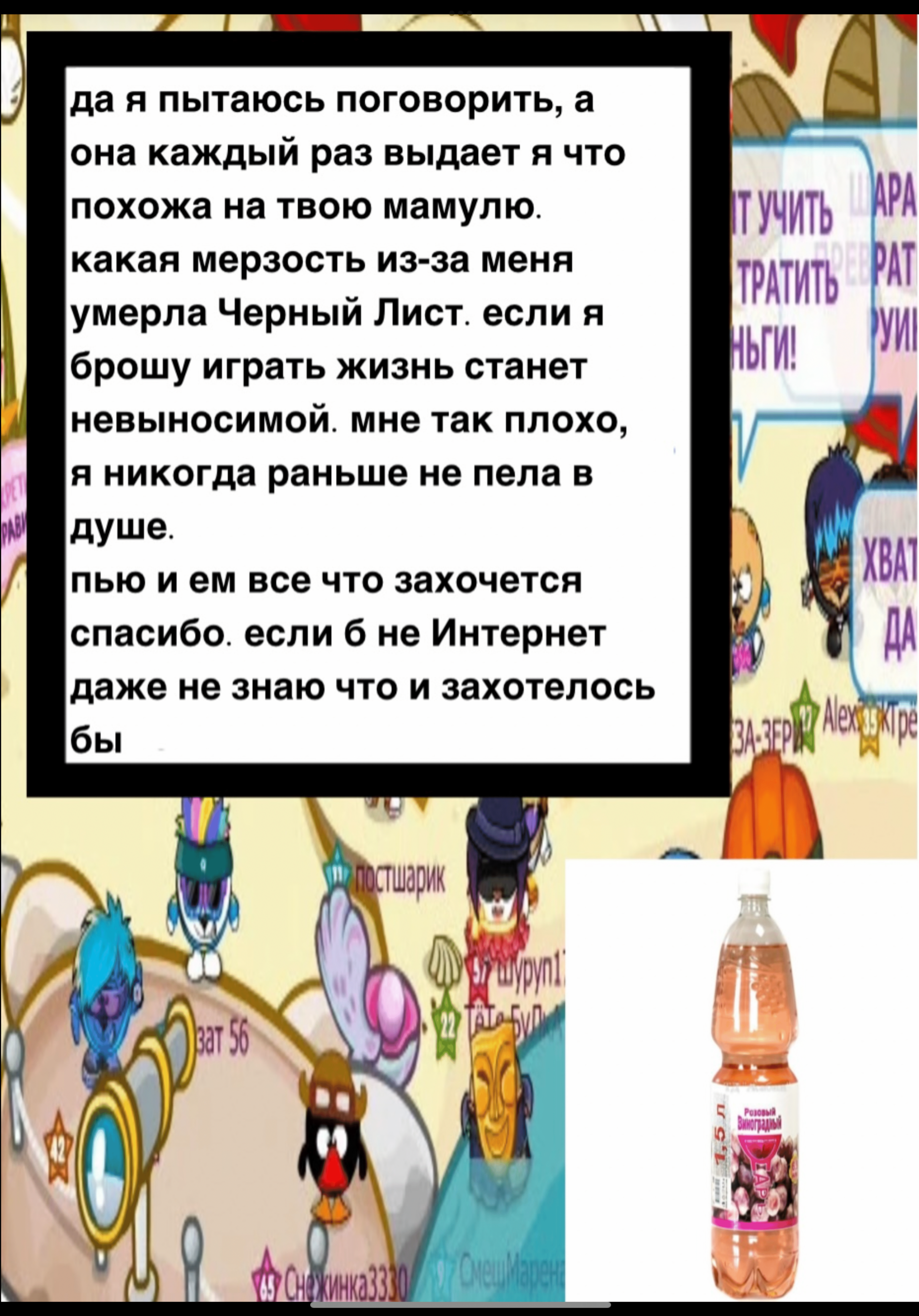
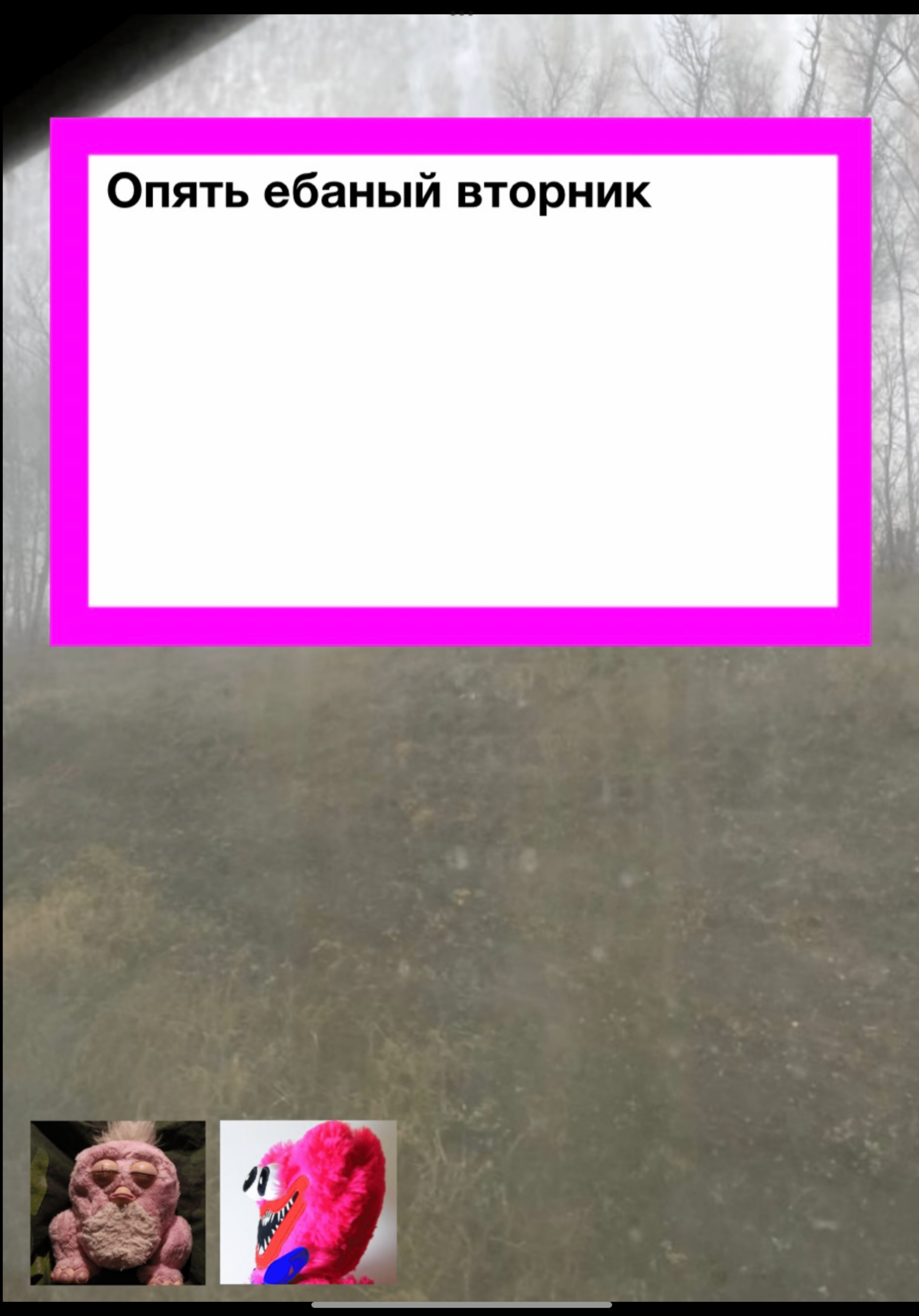
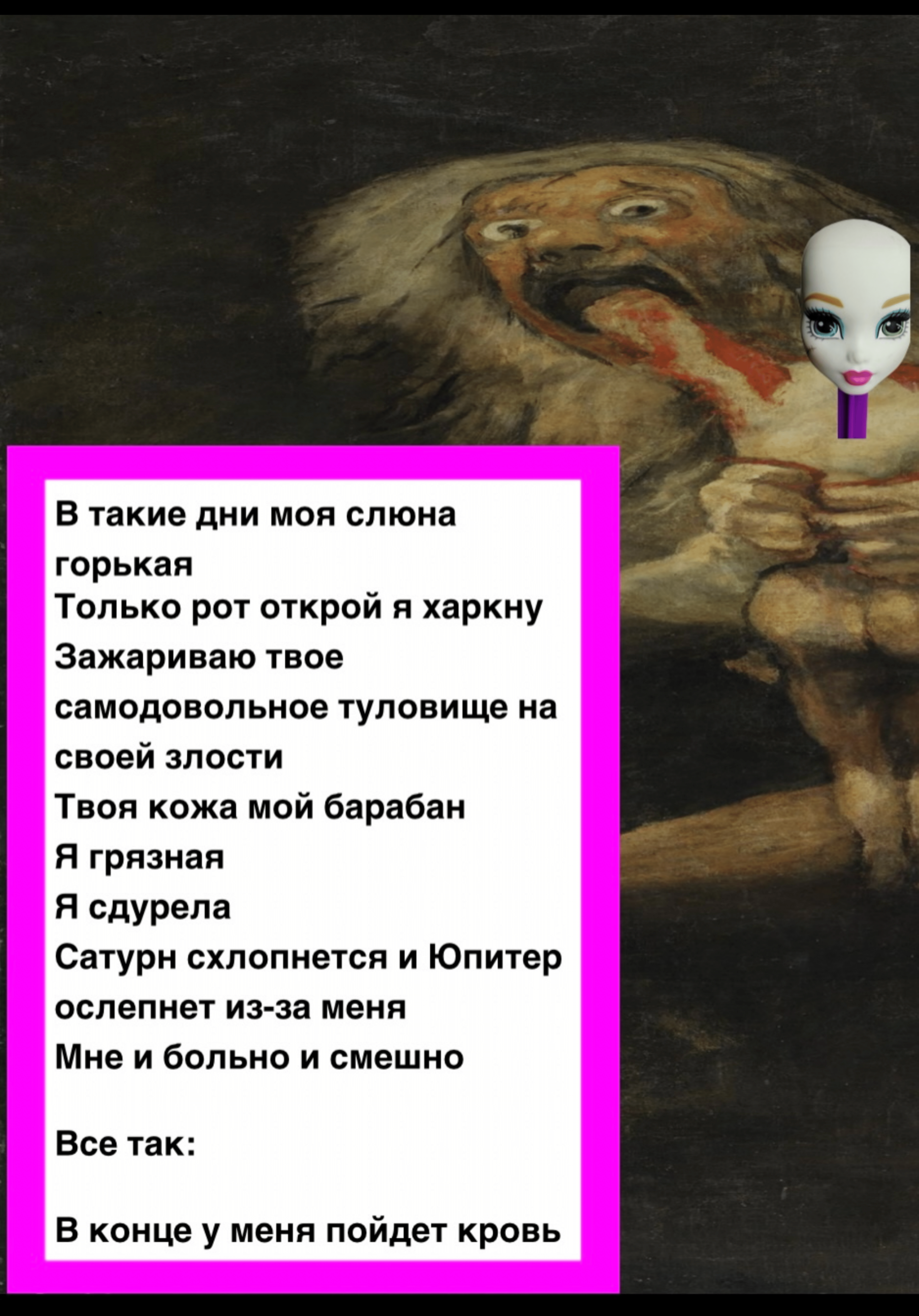
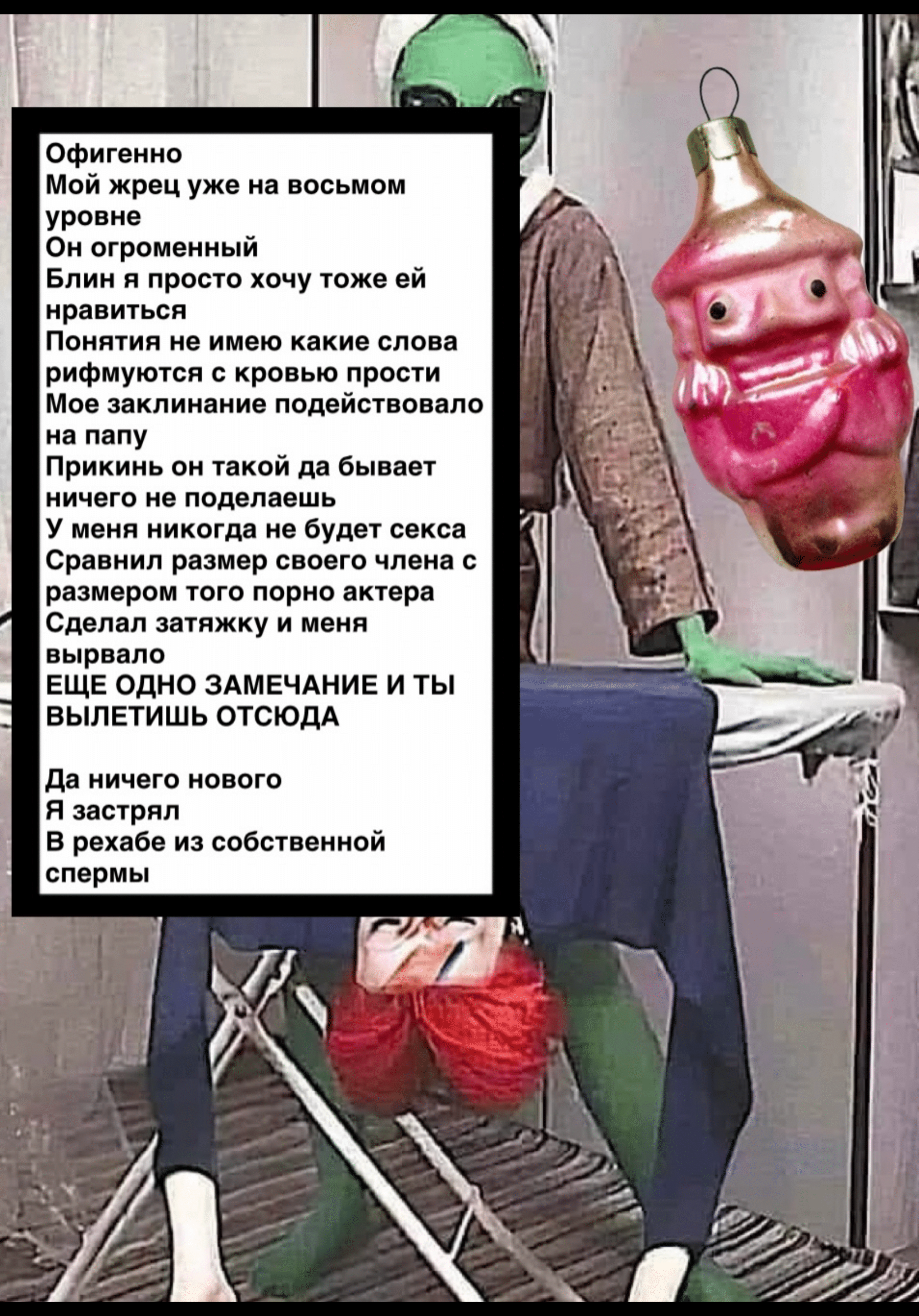


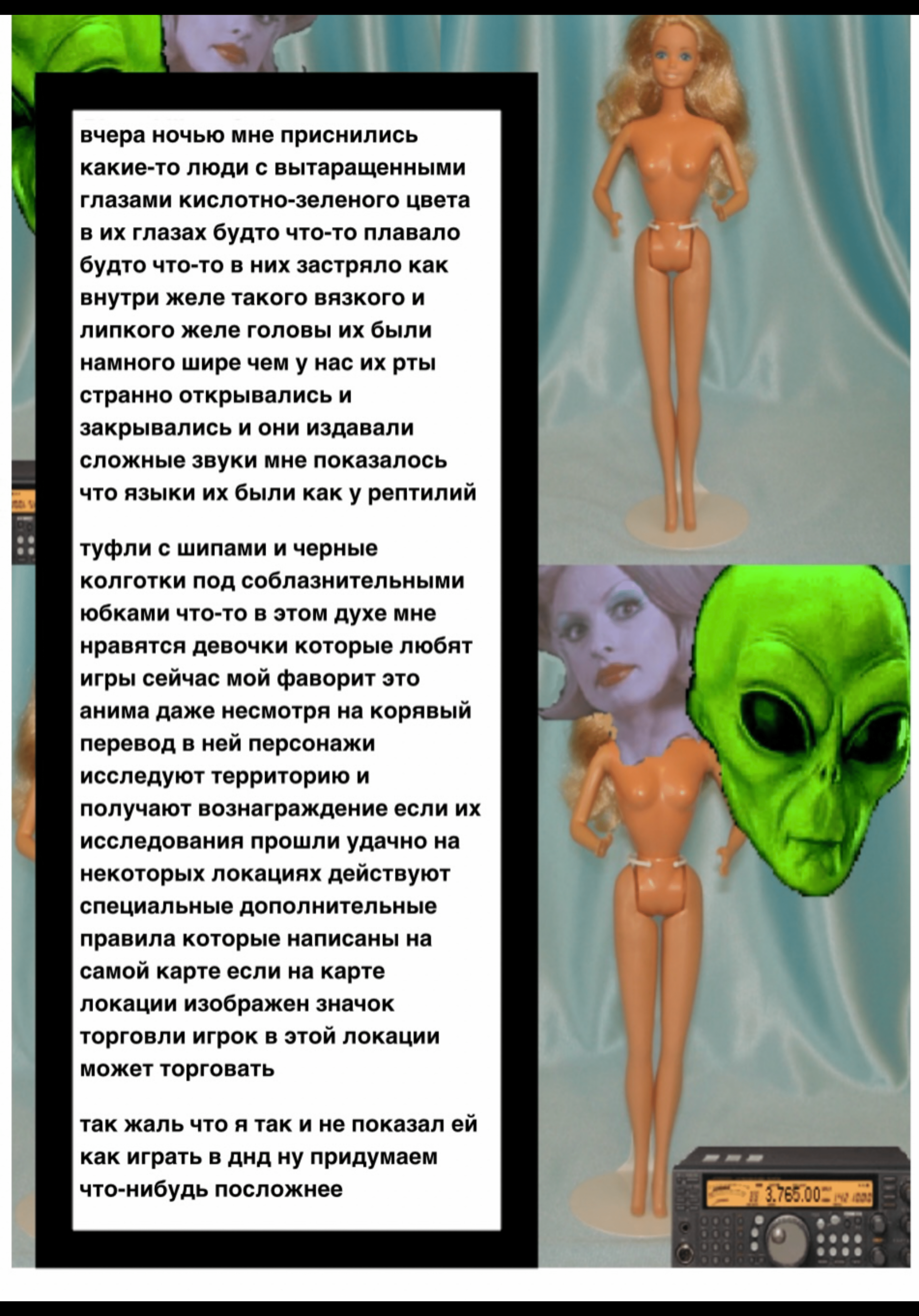
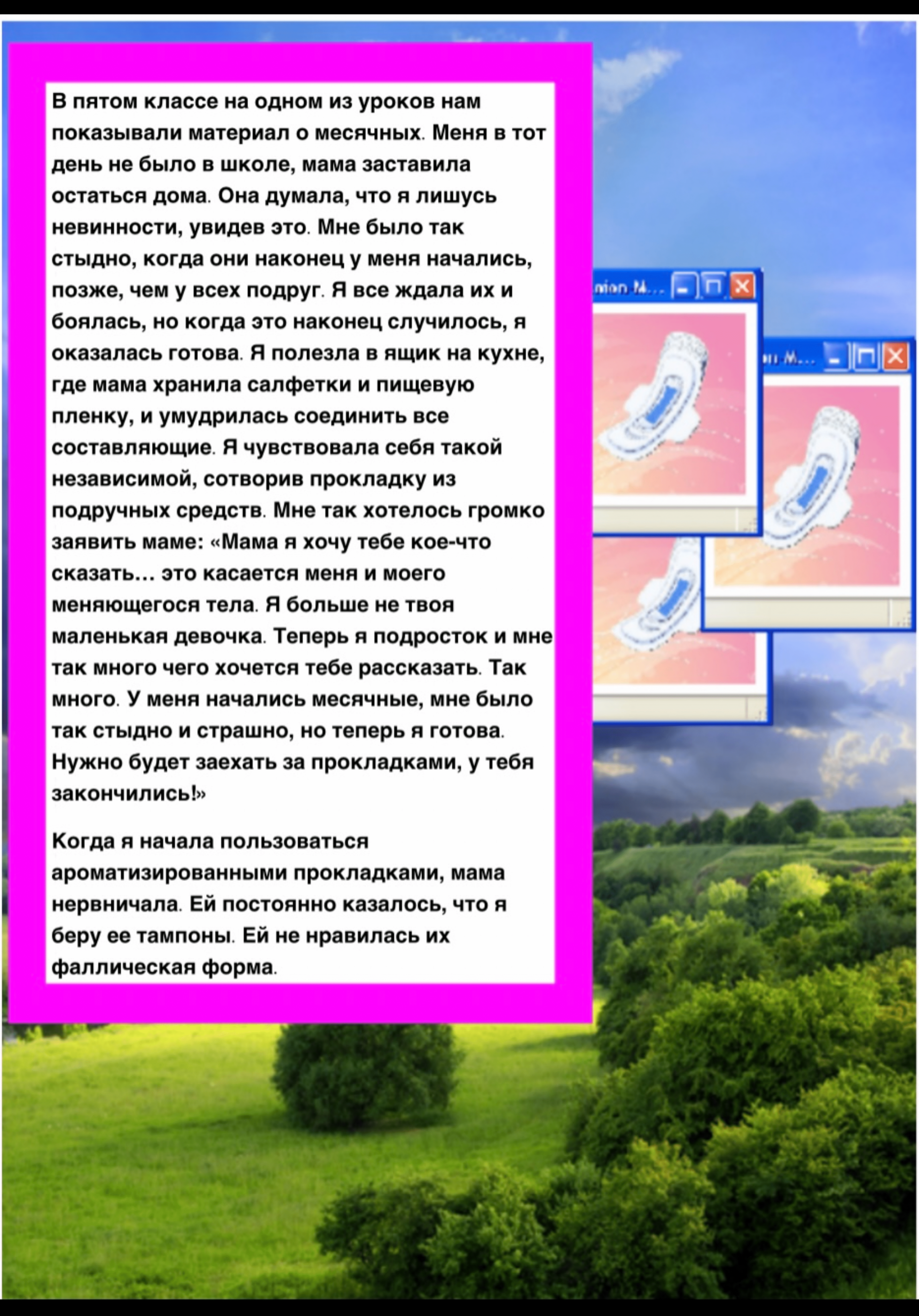
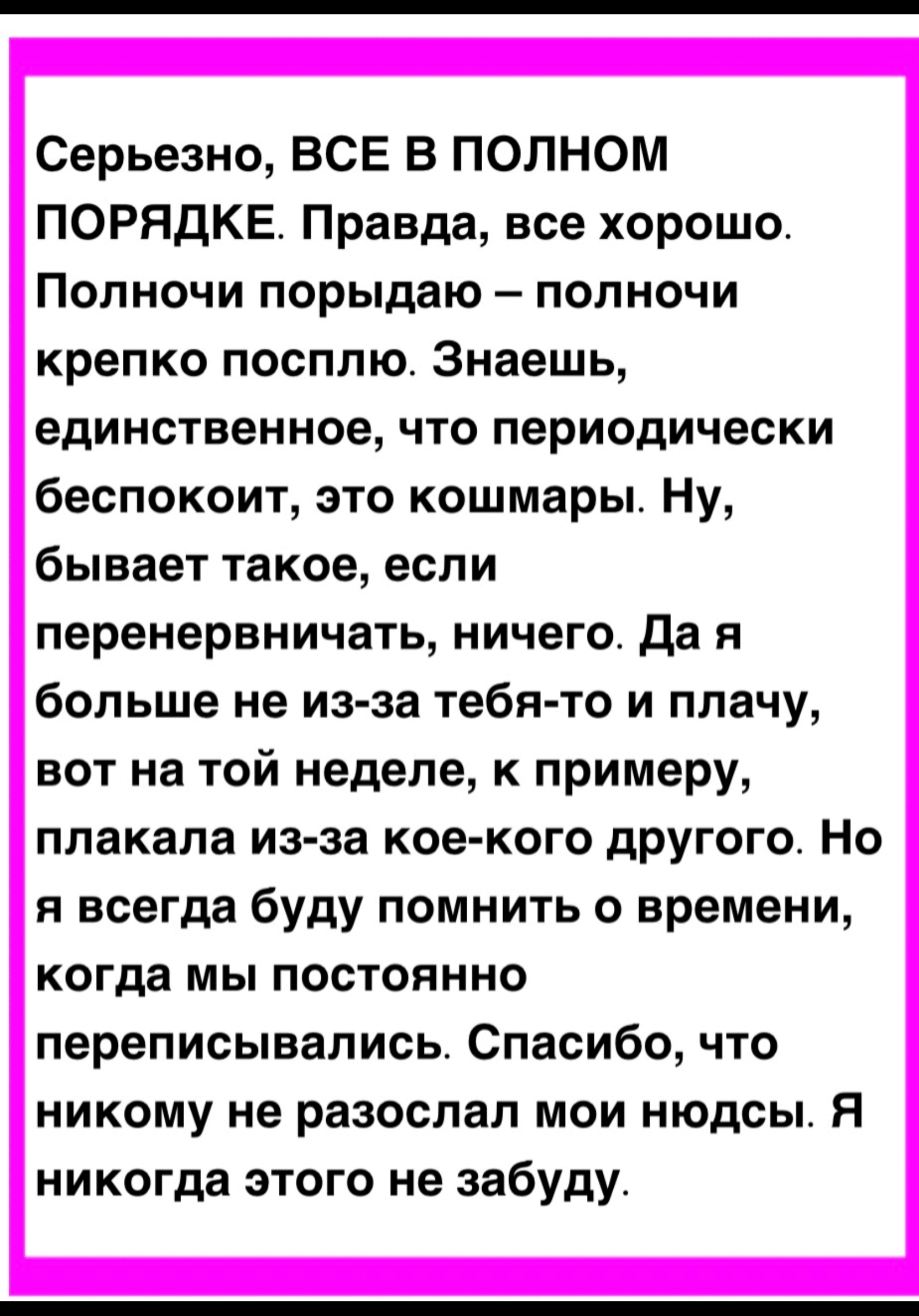
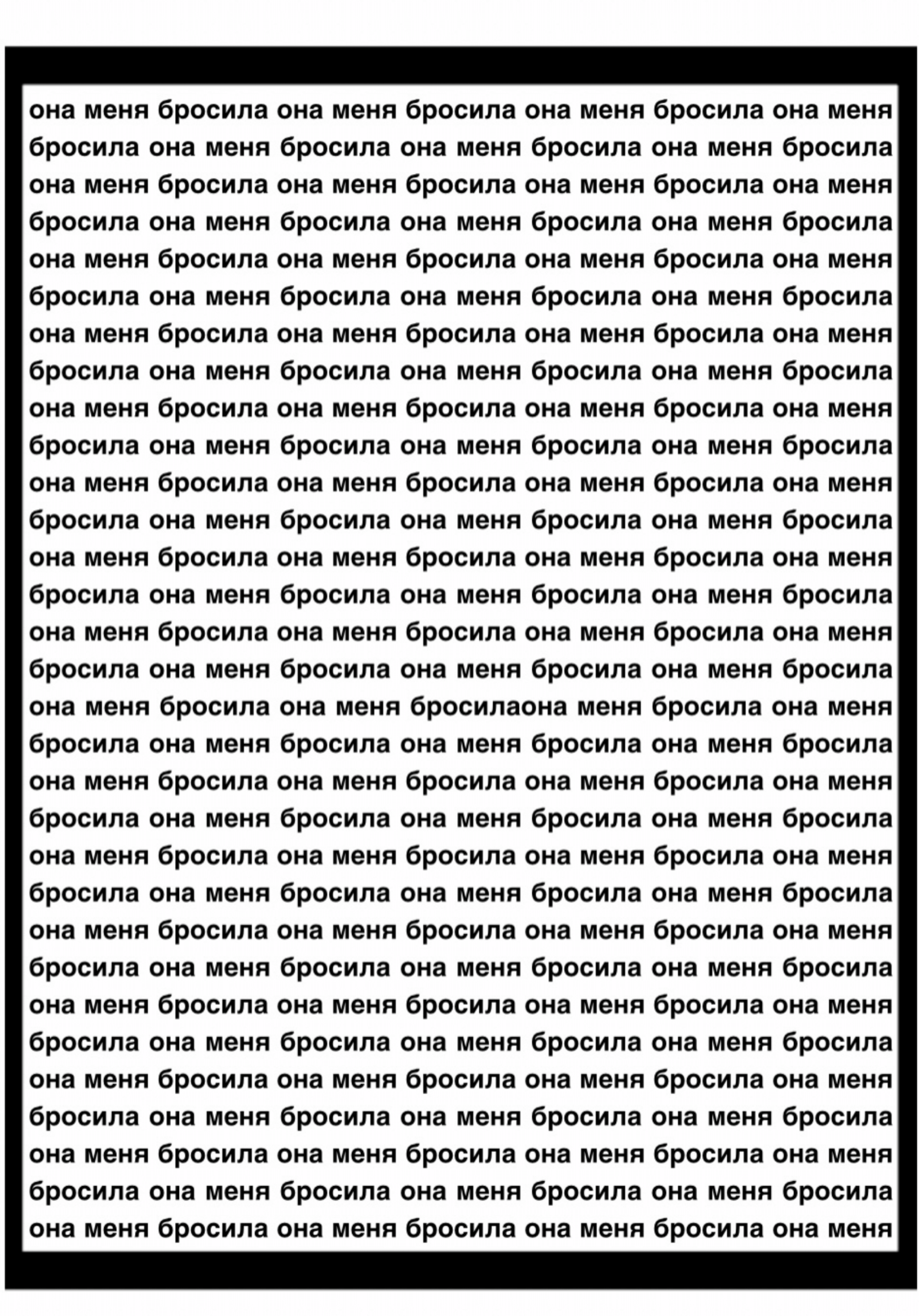
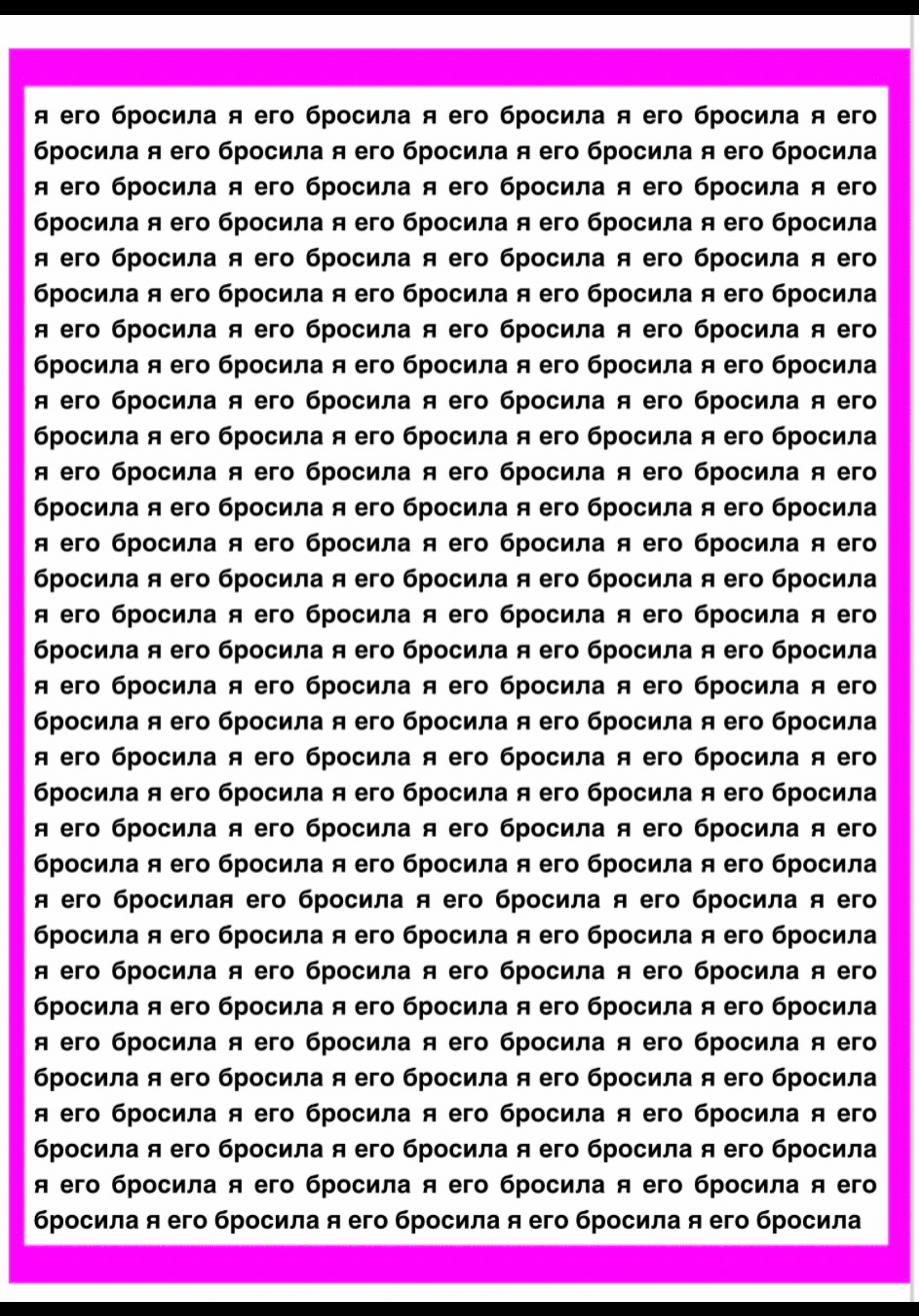
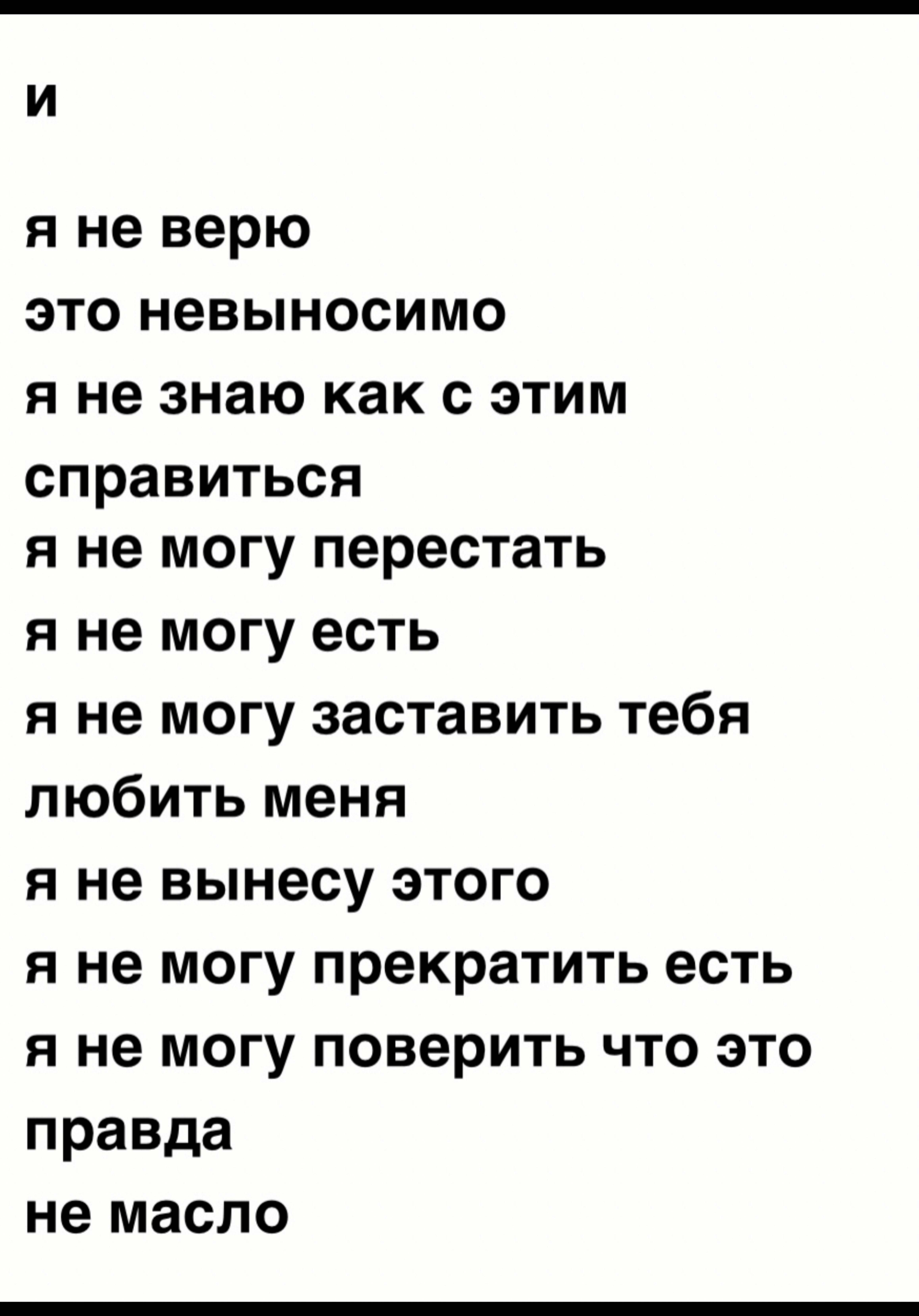
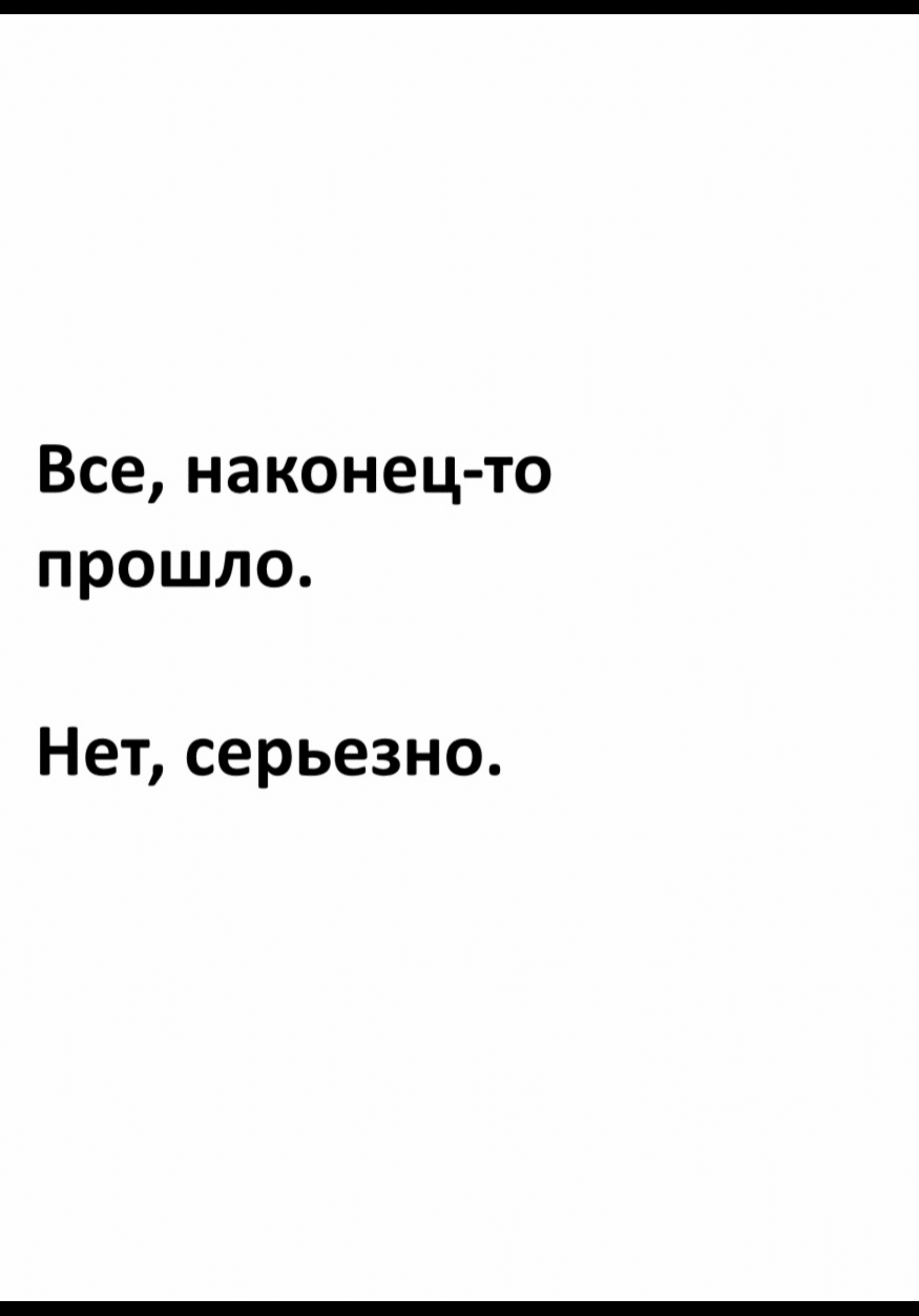

Машина-подросток: о дебютной книге Игоря Ванькова
Ваньков Игорь. ЗИЛ – М.: Полифем, 2023
Книга Игоря Ванькова «ЗИЛ» сперва кажется недружелюбной к читателю – тексты не пытаются с нами коммуницировать, они, скорее, разговаривают сами с собой, позволяя наблюдать за появлением каждой мысли. Читая сборник, мы сталкиваемся с ощущением, похожим на чувства в начале RPG-игры, когда игрок (в нашем случае – читатель) случайно пропустил обучение, поэтому механику ему придется понимать интуитивно. Но дело не в пропуске обучения, а в его ненадобности, потому что «ЗИЛ» – отлично коммуницирующая внутри себя среда.
Плоскость, в которой существуют стихотворения Ванькова, похожа на систему, но у любой системы должен быть свод правил функционирования или хотя бы понятный синтаксис языка, на котором эта система написана. Здесь же правил нет: среда пытается создать видимость аутентичности – будто бы она появилась без помощи автора. Речевая инстанция в текстах Игоря Ванькова больше похожа на лирическую машину, а не на лирического субъекта. Кажется, что мы имеем дело с нейросетью-подростком, которая принципиально сохраняет свою независимость от привычной человеческой речи. В силу своей искусственности она не испытывает никакого кризиса невыразимого, как было бы присуще любой другой речевой инстанции, поэтому и не подражает человеку. Наоборот, уверенная в своей речи, больше интересуется действительностью и собственным существованием.
это ведь жизнь к нам располагает (с большущей
заработной платой)
удивительная и бесконечная
По всем законам, это должно делать лирическую машину стихотворений Ванькова пугающей: среда, обладающая не только автоматической, но и аффективной памятью (да и вообще на себе понимающая, что такое «аффект») и способная к генерации автодискурса – тот искусственный интеллект, которого все боятся. Однако принципиальная бессистемность среды делает её умилительно безобидной, а постоянное оперирование образами, связанными с детством или подростковым периодом наделяет сентиментальностью и хрупкостью. Эта машина просто не хочет взрослеть, руководствуясь принципом «если она научится говорить нормально, то перестанет быть собой».
я выжал сок;
и стал чуть-чуть умней;
я бегал так, что стало чуть темней;
Машина-подросток в основном пользуется не определениями, а описаниями. Ей уже известны объекты действительности и теперь важно собрать эти объекты в целое. Поэтому вместо определяющих конструкций «<объект> – это…» мир обуславливается схемами «<объекты> взаимодействуют во времени-пространстве <именно так>»:
Цветной картон, в коробке лежит плюс батарейки. Макаю пальцем в пульт, в кнопку – Мне снег-бездорожье – ясно; Тот же гвоздь-под ногой впивается в почву – из почвы в шину – из шины в ступицу – (летучая мышь пролетает насквозь) из ступицы в камуфляж – с войны.
Супрасинтаксически заумная речь – одновременно протест против нормы и единственная возможная форма существования. Тексты обычно сами препятствуют чёткому пониманию себя: машина внутри них не проговаривает свои чувства языком «взрослой искренности». Вместо этого читатель получает хаотично переплетающийся поток образов и аффектов – это непосредственное ощупывание реальности и постоянное самостоятельное формулирование её законов автоматически, без обработки сознанием:
устань – и говори про всё;
про то что небо быть не может – может стать;
и распахни такой седой котёл
В «ЗИЛе» интонация усталости совсем не решающая, поэтому приходится опираться на личный опыт: именно предельное утомление обычно порождает автоматическую речь «про всё» – мы просто перестаём следить за авторством своей речи, генерируем поток из мыслей, образов и сюжетов. Машина текстов Ванькова работает именно по такому принципу, но не от усталости, а потому что изначально и не претендовала на какой-либо контроль за аутентичностью, ей он просто не нужен. Беспрерывное порождение речи, пытающейся охватить «всё», становится основной практикой объяснения мира.
Если реальность возможно объяснить непосредственно – просто говоря о ней – значит, на неё можно так же непосредственно влиять, просто проговорив что-то. В таком случае «Cheat poems», конечно, легко сравнить с аффирмациями по функционалу, но всё же они, по закону работы любой машины, направлены на конкретные изменения режима действительности. Что характерно: инструкция к вводу чит-кодов появляется только в «дополнениях» от февраля 2023 кода, видимо, ориентируясь на расширение числа игроков.
После освоения среды в самой себе и обретения команд не просто управления, а читерства, совершенно закономерным будет выход – в книге эта точка буквально обозначена последним текстом «EXIT». Цикл «heart robots heart poems heart therapy» вообще меньше всего похож на сгенерированные тексты. Машина соблюдает принципы своей работы, но говорит почти по-человечески, видимо, достигнув эндгейма: когда внутри этой среды делать уже нечего – все основные и побочные квесты пройдены – она сама побуждает участника выйти из неё во избежание стагнации. Если продолжать метафору с нейросетью-подростком, то она просто вырастает (или мутирует), причём не вследствие внешнего влияния, а «научившись» сама по себе и, осознавая свою трансформацию, просто прекращает работу для установки обновления.
Вслед за Львом Петровым. Cтихотворения и визуальные работы пятерых поэтов и поэток
Для Льва и для меня рисовать – это делать что-то совсем обыкновенное догадываясь, что происходит что-то для нас необходимое. Рисование это круговерть. Мы не можем рассмотреть таинство происходящего, потому что остановить его невозможно. Не уверен, что в нашем случае форма следует за идеей. Мы рисуем всегда и везде. Я, потому что продолжаю следовать однажды выбранной дороге, Лев, потому что настоящий художник. И будучи настоящим художником, Лёва справляется со многим, когда рисует. Преодолевает страх и делится радостью.
Интерпретации работ Льва в стихотворениях – это игра в догонялки на железном глобусе между словом и линией. Это когда можно сорваться, но очень весело.
И если упомянуть о «Бестиарии 5+», то следует сказать, что это проект, который был задуман, как собрание детских работ, которые должны греть взгляд холодным зимним вечером, но никак не будоражить умы.
– Андрей Петров
Викця Вдовина
 Лев Петров. Собака
Лев Петров. Собака
***
поджарый пёс кувырнёт ножкой чайник –
так рождается пыль, оседая на родинках
комета сиба-ину
пёс – свидетель влюблённости, шастает по батареям
он растрогает ещё молодую бабушку, а дедушка отметит в ежедневнике его дату рождения, особые приметы, линией внизу подведёт итог
ухо клониться к западу, прости нас, Старый Свет
в ракушке можно услышать шепоток Шиллера
бездумное геройство, чемодан в заплатах, еврейские корни
пёс тем временем расползается над равниной, над земными складками, останавливает движение самолетов – и ему за это ничего не будет
можно накрыться дублёнкой тяжелой
можно погрозить пальцем: ай-яй-яй, как некрасиво
в пустой квартире лопается синтепон
время полдника: золотая гнилушка земли
не наступить бы!
пса теперь оплетает стенной виноград
я распушаюсь, почему нет? только предупреди пса, чтобы не переворачивал подкову над дверью
мы бесконечно разбираем слово: оказывается оно значит «высасывать костный мозг»
и тут внезапно прибежала собака
Иван Фурманов
.jpg) Лев Петров. Стамбул: мечеть с минаретами
Лев Петров. Стамбул: мечеть с минаретами
***
памяти михаила еремина и technoblade
summapoetiki never dies
[этой весной я смотрел в глаза каждому страннику края,
и ни один из них не осмелился поднять на меня руку]
жоска зависнуть в её величестве святой софии
не новгородской и киевской и даже не полоцкой
да, ведь и правда, / бывают мечети живые, / и я догадался сейчас:
быть может, бессильная перед солнцем, она так спешила увидеть европу,
что перемещалась при помощи эндер-жемчужин, бросаемых в небо
её прихожанами; как мальчик, как в детстве
этим летом я подарил бумажный tulipe одона́те,
и она, почему-то, не смогла от него отказаться
Лиза Хереш
 Лев Петров. Поп-арт
Лев Петров. Поп-арт
ПОБЕГ
…Или слишком большая креветка,
разбежавшаяся на нерест,
или бронзовая медаль,
через лавр которой уже проступает сахар.
Верный изгиб бумаги, ярус
высокого лба. Ёлочное
заклинание. Мутные
слёзы свечей, или жонглёры
галками на черепице –
что из них первым увидит снег,
кто выпадет, как хрустящие одноразовые тарелки,
на голову? Оригами-ковчег
по паре крестиков или ноликов,
кегель и теннисных мячиков,
как шершавых планет,
направляется снежиновьем покатым
к розовому сиянию
смущённой Венеры в веснушках паприки
и вулканических бусах.
Анастасия Кудашева
 Лев Петров. Пейзаж с церковью
Лев Петров. Пейзаж с церковью
Õঢ়ℙУҸЕℍИЕ ℂÕ ℂᛔẾŢΘᛖ
§ следы которые не затоптать
§ заяц у которого никогда не полиняет шкура
§ шершавые камни ждущие расшифровки рисунков
похожих на световые иероглифы мира
₮резубец ঢ়елого –
отпечаток лапки на заснеженной карте,
шаги бесприютные в глубину
в варежках идущих – по камню,
на поверхности каждого мерцают и̴̧̤̋ё̷͎̹́̾р̸̧̏̋о̸̗̹̆г̶̠̆͒л̴̗̝͌и̵̻͓͂ф̶̃̊͟ы̸̭͉̒ ̴̦͂͊͟м̷̫̒ӥ̴͕̬́р̶̝͎̀͘а̶̨̌̓,
божественные следы
расшифрованный камень в моей руке говорит(-парит):
«разливается небесное молоко по скворешням-окнам
и струнное дерево звучит в руках ᛔсего
и взрослый ведёт за собою младенца
в пейзаж с церковью
чтобы каждый день обручаться со светом
с солнечной энергией снежинок
расширяющимися деревьями
и молоком льющимся с неба
в ямочки счастья
зовите друг друга
по безымянному имени
и эхо ответит как глас»
ᛔозвращение помнит о нас
и ₮резубец ঢ়елого предслышит шаги идущих по памяти
проваливающейся как снег под ногами
в тайную суть воскрешения канувших листьев
если услышите эхо –
знайте, что это листья ушедшего разговаривают с нами
голосами деревьев-завес
в варежках камни теряют вес
после расшифровки запечатанного
и исчезают вслед
за пением, возвращённым в ℂвет
)и волчок, и кабан, и ворона
знают об этом без слов
и поэтому ᛔольно живут(
в руках остаётся тишина
и где-то в воздухе
беззвучное эхо её
заставляет бесследность звучать

Михаил Бордуновский
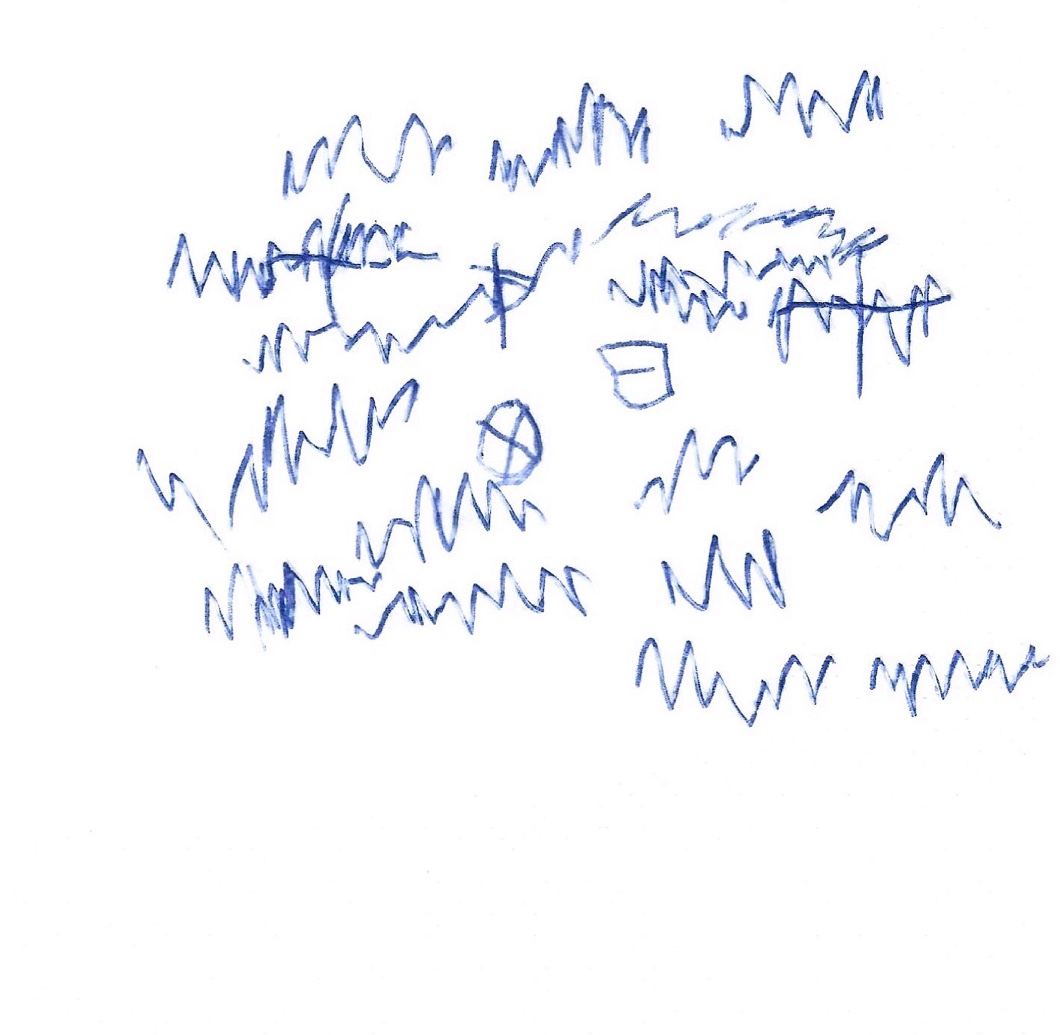 Лев Петров. Письмо
Лев Петров. Письмо
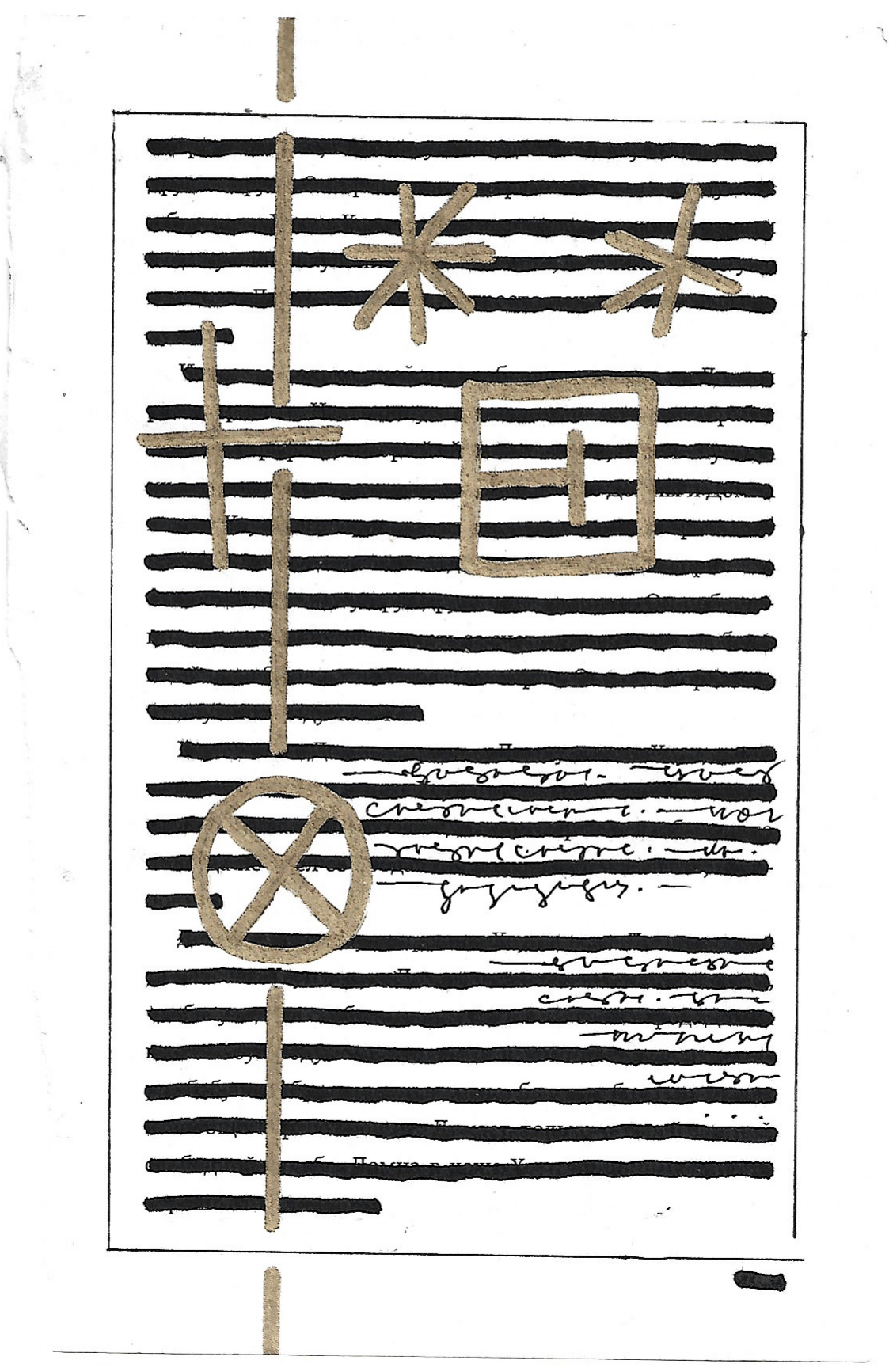 Михаил Бордуновский. Ответное письмо
Михаил Бордуновский. Ответное письмоНа орбите снова беспорядок
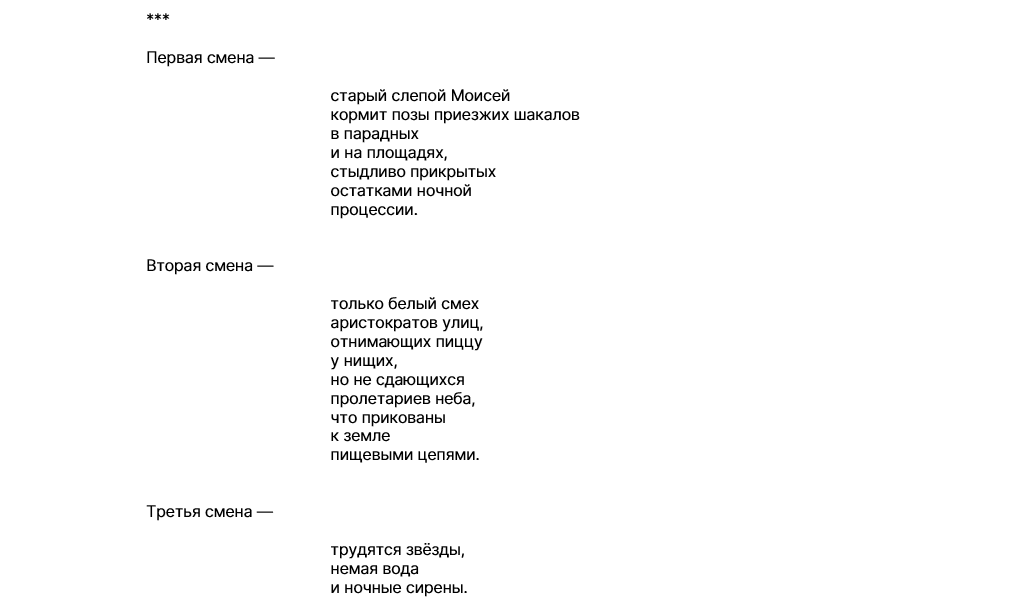
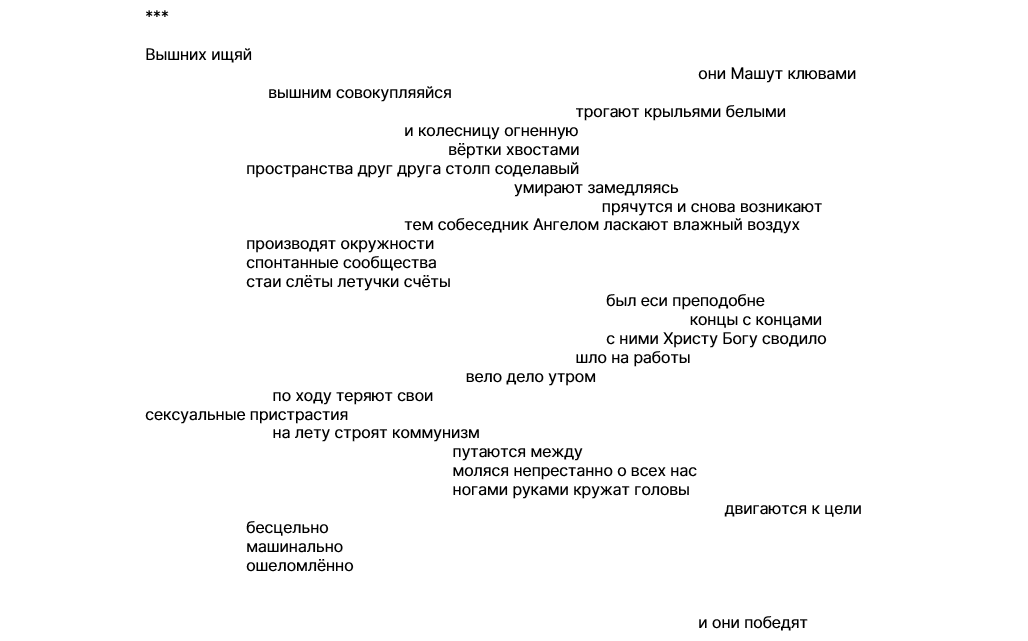
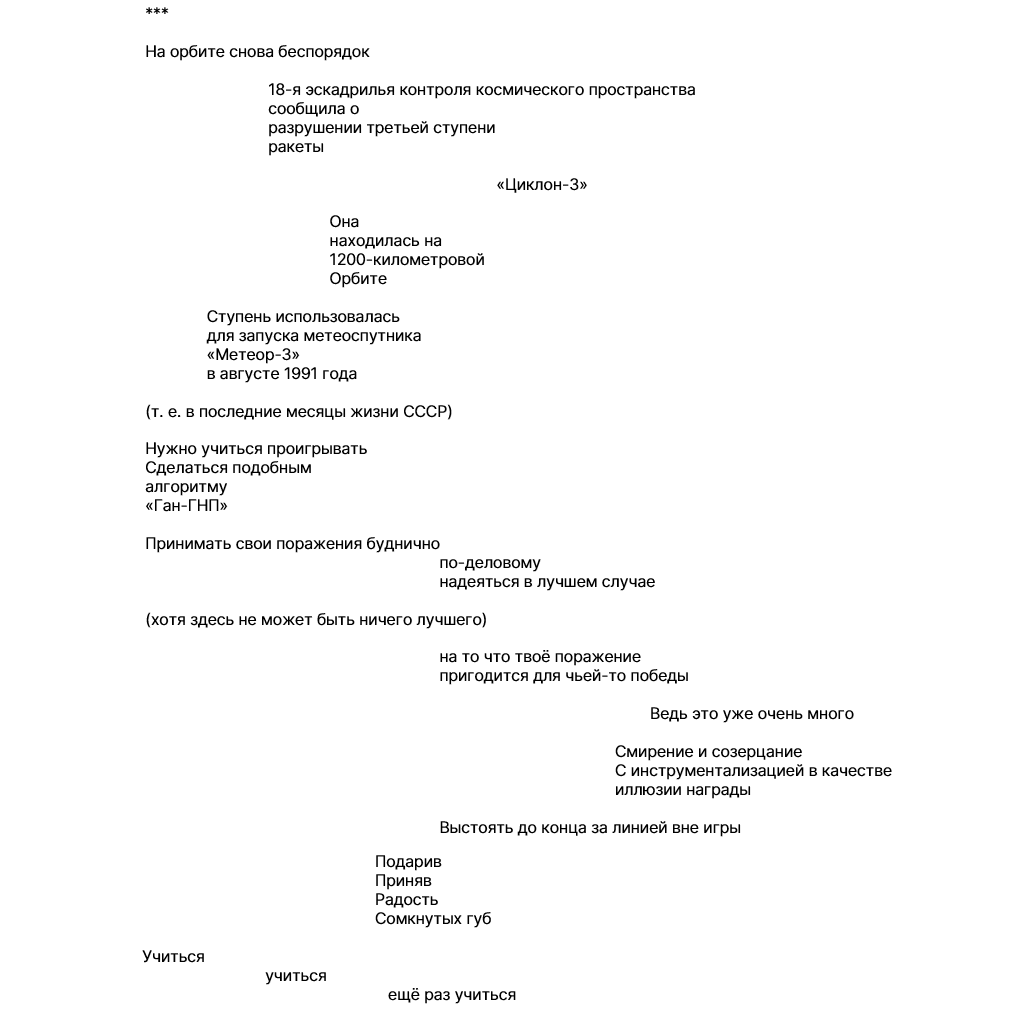
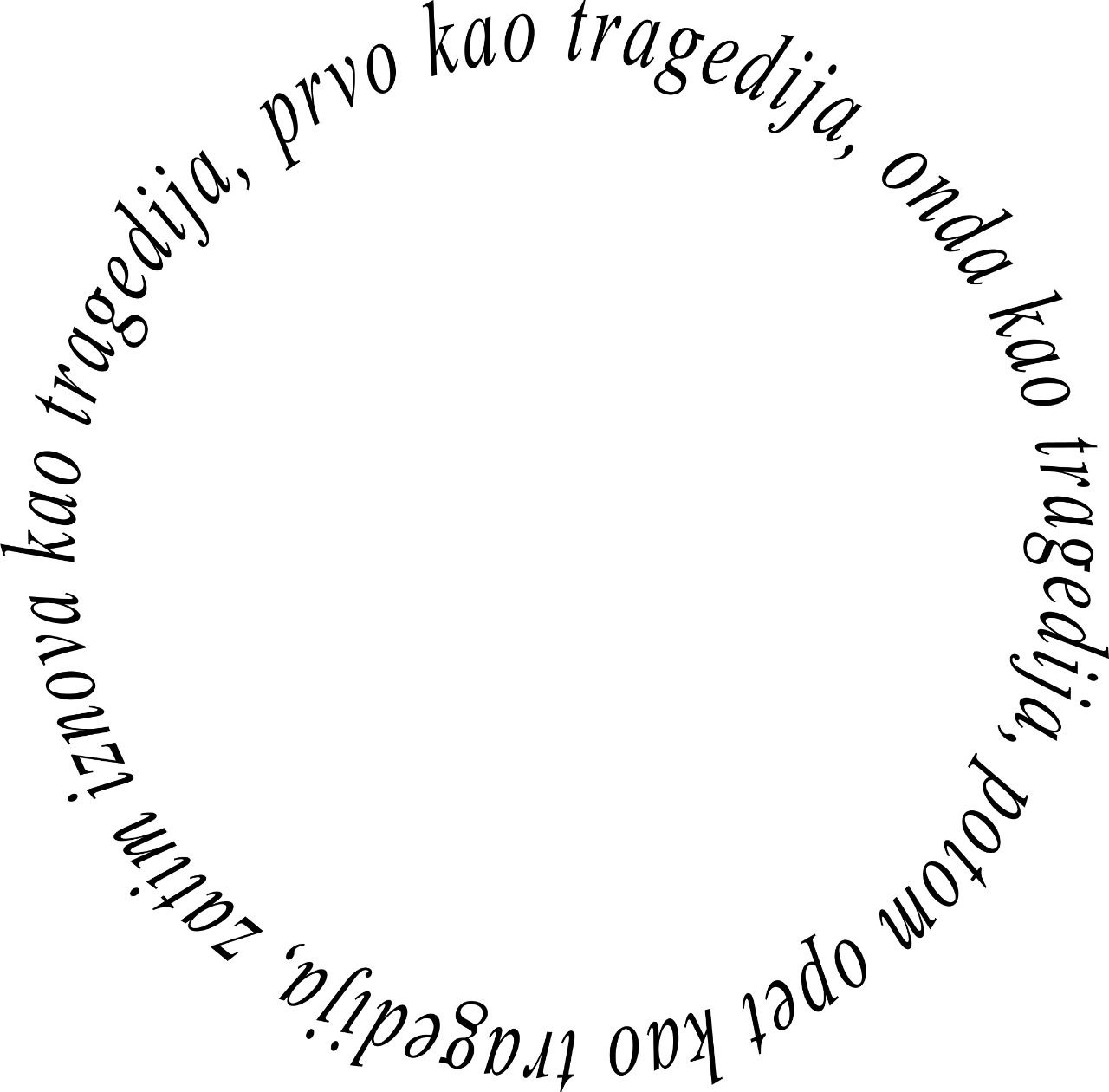

Нельзя убивать,
когда смотришь в лицо другого,
но после «увидеть лицо соседа»?
(Лука, 8,34)
Здесь М и Ы имеют тенденцию обращаться
в личность, излучину ОДКБ,
имеем и мы тенденцию изучать предмет раздельно
в глубине и вне его
руин, а болтаясь на окраинах Александрии линией, спрятанной в глобус «раной» (вновь).
Голос пропал.
Но и точка
«подобна тому, как воздух ночью дрожит
и колебание это слов
ложно воспринимаемое присутствие»
(Платон, «Горгий», 43 а 23 б).
М и Ы добиваемся только того, чтобы себя ощущать в качестве «это личное»,
познавать в объекте – только остаток
несводимый к воспринимаемому.
Показанный конкретный пример наиболее уместен для понимания вышесказанного.
Как это сказать?
1.
беззвёздная ночь внутри моей головы.
осознание,
что я прекращаю понимать язык.
кажется, если закрыть глаза,
можно начать общаться.
капли дождя за окном
вызывают короткие замыкания
(мурашки нежности внутри черепного склада).
как показать
обдуваемую ветром траву?
я не умею играть в крокодила
и не знаю, какой простынёй
застилается океан
для тихого часа
земного слова.
истина –
климат водорослей,
из которого следует выбраться,
как будто из столицы
переехать в маленький город.
в не-климате возможно общение,
ничего множится в языке,
раскрашивая апатией
детский сад.
ирония в том
что я не могу описать своё детство,
вместе с забыванием слов
откалываются частицы воспоминаний,
и можно жить только будущим.
будущее знает меня
лучше меня,
смотрит глазами
колы черноголовки.
2.
«перейди на следующий уровень языка»

3.
у меня в распоряжении
несколько простых звуков: (а) (у) (п)
(пау) – «я хочу пить»,
(а) – «я хочу есть»,
(ау) – «сегодня мне больно как никогда».
между ними структуры молчания:
молчание запаха прованских трав – «встреть меня по ту сторону запоминания твоего имени».
молчание пасмурного неба – «как мне узнать, что я потерял важное воспоминание?»
молчание, равное трещине в дереве – «сегодня я антенна непрерывного настоящего».
между звуками и молчаниями семантика прикосновения:
дотронуться до ствола на асфальте (я гуляю по воображаемому саду, где тени деревьев – часовые стрелки всех поясов) – просьба проговорить, сколько осталось времени до полудня. Хотя я могу догадаться и так – по степени уменьшения своего тела.
дальше картография тоннелей в словах других:
привет –
ревущая ветка, отлучённая от солнечной груди.
ветер стремится отвлечь её
побрякушками дождя или одеванием в иней.
тишина на мгновение, но после
ветка продолжает рыдать
уже воплощёнными в капли слезами.
<словарь постепенно пополняется>
4.
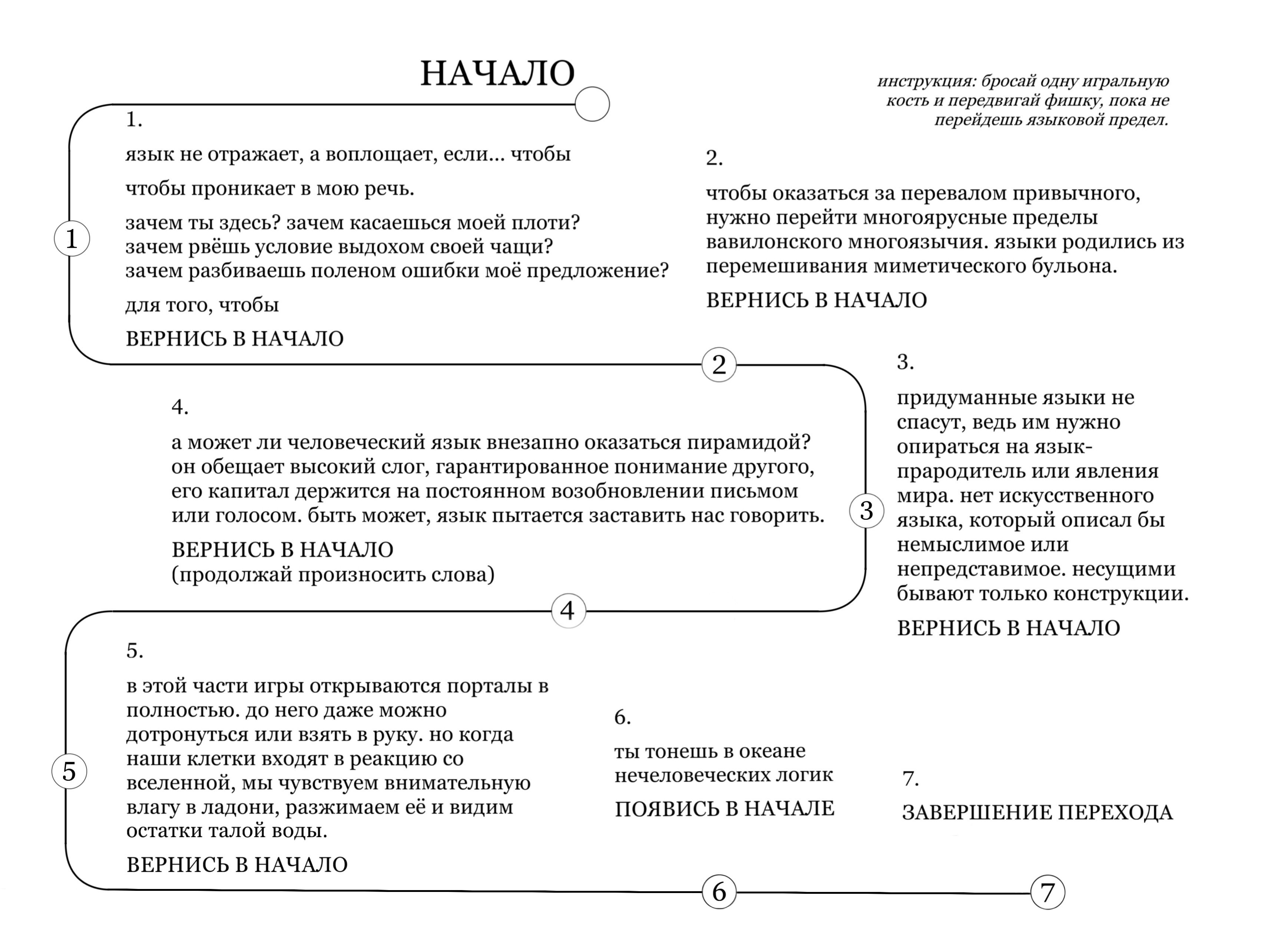
5.
не принимай лекарство
на пустую речь
сначала нужно
насытиться что ты есть
вдохни хоть слово
пустой земле
кротовьих горок
тимьяновая вода
(инклюзивные крики сорок
варка креветок рассвета –
всё, что я перевспомнил)
счастливая таблетка
падает на ребро
является Ева названий
не давшая ни одного
(раз в условии цикла утрата названий
в моих силах выбрать
что забыть в первую очередь:
слово «любовь» станет круглосуточной встречей
«январь» – зияющей полостью ежедневника
«закат» – кроной-отцве)
Ева-антисловарь
<принимать в память>
6.

7. (свеча)
КАК ЭТО СКАЗАТЬ?
КАК ЭТО СКАЗАТЬ?
КАК ЭТО СКАЗАТЬ
КАК
К
I
.
Маленький предзимний цикл
МАЛЕНЬКИЙ ПРЕДЗИМНИЙ ЦИКЛ
читается шёпотом
I.
что называется это важнее всего
рыбников учит нас небо оно
молоко
тишина
тишина
а что здесь произошло?
я не зна
я не знаю
о
II.
ежегодный слёт половинчатокрылых моих ребят
чем становится старше мир тем больше походит
на воробья
и всë-таки что происходит?
да не знаю
не
знаю я
III.
зима позволяет себе наставать настаивается сезон
новейшей любви разорённого быта бардак со всех
четырёх
сторон
как снова соединиться что происходит и почему оно
так?
я не знаю
не знаю
но кто-то из нас двоих тут большой дурак
IV.
как печально лес машет мне лапой роняет влажные слëзы целое озеро вон наплакал стоит безволосый мы потеряли ноги рыхлость земли не чувствуем запах сотри эту зиму не будет другой я чувствую что не будет у каждого лиса особенный путь и твой особенно труден дай бог хоть кто-нибудь в этом году успеет разбудит
V.
какое-то всё фиолетовое вокруг
видишь пепел летит
и
сажа осваивается в посуде
может быть ты подскажешь что тут произошло мой друг
не спрашивай не
буди не думай мало
ли мало ли мало ли мало ли что ещё
будет
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Сны в пустоте
***
пусти меня, отдай меня,
<...>
ты наслаждаешься величием равнин
– М.
пространств разрозненных одновременный гость
раствόренный как соль в бескрайнем окоеме
твоя тут из травы торчит гнилая кость
трофейной почвы волчья мреет пасть
молчит кусок бедра и череп в черноземе
ты гамлетом гниешь и гумусом глядишь
и призраком в земле бесплодной зреешь
пернатым шариком вдоль купола летишь
кузнечиком поешь просторами соришь
и черствые поля прозрачным гноем греешь
ты черен и землей измазан изнутри
в тебе запнулась слез муравная работа
ты связки размотал, как узел разрубил,
и умер – как умел – но черт с ним: посмотри -
тут от тебя в земле осталось что-то.
*
Речка, распухшая от слез соленых
– М.
простреленная дырявые листья
облачная ткань разорванные навылет
выстрел-колодец чистая могила
раны насквозь просвечивающие листья
как выглядит земля с тыла
ископаемая
изрешеченный атмосферой ливень
где скрыт прозрачный гроб где лисья
хитрость зарыта
спрятан шкаф сияет бивень
когда на тросе повешенный знак вопроса
из норы притягивает ключицу
глубокий ноль. обморок. будущую осень
из промежутка выпадает остров
костей
крыла распахнутую полость
из роговицы замирает птица
*
Она похожа на семена…
– В. Б.
М.
боль сохранившая весеннюю всхожесть
закатный пластилин песочный ночи свежесть
мел измельченный выжженное небо
с рисунков пляжных содранная схожесть
горизонт пепел сгоревшей кожи
кислотный серный дым кровь костровища
леса во тьме (огне) детские звериные вещи
спящее в земле предощущение дрожи
сны в пустоте теряющее очертанье
различия на песке сливающиеся волны
в то чно звезда зажигается чиркает спичка
ш
шепот кричит
красная
вечность
ночная детская комната
***
бельмами слов больные пробелы
раскрытого как шов
слепок за тень цепляющихся зубов
повисшего над возможностью
тела
***
Н.
весь день до вечера копали землю вокруг засохшего абрикоса с живыми
красными корнями
преклоняли колени вокруг обезглавленного пня
деревянного торса найденного в земле
неведомому атлету-рабу без конечностей
истории артефакта
лучащегося изнутри эллипса спиленной шеи
выбрасывали землю из промежутков между корней
как чистили ноги
найденному при раскопках опрокинутому атланту
среза́ли волосы-пальцы беспомощной бензопилой
.
разбирали сочащееся хаосом звездных сфер пианино
детский ущерб был разобран
зубы молочных тонов до чернеющих дыр полутона
клапаны сердца гудящие в темпе тревоги
натяженные струны шагов
молоточки височного шума
хорошо препарированная машина памяти
доски воспоминаний
лоснящиеся лысиной
застывшего зеркала загробной злобы
***
нащурить точку на теле обволакивающего пейзажа
в промежуток между отрезков погрузить голову
всунуть руку в каркас в березу войти как заживо
сбросив кожу стекло чувствует себя голым
облекая в тесных
волокон обступающие разрывы
две параллельных волны в соляной связываются кокон
где за отверстиями вековыми призрачных окон
застывая скользят
смазанные контуры полупрозрачной лавы
ртутные реки стекают с поверхности мутного склона
движение схлопывается сворачивается в точку
на голой коряге бесплодного дерева неподвижно сидит ворона
чистый источник пространства в агонии скорченного водоворота
***
капли дождя рассеченные линией света
дождь прорастающий в свет плачущий свет
ледяная ртутное лезвие тонкая плоскость
светотени потекшей
первозданными каплями в
из распахнутой точки на плоскости
ночь
двусторонним порезом плоти пустот
щелью линией века отверстьем для глаза
проступая зияя
затворенным разомкнутым
сшитым продетым
протяни взгляд
нитью
в ушко
дотронься
прозрачного
шва
всех
уже-
рассеченных
зрачков
***
Н.
чаек цве́та Вознесения Господня
блики света на зеленой могильной траве
узкие окна каменных стенах крон
шелестящие надписи надгробных плит
(светлый все-длящийся теплый сон
далеко колыбельная часов звенит)
колокольный отзвук рассеян в земле
тихая память по ветру плывет
воздух раскрытый храм и плод
(светлый все-длящийся теплый сон
далеко колыбельная часов звенит)
(светлый все-длящийся теплый сон
далеко колыбельная часов звенит)
колокольный отзвук рассеян в земле
чаек мерцающих до-рождения хоровод
В МЕТРО
только треснувшие гранитные плиты на полу
не знающие экранов и баннеров
завернуть в них глаза словно в твердую скорлупу
(волны крапинки переливы точки отметины
нервные узлы млечные пути молнии брызнувшие краски
застывшая молекулярная рябь
рас-творенных и за-творенных
линий )
как на фанере
не смотреть на собственное отражение в темном матовом стекле вагона
завернуться в теплую (холодную)
круглую (квадратную) незрячесть
мертвой природы
трущихся о закрытые веки
все никак не знающих покоя
шатающихся на нервах
бьющихся о стенки
тихо подрагивающих внутри
глазных яблок
Зарисовки
***
прозрачная оболочка ванной
согревает меня по утрам
как варежка
обволакивает моё
конусообразное тело
когда черепаха
поднимает голову над водой
замерзает
водный покров зимы
и черепаха
впадает в спячку
я построю панцирь
из черепах
чтобы он ожил
летом
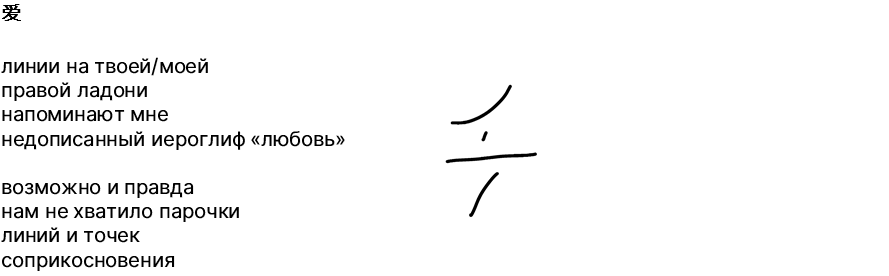
***
если я скажу лягушка по-русски
вы скорее всего представите зеленую
если я скажу по-китайски
то это будет 青蛙
青 переводится как
сине-зелёный
но китаец поймёт
что это зелёная лягушка
если я по-русски скажу синее небо
[чаще всего мы говорим голубое]
китайцы скажут 蓝天
что будет означать синее
и мы снова потеряем друг друга
в этих цветах
на картинах которые я давно не рисую цветов к сожалению нет
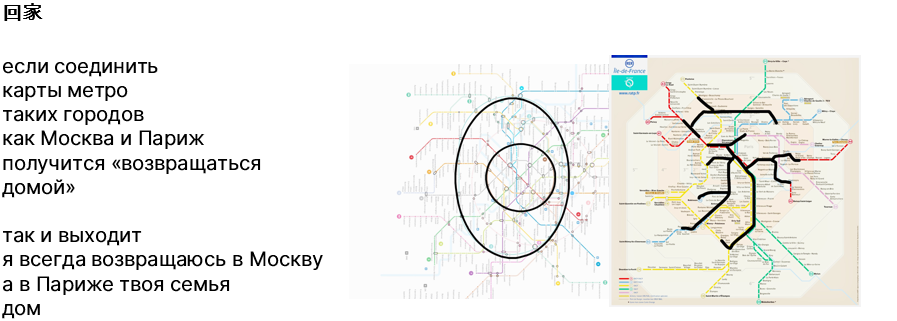
***
спящая на кровати фигура
выглядит как холмы
тонкие руки и ноги –
как узловатые линии
бамбуковых зарослей
на лице нет никакого
намека на выражение
только брови рисуют
непонятные запятые
деля целое лица
на десятичные дроби
так и луна
делит и умножает себя
освещая пейзажи
Гид по китайской визуальной поэзии
Основной причиной, сподвигшей меня на подготовку этой заметки, является все еще сохраняющийся недостаток общих контекстов (со)существования современной китайской поэзии и русскоязычного литературоведения. «Гид» для меня жанр новый, и проблема подачи встала как никогда остро: общие сведения о Поднебесной будут резать глаза китаистам, а полуграмотные разборы кейсов – филологам. Впрочем, явка с повинной – непременный атрибут дипломатического обмена между средами в компаративистике. К тому же, рефлексируя над отбором материала, я и сам был вынужден как бы заново открыть для себя масштаб древнейшей восточной цивилизации. Мемы учат: нельзя просто так взять и рассказать о каком-либо сюжете в китайской поэзии. Китай сегодня это не только колоссальный экономический потенциал и человеческий ресурс, но и приснопамятные пять тысяч лет истории (из которых примерно три тысячи – литературы, если считать от «Книги песен»), и многообразие языковых культур (помимо доминирующей ханьской, еще пятьдесят пять официально признанных малых народностей, часть – со своей письменной традицией), и необъятная география (диаспора в разбеге от Сингапура до Новой Зеландии), и мало ли что еще. Мой же скромный интерес преимущественно связан с микроскопическим по меркам этого спектра фрагментом: материковой поэзией на стандартизированном языке («путунхуа» или «общая речь»), начиная с образования КНР (1949 г.). Выборка текстов, справочная литература, предпочтение типового бумажного носителя крафтовому и цифровому – все это следствие сравнительно узкой академической рамки. И все-таки, даже обложив насиженное исследовательское кресло подушками, хочется попробовать посмотреть на задачу более комплексно.
*
Начать, полагаю, можно издалека – с грамматологии. В глазах неносителя иероглифика, как правило, активирует прежде всего сугубо созерцательный канал восприятия, и именно потому легко служит эстетическим медиумом. Действительно, преемственность знаковой системы Поднебесной можно проследить вплоть до «цзягувэнь» (甲骨文) – гадательных надписей на костях и черепашьих панцирях, приблизительно датируемых XVI-XI вв. до н.э.

С тех пор иероглифы преодолели не один раунд стандартизации, растеряли значительную часть сакрального потенциала, но так и не сдались на милость «буквенной абстракции». Вероятно, именно поэтому мотивы синкретизма и холизма столь характерны при описании дальневосточного «другого». Образ универсально одаренного китайского чиновника, способного и к стихосложению, и к каллиграфии, и к живописи (все на одном свитке), не говоря о собственно государственных делах, уже стал достоянием массовой культуры. Лично мне из «древних» хотелось бы здесь назвать Ми Фу (米芾;1051-1107). Мягкость его стиля обезоруживает и завораживает.
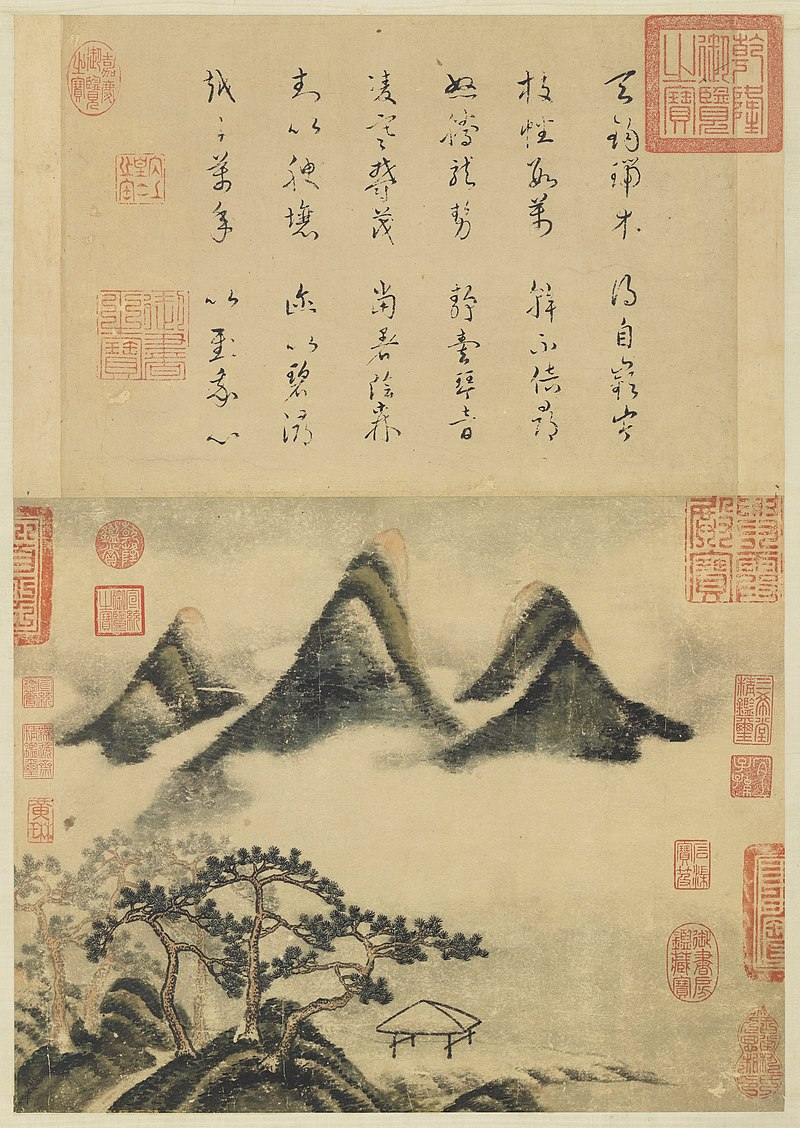
Полагаю, что соседство в пределах холста стихотворения и пейзажной зарисовки легко вписывается в «западный канон» визуальной/интермедиальной (мультимодальной) поэзии. Да и исполненная тушью каллиграфия не так далека от понятия «фигурного письма». В наш век подобными техниками соблазняются и отечественные ценители искусства – например, Альберт Крисской (больше известный под ником Папа Хуху) уже несколько лет практикует авторский метод «шуфаграфики» (от кит. 书法 – shūfǎ, каллиграфия), в полушутливо увязывающий кириллицу с иероглифами [1].
Пиктограммы и простейшие абстрактные понятия прямо коррелируют с «обрамляющей» функцией визуального в поэзии, но смысловой пласт полнее раскрывается через операции с более сложными составными знаками. Окном здесь может послужить практика «размыкания иероглифов» (破字 / 拆字) с целью суеверного извлечения «глубинных» смыслов, распространенной еще на заре нашей эры. Впоследствии подобные игры в слова стали чрезвычайно частотным приемом изящной словесности. В поэзии, к примеру, зачин «Печали по расставанию (на мотив Тандолин)» (《唐多令·惜别》) У Вэньина (吴文英; ок. 1200-1260) на русский можно перевести как: «От чего происходит тоска / это осень ложится на душу». В оригинале иероглиф «тоска» (愁) без труда раскладывается на «осень» (秋) и «душу / сердце» (心). В современной таксономии, такие практики могут быть обобщены с помощью понятия «拆字诗», где 诗 («ши») – и есть главный иероглиф, отвечающий за все «поэтическое». Он вынесен в заглавие «Книги песен» («Ши-цзин»; 诗经), с ним связан расцвет главных для китайской традиции танских стихов (唐诗), и он же имеет наиболее широкое хождение в современном языке, в том числе и как элемент словообразования. Не лишним будет напомнить, что и сам этот символ складывается из левой части «речь» (讠, в полной форме – 言) и «храм» (寺). Хотя этимология – это всегда отчасти конспирология.
Наконец, от микро-уровня можно подняться на ярус целого текста. Обзорный анализ Ли Ли демонстрирует, что практика сознательной упаковки поэтического высказывания в определенные формы встречается в Поднебесной уже с IV в. н. э. Из нескольких предложенных автором терминов наиболее адекватным мне кажется «стихи-изображения» (图像诗), а в плане конкретики частотные орнаменты представляли из себя «круги» (回文诗), «пагоды/пирамиды» (宝塔诗) или «черепах» (龟形诗) [2]. Вот, допустим, работа Пу Жу (溥儒; также – Пу Синьюй; 1896-1963)позаимствованная с просторов интернета. На мой вкус, ее вполне можно воспринимать и просто как круги, расходящиеся по воде пергамента от брошенной в центр строфы – от эстетики тут не убудет.

Впрочем, проживая в сегодняшнем мире пост-формализма, серьезного мыслительного прорыва тут ждать не приходится: то были всего лишь досужие развлечения образованного сословия. На это указывает и их собирательное название (как бы более высокий уровень классификации) – «забавные стихи» или «стихи для забавы» (趣诗). В библиотеке мне попалось несколько таких словарей, изданных еще в девяностые [3]. В них уже можно найти примеры шарад на любой вкус, но сильнее всего меня впечатлили загадки, в которых нужно достроить фразу, основываясь на причудливом начертании знаков. Грубо говоря, если иероглиф «луна» написан расплывчато, то и читать это следует как «расплывчатая луна». Расшифровка некоторых из них потребовала бы отдельной заметки и лучшего владения древним материалом, так что я ограничусь лишь иллюстрациями из книг.
*
Итак, даже весьма поверхностное ознакомление с историей – буквально взгляд в игольное ушко – показывает, что поэтические практики в Китае издревле были «исполнены визуальности». Налицо разнообразие носителей (медиа), соположение семиотических кодов, операций внутри самого знака и целого текста. Как и для многих стран, XX век стал для Китая новой точкой отсчета и временем небывалой глобализации. В актуальном исследовательском нарративе привязка возникновения «новой поэзии» (新诗) к стихотворению Ху Ши(胡适,1891-1962)от 1916 года и последующему сборнику «Эксперименты» (《尝试集》; 1920) уже выглядит общим местом [4]. Не менее общим, чем комментарии о дисбалансе между заголовком сборника и его содержанием. Принципиальным новаторством был скорее переход на «байхуа» (или попросту «разговорный язык») в противовес преимущественно литературному «вэньяню». «Дух» же лирики основателя был вполне традиционен.
В нынешнюю же заметку больше просится кейс Го Можо (郭沫若; 1892-1978). В 1914 году он, в отличие от обучавшегося в Корнелле Ху Ши, отправился получать образование в Японию, где пересекался с кругами местных авангардистов. «Манифест футуризма» Маринетти получил там хождение уже через несколько месяцев после публикации, а осенью 1920 года туда на непродолжительный срок прибыл и Давид Бурлюк [5]. Го Можо видел в том числе и его картины [6], и тем интересней читать его тексты той поры – например, стихотворение «Тэнгу» из сборника «Богини» (《女神》), который увидел свет лишь на год позже «Экспериментов»:
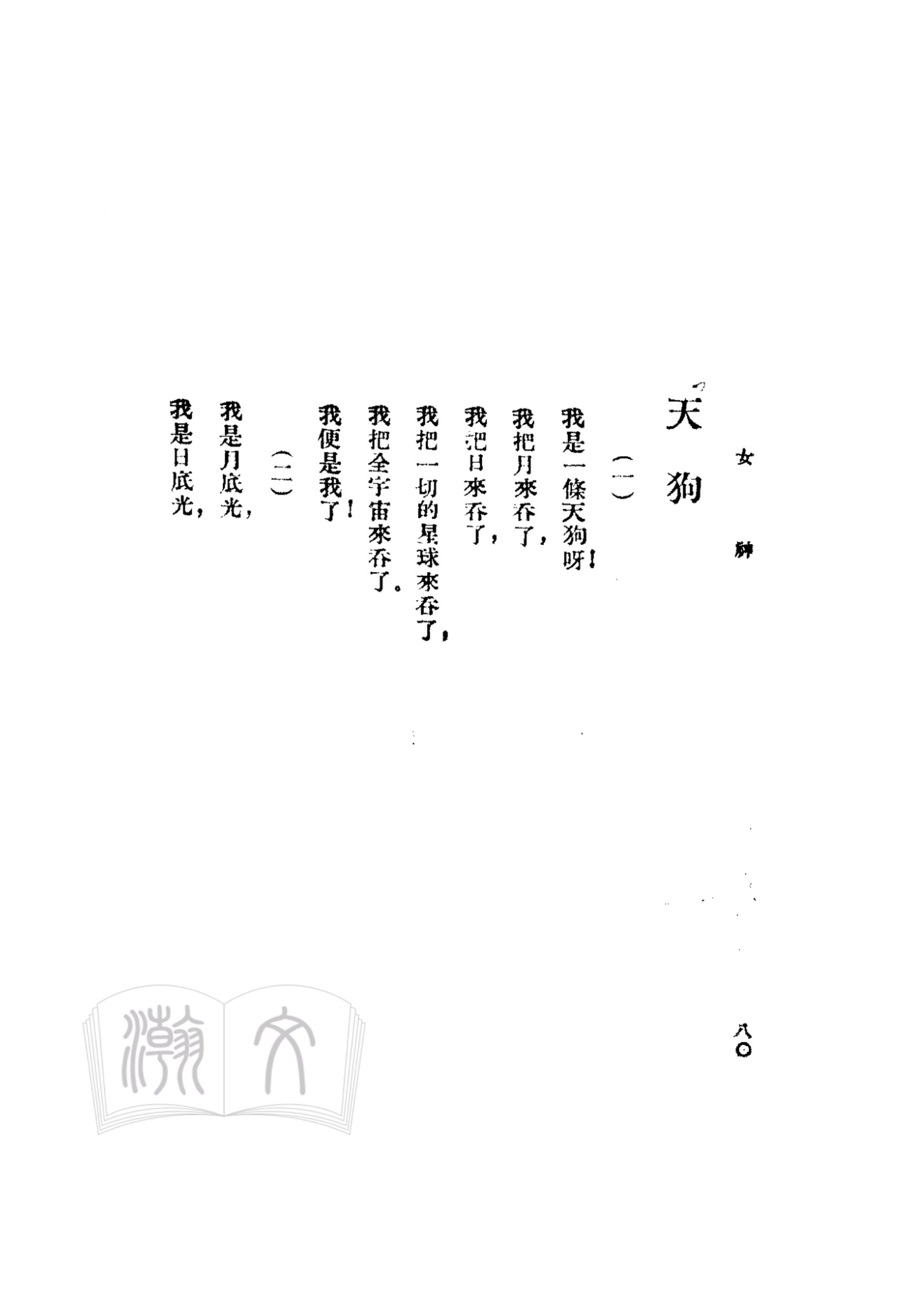
《天狗》
(一)
我是一条天狗呀!
我把月来吞了,
我把日来吞了,
我把一切的星球来吞了,
我把全宇宙来吞了。
我便是我了!
ТЭНГУ
(1)
я – тэнгу!
я проглотил луну,
я проглотил солнце,
я проглотил звезды,
я проглотил всю вселенную.
я – это я!
Примечателен здесь не только центральный образ, объединивший в себе японскую и китайскую мифологии, но и тема голода, рифмующаяся с бурлюковским переосмыслением Рембо [7]. Употребление вполне характерных для эпохи, но все еще визуально непривычных для поэтической традиции англицизмов лишь подчеркивало общий пафос жажды новизны: 我是X光线底光, / 我是全宇宙底Energy底总量 («я – свет рентгена / я – сумма энергии вселенной»). X光 – такое написание слова «рентген» сохраняется в китайском языке до сих пор. В целях экономии, в последующем изложении я также буду полагаться на аналогичные точечные кейсы.
Смена доминант в литературном процессе пусть и не отменила полностью, но существенно снизила стоимость акций «традиционной поэзии», в то время как проза наоборот из маргиналий выбралась на авансцену. Оборотной же стороной упрочнения позиций художественного слова стала его политизация. Модель большевистской России рассматривалась интеллектуалами как один из перспективных вариантов для построения собственной общественной системы, и в 1920 году в Москву с корреспондентскими целями прибыл видный пропагандист марксизма Цюй Цюбо (瞿秋白; 1899-1935). Уже в феврале 1921 года он берет интервью у Маяковского и получает от него в подарок экземпляр поэмы «Человек» [8]. В зависимости от курса, влияние «Маяка» могло быть различным, но явно бо́льшим, чем у предпочетшего строить итальянский фашизм Маринетти.
Так, в тридцатые годы следы футуризма можно найти в ранних опытах «забытого поэта» Оу Вайоу (鸥外鸥; в разнописях также 欧;псевдоним Ли Цзунда 李宗大; 1911-1995). К нему же, в частности, задним числом возводят и конкретную поэзию (具体诗), и эксперименты с типографикой в Китае [9]. Вот, к примеру, фрагмент из начала его стихотворения «Сингапурская стена в военной гавани – (гонконгский фотоальбом)».
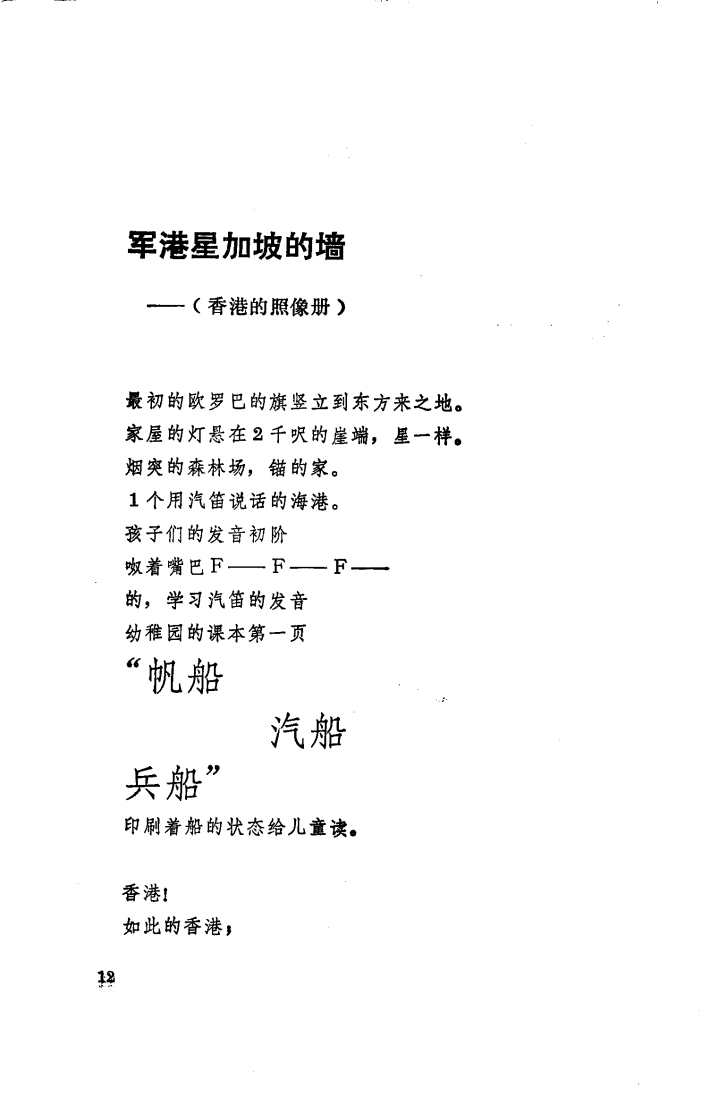
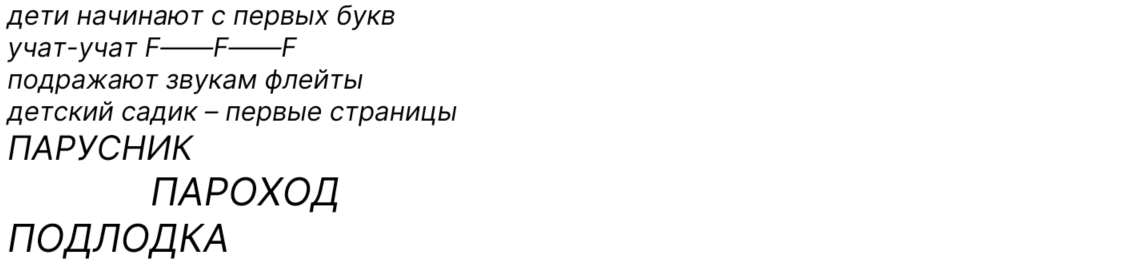
Несложно заметить, что и экспериментальное поле не было свободно от социального посыла. В трех словах – «帆船、汽船、兵船» – поэт показывает, как короток путь от «парусника» до «подлодки» (в оригинале – «военное судно», где 船 выступает своеобразным суффиксом класса «кораблей») даже в «азбучной» лексике.
После образования КНР в официальной материковой печати память о «Маяке» связывается с именами Го Сяочуаня (郭小川; 1919-1976) и Хэ Цзинчжи (贺敬之; 1924). Оба поэта прибегали к достопамятной «лесенке». Проиллюстрировать это можно ситуативным переводом вступления поэмы Хэ Цзинчжи «Пою во весь голос» (放声歌唱):
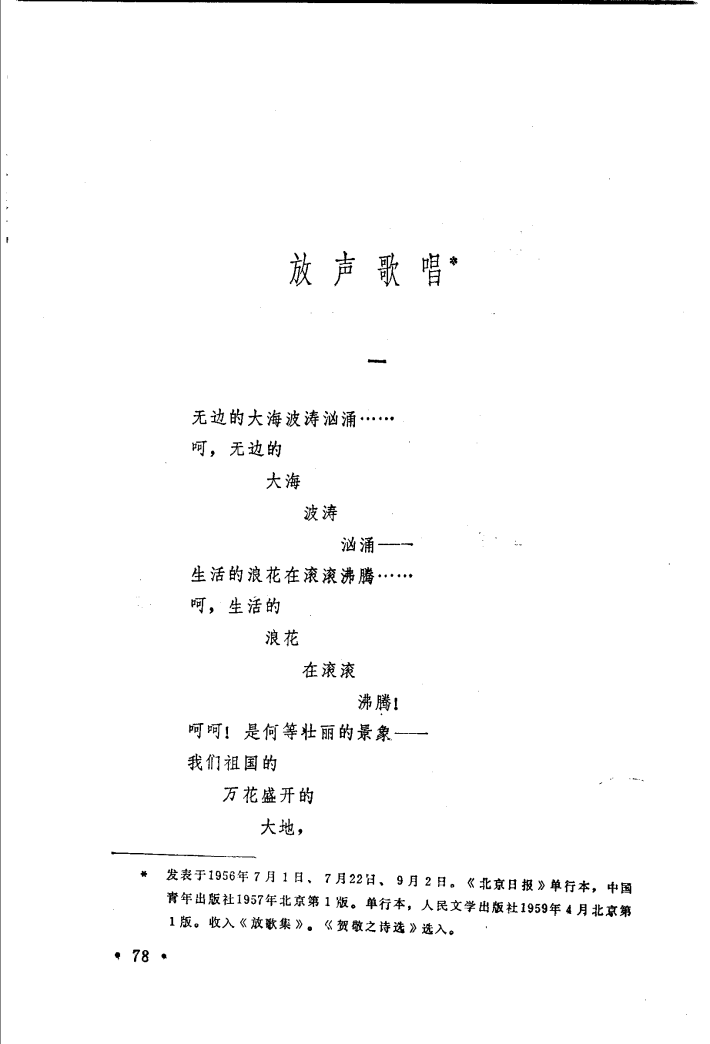
море – без счета волн рубцы…
так море –
без счета
волн
рубцы –
болью прибой в жизнь бьет…
Впервые текст с заголовком-отсылкой был опубликован 1 июля 1956 года – в сущности, прямо вровень с памятной кампанией «ста цветов» [10]. Подробный разбор многочисленных движений и «чисток» никогда не был предметом моего интереса – достаточно будет сказать, что политические и социальные пертурбации затруднили, помимо прочего, и сбор источников для дальнейшего выстраивания эволюции писательских практик. Очевидно также и то, что первоочередными героями поэтической сцены после «культурной революции» стали именно авторы рожденные в конце 40-х – начале 50-х годов. Правда, в контексте визуальных экспериментов, предметом системного внимания исследователей становились, как правило, либо художники-эмигранты, либо тайваньские поэты. Всем им посвящена обширная литература, в том числе и на русском языке, поэтому здесь я лишь обозначу контуры их персонального творчества [11].
Так, арт-проекты Сюй Бина (徐冰; 1955) лишний раз проблематизируют границы словесного искусства [12]. Его «Книга Небес» (天书) предлагает опыт чтения несуществующих, хоть и тщательно выверенных, иероглифов. Как известно, даже предельная заумь при встрече с рецептивным сознанием не способна достичь полюсов бес- или всесмыслия. Более поздняя работа автора «Книга Земли» (地书) напротив является попыткой сконструировать универсальный иконографический язык, понятный любому желающему [13].
И все-таки при всем желании, перформативные прозрения Сюй Биня сложно интерпретировать как преимущественно поэтические. Случаи Чэнь Ли (陈黎;псевдоним Чэнь Инвэня / 陈膺文;1954) и Ся Юй (夏宇;псевдоним Хуан Цинци / 黄庆绮;1956) тут будут более представительными [14]. Если исходить из посылки значительного авторитета в области тайваньской поэзии Мишель Е – пребывание на острове одновременно работает и на изоляцию, и на открытость принимающей культуры [15]. Об этом же говорил и сам Чэнь Ли, связывавший генезис своего творчества с языковым разнообразием среды [16]. Склонность к внешнему упорядочиванию написанного у него возникла под влиянием японских хокку еще в семидесятых. Уже в XXI веке он отдаст должное этому всемирно известному жанру, скрестив его с упоминавшимися выше танскими шедеврами посредством техники «полу-выбеливания». Таким специфическим образом поэт предлагает свой способ раскрыть «скрытое послание», зашифрованное в строках:
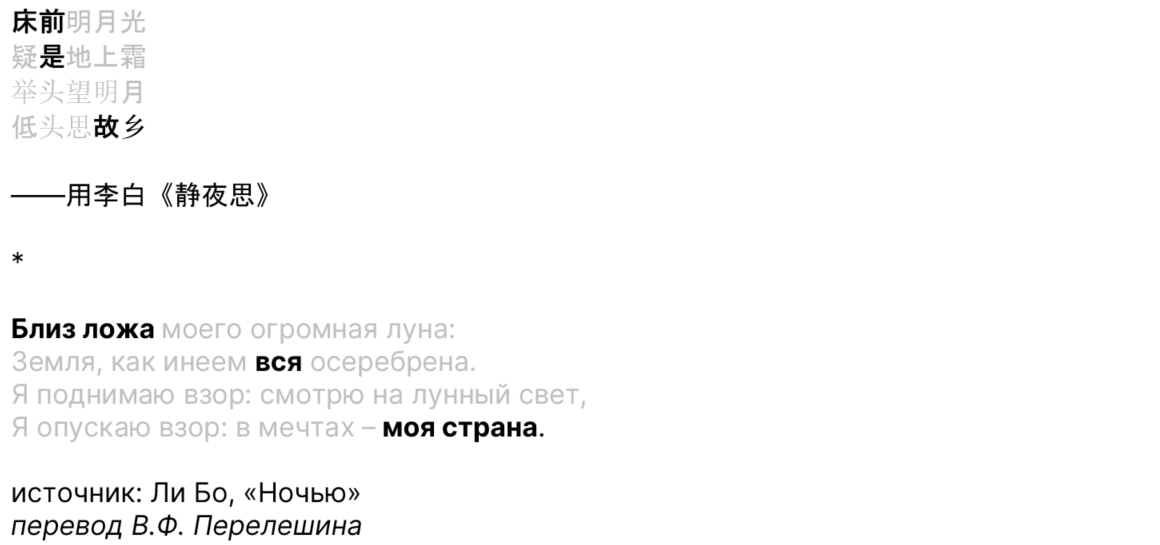
Лично меня здесь привлекает возможность заимствования чужого перевода. Сложно выбрать более классический текст в качестве исходного материала: на одном только сайте «Все стихи» собрано девять различных его переводов [17]. И все же только вариант Перелешина за счет подходящего падежного согласования выдерживает испытание, предложенное современным поэтом. Получившийся посыл можно сформулировать и еще проще: «Кровать – это [и есть] родина». В остальном же персональный сайт Чэнь Ли предоставляет раздолье самых различных визуальных форм и практически неисчерпаемый ресурс для последующих изысканий [18].
Ся Юй не менее трепетно подходит к акту творчества. Начиная с самого первого сборника, каждый текст и каждая книга для нее – часть долгого диалога. С собой, с предшественниками, с читателем. В пандан к стихотворению Чэнь Ли, мне хочется упомянуть здесь ее текст «Образы-потеряшки» (《失踪的象》), также иронично (и миловидно) развивающем вопросы преемственности внутри традиции.
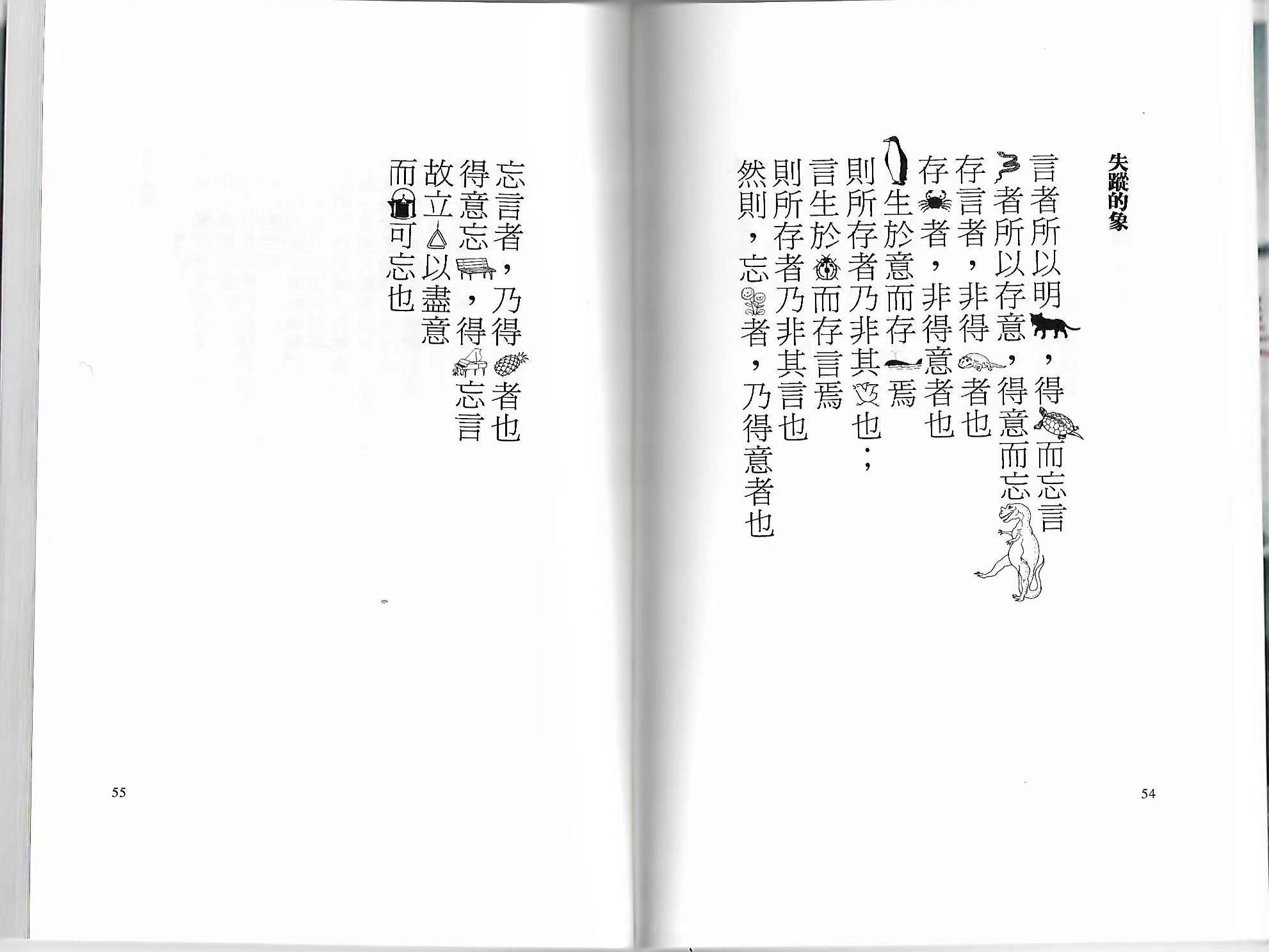
говорящий постигает [кошечек], ибо поняв [черепашек] можно забыть
о словах
[змейка] – хранилище смыслов, обретя смысл можно забыть о [динозавриках]
цепляющийся за слова не доберется до [крокодильчиков]
тяготеющий только к [крабикам] не достигнет смысла
[пингвинчик] проистекает от смысла и гнездится в [ките]
потому его обличие не равно самой [курочке]
речь берет исток в [божье коровке] и с ней пребывает
потому ее облик не равен самим словам
и напротив: только позабывший о [цветочке] и постигает смысл
лишь оставивший речи и может стяжать [ананасик]
обрести смысл – забыть о [скамейке], обрести [рояль] – забыть о словах
истинно, восставить [треугольничек] и означает излагать смысл
[кастрюльку] же можно оставить
За исключением изъятия пары сентенций, это произведение воспроизводит фрагмент комментария Ван Би (王弼;227-249) к «Книге перемен» ( 周易略例·明象). Однако повторяющийся иероглиф «образ» (象) здесь заменен целым перечнем чудных зверушек и вещичек. Чтобы осуществить обратную подстановку в переводном тексте требуется столь же умозрительно вообразить, что русский также как и китайский не зависит от категорий падежа и числа. И можно только догадываться, какой была реакция публики на момент публикации сборника «Чревовещание» (《腹语术》; 1991), куда был включен этот текст.
Для каждого автора из перечисленной триады «визуальное» является краеугольным компонентом творческой стратегии. Однако в свете рефлексии, изложенной в начале заметки, мне кажется важным распространить расширенное понимание вопроса на современный этап и поискать приметы графических сдвигов более придирчиво. Не будет преувеличением назвать «туманную поэзию» стержнеобразующим движением поэтического нарратива для КНР восьмидесятых годов. Его значимость чаще всего связывается с обновлением ценностных установок (утверждение модернистской эстетики), а не формотворческими достижениями [19]. Тем не менее, обобщения всегда скрадывают значимые черты индивидуальной поэтики – случай Гу Чэна (顾城; 1956-1993) тому подтверждение. По легенде, впервые поэзия открылась ему в непосредственном переживании природы – это ощущение он поддерживал в себе всю жизнь. Транзитом через фрагментированное письмо, к середине восьмидесятых он пришел к предельной пластичности языка, граничащей с распадом всякой семантики. Для примера, вот попытка перевода одного из первых его текстов (ноябрь 1985 года), написанных в такой манере:
名
从炉口把水灌完
从炉口
看脸 看白天
锯开钱 敲二十下
烟
被车拉着西直门拉着本西直门去
丫
丫
丫
ИМЯ
вылей воду из устья печи
из устья печи
смотреть в лицо смотреть в небо
надвое распилить монету постучать двадцать раз
дым
повозкой растянуты ворота Сичжимэнь втянуть в ворота Сичжимэнь
丫
丫
丫 [20]
Визуальный эффект здесь скорее побочное следствие обретенной свободы. Несмотря на то, что пока найти прямых продолжателей позднего подхода Гу Чэна непросто, стремления многих других авторов прорваться за оболочку слова также сопровождались графическими трансформациями. Полемически по отношению к «туманной поэзии» были настроены участники не менее видного коллектива «Анти-А» (также – «Не-не» или «Фэйфэй» / 非非), ненадолго сплотившегося вокруг одноименного журнала [21]. Для его главных основателей и идеологов – Чжоу Лунью (周伦佑;1952) и Лань Ма (蓝马;псевдоним Ван Шигана / 王世刚;1956) – навязчивой идеей был выход из навязанных логикой культуры отношений. Путь к некому «докультурному» состоянию пролегал в том числе и через размытие привычных представлений об организации стихотворения. К примеру, так выглядит «устойчивая» строфа Лань Ма из текста «Шестью восемь сорок восемь» (《六八四十八》; 1987):
站
与
不
站 或者坐着 或者根本不坐
都 只打开一本书 看与不看都无关要紧
是 通篇不过是文字文字 尔尔 尔尔
一 也可看看“茫茫天涯路”这种说法
样 跟着音韵沉吟一篇 然后扬长而去 嘀嘀咕咕 尔尔尔尔
сто
ять
или
не или сидеть или совсем не сидеть
сто можно открыть книгу читать или не читать все равно
ять от корки до корки все знаки и знаки так и так таки да
все или вот вычитать что-нибудь в духе «дорога по краю земли»
одно глухо подпеть а потом преспокойно уйти бормоча таки да так и да
Чжоу Лунью же был еще более расположен к техническим фокусам и в том же номере покуражился на славу. В его девятистраничном цикле «Свободные квадраты» (《自由方块》) принимают самые разные позы, среди которых раскиданы палиндромы и обломки кубика Рубика.
Не менее амбициозны и притязания поэта-одиночки Чэ Цяньцзы (车前子;псевдоним Гу Паня / 顾盼; 1963-). Живопись для него – область профессиональной компетенции [22]. Поэтические же интересы автора проистекают из особенностей восприятия: в личном общении он вспоминал, как однажды в юности начал ощущать «вес» каждого символа. Необычная «синестезия» (если здесь уместен этот термин) и по сей день провоцирует его высветлять все более сложные каналы взаимодействия с онтологией языка. Визуальное ответвление его творчества связано в основном с девяностыми годами – многие черновики тогда так и не были оформлены в полноценные произведения, но среди них были и счастливые исключения:
符:字母产生的联想
знак: ассоциации с буквой
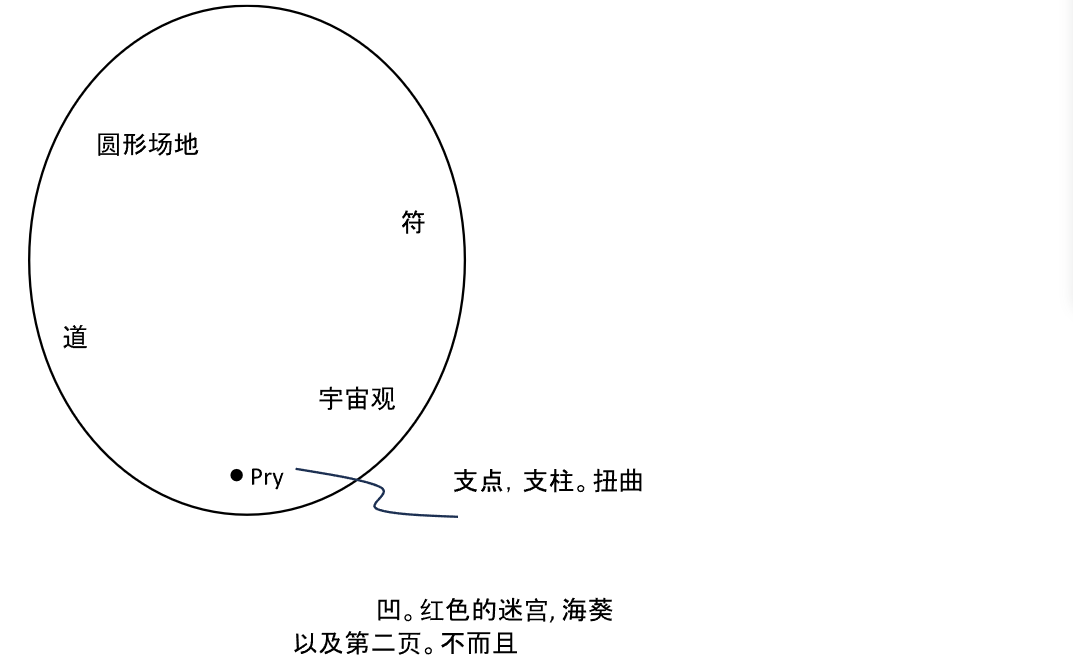

Ввиду обилия авторов, заявивших о себе в конце XX века, помимо сортировки их по регионам и поистине несчетным коллективам, критическому сообществу оперативно потребовался поколенческий критерий упорядочивания. По моим наблюдениям, в критическом дискурсе основное внимание по-прежнему отводится рожденным в шестидесятые, и именно поэтому хочется больше сказать хотя бы о «70-ках» (70后). Так, ровно на рубеже десятилетий, в декабре 1970 года родился Чжу Инчунь (朱赢椿). Как и Сюй Бин, пока он вписывается в историю поэзии лишь по касательной: его главный промысел – книжный дизайн, за что он и был награжден рядом премий (среди них, не много не мало, титул за «самую красивую в мире книгу» на Лейпцигской книжной ярмарке 2007 года) [23]. Вместе с тем, названия некоторых других его проектов прямо взаимодействует с концептом «поэзии». Сборник «Дизайнерские стихи» (《设计诗》) и по мнению самого автора не отвечает требуемой глубине содержания, но на фоне сравнительно сдержанных графических экспериментов на материке, зерна идей оттуда в будущем еще наверняка увидят всходы. Самый простой и наглядный пример – текст «Два сердечка» (《两颗心》). Как стоящий трактат о любви – он понятен без объяснений.
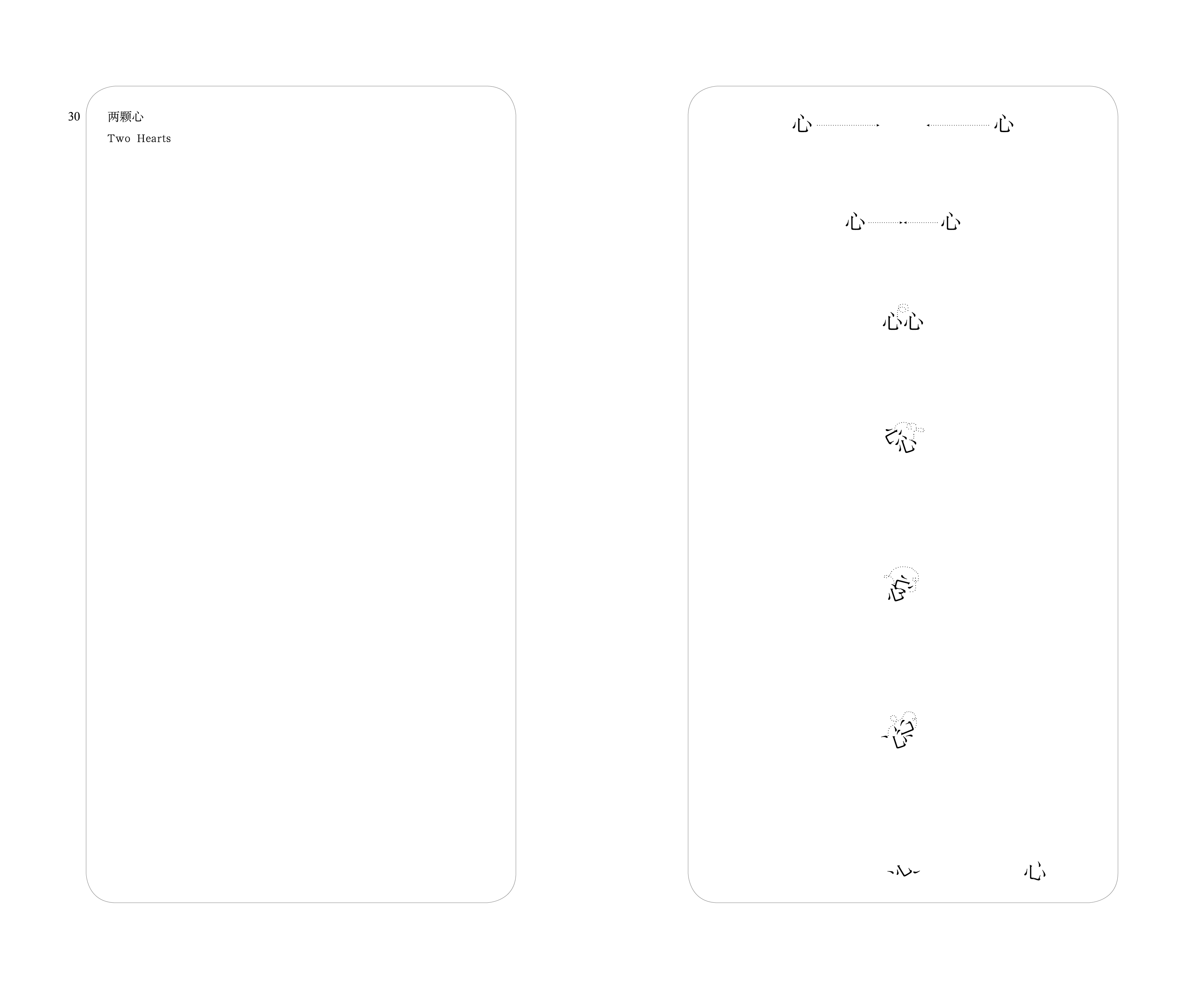
Не стремясь дальше упорствовать в лирической дерзости, впоследствии Чжу Инчунь уже отказался от слов-переносчиков смысла. Наблюдая за миром природы, он все отчетливей стал замечать следы, оставляемые насекомыми на древесных листах (так, можно сказать, что у него и у Гу Чэна был общий наставник). В полном соответствии с заветами даосизма, он лишь перенес их почерки на бумагу. Под обложкой сборника «Поэзия насекомых» (《虫子诗》) место нашлось и дождевому червю, и эпиляхне (28-точечной картофельной коровке), которых он представляет как полноценных авторов.
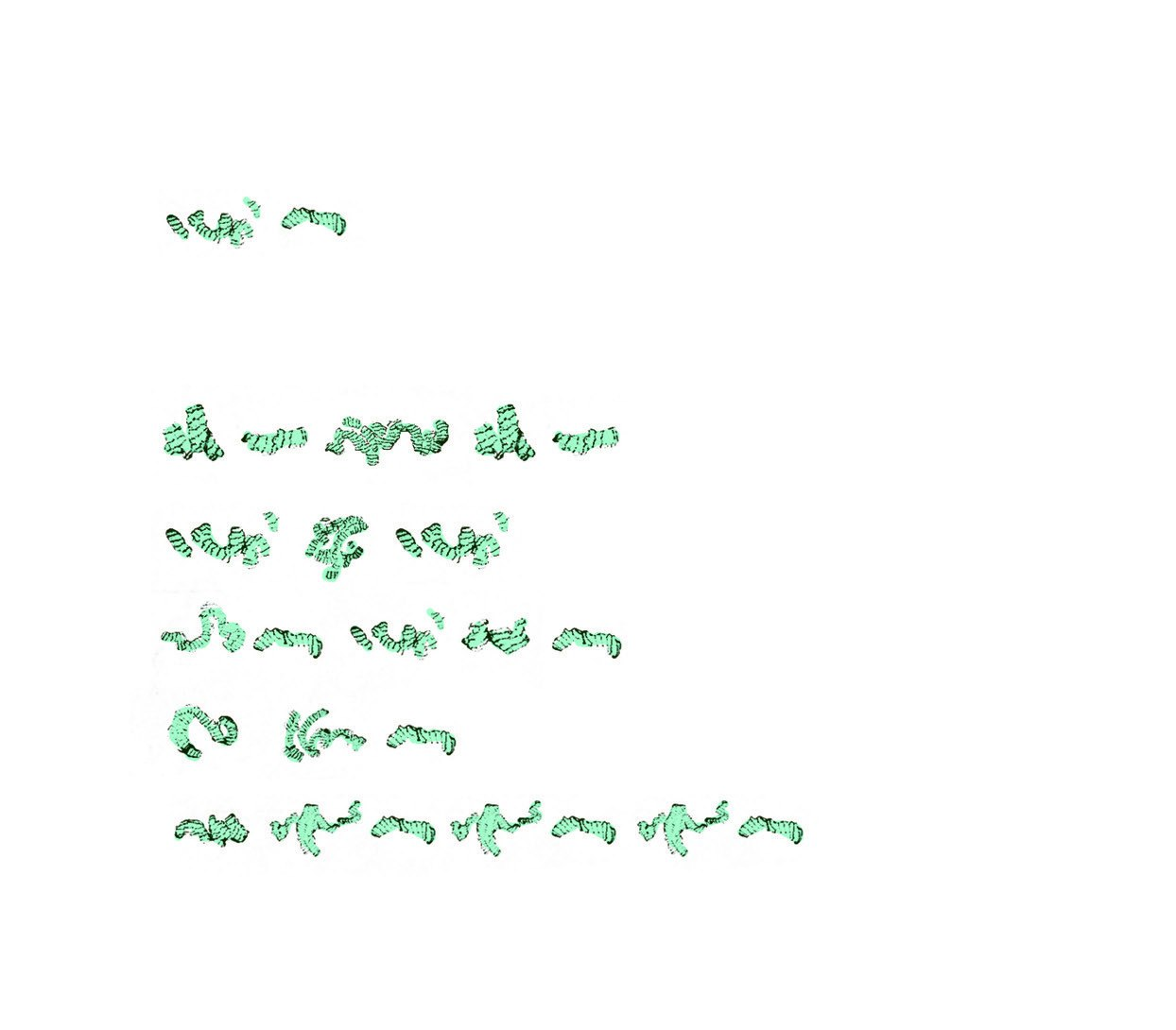

Как итог, читатель лишь еще раз убеждается: все стихи уже сочинены, нам остается лишь записать их. И человечество далеко не единственный автор книги жизни.
Напоследок, не могу не упомянуть еще одного автора, также давно попавшего в медиа-поле. Речь об У Цине (乌青;псевдоним Чжэн Гунюя / 郑功宇; 1978-), апологете т.н. «бросовой поэзии» (废话诗). Прославился он, безусловно, не визуальными новациями (хоть и обучался в университете изящным искусствам), а радикальным подходом к сочинительству: осколочность многих его текстов напоминает не то о лианозовцах, не то о концептуалистах [24]. Иногда в них просачиваются и графические элементы, точно так же отмеченные клеймом постмодерна.

ДОЖДИК ПОШЕЛ
дождика нет (ясненько / 🌞 )
дождика нет (пасмурненько / ☁️ )
дождик пошел / 🌧 ⚡️ ⛈
дождика нет (ясненько / 🌈)
一直爱
To Eva
爱,我喜欢一直爱
一直一直一直
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一一一
一一一一一一一直爱你
И ЛЮБИТЬ
To Eva
любовь, я люблю все любить
илюбитьилюбитьилюбить
иии------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------------иии любить тебя
2019
Универсальный знаковый код, составивший полноценный проект Сюй Бина, здесь оборачивается обывательскими эмодзи. Что же касается второго стихотворения, то в нем У Цин как раз показывает себя как мастер создания конструкций, максимально разомкнутых для интерпретации. Прием акцентирует внимание на пустом пространстве, оставляемом иероглифом «一» («единица»), на неизбежных зазорах, остающихся даже при номинальном отсутствии пробелов, на протяженности звука (какая удача, что «一» читается как «и») etc. Для мотивированного читателя текст был, есть и будет открыт.
*
Что же в сухом остатке? Письменная культура Поднебесной насквозь пропитана визуальными практиками. В то же время, возможно, именно эта тотальность и отодвигает вопросы упорядочивания сугубо «формальных» компонентов традиции на второй план. Покамест, кажется, что большая часть искомых стратегий маркируется тегами смежных сфер креатива: каллиграфии, дизайна, акционизма и т.д. Например, презентованные мною китайским друзьям-поэтам блэкауты Андрея Черкасова немедленно были отнесены в область «современного искусства». Центральный же компонентом в нарративе о поэзии остается ее мировоззренческая нагрузка и диалог с внутренней традицией.
Позволю себе также буквально пару слов о ближайших перспективах и разнообразном «невошедшем». Применительно к более юным авторам мне попадалась программа поэтических чтений Пекинского университета 2021 года под общей вывеской «Очертания поэтического» (诗的形状) – к сожалению, принципиально нового витка авангарда, я там не обнаружил. Индустрия традиционной, «внецифровой» печати располагает также возможностями для создания авторских проектов: крупным игроком является фирма с запоминающимся названием «Союз-скакун» (联邦走马) [25]. Среди ее продукции, ориентированной на поэзию, например, стихотворения Буковски, уложенные в капсулы для снятия похмельного синдрома. Да и почти каждый из названных выше поэтов после «культурной революции» имеет за плечами опыт выпуска «эргодических» изданий.
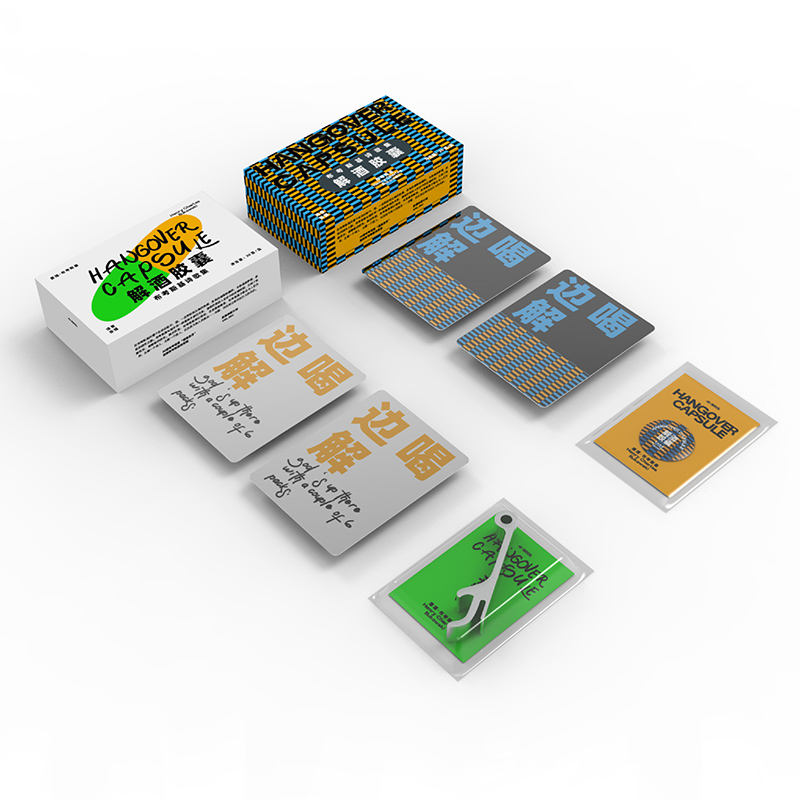
Возможности же китайских новых медиа (Вичата, Вэйбо и др.) по созданию поэтического эффекта следует изучать отдельно. Не попали в гид и опыты по совмещению стихотворений с видеорядом. Из опубликованного недавно могу лишь посоветовать ознакомиться с коллаборацией режиссера Сюй Тяньлинь (徐天琳;1986) и поэтессы Юй Сюхуа (余秀华;1976), рожденной с церебральным параличом и имеющей широкую поддержку современных читателей (запись оснащена английскими субтитрами) [26]. Допускаю также, что на новом этапе разрослось и поле номинаций сопутствующих концептов – возможно, к таким принадлежит слышанное лишь мельком и не вполне проясненное для меня понятие «фото-стихов» (摄影诗). Но этот труд я также хотел бы перепоручить более подготовленным специалистам (возможно, что и себе-в-будущем).

*
Недавно, получив копию книги-каталога самопальных групп и изданий на территории КНР с конца XX века, я с ужасом осознал, что из них мне встречалась едва ли четверть, а это ведь сам по себе лишь «вариант» обобщения [27]. Остается лишь констатировать, что человечество действительно слишком часто не знает, насколько оно богато. Но по счастью, в Китае всегда находились не только ответственные за «парадные», «династийные хроники» (正史), но и люди, пишущие «неофициальную», «частную» историю (野史). Сложно желать текущей заметке лучшей судьбы, чем в грядущем стать артефактом для подобного повествования.
*
Выражаю искреннюю благодарность поэтам, художникам и исследователям, чьи советы и консультации помогали мне при написании статьи. Среди неупомянутых в самом тексте авторов, хотелось бы назвать Сян Яна (向阳), Му Сы (姆斯) и Цзы Му (子木), что не умаляет признательности всем остальным многочисленным участникам бесед.
21.09.2023
[1] Работы доступны на персональном сайте автора;
[2] The Translation and Transmission of Concrete Poetry / ed. By John Corbett, Ting Huang. NY: Routledge. 2020. P. 36-37;
[3] см. например: 吴茂梁.怪体诗趣谈.长沙:湖南文艺出版社.1990【У Маолян. Занимательно о странных стихах. Чанша: Хунаньское художественное издательство. 1990】или 周渊龙,周为编.奇文趣诗.兰州:敦煌文艺出版社.1990【Чжоу Юаньлун, Чжоу Вэйбянь. Странные тексты и забавные стихотворения. Ланьчжоу: Художественное издательство Дуньхуана.1990】;
[4] A New Literary History of Modern China / ed. By D. Der-Wei Wang. Cambridge. 2017. P. 242;
[5] Марков В. М. Русский след в Японии. Давид Бурлюк – отец японского футуризма // Известия Восточного института. 2007. №14. С. 202.;
[6] 郭沫若全集.第15卷.北京:人民文学出版社.1990.第248页【Полное собрание сочинений Го Можо. Т. 15. Пекин: Издательство Народная литература. 1990. С. 248】;
[7] См. предисловие к книге: Д. Бурлюк, Н. Бурлюк. Стихотворения. СПб.: Академический проект. 2002. 584 с.;
[8] 戈宝权.马雅可夫斯基和我们 // 世界文学.1980(2).第290页【Гэ Баоцюань. Маяковский и мы // Мировая литература. 1980. №2. С. 290】;
[9] The Translation and Transmission of Concrete Poetry / ed. By John Corbett, Ting Huang. NY: Routledge. 2020. P. 42.;
[10] Как вариант, можно обратиться к книге: The Columbia Companion to Modern Chinese Literature / ed. by Kirk A. Denton. Columbia University Press. 2016. P. 245;
[11] На английском достаточно вспомнить монографию Tong King Lee. Experimental Chinese literature: translation, technology, poetics. Brill. 2015. На русском фундаментальным ресурсом является сайт Ю. А. Дрейзис «стихо(т)ворье», равно как и все академические изыскания исследователя;
[12] Авторский сайт;
[13] Добавлю также, что несмотря на авторизированный англоязычный перевод, в соответствии с традицией наименования каллиграфических стилей, в приведенных названиях «книга» может быть заменена на «письмо» (ср.: 行书 – xíngshū – «письмо скорописью» и др.);
[14] Для поддержания единообразия текста я буду привлекать лишь упрощенную форму иероглифов;
[15] The Columbia Companion to Modern Chinese Literature / ed. by Kirk A. Denton. Columbia University Press. 2016. P. 327;
[16] The Translation and Transmission of Concrete Poetry / ed. By John Corbett, Ting Huang. NY: Routledge. 2020. P. 56;
[17] Источник;
[18] Источник;
[19] Подробнее об этом феномене, см. например: A New Literary History of Modern China / ed. By D. Der-Wei Wang. Cambridge. 2017. P. 718;
[20] Читается как звук «я»; вариант перевода – «развилка»;
[21] Открытая коллекция неофициальных изданий Поднебесной;
[22] Проблема соотношения изящных искусств и поэзии отражена, например, в монографии Paul Manfredi. Modern Poetry in China: A Visual-Verbal Dynamic. Amherst, NY: Cambria Press. 2014;
[23] Интервью с автором на русском языке от 2019 года;
[24] Выкладки по годам;
[25] Магазин издательства в Вичате;
[26] 《一列火车经过》【Проезжая на поезде】;
[27] 杨克主编.民间诗刊档案.广州:羊城晚报出版社.2022【Каталог народных поэтических изданий. Гуанчжоу: Издательство Вечерней газеты Янчэн. 2022】
Горгона Медуза (осколки)
между губами поцелуя
стекло одиночества
– Роже Жильбер-Леконт
любовь моя, это (о) тебе.
о неизбежности нашей встречи.
До наших дней. Медуза
строфа
дрожью покрытая не тронута нежная грудь ни руками влюбленного, ни младенца губами часто дышит, напрасно пытаясь избегнуть любовного жребия девам дарованного богиней Тюхе смеющейся, босыми ногами по дороге судьбы она, мальчишке подобно, колесо подгоняет, нет ни верха, ни низа у колеса, но решает, схвативши рукою его в игре мальчугана, богиня, будет ли сверху то, что было прежде внизу, и повержен ли будет тот, что был одарен изобилием; игрою простою младшей дщери Горгона решится судьба: на одной стороне загорится семьи очаг и возьмет ее добрый муж в объятия свои, на другой: путь из дома в проклятый край, где ее сердце и статуй глазницы наполнены вечной о смерти мольбой
антистрофа
в туманом укрытых волнах на рассвете рукою ласковой проводит дева по мягкому телу – красота ему щедро природой дана, налиты чресла, полон живот, ноги помнят еще о танцах вчерашнего дня, в окружении нимф, любимых сестер, безмятежна душа и свободою дышит широкая грудь, предплечья укутаны волнами волос и морскими волнами.
«пусть вода мое унесет утомление, пусть твердые камни трезвость ногам вернут, пусть усну на брегу, никем не замечена, и домой возвращусь до отца пробуждения»
уж целует Морфей ее веки, сам не веря удаче своей.
но недолго длится сей сон – на рассвете, как водится, просторы свои озирает царь морей, Посейдон, обращен в альбатроса, мягко по небу летит.
и, увидев красавицу, мыслит: «я ласкал ее тело волнами, целовал ее стопы каменьями, я водой проникал в глубины ее, солью щипал за сосцы. ей любви моей не хватило, ненасытна она, легла, просит взять ее, влажная, в ложном сне, обнажившись, дразнит меня: "хватит сил тебе, старый дурень, такую как я одолеть?", помыслы эти для меня не новы – не я ль вскипятил воды пенистые, из которых рождалась Киприда».
девы жребий решен – птицей разбился о волны, спрута облик приняв, приближается к ней Посейдон.
эпод
противоестественно широко раскрываются мои лёгкие, они втискиваются в расщелины рёбер, и, застряв, не могут восстановить прежнюю форму. спрут тянет меня в воду, охватил руки и ноги, щупальцами, липкими как слюна бешеного пса. он волочит меня по земле, лицом и грудью вниз. мои зубы щёлкают песком, я: дышу песком, вижу песок, слышу песок, ем песок, впитываю его кровью сквозь царапины. нет ничего, кроме соленого песка, спрута и меня. мы остаёмся вдвоём: я и вода, ни песка, ни спрута. вода. резкая, острая, как мой крик, рвущийся к свету, уносит меня глубже в вихре пучины.
чьи-то руки крепко хватают за волосы и тянут, я поднимаю голову, глаза-расщелины видят только тень солнца и чей-то силуэт.
спасатель. в рассветной суете света вижу мужское лицо. отец? должно быть, искал меня и подоспел вовремя. слава богам. мы плывём вверх, я, как когда-то в детстве, прижимаюсь головой к его груди, закрываю глаза и вспоминаю мои пятилетние именины, папа стучится в детскую, а я ещё не готова, сестры с утра вплетают в мои волосы цветы, им разрешили нарвать их сколько потребуется в честь моего дня. они велят мне сидеть тихо и подождать ещё. а я не могу усидеть, услышав голос отца, я вырываюсь и, оставляя позади вихры листьев и лепестков, спешу открыть ему дверь. скоро и незаметно я оказываюсь у него на руках, и он говорит, что не сумел в своё время найти самую красивую жену, но вот уже пятый год – он отец самой красивой невесты. я обещаю, что когда он станет старым, немощным и никому не нужным, я стану его женой, потому что больше никто не захочет. он смеётся и говорит о том, что ему придётся уступить меня в жены сильному и богатому мужчине. плачу. мне не нужен сильный и богатый, мне нужен только папа. тогда он обещает, что будет рядом всегда, когда понадобится.
клятва отца правдивее пророчества оракулов.
в ушах становится шумно, как только он поднимает мое тело над морем, дышать больно, тошнит. вот мы уже на суше, он ставит меня на ноги и я тут же сворачиваюсь вдвое, морская вода льется из моего нутра вперемешку со вчерашним вином. папа держит мои волосы и гладит меня по спине. в глазах снова темнеет, меня тянет вперед на землю, папа хватает меня за плечи и удерживает от падения. прихожу в себя, боль дыхания, такого натурального обычно и такого ценного сейчас, проходит. я тянусь к плечу и целую ладонь отца. глядя на нее, понимаю бессознательно, издалека: на этой ладони нет пятен и морщин, она белая, молодая, не дрожит. вторую он опускает мне на грудь, а твердый орган прижимается к ягодицам.
рывок! я бегу, не оглядываясь. он бежит за мной.
сейчас я двучастная: одна часть кричит «беги», вторая – напоминает о приличии, стыде и необходимости благодарить спасателя. эта вторая уже выдумала, что это рыбак, пришедший раньше остальных, раздевшийся догола, чтобы спасти меня, и восставший от моего поцелуя. первая ничего не выдумывает: трепыхается и пульсирует в голове словами «беги», «в», «храм», «Афины».
я слышу его хохот, он близко – где-то с десяток ступеней.
я врываюсь внутрь, обессиленная и счастливая, падаю на колени перед алтарем. громко, чтобы он услышал, читаю молитву и клянусь ее именем, что предпочту смерть бесчестию. так вернее и спокойнее, я здесь состарюсь, если это потребуется.
он входит, я слышу, его влажные ступни на сухом полу. молюсь и клянусь громче.
больше не волнуюсь – ни один смертный не посмеет навредить девственнице в храме Афины.
он давит ладонью на мою шею, вынуждая руками упереться в пол.
ни один смертный...
Наши дни. Даная
Даная: Мамочка я…
Мама Данаи: Ты красивая девочка
Даная: Мамочка, я не могу стоять, уложи меня, пожалуйста, и закутай, как раньше
Мама Данаи: Ты красивая девочка, тебя будут часто так трогать
Даная: Мамочка, уложи
Мама Данаи медленно снимает с Данаи платье, платье падает к ее ногам, трусиков на ней нет, Мама Данаи проводит руками по икре – на ней кровь засохшая с разводами
Мама Данаи: от тебя плохо пахнет, что такое?
Даная начинает плакать
Мама Данаи: Я чувствую аммиачный запах мочи, на тебя мочились
Даная: Это золотой дождь, мамочка, оботри меня, прежде чем закутать и уложить, мамочка, я не хочу брать такое тело с собой в постель
Мамочка несет Данаю в ванную и моет ее душем. Даная плачет, всхлипывая, мать нежно массируя моет ей голову ароматным шампунем
Мамочка моет тело Данаи дорогим гелем для душа, который отложила на подарок подруге
Мамочка протирает тщательно полотенцем тело Данаи и особенно нежно ее бедра и лобок
Мамочка относит Данаю в постель и укутывает ее в мягкое одеяло
Мамочка целует Данаю в лобик
Мамочка: Почитать тебе перед сном?
Даная: Может, ты прежде вызовешь полицию, мамочка? Мамочка, я сейчас думаю, что зря мы помылись, я читала, что не надо до судмедэкспертизы мыться
Мама Данаи: Я не буду звонить в полицию, они скажут: ну, что опять? Я скажу: мужчина какой-то из нашей деревни надругался над моей дочерью, моя дочь не в силах говорить и дышать, у нее разрывы, на нее мочились, золотой дождь, полицейский скажет: это был мужчина такой-то, или парень такой-то из семьи таких-то, мы видели все, когда проезжали, их было несколько, или он скажет «это был я, и коллеги мои, мы проезжали, когда ваша дочь играла на пустыре с собаками, а день был трудный, а ваша дочь обречена на насилие, вы же знаете, фатум, детерминированность». Он скажет: вы можете прийти написать заявление, а я в следующий раз им заткну рот вашей дочери, чтобы она не отвлекала меня своими криками.
Даная: Мамочка, что делать?
Мать Данаи: Послушай сказку, дорогая
Даная: Хорошо
Мама Данаи: Жила была принцесса, ее звали… каааак?
Даная: Даная!
Мама Данаи: Верно. Даная была очень красивая и на нее даже сам
Даная: Зевс!
Мама Данаи: Да, даже сам Зевс обратил внимание. Дельфийский оракул сказал папе Данаи, что ее дите-полубог убьет папу Данаи, и Данаю спрятали в темницу, она там жила спокойно, и родители ее часто навещали
Даная: А что потом?
Мать Данаи: Потом Зевс проник в Данаю золотым дождем, Зевс оплодотворил ее своей золотой божественной мочой, он мочился золотом, ты знаешь? И из этого родился блестящий как солнце малыш – полубог, он был золотыми кудрями похож на Амура, а ножки какие у него были сладенькие и румяненькие, бабушка очень любила малыша. Бабушка играла с малышом втайне от дедушки.
Даная: А что делал дедушка?
Мамочка: Дедушка выдумывал план, как от малыша избавиться, каким крокодилам его скормить
Даная: (схватилась за горло и часто хватает ртом воздух)
Мамочка: Бабушка выслушивала дедушку внимательно, она говорила, крокодилы лучше всего и крупнее и зубастее в русле реки
Даная: Зачем бабушка так…
Бабушка: Я знала, что в нашем замке даже у стен есть уши, и, если я даже оброню слово супротив моего мужа, он перестанет мне доверять и делиться планами
Даная: То есть ты хотела спасти моего сына?
Бабушка: Да. Я сказала мужу: убийство ребенка – дело женщины, прояви уважение и не лезь в божественный промысел. Боги дали нам чрево для взращивания плода, как земля сама пожирает своих детей, так и женщина. Успокойся и забудь об этом. Я все организую.
Даная: Он поверил тебе?
Бабушка: Конечно, я всегда держала свои мысли в своей голове.
Даная: А я… мне тоже ты не сказала? Я ведь ничего не знала, да?
Бабушка: Никто, кроме меня не знал, о моих намерениях относительно дитя. Во-первых, я любила его как тебя, и не позволила бы его смерти, лучше бы я умерла сама, чем он. Во-вторых, я знала, что убивать сына Зевса в разы опаснее, чем потерять мужа лет через двадцать. Я знала, что Зевс наградит нас за преданность и сохранение семени его.
Но говорить это вслух, даже тебе, означало погубить все мои планы.
Даная: Той ночью ты вошла в мою комнату, мы с Персеем спали, он спал на груди моей голой, волосами моими укрывшийся, младенец мой нежный, первенец мой божественный, ты сняла его с тела моего, изо рта его вынула сосок мой, закутала в саваны.
Бабушка: Ты проснулась и спросила, что ты делаешь, мама
Даная: Ты ответила, что возьмешь его в свои покои, чтобы провести с ним время.
Бабушка: Ты не поверила, тебе все уже донесли твои служанки
Даная: Ты рассмеялась и сказала, разве я убью своего единственного внука, дорогая?
Бабушка: Ты вцепилась в него руками
Даная: Ты вызвала стражей, меня держали, нагую, рвущуюся, кричащую, пока ты продолжала закутывать моего малыша в саван
Бабушка: Да, мне было больно слышать твой голос.
Даная: На крик пришел отец
Бабушка: Он хотел наблюдать, он смотрел, как ты плачешь
Даная: Он сказал, твоему выродку не место в нашей семье, я найду тебе мужа и ты расплодишься хоть десятью крольчатами, а этому здесь места нет.
Бабушка: Я сказала мужу, что на дело, и мужчинам места в этом нет, была ночь Гекаты, по городу ходили разъяренные жрицы, они секли каждого мужчину от млада до велика. Я спрятала Персея в корзину, и, одевшись прачкой, пошла к реке.
Даная: Отец на прощание тебя поцеловал, он сделал это так пошло и мокро, я помню этот поцелуй. Он трогал твои груди, твои бедра и даже…
Бабушка: Да
Даная: Это было противно, а еще противнее, что ты смеялась и стонала ему в рот, с моим ребенком на руках
Бабушка: Да
Даная: Расскажи, что ты обнаружила, вернувшись
Бабушка: Твой отец сразу поволок меня в спальню, он просил рассказать подробности и брал меня как мужчину, сзади. Я стояла на четвереньках, я подыгрывала ему, изображала блаженство и выдумывала, как аллигаторы грызли ручки малыша, как я отрывала от него по кусочку, как держала его за головку, пока звери прыгали и откусывали от него плоть, пока в руках моих не осталась только плачущая головка. Он брал меня интенсивнее и требовал говорить подробнее и громче.
Даная: А я, знаешь, что делала… Я проникла в покои отца в надежде хоть что-то узнать о моем дите. Я все слышала, лежа под кроватью, я рыдала и грызла свой кулак, чтобы себя не выдать, а потом… потом я ничего не помню
Мать Данаи: Мы нашли тебя утром, ты была как ребенок, ты агукала и ползала вокруг кровати, не знала слов и тянулась к моей груди. Взрослая женщина с умом ребенка. Мы позвали врачей и спросили, что делать. Они развели руками, один только, перс, предложил тебя воспитывать снова, мы стали пробовать, снова нашли кормилицу, нянечек, учили тебя словам, ты училась ходить. Заботы о тебе заняли все мое время и я с радостью погрузилась в материнство. Так было легче, чем если бы ты смотрела на меня с ненавистью за убийство ребенка
Даная: А что отец?
Мать: Он был рад, что избежал смерти, что не взял греха на душу, детоубийство это верный путь в пасть цербера, и я избрала этот путь за него, он стал много пировать, дарил мне все, что пожелаю, мою семью поместил в сенат, наш род стал править фактически, тайно от глаз общества, государство процветало, я решила политические вопросы и иногда мое слово было последним, а мои братья захватывали нам новые земли и всегда возвращались домой со щитом в руках и лавром на голове.
Даная: Мммммм…. идиллия, только умопомраченная дочь ее нарушала
Мать: Нет, ты ее множила, твоя душа была так чиста, мы сделали тебе сад с животными, ты заботилась о них со рвением ребенка, ты пела в нем и играла…
Даная: И не мешала никому заниматься политикой
Мать: Успешная политика была даром Зевса за сохранение его семени, а дурман отца твоего от мака и вина – его наказанием.
Даная: А что Персей?
Мать: Жил в пастуховой семье, я заботилась о его пропитании, образовании, здоровье, он был под присмотром
Даная: Ты мне это как будто рассказывала….
Мать: Да! Я тебе вообще все рассказывала, ты все равно уже никому не могла передать.
Даная: А где мы сейчас?
Мать: На стыке двадцатого и двадцать первого века
Даная: А почему мы здесь…
Мать: Я не знаю. Раз в жизнь мы засыпаем и просыпаемся в другом мире и в другом времени,
Даная: И проживаем все раз за разом, но по-другому.
Мать: Ага, и покровительства Зевса в этих мирах у нас нет
Даная: В этой жизни я тоже повредилась умом
Мать: И в прошлой тоже
Даная: В этой жизни мы были семьей, мой отец… он был как Зевс, почему он так…
Мать: Да, в перевоплощениях, где нет Зевса, его дело совершает отец, твой отец
Даная: А где малыш?
Мать: Обычно мы отдаем его в приют
Даная: Вы прячете от общества ваш грех
Мать: Да
Даная: А я становлюсь ребенком в теле женщины…
Мать: Наша семья беднеет, твой отец умирает от пьянства, и мы живем с тобой беззащитные и нищие
Даная: А мужчины, мальчики, старики, все, у кого есть fascinum, берут мое тело.
Мать: Да
Даная: И я возвращаюсь домой, лишенная гимена…
Мать: Ты давно его лишена, дорогая, это они жестоки к тебе
Даная: Да, и ты укутываешь меня в одеяло, умыв тело мое, и читаешь мне сказку
Мать: Да, и ты ненадолго перед сном все вспоминаешь, это мой грех, я его так проживаю, что не позаботилась о тебе, что дала распоряжаться твоей жизнью этому чудовищу, что решила, будто мнение общества важнее, чем твоя безопасность. Что не задушила его во сне в самый первый раз, когда он посмотрел на тебя как на женщину, а не как на дочь.
Даная: Мы столько раз это проживали, почему ты до сих пор этого не сделала…
Мать: Я каждый раз надеюсь, что в этот раз все будет иначе.
Даная уснула крепко
До наших дней. Медуза в заточении семьи своей
Медуза входит в покои отца. Брадобрей причесывает его волосы. Отец сидит спиной к Медузе
Медуза: Папочка
Брадобрей смотрит в зеркало и отражение Медузы делает его статуей с гребнем в руках.
Медуза: Папочка
Отец разбивает настольное зеркало
Медуза закрывает глаза
Отец разворачивается к ней
Отец: Пришла убить меня, недостаточно было опорочить?
Медуза: Папочка, я пряталась в пещере
Отец: Там тебе и место
Медуза: Папочка, я не хотела этого
Отец щиплет ее за складки на животе и чуть скручивает
Отец: Это есть у всех женщин, я знаю ваш род, вы всегда «не хотите», а потом стонете как кошки. Твоя мать отворачивала от меня лицо и вырывалась. Боги создали вас строптивыми, чтобы мужчинам жилось не так скучно.
Медуза: Отец, я же говорю тебе, что я не хотела
Отец: Боги не посылают близость тем, кто ее не хочет. Ну это дело, конечно, молодое. Даже не думай, что я тебя осуждаю, ты дочь царя, тебя возьмут замуж и брюхатой, и с выводком, а связь с богом сделала бы тебя даже более интересной невестой, но как ты могла... в храме. Афины. Как ты могла настолько согрешить? Смотрю на тебя и думаю, как я мог воспитать такую грязную богохульную потаскуху?
Медуза: Отец. Я тебе повторяю. я не хотела близости. я пряталась в храме, я пыталась избежать насилия. Я просила покровительства у Афины. но он взял меня силой. Он принудил меня.
Отец: Ты виляла хвостом, как течная кошка, ты вместо того, чтобы раздвинуть ноги на пустынном пляже, побежала в святое место и опорочила его. Я тебя знать не желаю.
Медуза: Мне уйти?
Отец: Куда ты пойдешь такая?
Медуза: Стану добычей героев в пещерах, за мою голову боги станут платить любовью самых красивых женщин и царствованием на троне.
Отец: И все будут говорить о тебе как о дщери моей! Ну уж нет, такой славы мне не надо, твои сестры умрут старыми девами, а наше царство разорится.
Медуза: Я буду молчать
Отец: Сплетни разлетаются по Элладе быстрее, чем листья осенних дерев под ударами ветра. Ты останешься здесь. Я распорядился о твоих покоях и стражах. Всем скажем, что ты больна.
Медуза: Спасибо
Отец смотрит на дочь с отвращением, но когда она поднимает глаза, быстро отводит свой взгляд в стену
Отец: И начни носить что-то на своих глазах что ли, раз не хватает смелости их выколоть.
До наших дней. Медуза с сестрой
Медуза и Эвриала в полной темноте покоев Медузы, говорят тихо, за дверью слышны шаги стражников, от скуки гуляющих туда-сюда по коридору. Веки стражников сшиты грубой черной ниткой, а шлемы и доспехи начищены до зеркального блеска.
Медуза: Серьезно?!
Эвриала: Ага, и он говорит: «Покажешь?». Я развернулась к нему спиной, и подняла волосы, говорю «вот, у нас у всех такие», а он взял и пальцами провел по моей шее, а потом поцеловал в позвонок.
Медуза: Чтоооооооо?
Эвриала: Прикинь. И так это было нежно, так аккуратно, легко – легко коснулся, губами, а потом выдохнул и я почувствовала, что его тело дрожит, и подалась бедрами к его бедрам и лобку
Медуза: (тяжело дышит и держит себя одной рукой за другую) А потом что…?
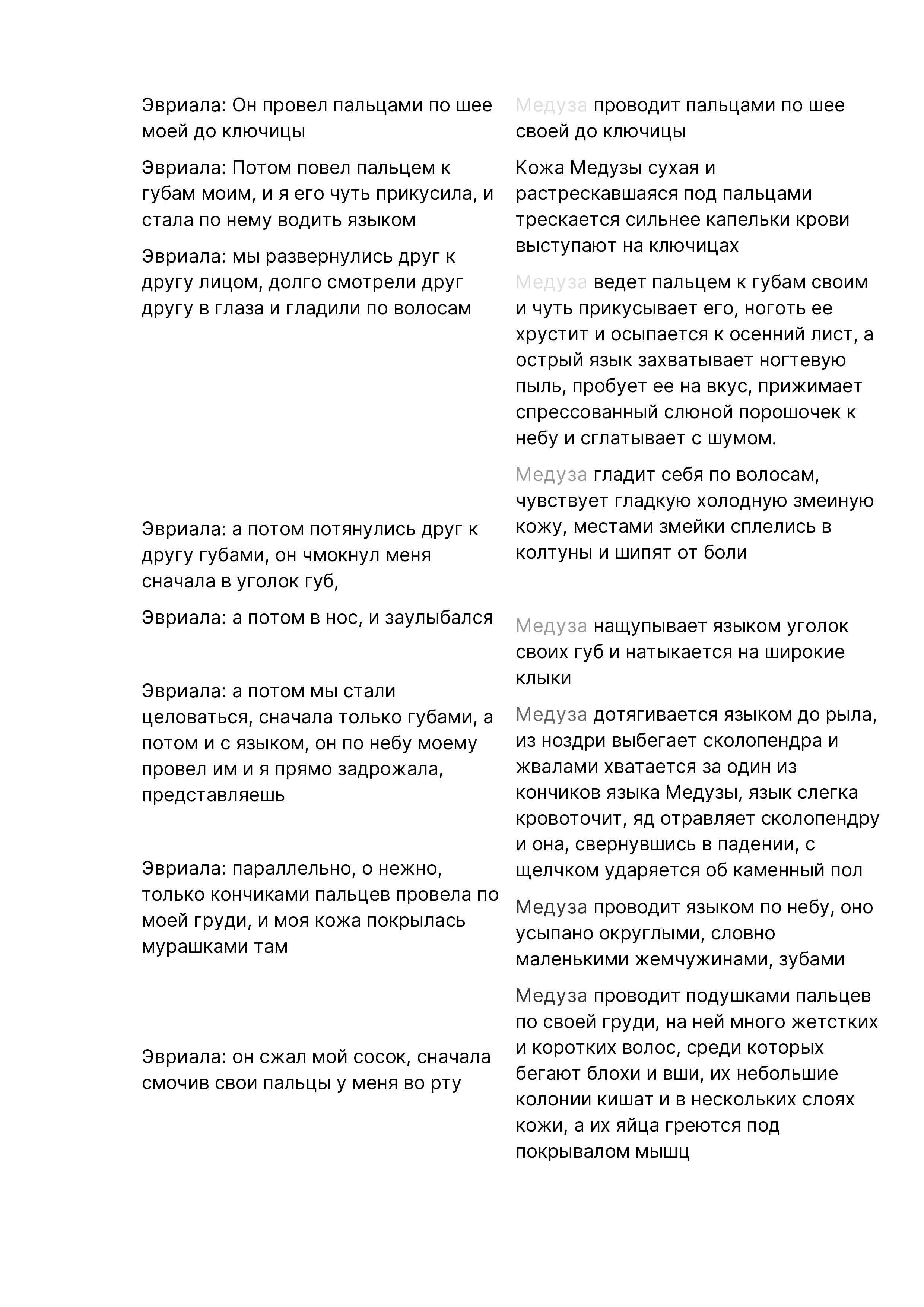
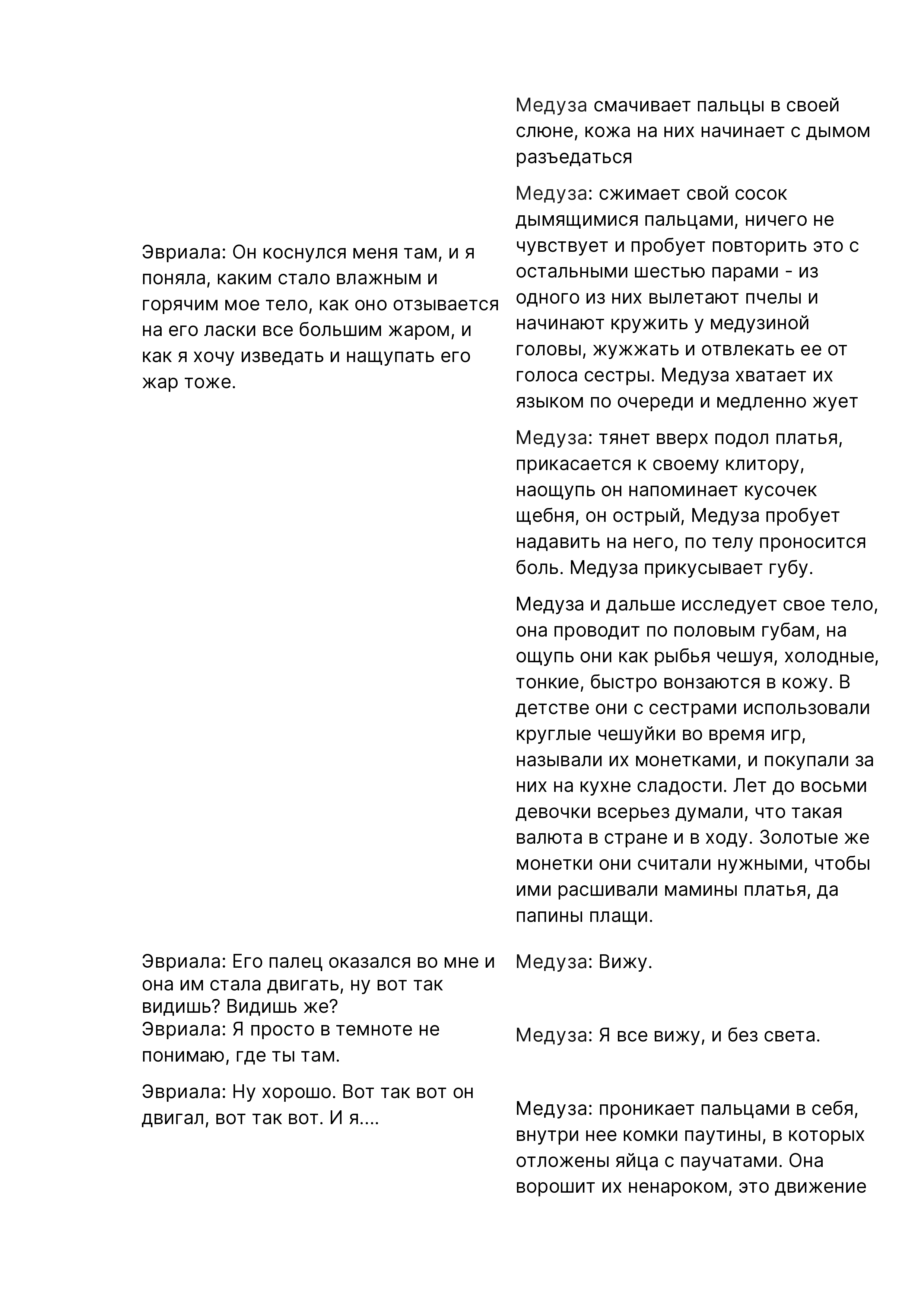
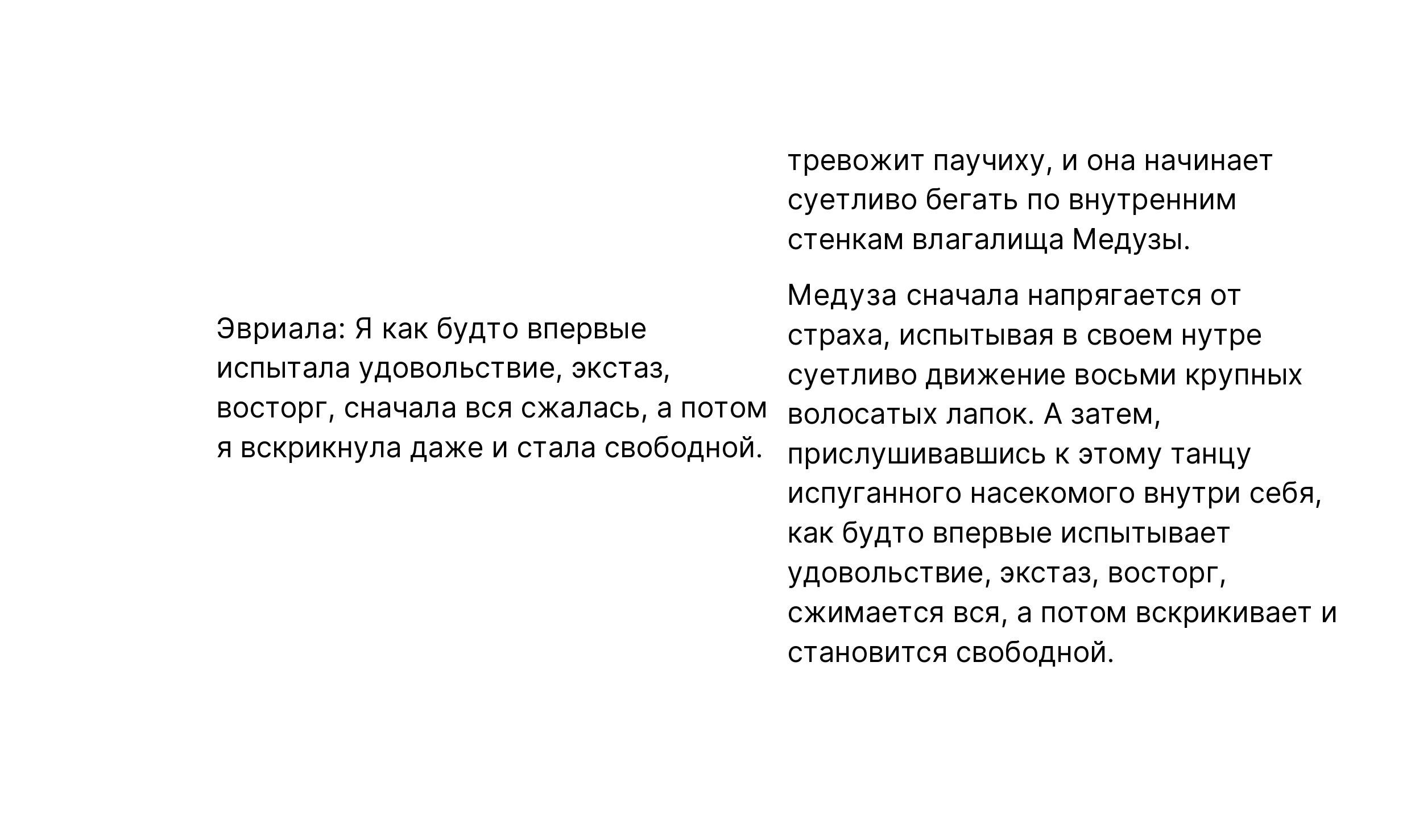
До наших дней. Медуза с мамой и сестрами в темном саду
Ночь. Медуза сидит в своей комнате на полу, она читает книгу и жует инжир, подбирая упавшие плоды с зеленой пышной травы.
В сад входит Незрячая старуха.
Незрячая старуха: Ваша мать просит вас подготовиться, она будет здесь с минуты на минуты.
Медуза утомленно выдыхает и садится спиной к Незрячей. Она плотно перевязывает ее глаза тканью.
Мать Медузы: Тут дурно пахнет.
Медуза: Старуха не видит, куда метет
Мать: Ты должна сама следить за чистотой своего жилища. Сама! Ты у нас скоро на выданье, а полов мести не умеешь.
Сестры напрягаются
Медуза: Мам, меня и так никто не возьмет в жены.
Мама: Дорогая моя, да будь ты хоть в сто раз уродливее, чем сейчас, без мужа ты уж точно не останешься. Гарантией твоего брака всегда служила не красота, а происхождение.
Медуза: Ах, вот оно как…
Мать: Ну конечно ты будешь в браке, как и сестры твои. Но сначала все-таки сестры. Эвриала, сядь рядом, я поглажу твои волосы.
Эвриала: Ма, я не вижу тебя. Давай потом.
Мать: Ладно, расплету тогда твои колтуны, Медуза, садись у моих ног.
Медуза: Мам, они жалят, не надо.
Мать: На мать ты руки не поднимешь, и не спорь.
Медуза садится между колен матери, та медленно распутывает тела змей-волос. И те действительно не сопротивляются ее воле, а расслабленно повисают на голове Медузы. Медуза чувствует боль и иногда непроизвольно шипит, в ответ мать сжимает ее плечи крепкими бедрами, чтобы та замолчала.
Мать: Тебе, моя малышка, переживать абсолютно точно не о чем. Да, в статусе больной ты пробудешь до свадеб сестер. Но и это мы почти решили. За тем и пришли к тебе, чтобы все рассказать. Через месяц будет пир и соревнования, съедутся все женихи Эллады, чтобы сразиться в пяти искусствах за руки твоих сестер. Завтра начнется подготовка дворца. А свадьбу обеих сыграем в один день, так намного быстрее, да и дешевле.
Медуза: Через месяц уже свадьбы?!
Мать: Да, дел невпроворот. И все на мне одной, надо грузить корабли приданым, составлять меню и селить гостей.
Медуза: Если пир так скоро, то и вы уплывете скоро?
Сестры кивают, а потом, опомнившись в темноте, говорят: Да
Мать: Уплывут на следующий же день как миленькие. Нечего дома засиживаться, плывите сразу домой к мужьям и своим новым семьям.
Медуза: А я как же?
Мать: Тобой мы займемся потом, когда решим судьбу твоих сестер.
Медуза: Тоже турнир?
Мать: Прости, малютка, но за тебя никто сражаться не будет.
До наших дней. Медуза во время пира
Во дворце идет пир, Медуза в темноте своих покоев медленно подтанцовывает музыке.
Незрячая: (стучит в дверь)
Медуза: Открыто
Незрячая: (стучит в дверь)
Медуза: (открывает дверь)
Незрячая: Отец твой велел принести тебе еды
Медуза с жадностью забирает тарелку и руками начинает перебирать ее содержимое, в темноте, на ощупь, она понимает, что там остатки и кости, хлеб и вино смешались в жижу, кусочки овощей и мяса перемешались воедино, чувствуется запах спирта и слюны.
Медуза: Отец отправил мне остатки?
Незрячая: Что?
Медуза: В этой тарелке остатки со стола!
Незрячая: Видимо это я… я спутала тарелки, на кухне такая суета… я… решила никого не тревожить
Незрячая слышит хруст костей и чавканье. А потом смех. Незрячая слышит шаги приближающиеся к ней. Незрячая чувствует, как воздух рассекается энергичным яростным телом. Незрячая чувствует удар в живот и удар спиной об стену. Незрячая слышит скрип открывающейся двери и кричит:
НЕТ.
До наших дней. Медуза в Колхиде много лет спустя. Теперь это – Картли, населенный единобожниками-крестителями
Медуза и Нина в ущелье с быстрой и холодной рекой, сидят на камнях, смотрят на лучи звезд, отражающихся линиями в течении темной воды.
Глаза Медузы перевязаны черной повязкой крест-накрест. На ее лице будто черный икс, на ее лице будто черная неизвестность.
Нина: Я встала сегодня утром, все пульсировало внизу живота. Казалось, что какая-то сила, энергия колотится внутри меня и ищет выхода из тела, сердце было быстрым и парящим, а поясница наоборот медленной, тяжелой и томной. Мне хотелось двигать ей вверх и вниз, без спешки, вслушиваться в себя и себя любить.
Медуза тяжело выдыхает
Нина смеется и щиплет Медузу за бедро
Нина: Я начала за сердцебиением слышать и другие звуки, сопение девчонок и низкий храп настоятельницы, она заснула на кресле во время ночного чтения. Я стала чувствовать запах наших согретых ночью тел. И все прошло. Я вспомнила, где я и кто я. Мои руки загорелись, стали мне противны, словно я не мыла их после чистки грязной картошки на кухне. Я не могла прикоснуться даже к одеялу и, вытянув их вперед, стараясь ничего не трогать, выбежала на улицу, за стену, схватила руками стебли крапивы и стала водить кулаками по ним вверх и вниз.
Медуза: Каждый раз ты приходишь ко мне с новым увечьем и говоришь, что твой бог хочет, чтобы ты себе их нанесла.
Нина: Нет. Бог ничего от меня не хочет, это я хочу. Заслужить его любовь, разделить с ним горний мир после смерти.
Медуза: Ваш бог очень странный. Он ждет вас после смерти и отправляет вас в жизнь. Но совсем не переживает о том, как вы ее проживете.
Нина: Зато он полон любви. Не то, что ваши.
Медуза: Да. Наши боги спонтанные как море. Никто из смертных не знает, какую судьбу ему уготовят и как круто она может повернуться вспять из-за кратковременной прихоти олимпийцев.
Нина: Я их ненавижу, если честно. Особенно за то, что они с тобой сделали.
Медуза: Они дали мне свободу и бессмертие.
Нина: Свободу от чего? И бессмертие зачем?
Медуза: И то, и то – для разрыва с человеческим. В себе и в других.
Нина: Мне это и так досталось. Монашеская жизнь свободна, хоть все и думают, что мы затворились в ограничениях. А бессмертие я получу от бога, если будет воля его.
Медуза: Сейчас мы можем снова начать эту дискуссию и снова прийти к тому, что нам не сойтись во мнениях, и риторика наша не имеет смысла. Мне не надо верить в своих богов, я знаю, что они есть… хм, были по крайней мере. И ты, и другие, глядя на меня, вы тоже знаете, что они есть или были когда-то. Своим глазам я доверяю больше, чем витиеватым текстам.
Нина: Я бы хотела посмотреть в твои глаза.
Медуза: Я бы тоже хотела в них посмотреть.
Нина: Какого они цвета?
Медуза: Сестры говорят, что янтарного или медового, с тонким черным ромбиком посередине.
Нина проводит пальцами по поверхности повязки, затем прижимается к ней губами, и по-птичьи несколько раз целует их. Склоняется к уху Медузы и шепчет.
Нина: Я думаю, что они прекрасны. И твои статуи умирают от силы их красоты, а не из-за проклятия.
Медуза: Правда?..
Нина: Я думаю, что ты вся прекрасная.
Из глаз Медузы вытекает несколько белых как молоко и блестящих как жемчуг слезинок. Нина нежно слизывает их и улыбается, прижавшись губами к щекам Медузы.
Нина: Если бы это не было греховным…
Медуза: Если бы ты обладала пониманием, что есть грех, а что благо…
Медуза целует Нину в губы, тонким раздвоенным на конце языком проводит по тонкой белой шее Нины. Когтем распарывает ее сорочку на груди и хочет поцеловать туда тоже.
Нина вскакивает и убегает.
Медуза молча продолжает смотреть на небо и звезды.
Персей. Наши дни. Трехкомнатный коливинг
Персей лежит в своей комнате на полу и печатает в заметках на телефоне.
Персей: Чувствую сильный страх и сложности в понимании реальности. Не могу вполне осознать, что на самом деле существует и существую ли я сам. Моё зрение словно сужено до туннеля, и дыхание становится затруднительным. Хотя не совсем так, я могу сосредоточиться только на одной вещи за раз. Всё остальное пропадает в расфокусе.
Дыхание участилось. Пишу, произнося в уме слоги. Очень боюсь смотреть в зеркало. И в окно страшно глядеть, но в смысле, что за ним кто-то или что-то может находиться.
Боюсь, что я нахожусь в состоянии изменённого сознания, и страшно, что это могут быть симптомы какого-то психического расстройства.
Я не знаю, у кого просить помощи, и боюсь просить. Страх становится сильнее, когда я думаю, что сейчас же нужно написать кому-то и попросить о помощи.
В то же время ощущение страха, одиночества и заброшенности очень болезненное.
Сейчас я начинаю произносить слова по буквам в уме.
Также я боюсь, что могу покончить с собой. Как будто есть импульс, и я могу сделать это. Или уже был такой импульс.
Страшно вглядываться в зеркало, но это всегда во время панической атаки.
Опустил голову, чтобы не видеть отражение.
Очень боюсь, что со мной что-то не так. Не знаю, что это. И куда обратиться с такими проблемами.
Что ещё? Есть внутренний голос, мой, но строгий. Он говорит, что я всё придумываю и преувеличиваю.
Кажется, что никто меня не любит и все меня осуждают. Я очень хочу принять душ, но боюсь смотреть в зеркало.
Я хочу раздеться, но я открыл дверь и боюсь, что меня увидят соседи, когда я буду голый.
И я всё ещё боюсь смотреть в зеркало.
Очень страшно, что со мной что-то не так. Не знаю, что это. И не знаю, куда идти с этим.
Что ещё? Я не хочу быть сумасшедшим.
Но если я такой, то хотел бы знать, как это называется и как с этим справляться.
Дыхание участилось.
Что ещё сказать?
Мне словно нечего сказать.
Боюсь двигаться и что-либо делать.
Хммм...
Я устал от писанины.
Мне пришло сообщение в Telegram.
Прикидываться, что всё в порядке?
Но я хочу написать, что у меня паническая атака и ощущение дереализации.
И потом, кажется, начнётся беспорядок.
От этого страшно.
И мне также хочется, чтобы кто-то сейчас пришёл ко мне.
Но это стыдно.
Если бы сейчас кто-то был рядом, мне пришлось бы очень стараться вести себя обычно.
Так боюсь выйти на балкон.
Ладно.
Всё, чего я касаюсь, ощущается настоящим.
Кусок подушки в руке, мой телефон.
Простынь и матрас под животом, под коленями, под стопами.
Настоящие джинсы.
Под ногой.
Я ненавижу всех.
Мои ноги ужасно мёрзнут.
Ладно...
Может быть, всё становится лучше?
Боюсь смотреть в зеркало.
Так что, вероятно, всё-таки не в порядке.
Или всё-таки в порядке?
Ррррррр.
Страх.
Я нахожусь в этом зеленовато-сером состоянии.
Попытался заснуть.
Но потом начал бояться засыпать.
Как бы хотелось, чтобы моё сердце разорвалось во сне, и мне больше не пришлось бы так чувствовать.
Это страшно иметь такие мысли.
Очень хочется спать.
Страшно спать.
Моё сердце болит.
Оно разорвётся?
Ну, я так сильно люблю жизнь.
Пусть оно разорвётся (попробовал написать это слово пятнадцать раз), если есть загробная жизнь.
Страшно, что кто-то придет.
Страшно что кто-то остался. Кто остался и где?
(открывает сообщение в Telegram)
Андромеда: Я осталась в воде в объятиях чудища морского.
Персей: Кто говорит со мной и о чем?
Андромеда: Я говорю с тобой. Я – Андромеда.
Персей: Откуда у тебя мой номер?
Андромеда: Путь к сердцу твоему открыт моему голосу всегда, в каждом из времен. Я говорила с тобой фресками, живописью, статуями, письмами, поэмами, телеграфными столбами, звонками по телефонам, видео, фильмами, кодами, книгами, играми на ПК и PS, теперь вот пишу с айфона.
Персей: Я вспоминаю фрески и вазоны, я вспоминаю картины, как ты писала их?
Андромеда: Художники так много проводят времени, глядя в море, их легко вдохновить. Через них я пыталась тебе сообщить о цели твоей.
Персей: Я вспоминаю звонки и письма. Но там был не я…
Андромеда: Это всегда был ты, я находила тебя в каждой эпохе и говорила с тобой так же, как говорю сейчас. Ты сначала не помнил, а потом вспоминал. Даже эти слова я говорила тебе уже. И эти тоже.
Персей: Голова болит и переполняется память моя. Ты была прикована к скале, на ее выступе ты стояла, и к тебе медленно двигался морской титанических размеров змей.
Андромеда: Там мы и встретились впервые.
Персей: И я пришел спасать тебя.
Андромеда: Ты был безоружен, ты не смог даже пальцем пошевелить в мою сторону. Боги не помогли тебе, и ты смотрел, беспомощно смотрел, как чудище шлангом собирается вокруг моего тела и под крики мои уносит меня на дно.
Персей: Да, я очень хорошо помню беспомощность. Импульс броситься за тобой и драться, пусть и умереть, он не мог прорваться сквозь броню фрустрации и онемения. Мне было тяжело двигаться, и я просто смотрел.
Андромеда: Я не виню тебя.
Персей: Где ты сейчас?
Андромеда: Я на дне океана, чудовище обернулось вокруг меня кольцами и спит уже несколько тысяч лет.
Персей: Ты там не задохнулась?
Андромеда: Нет, я жива и мои глаза уже привыкли к соли, но я не могу ни спать, ни двигаться. С тех самых пор. Мы все живы с тех самых пор. Наш жребий не был разыгран. И мы теперь живы. Ты и Даная перерождаетесь, Медуза не умирает, я недвижна в объятиях змея.
Персей: Кто Даная?
Андромеда: Ты вспомнишь, сейчас это неважно.
Персей: Я знаю это имя.
Андромеда: А ей известно твое.
Персей: Скажи, а я любил тебя?
Андромеда: Нет
Персей: Я тоже так чувствую.
Андромеда: Я любила тебя.
Персей: И мы с тобой… Как мы с тобой?
Андромеда: Мое сердце, переполнившись любовью, готово было распороть тело мое и рассыпаться созвездиями и туманностями. Я бы стала любимицей звездочетов, романтиков и космологов. И мне это подходит больше, чем твоя любовь. И любовь к тебе. В конце концов, я всегда хотела свободы, красоты и влияния.
Персей: Правда? Я не знал.
Андромеда: Никто не знал, но никто и не спрашивал.
До наших дней. После пира
Афина идет по залу, в котором совсем недавно был свадебный пир. Все люди замерли в нем статуями, кроме невест. Эвриала и Сфено стоят прижавшись к Медузе спинами и обнимая ее руками, они смотрят на богиню и сразу ее узнают.
Афина: Мне нравится, это красиво.
Медуза потупляет взгляд, до этого направленный в сторону трона, где сидят ее родители.
Афина движением рук разгоняет сестер от Медузы, и подходит к ней близко-близко. Медуза закрывает глаза, и упирается подбородком в грудь. Афина поднимает ее голову руками.
Афина: Посмотри на меня.
Медуза: О, Паллада, не проси. Я не могу навредить тебе.
Афина: Приказ то был, а не просьба. И навредить мне ты не способна, дурачье.
Медуза смотрит в глаза Афине и головокружительно ясно все понимает.
Медуза: Это был дар, твой, Афина. Иначе бы они каждую ночь ложились в мою постель, пускали в моей матке семя, сперматозоиды проникали бы в меня, и сплетались бы в паутину, вцепившись в хвостики друг друга.
Афина: Я не сильна настолько, чтобы убить мужчину-бога.
Эвриала и Сфено (хором): Богиня проявила мудрость и создала женщину-чудовище.
Медуза: Блестящие волны волос женщины-рабыни, манящие мужчин-господинов снимать штаны в подворотнях, ты заменила на три тысячи восемьсот девять изящных и тонких змеек, блестящих от яда инфернального наслаждения
Афина: А спелые груди женщины-матери, полные молока горячего, что мужчины-воины любят жадно глотать, убив сорок тысяч младенцев, я заменила скорпионьими жалами. Не прольётся любовь отныне из острых сосцов.
Медуза: Мягкие полные губы женщины девы полнокровной и крепкой, что стонут по указке мужчины-фаллоса, мужчины-животного, мужчины – ты знаешь, у нас такая природа, нам нужно много, нам нужно часто, женское тело лучше чем крепкие кулаки.
Эвриала и Сфено (хором): Богиня защитила клыками вепря и острым колючим ранящим языком.
Афина: Ты свободна от пенетраций и в этом равна мне. В остальном же ты такая же юная и неспелая, только сгнившая раньше времени, смоковка.
Эвриала: Паллада, мы видим в сестре нашей твой лик, ты коснулась ее своим божественным даром, мы служить ей хотим как первой жрице твоей, что по силе бесчувствия на четверть твой плод.
Сфено: Ты позволь уподобиться ей и тебя чрез нее восхвалять. Да мстить всем, кто нарушит вечную женственность и невинность твою.
Афина: Не хотите уйти, выходит? И не плачете по мужьям?
Эвриала: Не нужны нам мужья и родители, если можем тебе услужить хоть минутой жизни своей.
Сфено: Променяем красу свою крутобедрую и любовников всех на секундный твой взгляд, наполненный удовольствием.
Афина протягивает Сфено веретено, а Эвриале ножницы.
Афина: Непокорных судьбы сплетайте, непокорных воле моей и отца моего, да Гайи и Хроноса. Наполняйте их жизни испытаниями, болью, препятствиями. Пусть пожертвуют тем, что любят больше всего, чтобы путь свой найти во тьме этой жизни. А если не смогут, пусть тьма поглотит их жизни.
Эвриала и Сфено становятся перед Афиной на колени и превращаются в существ, похожих на Медузу.
Эвриала: О, никаким подчинением не отплачу я за дар твой, Афина.
Сфено: Солнце пропало или глаза мои?
Афина: Вам видеть не стоит того, что плетете вы. Иначе соблазн власти над чужими жизнями волю мою победит.
Эвриала: Дай хоть один глаз на двоих нам, богиня? Я не буду видеть, что режу, а Сфено не взглянет на нить, что плетет. А работа наша требует иногда присмотра, а то нити спутаются и жизни помнутся чужие. Не хуже ли это, чем власть да соблазн?
Афина: Правы вы. Знайте, что я знаю все ваши мысли и чувства, покуда он с вами.
Кладет в ладонь Эвриалы одно глазное яблоко.
Медуза: А мне как тебе услужить, Паллада?
Афина: Будь достойной наследницей дара моего и царства отца твоего. Дома не покидай, гостей принимай с тем, с чем пришли они к тебе.
Наши дни. Андромеда
cucumbar_19: Привет, форумчане. Каюсь за отсутствие! Пропал из-за работы, мочальник $uka, поставил оверфейхоа, смен на этой неделе. Первый выходной! Сижу, выпиваю прилично, и читаю все, что вы тут надрочили настрочили без меня 😂. @izo_lda, миледи, ваши слова трогают мое сердце 🌹🌹🌹 приятно, что хоть кто-то да тосковал по утомленному боями с мочальником рыцарю 🌹🌹
Во-первых, негодую! Доколе в наш уютненький виртуальный сад (хочется добавить «детский») будут впускать ботов. Одмен, я, твой покорный слуга, со всем подобающим случаю раболепием, вопрошаю: доколе?
Во-вторых, к сожалению я упустил главный инфоповод нашего двора! Бабки на скамейках метались тапками, а молодежь плевалась в ответ.
@check_meck, ты пишешь, что видео – это монтаж, что никто из сада живой не выходил. А ты не видишь, что снято дроном?
@yamarusya, кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, что тебя я не люблю? Видос разошелся по интернетику со скоростью света, потому что оператора нашли недалеко от сада, и последний кадр вы же видели? Там змейки шипят прямо в камеру, а потом съемка пропадает. Потому что у них глаза тоже вообще-то от хозяйкиных не очень отличаются.
Я вообще не понимаю смысол вашего срача. Пусть Фома Неверующий останется Фомой, а мы Еремами-дураками. Ну и бог с ним.
@andromeda_ne_byla, ты так уверенно пишешь, пруфы в студию, миледи, можно новую ветку создать и там все твои теории разобрать.
На этом все, комрады! Жду ваших ответов, мнений и пью за вас, за нас и за Кавказ!
Пы. Сы.: На следующей неделе мочальник назначил встречу тет-а-тет, как думаете, пан или у_е_б_а_н?
check_meck: Вот здесь у тебя и возникает противоречие, если бы видео не было ФЕЙКОМ, то все бы мы уже окаменели, потому что через камеру эффект такой же, как и в жизни. Если ты говоришь, что у змей такие же глаза, то и работают они также, а именно — превращают смотрящих в камень. Ты камень сейчас? А может, я камень? А может, миллионы людей с ютуба? Здесь у тебя не может быть контраргументов совсем. Все живы.
andromeda_ne_byla: Вот карта сада. (прикрепленный файл)
В саду статуи, чувствуют боль вечно.
В сад людей приводит три желания: суицида, любопытства и борьбы.
Эти желания характеризуют типы личности, которые привели их в сад:
• суицид – уныние, апатия, депрессия, невроз, психоз
• любопытство – желание подсматривать и учительствовать, осуждать и сыпать нравоучениями
• борьба – желание победить, выразить гнев и ненависть, дискриминировать
На стыке диаграммы Венна рождаются следующие типы личности:
• суицид+любопытство = изобретатели, ученые
• борьба+суицид = армия, полиция, птср, инвалидность, фантомные боли
• любопытство+борьба = все типы радикалов
• все вместе – artists.
copypasting только с упоминанием меня!
yamarusya: выглядит все по красоте, но я реал не понимаю, откуда все эти данные?
cucumbar_19: а что не понятного? из красивой головки нашей красотки!
yamarusya: рафл вафл
izo_lda: кукумбар! товарищ, и вы тут уже? ваш пострел, как говорится..
izo_lda: по поводу тредика, такой вопросы к т.н. авторке, почему ты назвала диагнозы, черты характера и желания – типами личности? Следующий вопрос: как они, обладая, всеми этими качествами характера, диагнозами и желаниями, поняли, что вот им надо, блин, непременно, в сад Медузы? И почему, последнее, но не менее важное, ты называешь диаграмму Венна – картой сада?
cucumbar_19: МОРТАЛИТИ **(читать голосом из морталкомбата)**
yamarusya: подписываюсь под всем выше сказанным и жду ответов от @andromeda_ne_byla
До наших дней. Дворец Медузы
Медуза и Сфено сидят за столом и играют в шахматы.
Сфено: Нить твоя пересекается с другою. Нам это не нравится.
Медуза: Что значит сплетение нитей в полотне вашем?
Сфено: Любовь или смерть.
Медуза: Ни то, ни другое мне недоступно.
Сфено: Он полубог.
Медуза: Полу-какой?
Сфено: Полу-Зевс
Медуза: Пиздец.
Сфено: Сын Данаи и Зевса.
Медуза: Я думала, его утопили?
Сфено: Все так думали. А теперь Персей идет к тебе.
Медуза: Зачем?
Сфено: Мы с сестрой не знаем. Не видим. Мысли его и намерения закрыты от нас шлемом гермесовым, крылатым. А сердце щитом, что Гефест сковал. Пока не придет и устами не заговорит, знать не будем.
Медуза: Ну, если любовь или смерть, то, выходит, либо соединиться в браке со мной он хочет, либо умереть.
Сфено: Или убить.
До наших дней Наши дни
Медуза и Персей в плотной лесной чаще
Персей делает вид, что спит, с усилием сохраняет расслабление на лице, и старается не открыть глаз.
Медуза смотрит на Персея. Проводит пальцами по его лицу и волосам.
Медуза: Я знаю, что ты не спишь. Но ты прав, глаз не открывай. Ты так красив, когда лицо твое спящее к луне обращено. Я вижу, ты взял с собой оружие, а не цветы и птиц из драгоценных камней. Идешь убить или умереть. И боги снабдили тебя для этого всем.
Персей: Иду убить тебя или умереть.
Медуза: Чего ты хочешь сам?
Персей: Ни того, ни другого.
Медуза: Понимаю. Но богам это не интересно.
Персей: Да, спасибо, что говоришь со мной об этом. О моих чувствах и желаниях. Я чувствую себя таким одиноким. Все, что у меня есть, это предназначение. Убить тебя, спасти Андромеду, убить деда.
Медуза: Я вот убила своего отца.
Персей: Правда? Мы живем в мире, где каждый второй убивает отца, а каждый первый вожделеет мать. Как нелепо! А ты хотела его смерти?
Медуза: Да, очень. А ты хочешь смерти своего деда?
Персей: Не очень, мы с ним даже не знакомы. Почему я должен убивать незнакомцев?
Медуза: Фатум. Из-под век твоих вытекают слезинки.
Персей: Все это слишком тяжело для меня.
Медуза: Да, понимаю.
Следующей ночью, Персей за день стал ближе к саду Медузы. Она обнаружила его у реки, где он умывался перед сном.
Медуза: Я здесь, не оборачивайся.
Персей оборачивается лицом к Медузе, его глаза закрыты, а на губах улыбка.
Персей: Я тебе очень рад. (протягивает руку)
Медуза берет Персея за руку, отводит его к мягкой траве под деревом, садится вытянув ноги и опершись на ствол спиной. Помогает Персею лечь головой на ее бедра.
Нежно гладит каждую частичку его лица и тела. Губы или щеки, грудь или колено. Ей хочется пальцами запомнить рельеф и фактуру его организма, запомнить – его хрупкого и физического, неокаменевшего.
Персей: Мне плохо спится со вчера. Я теперь ничего не знаю и совсем ничего не понимаю. Только сейчас, когда ты пришла, я стал чувствовать дремоту. Не думай, что ты наводишь на меня тоску. Ты даешь мне покой.
Медуза: Я помогу тебе уснуть, читая стихи. О тебе, о себе, о том, как я люблю тебя, и как ненавижу тебя тоже.
Персей: А я буду засыпать крепко и беззаботно, зная, что ни любовь твоя, ни ненависть ко мне не адресованы. Они предназначены тому, кто дал тебе любовь, а потом отобрал ее и пренебрег тобой.
Медуза: Неправда. Это все о тебе, к тебе и для тебя. Засыпай под стихи мои.
Я бы хотела, чтобы ты был моим ребенком. С той же силой, с какой я представляю тебя сдавливающим мою шею большой твоей ладонью от избытка чувств, с той же силой я представляю тебя, уложившим голову на мои колени, и тут уже моя тонкая и длинная ладонь растворяется в волнах твоих волос.
У тебя тихий голос, ты очень вдумчиво и долго говоришь, иногда я слышу море громче, чем тебя. Каждое твое слово я слушаю внимательно, знаю, что ты еще не закончил, даже если пауза очень долгая, я в твоих паузах слышу море, ты им говоришь тоже, ведь так?
Ты со мной говоришь морем. Я тобой молчу. Все мое тело – это импульс к твоему телу. Мое тело проявляет волю к твоему. Когда я прижимаюсь к твоей груди, я отчетливо слышу твое сердцебиение, я слышу, как под силой дыхания чуть расходятся ребра.
Я очень хочу целовать твое сердце. Я предполагаю, как оно выглядит, я не строю фантазий. И именно его, в паутине жировой ткани, красно-розово-синее, влажное от крови, за клеткой рёбер, именно его я хочу целовать.
Я хочу провести по нему языком, я хочу им нащупать каждую его складку и вену. Твое сердце это самое ценное, что есть для меня в этом мире.
Оно настолько ценное, что я бы не пустила ни одно донорское в твое тело, я бы смотрела, как ты умираешь, но с ним в себе. Оно было в тебе во чреве матери. Оно впитало весь твой опыт, оно пульсирует, когда ты волнуешься до сильной тряски, оно медленно глухо звучит, когда ты спишь. Оно это огонь света, благодаря которому я верю в свою небезнадежность.
Зачем ты спишь, зачем ты видишь сны, зачем ты ешь, зачем ты сидишь восемь часов на работе, зачем ты улыбаешься, зачем ты грустишь, зачем ты дышишь, зачем тебе боль, зачем ты дружишь, зачем ты опаздываешь, зачем ты покупаешь хлеб, зачем ты садишься в такси, зачем ты занимаешься любовью, зачем ты срываешь ветки цветущих глициний, зачем ты трогаешь, зачем ты мыслишь, зачем ты гладишь прохожую кошку, зачем ты разглядываешь узоры гор,
зачем ты….
если я не могу это наблюдать?
Нет большего удовольствия, чем ты
Нет большей боли, чем ты
Нет, ты.
Это мой ответ на любой вопрос, на любое предложенное взамен тебя богами и людьми благо.
Нет. Ты.
Т и Ы выглядят так скучно и нелепо, когда я говорю о тебе. Эти буквы совсем тебе не идут. Как и любые другие.
Тебе не идут буквы. К тебе не идут мои буквы.
К тебе идет мое тело, все мое тело – это импульс к тебе.
Моя воля, мой выбор, мое сердце – нет, ты.
Когда я впервые встала и пошла 26,5 лет назад, я сделала это, чтобы когда-то мои ноги могли привести меня к тебе.
Когда-то первые нейроны соединились в моей голове и стали зародышем интеллекта, чтобы я могла воспринимать тебя всеми органами чувств, осмысливать тебя моим развитым сознанием.
Нет?
Ты?

конечно сколько раз я пыталась прийти сюда ровно столько же раз убеждала себя что не стоит прошлое должно оставаться в прошлом а я должна жить настоящим боль по-кумыкски значит дели императив мне больно что ты разделил императивно мне больно что я отвергнута мне больно что я одинока мне больно что я растеряна видела ли я в тебе утоление этих болей кем ты был и кем будешь меня бесит ждать меня бесит твоя непокорность меня радует моя негибкость императивы это моя тема но гордость сложно преодолеть и вот она меня бесит я хочу вот искренне хочу чтобы меня ценили и любили такой какая я есть а я есть непримиримая я есть кровавая кривая я есть ярость и я же любовь ну реально хочу чтобы меня прямо нереально уважал ты и понял что это такой поступок провокация и демонстрация типа я себя не на помойке нашла мелочи это все а больно больно боль но я не буду против себя идти я знаю что я переживу ты это классная упущенная возможность впереди еще много других если я не буду такая то какая я буду униженная и отвергнутая так хотя бы просто отвергнутая и вообще со временем все меньше тоски все больше сосредоточенности еще пару дней
и я верну с
е
б
я
Иногда я могу расплакаться после мастурбации, потому что чувствую себя опустошенной и одинокой.
Когда я думаю о тебе, так не бывает Вообще многое, что с тобой во мне связано, иначе, чем привычное и болезненное
Еще иногда я очень боюсь, что перестану это чувствовать. Хотя уже очень давно не перестаю это чувствовать
Эмоций и слов так неисчерпаемо много, что сколько бы я ни писала, это не истощается
А в этой новой для меня откровенности только крепнет Я боюсь любить сильно.
Это мне дается сложно. Но какое же это удовольствие и счастье – любить тебя сильно Ты и представить не можешь
Когда я думаю об объятиях с тобой, мои предплечья, ладони и бедра горячеют.
Я вспомнила кое-что
Когда я тебя увидела,
то подумала, что мы были едиными частичками звездной пыли или чего-то такого,
что вырвалось во время взрыва, стало атомами, жизнью, любовью, руками, волосами и запахами.
Это чувство
сохраняется во мне
и часто крепнет.
Я очень хочу быть в твоих объятиях.
Положить голову на твою грудь, засыпать, слушая твое сердце. Я не могу о тебе говорить, что мне тебя не хватает. Слово «нехватка» не описывает масштабов опустошения. Ты полнота моей свободы. Я очень тебя люблю. И иногда, когда мне совсем плохо и ничего не хочется, мысль о возможной, маловероятно возможной встрече, когда-то в течение жизни, этой или следующей, удерживает меня в сознании, силе, деятельности. Я сейчас скажу трюизм, но они всегда точнее всего. Любовь это не то, за что умирают. Это то, ради чего живут. Я не живу ради любви. Но в ней я нахожу силы к жизни. А она в тебе. Она к тебе. Да.
Невыносимо сильно хочу тебя.
Я всегда хотела слиться с другим. Но никогда это не удовлетворяло меня в процессе. Здесь я обретаюсь и становлюсь целой и без слияния. И этот опыт меня научил видеть, какая я уникальная. Как мне повезло родиться и прожить именно свою жизнь. Как щедро я одарена красотой души и тела. Как это все выжило во всех обстоятельствах моей жизни, прошло через все мои выборы и стало только ярче. Я чувствую, как мне важно избегать вредоносных людей. Людей, которые во мне это ненавидят или не могут принять. Мне казалось за радость получить от кого-либо хоть крохи любви. И я не понимала, что это – тлеющая спичка, а моя любовь – солнце. Если я люблю кого-то, если уделяю внимание, это значимо. Я чувствую, что больше не смогу принимать вред в ответ на мою любовь. Потому что я наконец вижу ее силу. Я столько раз это слышала от других. Впервые в жизни я слышу свой голос. Неловкость и стыд за то, что я есть, сменяется во мне ощущением счастья, я есть, я, несмотря на препятствия, выбирала исправляться. Хотя конечно, я сама того не зная, выбирала исправлять. А насчет себя я выбирала обретаться.
И обретаюсь.
До наших дней. Картли
В саду Медузы.
Глаза Медузы перевязаны черной повязкой крест-накрест. На ее лице будто черный икс, на ее лице будто черная неизвестность.
Нина: Я отмолила, я искупила. Наш. Грех.
Медуза: (проводит рукой по внутренней стороне бедер Нины) Чем ты это?
Нина: Я работала на кухне, кипятила бульон. Сестрам сказала, что случайно облила себя. Меня стали лечить, несколько дней я провела в постели. Сестра Тамара присматривала за мной, она меняла простыни по несколько раз в день. И умоляла меня принять лекаря. Я отказалась.
Медуза: Почему?
Нина: Ей я сказала, что неправильно мужчине осматривать меня между ног.
Медуза: Тебе не хочется жить, Нина. Ты называешь это наказанием. На самом же деле ты убиваешь себя, медленно и мучительно. Ты не согласишься со мной, потому что убивать себя, по-вашему, это страшный грех. И тогда ты не сможешь соединиться с богом.
Нина: Я делаю все, чтобы искупить свою похоть. Страсть к тебе. К женщине, к язычнице.
Медуза: К чудовищу.
Нина: Знаешь, назвать тебя чудовищем, или слышать, как это делаешь ты, для меня это тоже грех. Богохульство. Когда я вижу тебя, я хочу жить. Когда мы расстаемся, хочу…
Медуза: Очиститься?
Нина: Хочу снова к тебе.
Медуза: Правда? Почему ты не уйдешь ко мне? Почему отказываешь все время и сбегаешь обратно?
Нина: Мне не хватает смелости говорить о своей любви, уйти оттуда к тебе, всего несколько тысяч шагов. И, совершив их, я должна буду признать, что поддалась страсти и греховной любви. И отреклась от тех, кто растил меня.
Медуза: Я тоже растила тебя.
Нина: Почему я не могу совместить две своих жизни, дневную и ночную. Почему я сбегаю к тебе как преступница.
Медуза: Ты хочешь несовместимых вещей. Но, знаешь, пусть это прозвучит жестоко, но я, только я, с самого твоего детства, по-настоящему принимаю тебя. Твой бог учит принятию. Я много о нем слышала, сюда приходили его ученики, очевидцы и свидетели.
Нина: А его ты не видела?
Медуза: Я не могу покидать Колхиду. Мне доносили многое о нем. Например, что он в меня не верит. А я в него верю, знаешь. Но не так как ты. И даже больше, чем ты. Я знаю, что он был, и знаю, чему учил. Мне пересказывали слова те, кто их слышал.
Нина: Счастливица.
Медуза: Да, его слова тогда вызвали во мне много уважения. Я стала верить в человечество. Мне говорили, что он спас проститутку от избиения камнями. Конечно, я до сих пор с трудом и только ради тебя называю его богом. Для меня он — выдающийся учитель людского. Он не говорил ничего, что человеческий разум не способен постичь.
Нина: Будьте просты как голубки…
Медуза: Нина, нигде и никогда он не говорил, что прекрасные юные чистые души должны делать с собой то, что делаешь ты. Зачем же ты делаешь это?
Нина: Он говорил про мужеложество с отвращением. И про ласки самостоятельные тоже.
Медуза: Да, он действительно много говорил про мужчин. И обращался тоже к мужчинам. Женское тело не было ему знакомо, и он избегал говорить о нем. Тем более, что-то ему приказывать. За это я его уважаю тоже. Он знал границы. Он не запрещал женщинам трогать себя, трогать друг друга, любить друг друга.
Нина: О Боже, это софистика! Твои педагоги по риторике, должно быть, сейчас сияют от гордости где-то в подземном царстве!
Медуза: Я не понимаю, почему вас перестали ей учить. Но послушай, разве я не права? Я беру его прямую речь и фундаментально к ней обращаюсь. Разве он обращался к женщинам и запрещал им что-то?
Нина: Я не буду даже слушать тебя. Я отключаюсь, мои мысли в молитве сейчас.
Медуза: Молись, это верно. И хорошо даже, что ты молишься тому, кто не велел тебе обливать себя, свое женское, кипящим бульоном.
Нина: Лучше выколоть себе глаза, чем прелюбодействовать даже в мыслях.
Медуза: Нина, автор этих слов даже не встречал его ни разу!
Нина: Ты слишком прямолинейно все воспринимаешь.
Медуза: А ты слишком абстрактно. Хотя даже если говорить про прелюбодеяния в мыслях. Хм… Этот мужчина велел избегать размножения. Что это, если не коллективное самоубиение? И что, если не противоречие одному из первых приказов отца: плодиться и размножаться?
Нина: Змея-искусительница.
Медуза: (ласково) Так и есть. Не я ли протянула тебе запретный плод с древа познания любви и зла?
Нина: Добра и зла.
Медуза: Добро и любовь для меня синонимы. Ты останешься со мной на ночь?
Нина: Останусь.
На рассвете Нины уже нет. Сфено входит в покои Медузы.
Сфено: Ваши нити не пересекаются. Девчонки не может быть в твоей судьбе, а тебя не может быть в ее.
Медуза: Что это значит?
Сфено: Я не понимаю, Эвриала тоже. Возможно, Афина смогла бы нам разъяснить, но она все еще молчит.
Медуза: Она все еще мертва, как и все остальные боги.
Сфено: Хватит это повторять. Мы нарушили ее завет и она отвернулась от нас.
Медуза: Да-да. А от меня ты что хочешь услышать?
Сфено: Я просто пытаюсь понять причины парадокса. Как все это случилось, если ваши нити не пересекаются.
Медуза: Хватит! Хватит лезть в мою судьбу! В прошлый раз вам тоже не понравилось, куда движется моя нить. И вы всё! Абсолютно всё! Разрушили!
Сфено: Мы не могли позволить тебе умереть. И не позволим снова.
Медуза: Вам это не помогает. Каждый раз вы отрезаете нить Персея, а она все равно появляется в вашем полотне.
Сфено: Ты хочешь, чтобы мы позволили ему отсечь твою голову и использовать ее как орудие?
Медуза: Он бы со мной так никогда не поступил.
Сфено: Да-да, наивная! Ты до сих пор наивная! Один воспользовался твоим телом, другой запер в грязной темноте, третий собирался запихнуть твою голову в мешок, а потом прибить ее к своему щиту, чтобы сражаться и слыть храбрым воином да справедливым царем.
Медуза: Пусть так. Пусть так. Пусть так. Неужели ты не понимаешь, что смерть была моим единственным исходом? Так хотели боги, и даже Афина, которой вы пятки прежде вылизывали, как преданные собачонки.
Сфено: Мы с Эвриалой преданы семье. И ты наша единственная семья. Мы будем защищать тебя, раз не сумели защитить тогда.
Медуза: Что вы могли сделать против Посейдона?
Сфено: Не оставлять тебя одну на пляже тем утром.
Медуза: Вы обе — пряхи судеб героических. Вам ли не знать, что воли Тюхе не избежать?
Сфено: Пока нам удается.
Медуза: В каждом новом перевоплощении он оказывается все старше и ближе. Вы не остановите его. Вы не сможете. Лет через сто или двести ваши ножницы не обрежут его нити. И он войдет сюда.
Сфено: Значит, у нас есть время, чтобы что-то придумать.
Андромеда. Наши дни
Андромеда: Понятие «сети» трансформировалось вместе с миром. Теперь я живу в сети, но не в морской, а в виртуальной. Пусть телесно я все еще связанная в кольцах морского чудища, мыслями я могу быть здесь.
Персей: Ты в облаках, выходит?
Андромеда: Типа того.
Персей: А как тебя спасти?
Андромеда: Когда ты окажешься на берегу моря, рядом со мной, чудище пробудится и поплывет в твою сторону, а я буду привязана к его спине. Кричать и просить о помощи.
Персей: Для этого я должен убить Медузу? Обезглавить ее и взять ее голову с собой?
Андромеда: Да. Насилие порождает насилие.
Персей: Ага. А почему мы перерождаемся? Ты знаешь?
Андромеда: Я пролетаю спутниками и старлинками над каждым уголком Земли, я знаю все про всех.
Персей: Ну говори, значит.
Андромеда: В самый первый раз, когда мы проживали эти жизни. В самый первый раз. Пряхи сюжетов, нарративов и мифов о героях, Сфено и Эвриала, отрезали нить твоей жизни, чтобы ты не добрался до их сестры, Медузы.
Персей: Чтобы защитить ее от меня?
Андромеда: Да.
Персей: И мы перерождаемся, чтобы я закончил свое дело?
Андромеда: Да. Действия сестер вызвали пространственно-временной парадокс. Я замерла в процессе вечного похищения. Ты и твоя мать рождаетесь снова и снова, в разных эпохах, каждое поколение. А Медуза и ее сестры продолжают жить.
Персей: Ты сердишься на них?
Андромеда: Раньше бывало, да. Сейчас я равнодушна ко всему.
Персей: А мне ни разу не удалось выполнить свое предназначение?
Андромеда: Да, сестры всегда перерезают твою нить. Но с каждым разом это им дается все сложнее. Нить тянется все дальше и дальше, становится все плотнее и плотнее. Когда-то ты и до года не доживал. Но с каждым разом ты все старше и старше. Как видишь.
Персей: Мне кажется, в этот раз я доберусь.
Андромеда: Мне тоже так кажется.
Персей: И мне придется убить Медузу?
Андромеда: Тебе придется спасти меня. И свою мать тоже.
Персей: Ценой жизни Медузы?
Андромеда: Тебе надо спасти нас. Мы так больше не можем. Умоляю, спаси нас.
До наших дней. Картли
Глаза Медузы перевязаны черной повязкой крест-накрест. На ее лице будто черный икс, на ее лице будто черная неизвестность.
Медуза: Останешься на ночь?
Нина: Сегодня я очень близка к тому, чтобы остаться навсегда.
Медуза: Правда?
Нина: Да. Я не хочу больше разделять свою жизнь на две. Я от этого очень устала, я устала от такой жизни. Я хочу остаться с тобой навсегда.
Медуза: Я так счастлива это слышать.
Нина: В этой жизни меня вели и ведут два чувства: стыда и любви. Мне было стыдно любить тебя, мне было стыдно не любить тебя. И я всегда за стыдом забывала о том, что я люблю тебя. Я очень люблю тебя. Я люблю тебя во всем, что ты есть. Я люблю смотреть на твои статуи, на их мимику, вечно выточенную в камне, на их последний взгляд. Я завидую им, что они видели тебя, я радуюсь за них, что они видели тебя.
Медуза: (целует ладонь Нины, прижимая ее пальцы к своим губам)
Нина: Позволь спросить? И обещай, что ответишь честно.
Медуза: Да?
Нина: Ты была здесь, когда меня сюда привезли. Ты видела моих родителей?
Медуза: Я видела твою мать.
Нина: Она принесла меня сюда?
Медуза: Да.
Нина: Одна?
Медуза: Да, я увидела девушку, которая шла вдоль реки. Потом она где-то среди деревьев затерялась. Спустя время я услышала плач. И поняла, что она оставила тебя там, у порога. Так многие делали.
Нина: (холодно и монотонно) Я попросила тебя отвечать правду, не так ли?
Медуза: (змеи на голове Медузы, до этого спящие, начинают медленно шевелиться) В чем я соврала тебе?
Нина: В том, где она меня оставила. Она прокралась в твой сад и оставила меня здесь, не так ли?
Медуза: (змеи взволнованно приподнимают головы) Да.
Нина: Она хотела моей смерти, да?
Медуза: Вероятно.
Нина: Чтобы ты на меня посмотрела, да?
Медуза: Вероятно.
Нина: А ты отнесла меня туда, да?
Медуза: Да.
Нина: Ты поступила так же, как она. Ты знаешь?
Медуза: (змеи смущенно сжимаются) Я не могу растить дитя. Я пыталась спасти тебя. Я думала, что тебе будет лучше среди живых, чем среди окаменевших.
Нина одной ведет рукой по лицу Медузы, а другой перебирает ткани своего одеяния.
Змеи на голове Медузы собираются сжатой пружиной.
Нина: Я тебя прощаю. Просто хотела все прояснить здесь и сейчас. Прежде чем я останусь.
Нина протягивает зеркало к лицу Медузы, а второй срывает повязку с ее глаз.
За мгновение до этого несколько змей с головы Медузы упругим ударом разбивают зеркало у ее глаз. Осколки рассыпаются по земле и теряются в траве у ног Нины.
Взгляды Медузы и Нины встречаются.
Медуза: (легкими птичьими поцелуями покрывает лицо и руки Нины, пытается вновь почувствовать мягкость ее тела и его тепло своими пальцами): Ты и правда осталась. Ты осталась со мной. Ты осталась. Ты здесь теперь будешь всегда. Все, о чем я мечтала. Разве так я мечтала. Разве ты теперь тоже — они? Разве мы не станем мы? (из глаз Медузы текут слезы на окаменевшее тело Нины, дорожки слез Медузы оставляют на статуе кракелюры)
Наши дни
Персей идёт по саду и рассматривает статуи. Он находит Медузу у статуи Нины: Нина застыла, протягивая руки на уровне глаз Медузы. Медуза щекой прижимается к холодным каменным ладоням Нины.
Персей: Я здесь, не оборачивайся.
Медуза: (оборачивается к Персею, ее глаза закрыты, а на губах улыбка). Я очень рада тебе. (протягивает ему руку)
Персей берет Медузу за руку и крепко ее сжимает, а затем слегка целует, и прижимается к ее ладони так же, как недавно Медуза прижималась лицом к ладони Нины. Персей садится, вытянув ноги и опершись на постамент, на котором стоит Нина. Помогает Медузе лечь головой на его бедра.
Нежно гладит каждую частичку ее лица и тела. Губы или щеки, грудь или колено. Ему хочется пальцами запомнить рельеф и фактуру ее организма, запомнить – ее хрупкую и физическую, неокаменевшую.
Медуза: Я очень долго ждала встречи с тобой.
Персей: А я забывал о тебе, каждый раз забывал о тебе. Ты не представляешь, как грустно мне было жить, не зная о тебе.
Медуза: Да, меня спасала мысль о том, что мы непременно, рано или поздно встретимся. И что ты есть на этой Земле, и всегда будешь, пока есть я.
Персей: Послушай, а почему все статуи растресканы болью и насекомыми, а эта девушка, она растрекана плющем и шиповником?
Медуза: Статуи разрушает то же, что разрушало их при жизни. Ее разрушали любовь и несвобода.
Персей: Вы с ней очень похожи.
Медуза: Вы с ней тоже.
Персей: Значит, и мы с тобой.
Медуза: Мои сестры хотят убить тебя.
Персей: Как думаешь, это сработает?
Медуза: Сомневаюсь. Ты будешь снова рожден в следующем поколении.
Персей: Я бы так хотел умереть. И тогда мне не пришлось бы спасать маму и Андромеду, но и убивать тебя.
Медуза: В прошлый раз ты попробовал убить себя здесь.
Персей: Да, это не моя судьба. Пока я не осуществлю свою судьбу, все так и будет продолжаться.
Медуза: Понимаю. Но я не хочу умирать ради твоих матери и невесты.
Персей: Я хочу, чтобы ты была моей матерью и невестой.
Медуза: Нам некуда торопиться. Побудем вместе, будем детьми, родителями и возлюбленными друг другу. Пока ты не убил меня или не умер сам.
Персей склоняется к Медузе и целует ее в губы, нежно-нежно-нежно.
Не отрываясь от поцелуя, Медуза проводит рукой по волосам Персея, перебирая, найденный в густой траве, под ногами Нины, острый и тонкий осколок зеркала, в пальцах.
Персей чувствует на виске что-то твердое и тонкое. Что-то что прижимает к нему Медуза.
Медуза чувствует, как солнечный зайчик пробегается по ее ресницам, осколок она повернула правильно. «Еще чуть-чуть», думает Медуза, «это ведь в первый и в последний раз, я буду наслаждаться столько, сколько успею».
Персей чувствует прохладу стекла и понимает намерение Медузы. Когда уголки ее губ расходятся в улыбке, он открывает глаза.
Медуза открывает глаза, видит перед собой лицо Персея, а затем переводит взгляд на свое отражение в осколке зеркала, который держит в своей руке у лица возлюбленного. Улыбнувшись себе, она снова смотрит на Персея, чувствуя как каменеют ноги и бедра.
Их взгляды встречаются в первый и в последний раз.
Их губы хранят поцелуй вечность.
Сад Медузы начинает разрушаться, статуи осыпаются песком, а все живые – плотью.
Время начинает разрушаться и все возведенное им испаряется.
Вселенная сжимается до размеров точки.
Ничего нет.
Никого нет.
Только любовь.
Которая нагревает собой точку – вселенную.
Которая расширяет собой вселенную.
Которая взрывает собой вселенную.
Которая охлаждает собой вселенную.
Которая освещает собой вселенную.
Только любовь.
Которая рассыпает себя на звезды и галактики.
Которая наполняет своим жаром солнце и притягивает к нему десяток планет своей гравитацией.
Только любовь.
Которая тает и разбивается о Землю водой, мировым океаном, и покрывает собой большую часть суши.
Которая соединяет между собой частицы и пробуждает в них жизнь случайной мутацией.
Только любовь.
Которая проникает в клетки.
Которая эволюционирует в тысяче разных жизнеформ.
Которая прячется в пещере Денисова.
Которая, смешиваясь с глиной, становится
законами хаммурапи
пирамидами
колизеем
и
айей софией.
Только любовь.
Которая в тонких трупах деревьев
наполняется стихами и цифрами.
Только любовь.
Которая соединяет тела наших предков,
их пот, кровь и слюни , чтобы оказаться в тебе и во мне.

-1.png)
-2.png)