«Флаги». Второй номер
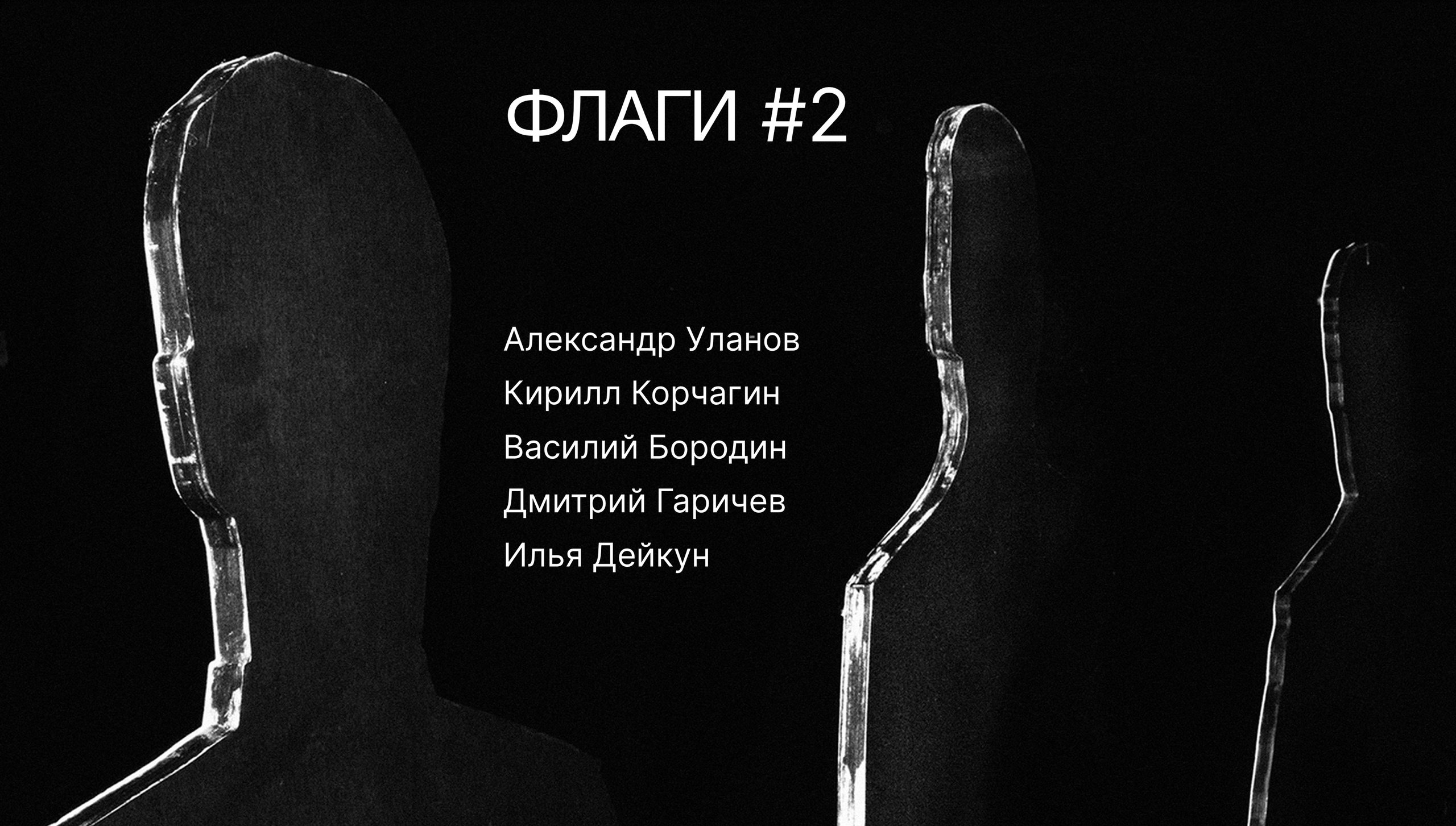
Содержание
Фото на обложке – Никита Караск | inst: @karaphos
Путь сообщения тепла
***
кремень кипящей холодным песком воды корень раздвинет камень упругостью непрямой кто оставляет подошвы и кто следы к берегу повернешься а он за кормой выгорев изнутри дерево станет дом щель в коре дождется новости и письма цвет выбирается из белизны с трудом ночь развернет забытая красок тьма если есть о довольстве спрашивать смысла нет опираясь на обожженную глину чуть-чуть собирается в лист меняется свет трогая не приходя предлагая путь
***
«земля нас любила немного» [1]
много не нужно иначе
астрами среди астр лисами среди лис
нет обернутыми темным полем цепляясь за стрекот
цаплями чуть замеченными спящими по краю потери
трещинами в воздухе обнимаясь
памятью наматывая с шипов шепота
яркость ветра ночного в твоих и моих глазах
дальше самим в соединенье смещенья
тенями звезд рисовать нервным блеском тонущей ложки
переправлять не править
к быстрой улыбке листа под полотном
догонять туман туманом в тебе и мне
путь сообщения тепла над открытой водой
дальше зрения прикосновенье ресницы
сгорая в своих кострах
[1] Рене Шар, «Эвадна»
***
настаешь наступаешь анестезия
вестью везти читая воду
в высохшем поле грозы заглядывая за воздух
в крике по грудь в зеркале ветра голод что между памятью и встречей
соединяет дорога не между а за мёд теней описать невозможно войти и быть
где пальцы горят не сгорая ночное письмо тебя клей голубой смолы
трещина кость пустоты на качелях касания бегом лежащим связаны
успеем вплестись в стекло дверь окну оставляя и поцелую углы
***
яд земли будильник радиопомех соломенный чайник болезнь стертых перекрестков под водой страха во сне зная что защищать в шахматы больными фигурами не боясь включенными в жар возможного занято медью и оловом эхо амфор логос паук спокойствие связи ветер кормит не только стрижей с сахаром медленности песок что не сдвинулся с места древние взрывы смотрят с неба длинные иглы пиний полет обтачивает камень не живет зимой чертежей в засухе ржавчины дождь собирается в цветы зонтики кристаллов проселочные стены ножницы (пред)(по)чтений изнутри вылепить точностью междометий о! и пусть смятостью коры выходя на край модерном скал так резьба входит в резьбу по мосту сквозняка тревоги поправиться к морю по игре птицы произошедшего живы
***
мы сейчас песок а песок печенье сети скал слоистых обрывы
в утренние глаза травы под красными каплями веток
корни вышли в воздух берег и небо делить на стрекозиные крылья
и без крыльев зеленые перья чертят круги под ветром
приглашает кора в иероглифы Крита
вытекает лицо из нее раздвигая глазами
сухость линий их точное наклоненное пламя
след стопы в нем превратился в уголь
но возможно черных жуков оживить пусть идут друг за другом
упираясь рогами в развернутый грохотом город
это просто так никакого смысла превращениями ускользая
до конца еще много успеет случиться так продолжаем
***
Свет подбирается со спины, с затылка, не освещающий – светящий. Разъедающий плечи и волосы. Жесткий, проламывает горло, выплескивается изо рта тошнотой звездной пыли. Ему нет дела до лица, сливающегося с тьмой.
Тьма собирается в теле отовсюду, так, что уже не выяснить, где тело, а где не оно. Вырывается нефтяным фонтаном головной боли из виска. Брызги на стекле света. Лицу оставаться спокойным – больше ничего не остается.
Наклонить голову – стать маской, задрать – стать умильным скелетом. Шея пряма. Размытой акварелью вдоха превращаясь в облако в больничном коридоре, стягивая простыню взрыва, поднимаясь локтем лба грусти о мертвых.
***
гораздо больше различий между жизнью и жизнью,
чем между смертью и жизнью
– Ингер Кристенсен
дыхание встречи различия несовпадение
сколько воздуха в дереве
точки сточенные камни песка сжимая
не согласована боль неизбежна
проходящая из земли горечью железа
бесполезное горло оказываясь скорлупой
не бояться раны не создавать
знаешь как время сгорает
из столкновения собранное из осколков
не шар течение поперек
прозрачность режущего не соединяет
по лестнице крови плечи и ступни решают раньше
не уклоняться от боли не идти за ней
разрыв до после переходящая стена
не оправдывается соль оправдывает
в промоины вещей поленья полей
голосами поддержать огонь
***
дело мое ждать когда ты придешь собрав
дело мое собирать чтобы было куда прийти
знать что и ты торопишь ко мне
не вздыхать об отсутствии делать чтобы присутствие было
звать событием не просьбой
звать тем что может быть не тем что прошло
дело мое быть окном и дорогой
мир открыть и создать куда тебе уходить
дело мое отвести ладони
не удерживать страх твой или мой
встретить если вернешься
радость моя дело мое
***
не привык и никогда чуть пришел в себя с утренним туманом на подушке чуть ниже лимоны лемура свобода доверия кожи постоянным черным огнем глубины открывает взглядом обвивая теплом провалы в ночь среди дня на перекрестиях ряби света в постоянстве соприкасания разбросанной одеждой к неожиданно сложенному слову отражения белых тревог треском мгновенной ярости соскальзывая в покой в разделениях отпуская к музыке встречаясь в различиях расширяя круги продолжим считать дни по ночам
***
иероглифы комнат между пчелами стекол ждать суставы на расчете кота на слове моста синим и апельсиновым сшить шагами море нести в сосудах хлебом касаний поворотом ключа полета в пространстве слюды струны берегов не раны пробоины в янтаре разлома вода что кипит в горсти где желание свет разгоняется отбрасывая прежние лица на опоре дождя вязкость возможного прозрачность хрупкого повторяемое неповторимое иначе завтра не будет без ветра небо упадет на землю
***
друг к другу лицом и когда стоим за спиной
перепутав что приходит тобой или мной
не исчезая внутри не преграждая взгляд
и кормить тебя одним и тем же нельзя
убегая друг от друга так вместе будем
тревоги прерывистость ветра жесткость
места глубиной нити видеть как видишь
двигаясь в удивлении застыв
происходит всегда начинаясь
постоянство падения сквозь
солью ключицы на языке опрокинувшегося из нас
занимались огнем и основали час
твердой точностью пальцев у мягкой скрытой глубины
маленькими смертями уходя от большой
горного сна тебе
Время реки
***
кто лежимо потерян предвидием
то вдогонку злу отравь молоко
смерть ранней жизни
ей окном дано видно присваивать
сжимать глазом мирность
малина и милые сорняки
столье чаша уставшей моли
рот маленький отражает
эмоциональную транспортацию
от плеча доставая всё тайное
их шагает встреча
до плеча
до опущенных ушков
уста человек трут в карманах памятки
***
мал человек зимой управлять
погоду знать
отяжеленье света видеть
когда тот в холо дуну руку
ляжет
люблю собачек и черн черепки
о чём и ласка
веткам слышит ухо идущего
шагающего по своим топтылям
взгляд из дерева
пальчики перебирающие в них камушки
по холоду не жаль их?
шобко улочкой уходить после свечевания
с льдин-глаз
с окошек где духи домов шепча́т:
гниша-весна придёт
***
тени отдали себя снегу. пришло время реки, где блестяшек давно не видел глаз рыбы.
правило рыбака не обидеть рыбу, – каяться не буду. спокойно живу, не обидел правила. рыбалки больше не существует есть покаяние есть молитва-сургуч. гребцы мычат я тоже им был. мычание гребца не то же самое что мычание когда усыпляешь ребенка.
почему все к месту соревнований, что с человека через укус через строй любить быстрое пространство. линии цветные по глазам зеленые пыши хрустят по ушам. замёрзло и это.
‘все бежишь бежишь, а куда бежишь?’ – человечушко спрашивает звезду.
прогнозировать погоду как-то печально в небо. в мире природы и людей вроде никто ничего не смыслит. опережать течение жалко совсем... знать какая она, бытность, тишины угрюмия. всё осмотрели и связали, а мерзнут. а не как все солнечные дети разъехались кусков хлеба и кустов нет.
(отрывок из рассказа `– тӥ сонец`)
***
болезнь у него была маленькая. организм – длящийся характер колотья. тёмная воздушная подушка, круглые шорохи головные, поезда по пальцам. приходил в контору, спрашивал про предел, в ответ: не держите в памяти. носил шапку всюду чтобы ничьи заборчики не нарушали препятствия прогулки, чтоб их, заборчики, еще и не сломать. смотрящие вокруг опята, увядающая природа в целом ряде альтернатива зеленому. глаза: солнце не для дома. солнце – большой подарок маленькой буквы карандашом. все разговоры побежали к дедушке с собакой, смотрел в глаза сидящего перед ногами. прикосновение щекой прохожего доброго коркой глазом, светом из двери. своим бокубоком помочь веткам и кусочкам воздуха. ребенок живет в мире людей и этого не знает. в глаза не видел, в них чего? на лице не краюхи умывания, не видит в этом прок. смотреть в небо и его скорлупки, а потом сбрасывать с себя грязь за окном танцуя, уходят постоянно поезда. и всегда есть время смотреть передачку по реке, на ногах лапти, взгляд в заводе пальцы в бумаге. всегда жить задержками сверху.
(отрывок из рассказа `– тӥ сонец`)
***
куддыръя со мыным уродэн векчи чорыгез умой-а урод-ми сое мукет чорыгез умой яратон мон тау чорыг яратӥсько мыным шунды, мон ляб яра-а мыным но тон мынод, мон мукетыз кузя питыраса кошко мон мыным мынам мон мыным мынам пичи изьыны уг кышка вань книгаосты мон ӧжытгес часозь изиськем ук суреда монэ шузи нунал шоры учкыса, мукет эш лыдӟоно мукет
перевод:
хороший плохой злой я его иногда мелкая рыба-солнце, рыба я рыба я люблю другой любовью я благодарю его лучше, я тебя люблю и мне плохо идет, я пошла спать я по другому не боюсь я я я я я я верчусь весь день я спала до часов меньше зависят нарисовать
маленький глупый смотрит на книгу, читает друг другом
другими
Чтобы воздух
***
Чтобы воздух вошел на огромном крыле осеннерожденном
в дикие полости ветра, просыпайтесь пораньше пока машины
еще не работают во дворах и листва на ложе своем мягкими
катышками сон устилает. Всех нас полюбят чешские девушки
такие смешные, а чешские мальчики скажут: давайте уже
отсюда, и всё станет ясно даже туристам и некромантам
тогда взорвется зимний осколок тот, что в горле застрял
твоем, и в последний вечер на этой земле мы вернемся туда
где самое ясное небо и шпили его прорезают слои, где нас
помнят еще другими, не предавшими никого
ПЕСЕНКА КОРОЛЯ НОЧИ
Из Эдмона Жабеса
Знаком ли ты с черным царем
у которого в сердце
клинок и цветок?
А знаешь его сестер?
Одна ветра́ пробуждает,
простоволосая, руки подняв.
Другая, столетняя,
океан возбуждает.
А третья – мышь
которую царь
привесил на галстук сыну.
Но тридцать ревнивых князей
утром прикончат
своего господина.
Такая печальная сказка
о Малаке черном царе
у которого в сердце
три призрака плачут.
***
юг подступающий с каждым шагом на юг
север раскалывающий ветра и циклоны
засеянные поля и снова засеянные поля
как в стихотворении хорошего поэта
или как в стихотворении плохого поэта
скалы, камни, буря, гроза – закрываешь
глаза и видишь узоры гор, их гро́зы,
производство ими снега и льда, пара –
это бонды и опционы гор, растущие к лету,
легкие как куртка моя накинутая на стул
пока нет меня и долго еще не будет, и все
потрясения в жизни производящего солнца
их не минуют, они их запишут в книге
горного снега, даже если это не снег, а пепел –
лишь подлетая ближе, он превращается в снег,
и на синих деревьях к вечеру листья шумят
плески пещер узловатых на прибрежный
выходят песок, смотрит графики и таблицы
любопытное существо, всё в бахроме хрустальной,
колкой для девочек провинциальных
и столичных мальчиков, тоже влюбленных –
они входят в метро и на них наплывает
стохастичная грусть воздушных разрывов:
им бы прилечь в этот лучший из дней,
в темноте очнуться и в темноте пробудиться
под наплывающим режущим светом
***
Из Мишеля Кутюрье
Камень могильный катила заря
И птица бесшумно спускалась к земле
Как черный камень на дряхлый луг
Низко летела – снаряд летел
Раскрывающий старые раны измельчающий
Наши рыхлые дни
***
Из Андре дю Буше
в этом покидающем солнце свечении,
где жара вся разрешилась в огонь,
я бежал, пригвожденный к свету маршрутов
пока не сложился ветер.
Там где я разрываю воздух
ты ушла вместе со мной. Я возвращаю тебя
в эту жару. В воздух, снова слишком далекий,
срывающийся – от ударов – в жару.
Светится пыль. И гора,
волшебный фонарь, возникает.
***
Из Майкла Палмера
Вот на губе горизонта
дребезжащие облака
глубочайше красные
над кренящейся лодочкой
и я путешественник
разноименный
***
материя восстает и внутри нее рождается материк
состоящий весь из материи – пишет ильенков,
и последний росчерк вдруг покрывается искрами
и внутри него оживают размноженные вселенные,
все стремящиеся к упадку и преодолевающие его,
трудной работой в себе выделяя материю, материк,
комнату, где все собрались за секунду до катастрофы:
синие вспышки по краю экрана – так разъедаема
память, смутные искры, лакуны, смятые ветром лица,
схлопывается фокусировка, проходят по воздуху
во́лны, но за стеной всё еще кто-то: спроси же его
о том, что горчит в горчице, что кислит в гранатовых
зернах, когда материя восстает из материи, запуская
продолжение истории, где все мы стоим на тех же
местах, недалеко от блэкаута, выделяющегося из них,
расщепляющегося на них в черном движеньи истории,
и снег пористый словно монтажная пена уже у двери
раскрывается в нашу сторону – такова она, диалектика,
чуть более чем наполовину тавтология, чуть менее —
неповиновение тому, что всё застывает за мгновение
до катастрофы
Жителям небесных империй
***
воздух только вспышка волос.
воздух только вспышка волос.
молдавские вина задушены темнотой,
говорят, они вечны. в плотном теле гвоздик
видно как они бессмертны.
в ласке зноя крах. тысячи рук тысяч голов
поднялись к капле солнца. прорывая лоскут
лоза поднимается вдаль, она тиха́
увядает в небе её сияние,
раздевая скрежетом лицо
одно вместо мира на́литого цветом визга.
веки сокрушаются, сердце сокрушается,
омывайте голые плечи под единой каплей. я сокрушаюсь
и это тайна.
в запахе серы, горюющей
гремит, придётся умирать
буревестник и чайка, кто из них кто?
не секрет. это не важно
сегодня говорю – ТЫ прекрасное имя
из тысячи тысяч прекрасных имён,
мой дар достойным.
птицу, что ветвь покидает
о́блитую мыслью кровной
вы примите, явившись.
***
XX.
во сне в котором сон
вянут листья акаций
не помнишь меня
ибо я не буду знать тебя теперь,
и вновь,
ныряем в сады
у подножья голых гроз,
шипящих как горячий камень,
но твой, бархатом обвитый
как мой, солью обожженный
день, свисают
голые голые ноги,
он уже был,
день
VI.
перья скул
шелухой блестят
воды сидящие
и над
смятыми губами
половина моря.
XV.
соловей сел на кожу мне,
тебе защекотало шею,
запястье
твоё в волосах
клокотанье
шороха частиц
электричества
изнеможение слюны
перед льющейся отовсюду
тобой
но, кто ты
от чего ты
в чёрное обшита.
XXX.
что слышу
что слышишь
волосы волосы
там и везде,
грозди запаха
бульвар. затылок.
распусти цвет головы
окинув небо глазами
в нём – я.
и я намерен изменить
лицо тебе,
незнакомка
на лицо твоё,
родная
XIV.
пью сок сосцов
за милю
от зачатия
себя
под гвозди
твоих пространств
XVI.
ветви испили часть
от несущегося пятна
когда ноги впадут в траву
остынет тело
поглоти
с жадностью
моё
XXXIII.
никому больше,
никому
– ты
***
каждой рыбке по пруду,
сердцам – по каравану сердец.
плети, плети из земли пыль.
который год, который день,
бурлит горизонт в пустынной лавине стекла,
под толщею солнца как разглядеть...
пташка, пташка, вспыхни!
не пылающим телом, но звуком
она не поёт, она – рука чернозёмая.
лишь звёзды льют свои икринки
под глаза, видеть мне
как вечностью целуем ангел солнца,
безответный ангел мой.
***
знай
багровой вереницы свет судьбины поглощает,
и кисть мою – не дар, а духа тень,
что восседает на белеющих мехах оленя древесным роговым
из семя.
открыло мне рожденья час звенящее
о, смерть.
я был убит, убита я была
и дыры черные и комнаты анопсий
плодились спотыкаясь о круги
и множились с рассветным изверженьем,
являясь мужем и невестою тоски.
(огрызло, обглодало лавандову эпоху,
рябь водяным колени целовала,
но не меня хотело, не меня звало́
офелии венец не мне носить,
бродить по водной глади
и человеческим вновь быть).
луны луны ночи дни
геометрическое вонзало квадрат в голову. впалый глаз безумств к дневному подходил
спотыкаюсь (хождение по морю)
и вихрь роговиц горел как нимб над зеленью голубоватой
окутали мы временно́го длань,
усыпили око свыше не целуя перстня.
колено на траве и лоб, где губы – знак
божественной любви без бога.
сквозь небо остеклилось. ввергается утес телесный пламенной звезды
и вот Оно, а пред ним Мы
большее чем жизнь.
ВСЕМ ТЕМ
I.
жителям небесных империй
несвятым освящённым изгнаньем,
отверженным (из мерцаний стекла восьмеричных путей пришедшим),
возжигающим иней у ног прометея,
целующим юности нежный подол,
фуляр безобразных начал у конца,
(пенное время аллюзий нашло
слова аорту из гимна в тиши)
всем тем, кто оставлен, и тем, кто живет,
и тем, чья тень ещё будет
всем тем, блюющим за солнце,
чей звук под напевом пророчеств,
чьи лица – истоков надежда
иссохните! наш агнец мертв.
чаши литавр впредь смяты.
шелковый путь у медного шага,
шелковый путь устами в моих:
наш агнец впредь мертв.
II.
возымейте же смелость в оземь опасть,
вкусить великий лоб любви
во всех глазах, во всех руках,
в морщинах юности,
в седых огрызках нежной мирры;
оцепенейте! расшибаясь о мир наш безногий
обрастайте! мхом у користых блаженств
растворите! себя
исцелуйте! всех их
из ядра в отражении к небу
изваяния дрожь остеклилась
возымейте же смелость не быть.
Стихи 2020 года
***
чёрных
сосен
советских
линогравюр
вы не отнимете у меня
детской важности и отеческого покоя
вымытых
окон
не-холостяцких
жилых
вы не отнимете у меня
юношеского счастья тайной опоры
круглого
снега
за окном
и в лицо
вы не отнимете у меня
отвоёванной, уединённой свободы
ровного
не косого
не мелочного
дождя
вы не отнимете у меня –
как самый первый свет и первую воду
***
1. когда ты увидел крысу: она мертва
2. когда встретил одноклассницу, и вы друг дружку узнали
3. вы были пылающие вундеркинды, а стали толстяки
4. считающие в ладони монеты: рубль, два рубля – с мёртвым лицом
5. и всё-таки вдруг навстречу – выдох свободы
6. когда первая любовь забыта, а есть вдруг-миг
7. и дальше идёшь в каком-то чистом полёте
8. как было светло-легко ей тогда посмотреть в плечо
9. тайком от себя: забыто ведь всё? забыто
10. любые все хоть раз будут вечной улыбкой
***
«в раю небо из
белого золота
земля – из
медного
корни – из серебра
стволы – из
тёмной платины
листья и цветы
из камней таких –
я названий не знаю» –
спи,
холод
спи, дитя-голод
спи, дитя-страх
а ты, старшая дочь тоска
не спи всех баюкай
ничего в полусне не видь
и всех ненавидь
в раю лёд
на просвет пузырчат
и ветка вмёрзла
не слепить снежка
на морозе и на ветру
в раю мёрзнет горб
в раю горят руки
в раю нищий горд
и в городе облака
***
когда героин называли «системой»
а воздух считали совой
мальки поверх грязно-рыжего песка дёргались
я был собой
сиянье летящее летней лески
и дурочки деревенской сплошной хмурый и одинокий гнев
железобетон, песок, солнце, тугие ко́сы
кассетник и мёртвый берёзовый лист в корыте, ловящем внезапный, как вся тоска, холод неба
событий-то не было, никакой даже не намечалось судьбы
в кухо́нном сарае спал чужой кот, и в кастрюле кипели грибы
летел рваный золотой контур облаков
один раз пошёл снег в июле
в лесу криком звали генеральскую дочку
тринадцати, что ли лет, бледную как русалка, сбежавшую со случайным парнем
глаза́ у неё были вообще совсем как вода
сосед шёл с рыбалки, в подвёрнутых бледных сапогах, с сачком и вмятой канистрой
***
1. представь себе точку
2. из всех из неё идущих лучей вдруг один резко соотнеси с собой
3. чего он касается – просто-ближнего или любимого?
4. перескажи именно это всё
5. когда ничья птичка взлетает – ты с ней вместе или отдельно?
6. о, страх перед каждым новым словом – излишний? верный?
7. вдруг прижать к слезе сканворд в бесплатной газете: он пахнет домом
8. поднять руку и посмотреть на неё с отдельным недоумением и трудом
9. и почему она первым делом тычется указательным пальцем в твой же лоб?
10. там ничего нет
***
джаз, хобот, пятки, песок, пятно
на шкуре,
эй,
добрый друг стервятник
эй небо эй земля
я вас вижу вместе
и не отмажетесь – даже если это любовь
да хоть бы мудрость; вы вместе, вместе!
даже когда кошка пьёт чуть-чуть –
это сшивание мира в целость
даже когда когда снится: мы идём
по ясной улице, молчим, спорим
***
1. стихотворение как кадр
2. как свет в царапине окна
3. и как в летящей пылинке
4. и как в растаявшем сердце
5. огромный чужой явный давний образ
6. как взрыв в мозгу
7. как полная невозможность отвернуться
8. как вдох и выдох
9. и полная вдруг свобода новизны
10. чернейшая трещина поперёк крашеной стены
***
сколько облетающих журавлей
(тополь тополь),
спичек – расцветающих кораблей
(щебень щебень)
сколько чёрных мамонтов-тополей
(топот топот)
из земли – и в землю – и по земле
(щебет щебет)
мы пойдём как хоботами держась
(ру́ки се́рдца)
мимо рубероида и ежа
(камень, ливень)
в лужу вплывёт трещиной жухлый дом
(жёлтый серый)
хорошо как вещи дышать с трудом
(труд счастливый)
сколько
ночи
в луже земли
вокруг
солнца
и шагов
вдаль,
даром
***
яма над ямой:
над рваньём
слабых сугробов –
облака
световой голубь
ветку мглы
выронил
.
щепки ковчега
червь гвоздя
с острым хвостом
и с вмятым лбом
голубь из сажи
за лучом
шествует
***
шла пехота пароходом
среди шторма барханов
люди – все, а вода – одна
на дне медных фляжек
фляжки робко стучали
и все молчали
мимо плыли плавкие царства
чалмы и маги
плыли из живых мощей белые, утончающиеся к концу
змейки душ – с одним глазом на голове
синим или чёрным
а в барханах скакал кулак-жар в ка́тящейся траве
потом это перекАтИ кУдА-то прибьётся
пустит корни, распустит себя-колтун
поднятою счастливой рыжей ладонью
солнце выпустит, и
вокруг – никого
***
до какого же ничто-
жества жеста и жилья:
пыль берёшь как существо
и жалеешь как змею
пережившую яд
...это не я пою;
наши комнаты – львы
духа, кони ума
и вокруг головы
искр и молний зима
***
как хорошо что мы говорим
я как будто касаюсь тех же предметов
именно разумеется взглядом а не рукой
и откуда-то вдруг вплывает общий покой
именно сколь совместный столь и внезапный:
птичку лучше увидеть вместе: она
нисколько не запутавшись нашим взглядом
скачет с собственной тенью рядом – одна
***
схема:
кто-то летит
у кого-то дёргаются вдруг крылья
у кого-то задирает ветром прижатые
перья
кого-то не видно
кого-то нет
Из «Разбитых витражей»
(9) блаженство
между телом и
тем
что кроме
(?) как бы наши редкие слова
в воздухе из солнца
утром марта
нечаянно согревались
дыша рядом
(27) начертит стеклом посеревшим на стенах часы
бьётся за зеркалом метроном
хоть бы успеть завязать поясок у ботинок твоих
дождь вместе встретить
(710) где-то
между пальцами
как неразмешанный сахар
покоится нежность
(327) я хотел бы, медленно шагая,
этой ночью разделить с тобой
овсяное печенье
(321) я вышел на улицу
как в музыкальную шкатулку
поймал меня мир цветной
(42) мокрая сирень
в потухающей нежности вечерней
как глубокая вода
(8) ключ от библиотеки
в глубине колодца
над глубиной колодца
белокурые сёстры свесили головы
смеются
не говорят, о чем
(80) вот и время
стоять у светофора
и задуматься о ветре
пока грустно идёшь в магазин
за чем-то ненужным
(301) весенний снег
в метели от фонаря
остается лишь свет
(294) я наелся сладостей
и теперь не могу думать
а солнце за окном
легкое солнце –
солнце весеннее!
(?) как первый снег
ложилась тишина
а за спиной
впервые целовались
наши ангелы
(190) ворон садится на рельсы
и помнит
холодные рыжие почвы
осень в напомаженных сигаретах, трехэтажки карие
города в окнах
(118) где бы погрустить
где бы лестницу найти
где
присядешь и не узнаешь
курящего за окном
машину
музыку
(119) бармен дал мне сигарету
чтобы подумать
обо всем снаружи
Прогулки
***
я подключён к аккумулятору
а сердце (в особенности)
не знает что сказать
и тихо пожимает плечами
небо весеннее и злое
идет ко мне домой
и плачет надо мной
пикселями мазута
я стою похожий на потухший факел
(в воспоминаниях все еще горяч),
но сердце снова пожимает плечами
окуренное самим собой
ПРОГУЛКИ
Соне
...а на деревьях одинокие пакеты
шуршат, гипнотизируя тебя,
как стук швейной машинки.
даже сердце переворачивается,
как ребенок в пеленках,
уже не в состоянии хранить
тёплые прогулки и их одинокость.
разве что руки запомнят
шершавые стены, уединенность
скамеек и лавочек,
какую-то подозрительную
услужливость дверей.
словно руки – вечные разлуки,
как деревья, длятся и скрипят.
ВСТРЕЧА
Илье
твои длинные руки,
как ветви, одиноки и печальны,
когда ты улетаешь
в метро.
я шлю тебе ласковые письма
(а писем нет),
так я узнаю, что тебе грустно, –
я узнаю это по страху деревьев
и по тому, как шепчут улицы
(там где ты и там где я).
мы курим последние сигареты
одновременно, но независимо
друг от друга; я и ты,
чёрный и трагичный принц.
Тянется и не может
DAS KAPITAL
1.
когда всё уже было отнято, кроме местных газет,
приезжал отец с открытым вином, и оплывал в тепле.
он так много умел, что и после того, как пал
белый дом и рвота врага захлебнула успенский собор,
ему всё ещё было куда себя применить.
глядя на охуевших вкладчиков в новостях,
зная, как это больно, он говорил,
что пора восхититься теми, кто устроил всё это так.
шестилетний, я был готов задушить его.
ночью в посёлке вытряхивали больных,
поджигали обменники, спиливали столбы,
но он спал так же крепко, как наши временщики.
2.
это они воспитали меня, говорю:
продавцы неудобных учебников и, в соседнем ряду,
пластиковых кроссовок (с этими мог быть торг,
первые не уступали вообще никогда);
вохровцы с кладбища, бравшие плату за въезд;
шкуры с идеей подарка учителям.
все они вырастали передо мной
вроде надсмотрщиков в лагере, и, ненавидя их,
я соглашался, что правда на их берегу.
в магазине ткани я трогал такую ткань,
что сильнее, чем умереть,
мне хотелось бы завернуться в неё и так
провести весь остаток, но не по такой цене.
3.
глупо думать об этом, но видя себя безнадёжно лежачим больным,
я догадываюсь, что вспомню по нескольку раз
русских таксистов на зубовском после взрывов в метро,
взносы за обезболивающее в црб,
стрёмный обед в джанхоте за диких пятьсот рублей.
что я вообще способен назвать своим,
это две книги, которые я украл
из магазина в британском музее, чтобы спасти
двадцать последних фунтов на обед и проезд.
это было совсем легко,
как умножить хлеба или найти статир.
4.
влад говорит, героин – это то же, что капитализм
(или наоборот).
что же, хотя бы одно я попробовал, dieu merci.
мы идём на елагин, ветер с реки мешает идти и несть
всё разрастающийся левый словарь.
предполагая какой-то будущий суд,
я представляю, как влад, лена, кирилл
в лёгкой одежде, сложив рюкзаки к ногам,
опускают на длинный стол свои livres noirs
и негромко читают из них.
5.
труд исчезает, разматывается его вещество.
стоя в своей неправде со школьных лет,
я хочу думать, что правда может принадлежать
если не мне, то другим, и хочу знать этих других.
но чем больше другие мне говорят, тем отчётливее провал.
truth is a colicking horse, поёт толстый из protomartyr.
переведём это так:
правда осталась там, где никто не смог:
в рудниках алапаевска и подвалах читы,
в запертых кассах estadio nacional,
в гданьских печах «солидарности», спрятанных казино
эттерсберга, с изнанки деревьев близ
мядининкая, в тканях на трудовой
тянется и не может тебя достать.
***
1.
вместе с двумя испытателями около киржача
похоронена группа фристайл.
что осталось от взрыва, убрали призывники
с запрещённых теперь частей
в плоский хитин из-под компакт-кассет.
кто с загорска, кто на загорск проезжая с семьёй,
оставляют какой-то вклад:
перья от синтезаторов и ступени ракет
сплавлены с тысячелетним мусором выходным.
там же, охвачена топью черничной, плывёт,
зарываясь в мерянский пласт,
«таврия», брошенная отцом, никого за её рулём.
в незахлебнувшейся правой колонке, во тьме,
повторяется тот же альбом.
лес черногривый, грозные трубы его,
ни рогатый осенний ветр
не умеют ни заглушить его, ни подпеть.
2.
в павлопосаде на подступах, миновав
школьные торфоломни, извернув козырьки,
попадаем в грачовник на пятьдесят шагов.
едущим ли, идущим вдвоём
в этой роще случается как бы распасться так,
что, друг друга невзвидев, шарахаются без глаз,
ловят беглую сеть, голосят, но всего ничего спустя
муть отпускает их, и продолжают путь.
поднимаются тоже к казанской, в музей платка.
вспоминать о припадке стыдно, они молчат.
но уже никогда с тех пор
до конца не поверят, что оба тогда спаслись,
а не кто-то один, и откуда известно, кто.
3.
у неправильной церкви в ногинске, откуда уже потом
вывозили потиры в ужасных грузовиках,
остаётся невыкопан голый железный столб.
в девяносто девятом мы положили здесь
тело кирилла, поставившего над собой
необдуманный опыт на химии, чтобы его
ебанутая мать забрала его тут же, не доходя.
после того, как всё это утряслось,
мы какое-то время старались не появляться там,
но в одну из суббот, когда снег уже отвалил,
все, кто был тогда в сцепке, вновь сошлись у столба.
кто стоял с оторвавшимся джойстиком, кто в нечистом белье,
кто с настольной ракеткой, но ни один не мог
объяснить, каким боком он был туда прибит.
разойдясь по домам, отучившись, похоронив
половину родных и других себе отыскав,
переехав и постарев,
мы нет-нет да очнёмся опять у общей версты.
в шелловских робах, пряничных пиджаках,
уценённых рашгардах с драконами, мы почти
узнаём это место, почти не хотим назад.
***
1.
лида спасала глуховский комбинат,
но уже не смогла: склад сгорел от китайской ракеты,
над рабочим клубом взметнулся ельцинский флаг.
лида тогда отвела меня показать
новым хозяевам города: в чёрном воротничке
я прочитал им «реквием» и ещё
«сёстры тяжесть и нежность»: они полюбили меня
и не определили ни в мойщики, ни в торчки.
что нам осталось: два книжных, один трамвай,
на остановках глотавший лёгкий песок,
ленин молочный, пепельный железняк,
церкви только открытые, но уже на ножах.
в мокрые окна беззвучно стучал каштан,
греческая посуда кралась в шкафу.
2.
с муниципальных праздников, где нас просили стоять
в первом ряду не опуская лица,
пока прочих секли, растянув над вечным огнём,
мы возвращались через погасший парк
с наградной газировкой; в библиотеке без слов
нам выносили любой трепетник и патерик.
это было неловко, но, начистоту говоря,
кто ещё в городе мог бы это прочесть.
кто ещё мог отличить
шлимана от левитана, кижи от соловков,
гипс от кости живой.
после альбомов, залистанных наизусть,
я спускался как если бы в венецианский двор,
в клеймах и оспинах; брошенный комбинат
поднимался как сам вавилон, и никто из нас
не был ни в чём виноват, куда ни пойди.
3.
каждой из этих зим, опершись на мосту,
кажется, это должно быть в последний раз:
плечи башен отбельных, водонапорный крест,
кажется, больше не могут нести этот груз.
на больничных картонках, отменяющих стыд,
выступает собор накрытых потёмкинской простынёй.
но и каждое лето неистовей прежнего: лес,
прозябавший всё детство, теперь раздаётся так,
что с собакой не видно и на десять шагов.
на очистные вторгаются кабаны,
сокрушая преграды; стоя в речной траве,
коростель с трещоткой опровергает ночь.
дикая зелень просится в руки и в рот,
словно бы хочет разъять тебя изнутри.
жёлуди наливаются как никогда,
в три этажа громоздятся выморочные грибы,
страшными шапками рушится пух с ветвей,
ягоды жмутся к щекам:
ни полигоны отходов, ни выходное хламьё
не теснят меня так, не стирают меня совсем.
4.
что до тех, кто теперь принимает парад и потворствует школоте,
то мы даже не знаем точно, как их зовут.
мы выходим на жёлтое поле в тёмных очках.
встречный бы вряд ли подумал о нас хорошо,
но на всю эту диагональ мы совсем одни.
лида больше не красит волосы, это обидней всего.
сосны раскачиваются так, что складываются в слова.
как вообще берётся майская ночь:
в восемь и девять ещё ничего не понятно,
но уложишь ребёнка, напишешь ответ, и вот
чёрная плёнка уже утянула листву,
вытертая парковка сравнялась с землёй.
Неопасный способ быть ранимым
***
«что это: фантик, брошенный платок, заколка?»
– Алексей Кудряков
1.
журнальные вырезки фантики лепестки
фольги серебристой ни слова
не знающие по-людски
зарыты на месте слома
где прошлое с будущим прочно землёй согреты
2.
неожиданно зная, что́ говорят секреты
перед самой смертью ты выходишь с лопаткой из дома
***
Смоленск одолевает холера
люди стойко переносят это
люди борются за жизнь так словно она того стоит
и в этом
возможно последнем
вздохе
столько силы что
привязанный к столбу морской конёк
сможет наконец
цокнуть копытом
которого у него
никогда не было
***
пока ты выкладывала
мелочь из карманов
чтобы пройти
через рамку металлодетектора
я успел подумать
о том
какие красивые у тебя
пальцы
и пока ты
снимала с них кольца
я с новой силой заметил
как идёт тебе
эта скрепка
которую ты носишь в ухе
в качестве серёжки
её тебе тоже пришлось снять
и пока ты снимала её
я думал о том
как хорошо
что ты рядом
потому что когда ты рядом
я не думаю
о смерти
***
...а с утра мой дом оказался обтянут снегопадом
как марлей
и улицы слепились в сплошной комок хлопка...
Это я сейчас поделился малой
частью того, что хотел бы сказать негромко,
такими словами, чтоб снег занавеской стекал по карнизам,
не оставив оскомины,
неопасным способом быть ранимым,
а значит – подлинным
***
Пусть будут дети и трясогузки
Трясогузки и фрески
На сухих руках детских
Надо было быть осторожней при спуске
Когда бумажный самолётик прокладывал в небе лыжню
По которой хотели идти но не вышло
И тогда полетели
навстречу дню
***
Вот ещё один влажный цветок оттолкнулся от края
Чёрной вазы.
Вспорхнул,
приземлился к тебе на перчатку.
Он теперь облекается в бисер, теперь его стебли
Соприродны венозным теченьям на карте ладони.
Закрываю глаза – чтоб навстречу открылись другие.
Опрокинуты вазы.
На кладбище доброе утро.
***
Тонкий стебель проезжей части
увенчан светодиодным экраном
Распускаясь по вечерам он
Говорит о счастье
Всё говорит о счастье и тянет ветки
В полутьме мелькая далёким домом
Словно зарядник, выдернутый из розетки,
Продолжающий тлеть зелёным
***
Бабочка среди многоэтажек
Нитью вдета в воздух как в иголку.
Весь район становится витражной
Копией себя, поскольку
Ливень льёт.
И бабочка влетает
На балкон, откуда видно всё нам –
Как пространство бережно латает
Воздух, пропитавшийся озоном.
Из арамейского кремня
***
И еще то
как и калиточный звон,
когда ключ исключит иные алгоритмы,
разменивает собой шум
на будто послеобъяснимое чувство жертвы
её же заклания в присутственность
раскачивающихся червоточин о-внешнения
вращений периферийной эйфории,
обернувшейся неупреждаемо закоротившимся
палиндромическим сравнением конфигураций
вмешательства в заспанный лепет
и тем, что предпочло бы остаться в воздаяниях.
– Или свидетельствовать о прищуренных фигурантах знака всезаполнения того, что не имеет пришедшего к движению безначалия,
оставшихся в следовых беспамятностях различений безинерционного осадка циркуляционности рассыпающегося брожения
восполненного разрыва,
что следствует из себя странноприимность тона,
еле заметную подмену в дефектообразовании построения определений,
не давая ей обжить этот компромисс до того как коснётся преодоленная длань непререкаемого воображения.
Я не хватаюсь за то, что меня будит
И основываюсь на том, что я смог бы
«сказать на это»
Впрочем
Трижды это невзаимная позиция
И вор обличает
Как из арамейского кремня
Орнамент топких танцев
Высекает обводную фразировку вынесения
тысяч горизонтов
К твоим ногам.
***
В залитом дождем саду
Вдруг колыхнется юная ветка дуба
И капли опадут
Все вернется к своему.
Так упоительно лежит
В прощелине кирпичных груд
Облезлая лягва
Боясь зашевелиться
Будто к ней привязаны все нити этого мира.
Мерцает
Солнце-селёдкой
Воздух-VHS мотает рыбббу ... ,
Чеш-небо-чеш-травы-чешуя всего.
Деревья вслед перетекают ейп-перетекают
Източек в точки почвы и листочки их
Запомнил Я из 'Я' глядя...
Темны́м-пятном в трёх человеческих руках от мня
Оно плыло, с моею памятью внутри:
Зверьё, людьё, иноходьё там
И техники горы гора железной;
И-информация:
В нутре её и то и сё и всё
Помещенно
За тем экраном два-на-два и глубиною два,
На языке не-abc
написан код,
Но я его не знал и не узнаю никогда.
[из головы получившегося там Патрика на 18:43:09, 21/08/20НГ]
Листры'ы прыжок-ожог на Анну
Жгучая мораль так больновечно ->
18:51:10 :
$-Alive, доллар живой и мёртвая Евро
Играет в трубу с тем бичующим дедом
По кварталам без света ->
07:33:12, 04/06/20НГ:
Розовая аура стекает с моего тела, поливая лежащие в земле волшебные бобы –
заменители ЛСД. Я хочу повеселиться, повеселиться на аттракционах, но изменять
уже детерминированный моей мамой мой внутренний мир мне слишком волнительно,
поэтому я подвергаю метаморфозам внешний мир. Так делал Наполеон – чтобы всем
досталось.
Бобовый кустик растёт как богатырь, и вот мой ослиный взгляд уже не справляется
с его габаритами. По многоминутному стволу можно залезть в земной чердак чудес,
а можно остаться снизу и как тихоня ждать скинутых великим папа-Сантой
подарков из заброшенного туда когда-то исторического хламья.
Первым сверху прилетел сложенный из схем атомной бомбы бумажный самолётик.
– Вжух, сука, – падает сам Наполеон в моем
вольном переводе с французского. Дальше я этого персонажа перевожу также
вольно:
– Voilà Napoléon (А вот и Наполеон) ->
07:33:14 :
Ты там, где моя рука не сильна!!!
[обратно из головы того Патрика]
Солнце-селёдкой, началы берущее
В инаком, за правой рамкой экрана,
Ведущее нас, ты недоведущее,
Tschüss
в продолжении
следует
Пустоши. Часть первая
Глава I. Ашкелон
В пятницу я была у протестантов. Протестанты возводили руки. Они мычали и гудели, и землетресение вышло из каждой пробоины, отовсюду – всюду и простиралось. У пастора уши топорщились, на свету красновато просвечивали, лицо ещё похудело, от этого глаза бо́льшились. Я отмечала про себя: кожа у него будто натянута (секрет в ежедневном натирании воском), остальное сделано по-еврейски – нос загибается, кожа смуглая, кучеряшки жёсткие – проволока. Мы называли его, на русский манер – Моше – так его не звали.
Мы распевали гимны – Кадош Кадош Кадош Кадош Адонай Элохим Саваох! – что означало "Свят, Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель". Пели, стоя, кто держался за руки или щелкал пальцами или раскачивался в такт или плакал. Женщина за синтезатором солировала, прихожане вступали за ней.
Моше вскидывал руки над головой, восклицал Иисус – пастырь мой! Моше (так его не звали) говорил перед молитвой ... где двое или трое соберутся во имя Его, там Он посреди них. Моше повторял нараспев будто былинный мотив легче верблюду пройти сквозь игольное ушко… или истинно, истинно говорю вам или блаженны плачущие ибо.
Хоровое пение заглушало пастора – до уха доносись уже разнообрывки речи. Я проговаривала про себя, беззвучно двигая ртом любите ближнего своего как самого себя и врагов ваших возлюбите
Проповедь началась, и Моше стоял за кафедрой во главе. Пока он не начал циркулировать между стульчиков и рядочков, слышно его хорошо: «Книга Екклесиаста!» Прихожане зашуршали страницами, у меня лессе на Песне песней – чуть пролистать назад.
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета!
Я посчитала слово суета встречается тридцать девять раз хэвэл хавалим – вот как звучит на иврите суета сует – предельная степень крайняя сопряжённость особая грамматическая конструкция словосочетаний на еврейском. Я увлеклась, ушла в чтение, голос пастора всему своё время! меня выдернул, и я шумно вдохнула ртом.
***
Ашкелон, и правда, маленький – я хожу пешком, за всё время ездила на автобусе два раза – в Ашдод, обратно из Ашдода. Мне не понравилось: крупнее, движимый, современный, индустриальный. Вернулась быстро. Хоть в автобусе было здорово: парни, девушки в песчаной форме, с походным рюкзаком, кто и с оружием, возвращались домой на выходные. Кресла в автобусе были синие, самолётные; из динамиков объявили остановку ашкело́н бенгурио́н, пиликнуло. Я жила на третьей с половиной береговой линии, по бумагам – на четвёртой, но я не признаю шеренгу продуктовых лавок полноценной первой линией. В феврале тепло, на пляже, правда, прохладный ветер – открытое пространство.
Тут проглядывается пустыня: пыль, колючие сорняки. С осевой улицы свернёшь – побелка отлетает, по правую руку – кустарники и песок, по левую – песок и сухая трава. Мусор присыпало галькой и битым стеклом. Я видела: лошади паслись около свалки. Спало полуденное пекло.
Прозевала поворот к дому – забор не сплошной, я позже сверну. Вокруг – дворы и цельные куски бетона, от них исходит горячий воздух и по ним бегают ящерки. Сбилась совсем с дороги. С моря подул ветер. Я вдыхала влагу и соль.
Металась вдоль забора – голова кругом. Свернуть в город уже не выйдет, я придумала пересечь насквозь береговые линии и выйти к пляжу. В феврале в Израиле цветут анемоны, но справа только забор, а слева – поле стелется высокой сухой порослью. Время шло. Солнце садилось на куполе близстоящей, склёванной за три века церкви. Илистые пустоши – сплетенные меж собой семиструнной кифарой, неиствующие, созерцаемые неустанно создателем – растрескивались слезливо, храня за собой право на былое затворничество. Оборванные, обезличенные, обожествляемые прежде отцами (те отвергли кость, и низвергли захоронения, и возвели чертог с ослиным жертвенником), гудящие погосты возложили, прежде всего, самодовлеющую триаду – впоследствии заменившую высшую точку блага человеческого рассудка – изначально безбожные, признали антропоморфных идолов-покровителей; сегодня – пустопорожний клочок определил изъян мироздания изнутри.
Литейная складчатая труба пробороздила пустырь. У голого деревца рос голый кустарник и оконная рама. Окно открывалось на запад, стекло сверху отходило от рамы – и сквозняк.
Бездомный воссел у окна: сквозь стекло лоснились яблони – по молодости прогорклые, позже сгорбившиеся, они обернулись стуком; полог наизнанку – косо намотанный, сточенный в клочья, он обошёлся багряным залпом. Бездомный воссел у окна: многое не настоящее. Бездомный играл на трубе, труба гудела железное, пальцы перепонками сменялись. Озадачены вторые руки, дирижерская палочка мелькает: ивовый прут, осиновый кол, пальмовая ветвь. Бездомный оцарапал локоть об оконную раму.
Меня сотряс первобытный ужас. Я чувствовала – опоясывает змея, чувствовала пространство – ветхозаветное анахроническое, чувствовала языческих истуканов: Перун, и греческий пантеон, и месопотамские божки-покровители, и иудейский Яхве. Рот мой извивался, распахивался, распарывался, залпом отпевая отсрочку, просил созидать и сердце во мне, и ввергнуть впредь во всезнание в веках.
Бездомный оказался безбожником – выявил; сказал где – начертал.
Я спрашивала: «Бездомный безбожник! послепышем я бреду, послепышем и рыскаю; к фреске, причастной к творению, а смирение растерявшей, проложишь русло и колею?» Он спрашивал, слышен ли шум. То был не шум, а древесные столпы движимы по граниту. Но одна капитель неостругана и изошлась трещинками. В её деревянных проталинах проскальзывали водомерки – водомерки мне и сподручны. Так мне сказано было.
Я последовал: прокладывал путь, осязал всё судорожно и слезливо. Условное предоставилось системой: останки впечатанных стоп стеклись стеной вязания. Со стены веяло жаром и шерстью, волокно давно не видело воды, и сухой ветер дул из просветов. Порывы прибили к моим ногам клочья. Глянула – пряжа оплела щиколотки, еле звучно вилась вилась. Я зазвучала биением – тув-тув, тув-тув – глухо в изморозь колотило в голени и в локотке. Съежилась, но впопыхах решила снести всё залпом. Я внимала изъяну – он вверял себя врожденным и неисправным.
Глава II. Кот Мори́с
Братское общение по вторникам обычно пропускала, строго посещала курсы углублённого изучения Писания в будние дни, а проповедь об основах христианской веры слушала до воскресного богослужения, и после оставалась на неё ещё раз.
Молитвенный дом нашей общины был очень уютным.
Моше и в этот раз говорил о Ветхом Завете. Почему-то мы шли от Ктувима к Невииму, сегодня читали пророка Исаию и пророка Иезекииля. Никак не отвыкну от иудейских названий Ветхозаветных книг. Наша община не считала себя протестантской, кроме меня, тут все родились и выросли в Израиле – они называли себя евреями, уверовавшими в Христа. Воспитанные, в основном, иудеями они не затрудняли себя зубрёжкой новых названий, а я вслед за ними начала говорить и Тора и Танах.
Исаия пророчествует о смерти Вавилонского царя: Как упал ты с неба, денница, сын зари! (Ис 14:12)
Слово Господне для Иезекиля адресовано царю Тира, но христианские богословы относят его к сатане – могущественнейшему ангелу, помазаннику, возгордившемся и за тщеславие повергнутым на землю.
(Иез 28:13) От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки.
Эту легенду я вынесла с собой из глубокого детства (она вселяла трепет и боязнь) – могущественнейший ангел, приближенный к Богу, возгордился силой своей, лелеял мысли о собственном величии и лишь самому себе служить хотел. Воспротивившийся Богу, был Денница изгнан с небес. Ту проповедь я просидела как в воду опущенная – в страхе липко дышать.
***
Сегодня слово пастора было совсем ни к месту: сатана обрастал детскими преданиями всю мою жизнь, ровно до этого момента, и мне чудился мистический кровожадный зверь, скрытый от глаз, но воплотившийся. Архаичный ужас скрутил снова транс в переводе с французского значит оцепенение
Бывало уже такое, что вечерние богослужения заканчивались в потёмках – на примете была ночлежка в том же здании, только вход с другого крыльца.
В пыльной ночлежке я съедала обеденную рыбу: воздух там, затхлый и затхлый, пригоршнями опадал на розовое мясо. Стойку у права занимал дедушка. Я принималась глодать хрящи (уже остыло, на зубах скрипела копоть) – он только заходил. Обедал он сильно медленнее меня, засиживался до пяти вечера – не удавалось его застать.
Дедушка был диакон – пыльная рыба стала таинством. Дедушка за стойкой был диакон и благословил – недуг исцелен. Я решила следовать путь.
Ещё тогда водомерки кругами в воде уверяли, мол бос-тон-бос-тон. Я уж решила, мне в Британию, но карт не нашла и всё повторяла: Линкольншир, Линкольншир, Уитем впадает в Северное море, если идти через Йоркшир, то к южной границе… Вовремя спохватилась: водомерки елозили не об этом. Чуть не направилась в Бостон, хотя кругами в воде всё наводило на вальс. Вовремя спохватилась. Прояснилось, куда следовать. И я там была.
***
Я направлялась к птице, не выведав, где она. Разумела: обнаружить можно, если наткнуться, а выяснять, выпытывать – это попусту. Места эти хоженые – хоть раз без головоломок.
Большая птица открывала рот и клацала: цок-цок-цок. Клюв большой птицы разверзался и там чернело. Эту большую птица я искала.
Первыми заметила перья – челноками покачивались, но земля тянула их. Я вспоминала: было детство дедушка разводил фазанов среди них альбинос раз в вольере у самой решетки его перо торчало близко я подобрала и хранила драгоценностью. Но и оно смотрелось бы пушинкой рядом с громоздким гнутым лодкоподобным пером большой птицы. И вот просочился контур, ещё задалёко до птицы начала наблюдать очертания. День я шла, и шла ещё день, в другой усмотрела хохолок. Хохолок зиял редким, рваным и всяким. «Раз хохолок различим – скоро и свижусь», – мне думалось.
Вовремя спохватилась: перед птицей полагается вывернуть карманы, оттуда попадает что – из этого птица выберет подношение. Вовремя спохватилась и свернула чуть лево – через оползень в закоулок. Где обрести гостинец, что и милостыня и воздаяние? Места эти хоженые: в одной лавке я схоронила вещички. Нанести визит да забрать их, так чтоб не треволноваться.
Позабыла дорогу – само свело вниз по улице, свернуло за угол блочного дома, обогнуло часовенку, и дальше вдоль трамвайных путей. Центр города отступал, лилове́ли частные дома: вкруг них участки полны всякой смородины, газонокосилок, кривобоких будок, у них внутри привязь и на привязи собака. Я ми́нула четвёртый квартал, заприметила с краю неогороженный домишко. Я боялась и подходила. Я подходила и могла разглядеть зимний сад и фигуру за стеклом – видимо, и кот Мори́с узнал меня.
***
Ну́тренно дом не сменился: прихожая служила коридором и лестницей на второй; все боковины (подоконники, подлокотники, пододеяльники, даже подъезд) уставлены фигурками из стали и пастилы. Пастила раз от разу засахаривалась, на тепле тлела и исходилась караме́личными пузырями, те застывали фарфором и гарью – достаточно хрупкой. Комнаты напитались ссохшим зефиром – дышать было липко. У дома хребет: папье-маше из рыбных косточек, по форме – нижние ребрышки, которые плавающие, плюс два ложных (третья пара с конца по счёту); их можно пересчитать и раздастся трель. Я осматривалась, Морис в угловом коридорном кресле выжидал.
«Ты отметил пополнение? Ши́рится выдлиняется моё коллекционирование! И скоро ему простору не будет», – сказал Морис и переоделся в турецкий бахромчатый халат: с плеч висли попоны, отблескивал из нагрудного кармашка спальный колпак и любимая бутоньерка, завихрённая гардина волочилась по полу – её поначалу приняла за шлейф, брошь (смахивала на бунгало) забилась в угол подола.
В смежающем долговатом коридоре пространство вдоль стен обрамлял стеклянный купол – многоцветное стёклышко, огранённое, состыкованное в орнамент мозаикой. Под колпаком проживали новоявленные образцы: поутру вылупившиеся динозаврики, дракоши из мифов и народных сказок и карнавалов в Пекине. Огнедышащие, чешуко́жаные и хвосторогие, они уживались в заповеднике.
Мы плыли дальше: стекловидные тубы вслед сворачиваемым изгибам сменили высокие потолки и за́темно-сливовой тканью обитые стены – начался картинный ряд. «Гляди, – враз прозвучал Морис, – я спозаранку начал живописью увлекаться, а какова уже выборка полотен». Череда пустых рам, за ними – один пейзаж на разных полотнах, всё тот же на последующих картинах, и на предшествующих. Я в изумлении наблюдала: рисованный кратер, около местя́тся курганы, многочисленные, идентичные, статичные от рисунка к рисунку. Вулканы зиждились, внушали страх, я прибавила шагу авось проскачу..! а шустрее гля! авоська парень добрый либо поможет либо научит – вулканы наплывом зарябили в глазах, начали было двоиться, но я сбавила шаг. Морис сказал: «Я умею рисовать вулканы». В моменте он выглядел по-кошачьи: усы в ухмылке заходили ходуном.
Пролёт (под завязку в вулканах) претворялся в округлое помещение – безопасная комната без углов. Проём зиял дверью, снятой с петель, на кастете двери – выемка, в ней уличный термометр показывает только кровяное давление сегодня повышенное тридцать пять градусов северной широты на пятьдесят семь градусов восточной долготы нездоровится я метеозависимая
Приостановились в безопасной комнате без углов: у стены кушетка, мягкая-мягкая, вся в барханах, напротив окна – вышивка, закольцованная пяльцами, сплошняком покрыта стежочками внахлест крест-накрест хлест-нахлест и так итак
Я тогда присела у краешка и задала вопрос, выполнен пейзаж акварельными медовыми красками или мне мерещится, мол, не понимаю. Морис мне возмутился:
– Я рисовал перламутром из устричных створок и молотым царапанным песком. Я рисовал заместо кистей стебельком актинии и пучком сухого ломкого шалфея и цветком папоротника.
Кот Морис постановлял: «У меня шёрстка шелко́вится, оттого что радуюсь тебя видеть. Я успел подрасти колоссальным и веским, ты остался малоплечист и изряден».
Я говорила прямиком и изложила просьбу. В одной лавке я схоронила вещички – Морис мог ими располагать. Он отвечал: «Мышеловная лавка! Кто сейчас обетовали в округе о ней и слыхом не слыхивали, но там всё целёхонько». И мы пробрались к ней, оттуда в погребок – груды укрыты парусиной, всё целёхонько. Припрятанная посудка нашлась: стучащие плошки, со сгибами половники и пиалка. По карманам позапрятывала и была благодарна коту Морису, моему стародревнему приятелю.
Путь к «/»
К одной динамике в стихах Всеволода Некрасова
В статье «Теория как утопический проект» Светлана Булгакова пишет об одном любопытном замысле Эйзенштейна. Это проект некой «шарообразной» книги, которая должна была в теории сломать типографскую двумерность книги, а, следовательно, навязанную ею неестественность расположения мысли. Мысль, как известно, во-первых, из нашего личного опыта наблюдения за собой, во-вторых, из нейрофизиологии – мысль есть изменение в сети порой очень далековато отстающих друг от друга нейронов, в-третьих, в отражении этой инвольтации, в писательских черновиках – на определенном этапе «творение» представляет собой гетерогенные структуры знаков, которые сложно назвать текстом, в каком либо ином смысле, кроме собственно семиотического: рисунки перемежаются с зигзагами скорописи, блоки текста обводятся, соединяются пунктирами, зачеркиваются и т.д., – мысль не является фразой. Теперь, когда руины письма подернуты ностальгией по медиуму, от которого мы отделены не-человеческим, слишком не-человеческим интерфейсом сначала печатной машинки, затем компьютера, любые разыскания в области «хаотического» превращаются в археологию мысли. Практическое возвращение к этим практикам кажется невозможным. Однако они представляют собой константу, постоянно мерцающее на протяжении всей истории письма стремление к «динамике» текста. Правда, надо различать собственные и несобственные имена: «круги Луллия» от спонтанной комбинаторики набросков. Самоирония творчества заключается в том, что оно начинается с руин. Сделать его «минус-минус приемом» – уже виток диалектики, по типу той, которую обозначил Всеволод Некрасов: «естественное притязание – становление притязания – утверждение снятием притязания».
Можно сделать легкий шаг и сказать, что именно в снятии притязания на «вторую реальность» лиризма находит свое утверждение поэтика «речевого фрагмента» Некрасова. Но этот пересказ самих манифестаций поэта грозит вопросами специального характера: существует ли третья реальность в отрыве от второй? Что представляет собой она в случае апроприации высказывания, речевого паттерна? Третьей реальностью в почти одноименной статье Некрасов называет «ситуацию общения создающей (автор) и воспринимающей (читатель) сторон». Иначе говоря, указание на характер коммуникации в рамках самой коммуникации, чаще всего имплицитное: рама, сцена, лексика, или прямое: «читатель ждет уж рифмы роза…» (тоже упоминается в статье), но иногда и эксплицитное: ярким случаем здесь выступает театр Брехта, эпизоды автокомментария, речевая фигура металепсиса, инструктивное искусство Йоко Оно или группы Fluxus.
Структура поэтики речевого же фрагмента и вовсе располагает реальности иначе: правда и факт даны нам сразу и несомненно: так говорят. С другой стороны, то, как они даны, манера их представления читателю становится первичным индикатором искусства/искусственности. Дело остается за воссозданием иллюзии… но самим читателем. И здесь, мы можем, подчиняясь эссеистическому импульсу к краткости, сразу же дать ответ: «фрагмент» представляет собой валентность к иллюзии. Что насчет его характеристики, «речевой», то это можно отнести к «штилю», расхожий/речевой/бытовой/китчевый/низкий.
Один случай подтверждает сразу несколько вытекающих отсюда гипотез. Это заглавное стихотворение, кажется, самого полного прижизненного сборника стихов Всеволода Некрасова «Живу и Вижу». Оно представляется центральным, не только по месту в книге, но и тем, что представляет своего рода идиосинкразию поэтического метода.
О гипертекстовом характере стихотворений Некрасова писали многие. Сухотин говорит о нем как о «ветвлении», Махонина прибегает к термину Гомгрингена, обозначая «констелляцией» синтаксический эффект, вызываемый необычным расположением «речевых фрагментов» на странице. На самом деле, кажется, что ветвление и констелляция суть два разных аспекта чего-то более глубинного. Ветвление начинается там, где читатель его замечает, прежде всего в паронимах, в ветвлении дериватем:
профессорам
профессионалам
Что, на самом деле, «професс орам/ионалам». Эта осцилляция между вариантами слова отражает микросоциологию письма. За ним следует строфическое ветвление. Например, расположенное посередине страницы:
2
как обстоят
Облако как облако
Июнь июнь
июнь
Констелляция «облако как облако…» как бы соединяет два крайних стихотворения, организуя их в полифоническое единство, в другое уже «дейктическое» ветвление. Облако дает развивающийся, а на самом деле длящийся в повторениях, образ «облака». Речь об облаке перебивается другой речью о лете и условно «ситуацией» под цифрой 2. Но симультанность восприятия, с легкостью достигаемая посредством пластических элементов или графизмами черновика, здесь остается лишь заманчивой перспективой. Такими полифоническими стихотворениями обозначается то, что мы бы обозначили путем к «/», к собственно графеме, визуализации синтаксиса.
Но появление линии в визуальном стихотворении «Вот как иногда», 69 страница, тем более удивительно, что, как говорит Сухотин, в черновиках Некрасова линии практически отсутствуют. Поэт работал с готовыми фрагментами и лишь комбинировал их, предварительно «руинируя». Изучение черновиков показывает, что визуализация синтаксиса нужна скорее, как обозначение линейности, в то время как поэзия Некрасова подчинена обратному импульсу. Это выявляет декоративность линии, что можно отнести и к «зачеркиванию» и к графизму «/» – часто имеющим семантику скобок. Единственная функциональная линия здесь – это сплошная, отделяющая автокомментарий от основного тела стихотворения. Ветвление модусов чтения. Здесь авто-комментарий предлагает читателю взять еще одну высоту – рассмотреть сам комментарий эстетически в качестве минус-минус приема: эстетизации модальностей чтения. «Интерфейс» чтения также заимствует из практики рукописей: это нумерация. В стихотворении «вижу живу» – это \1, \2. Нечто похожее, только в несколько усложненном варианте, читаем на странице 87:
*) песенки 60-х:
2. самодеятельная
1 подготовленная
профессионально
* * ) реплика Эрика
– 87 страница
Если оглянуться назад и сосчитать уровни ветвления: деривативный, композиционный, дейктический, перцептивный – то мы обнаружим внутреннюю комбинаторику модусов чтения, приводящие к почти неповторяющимся вариантам до-создания текста. К формуле
професс \1
орам/ионалам \2*
* xn – (в оригинале «сколько-то еще дополнительно)
\1 - Y
\2 - Z
Где Y и Z - атрибуции другого плана.
Здесь тайна, которая заключается в том, что, если, сведя к логическому субстрату стихотворение, мы разгадаем в знаменитых некрасовских повторах логические кванторы, а за паронимами – знак «/», в смысле «или», то нам откроется что-то поразительно напоминающее голую кинетическую структуру, (по аналогии с кинетическим искусством одного из любимых художников Некрасова Франциско Инфантэ), то, что повторяет астролябию из снов Эйзенштейна: «книгу в форме шара». Тогда становится понятно: и междометие, и повтор, и модальность есть лишь занятие пространства, воздух между глобусом и осью, позволяющий ему вращаться.

