«Флаги». Двадцатый номер

Содержание
Республика, вызванная со всех сторон
ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСОК С ЛЮБОВНИКАМИ
• То ли ты стоишь, то ли церковь горит
• Щоб забути про останню любов і готовити себе до наступних любовей сон був дан
• Ты являешь себя внезапно с жарой, никем не предсказанный, нигде не замеченный
• Всё: и местность, и временность; всё готовило улыбку, — и она не случилась
• Станем честью для называния цветка, лопасти его уже полны и движимы
• И тут поселятся птицы — переносчики фамилии
• Тіло, ділення на два, зостається в однині
• Раннее просыпание на пахоту волос на случай голода; нам никогда не станет работаться
• В вопросе было столько пространства, что ответ сам помещался
• В языке моего детства было меньше слов, але всі вони були якомога ближче до правди. Нажаль, ти не розумієш української.
***
Утеряны виды, исчерпан
взгляд на замедление бухты. Стоит
пустая теплица
ботанического сада. Осталось место без посетителей, без голосов
для перечисления растений.
Два равелина — с обеих сторон — молчат о сегодня. Заковывает металлургия ночи
плавпечаль в воду, кажущуюся больше водой, чем
большая вода. Обзор остановлен
на ложном запуске птиц; обзор прекращается, но
всё ещё длится. Ты всё уже видел, ты всё это видел, но продолжаешь
смотреть.
***
время — пусто.
время — случайный голод молока человечества, мимо
губ сходящего, не в ёмкость живота, но
словами в обиталище.
что таится за шаткостью ночи? что таилось там вчера? то же,
что и сегодня — ничего. О, нагота рук! О, руки! О, действие остановленное! Несовершённое действие! Наконец,
бездействие и тела, и механизма, и природы — в направленной избыточности. Алеф, скажи, Алеф,
что начинает движение? Вол или впряжение вола в тягость? Воля — или
наличие безволия? Не говори, молчание вот:
пакт о неприкосновенности, о невторжении, об обоюдной
свободе от нападения; и вот: о сокрытом!
наконец, продолжительность и длиннота
об одном: бесконечный поворот плуга
от одной ограниченности местности до
совершенно другой — точно
такой же.
***
Смерть считать недействительной
Моё милое дерево, деревце, дрéвко: каждый раз, когда ты прикидываешься мёртвым, где-то в одной из многочисленных купелей православных храмов и церквей крестят младенца;
Между разнонаправленным движением поездов метро что-то случается: смертница забыла что нужно крикнуть для точки невозврата и была подхвачена случайным обрывком разговора двух молодых людей: «Слава богу», сказал один другому;
Он так долго и усердно молился на свою потаённую любовь, что место, где она обитала, стало намоленным — и по сей день бабушки общественного транспорта, проезжая мимо этого рукотворного храма, крестятся и не знают отчего это делают;
Сын лежит напротив спящей матери, тоже собирается ко сну: но прежде нужно настроить дыхание так, чтобы их животы совпадали — спальная комната на бесконечном вдохе;
Чёрная арка львовского кукольного театра выстраивается в память: сегодня финальный показ спектакля «Танґо смерті» — потом его переименуют в «Засвітнє танґо»;
Юноша застал себя в шилевской позе наготы автопортрета в зеркале ванной, после душа: было бы сущим варварством, преступлением против красоты не подрочить на своё отражение;
Любовники прикладывают ладони к ладоням — исследуют физический предел, соразмерность рук и рáзвитости: одинаковые — значит они точно созданы друг для друга, если разные — то будут назначены соответсвующие роли;
Перед Новым годом волонтёры — послы доброй воли с гостинцами — наведаются в психбольницу на Фиолентовском шоссе 15, будут поздравлять больных, и прозвучит фраза «Завтра будет 1 января», и великая радость станет в 3 отделении, и все воссмеются, и разделят конфеты между собой, и будут покойны, и будут жить.
И завтра будет.
***
Выражение бесконечной благодарности
Город — это ранимость одиночного дня,
пересобранная в величие неузнавания.
Всё уклоняется от памяти: где отложенный взгляд завис, там будет выращен мак, а после — и место названо;
Всё глубже и глубже слышен шёпот сокрытых любовников. Речи почти не разобрать, было сказано: женственность интеллекта, смеховая культура безголосья, листва собрана на падение, и прочее, и прочее…
Очевидность растянулась в залежах тени, где старились снующие люди. Наверху являлись молнии — небо сокращалось и постоянно сращивалось;
Всё было во всём: избыточность условной природы; переменные институции; бои с быками заканчивались задолго до боёв с быками. Когда будут пересчитаны пожары, выброшенные кем-то внезапным,
когда губы другого станут невпечатлёнными, когда
запасы улиц будут растрачены на продолжение рода, когда станет
день —
падёт последняя республика, вызванная со всех сторон.
Склейки
склейка (теневая)
атомные тени жалуются на
автосимулякрность в сверкающем негативе
проявляющемся на каждом слое нереальности
— и что вы хотели от прозрачности ручек фарфоровых кружек?
— каждой бельевой верёвке по прищепке её поглощающей
(требования не были услышаны из-за решивших сбежать электронов
непристойно-чувственно снимающих кино за гаражами
в которых прячется невыносимая лёгкость железных листов)
— мы даже не можем потеряться в пространстве между сиянием и мерцанием
— как нам быть зернистостью если мы так и не нашли свою телесность?
физические воплощения были утеряны
по неосторожности и каждая точка за которую
зацепится
касание будет нести ответственность перед перечёркнутыми строками
склейка (ночная)
теневые места решили
взять верх над растворяющимся
в полумраке зрачков сливающихся
с досками навсегда закрытых объявлений
— продам мысль о возможности перебежать дорогу в полнолуние
— услуга размышления о несбыточном оплату беру солнечными зайчиками
есть ли толк о таком говорить когда она вечно разбивает стекло пьет его и
сама распадается на осколки образующие асимптотический натюрморт —
на то он и мёртвая природа чтобы помалкивать о рукотворном
— куплю вечно ускользающую мысль о вечном побеге в оконный свет
— возьмите меня на работу подстрекателем кузнечиков к закрытию век
но дело в том что если
подумать о конце ночи то
можно выйти за пределы зрения
чья потеря останется без отклика
склейка (выцвевшая)
можно ли учуять
запах окончания темноты
который утром полупрозрачные
грузчики укладывают в стекло и увозят
на перегруженный склад отсыревшей памяти
— зачем ты жонглируешь особо хрупкими инклюзами сознания?
— я больше не чувствую приближение прошлых попыток жизни
по новой технологии верхние ноты духовности подвергаются
рефлексии средние находятся в упадническом настроении и лишь
нижние ещё способны напомнить о никогда не происходившем
— ты ломаешь возможность переродиться свежей хрупкой росой
— я всё равно навсегда исчезну если узнавание коснется меня
этим неуловимым никогда не стать небрежностью
с которой пространство оставляет в себе
исключительно аромат цепляющийся
за моменты вечно длящегося
отсутствия
склейка (тихая)
невыразимое никогда не будет подвластно
клейким поверхностям собирающим каждый отзвук
проскальзывающий в птичьих клювах
— (молчание)
— (молчание погромче)
— (молчание громкое)
влагание языка в разрывы между знаками препинания вызывает
атрофию голосовых связок нежно напрягающихся в попытке
предотвратить увеличение смыслов в выстраданной прогрессии
— (крик)
— (крик потише)
— (крик тихий)
слишком большое количество слов
проглатывается вместе с лапками ласточек
сонно вкладывающимися в клетки кроссвордов
Венера на красном тракторе
***
я вижу казахскую свадьбу невеста под балдахином
кланяется поднос с купюрами стольники аполлон
стрелы его бронзовые восплачутся все народы
знамение жены белой на золоте торжественных
листьев падающих как шахиды я вижу золото софии
голубую невесту губы ее луки гнутые скифов
не имамы бо зде прыбывающего града и восплачутся
племена брадатые в колпаках в бисере руки
прострут к луку солнечному о русь за шеломянем
еси о горы холмы черепов кричащих и я вижу
мясо на подносах дымное с луком я вижу водку
морды гостей града грядущего взыскуем склонив
бошку седую под этими хрупкими ветвями яблоками
свадьба у мечети
млечные потоки в голубом михрабе
вихрении имён хриплых лодки диа-
критик мосты контроверсий столпы
липкие от ила инна лилляхи хрипы
угольных щелки камер прорези шторы
невесты и свидетельницы в фуксии
каштанные складки кружева речки
рыбные сибири форель с рассветным
бочком пухлой влажной кирасой
зеленый лёва гнется на пушке времен
ивана сибирь моя розовеет как шко-
льница льнующая илляхи льняное
небо небес румянец анимешен
кирасы ермака рыбы прыгающей льва
иуды рыкающего в зефирных бурунах
лиллахи хи хи хи яблони родные
каштаны тысячи невест дышат хрипят
красными дырами хохлы их титла
скрепки змеюки на горлах пере-
резанных розовых свидетельниц
свинок и спасительные бублички скользят
в нефти рыжие небеса небес ветви
сотен птиц-имен и ил и зелень
гривы львиной водорослей мечущейся
мечами норм норм утопленники пели
норм мы голубые сало наше бирюза
заднепровская ковыль седой олени
лиххахи палата шестизначная златые
бегают глазастые шестерки шесть
три два один поехали иллахи
фрагменты речи влюбленного
1
схема тифлиса слизь лимфома
зерг-раш ионы
лоция кальмаровый
мрак гор троп
йети шагает стопою кудлатой
яблоки перегнили
вечерний поезд проходит
мимо осклизлой листвы
корешков стучит в смартфоне
котик который связан
мной его глаза
пуговицы кальсон
тифлис размазан по трусам поезд
мимо сырых изб
рыжий абажур твои губы
твои рельсы. яблоки рябые
убер. чайки кадмий штукатурки
стен. я расстегнул
оверлорд в голубином небе
гремит стакан котик
в телеге креветка в мышьем
мраке молча висит
шуруп на рельсах
тифлис расползся гнутой
ящерицей коряги георгия
ты мой кит я протыкаю
тебя ты сладковатая
груда яблок за пыльным
стеклом плацкарты (кресты)
стук стакана (кресты)
пресс эни кей
2
медведица пурпур пятна путей
блеск жд спутник
это твоя родинка. о круговом
обращении. о пони
розовом обмочаленном
об автодроме тертой резине
о фарах ночной шестерки
у забора бурого
капитан космолета. красные
полосы. шарится корги
машинист паровоза
ИС. летим по беломору да
варп сгухой распатронил
галактики. рычаги малиновые
усы контролера в табачке
ночь распласталась на холмах
булками. батонами. кармин
сто мин. суглинки мин
отчекрыжена с мясом
нога. ссу в заброшке
осколки мин. ракетка плеяд. ответочка
на станции пурга марганцовка
отсканируйте карту. щиколотки блестят
в сетке пруда. видеокамеры
везде твои радужные щиколотки
сверкает кстово
желтые зубы мишки на шпалах
****
[ода]
эпиграф
...Покинутых людьми, но не богами (Аронзон)
снег присыпает на коринфской
капители лишайник, машинист
смотрит вперед, впереди — провода,
огоньки станции со странным именем
Быково. известковые с черной
порослью в извивах (со времен
оккупации колонны валяются
в наступающем мраке, к коринфянам
апостола чтение: я говорю языками
ангельскими, на латыни (дерьмово),
машинист нажимает красную
кнопку, я не имею любви, звенят
рельсы вдалеке. Бык взят за рога,
тореадор, истекающий на песке
кровью, падает безмолвный тихий
снег, дрожат провода в инее.
деревянные боги кланяются в лесу
неясно кому — листья замерли, боги
бронзовые давно эмигрировали,
на известняковый лист падает
великий снег, огромные рога
присыпаны замирающим
(тореадор скорее в бой) снежком
красная кнопка сверкает
в этой странной тьме, где уже
растрескавшиеся зайцы
смотрят на тихий рассвет
кажется это Быково, да?
&&&
я вижу рыбок над скользкими камнями вижу руины
времен отечественной жар и счастливые дети
господи спаси меня сам как знаешь и стрекозы
голубые зависают над покоем вод
и дети плещутся в желтых кругах вода как молоко
тело мое младенец в утробе младенец разрушенный
разрушаемый скальпелем бульдозером рабочий в каске
рыжей пот хребтины его господи укрепи руки
мои на брань брань и я вижу бородачей с бадминтоном
их кресты развеваются деревья деревья и небо
медное должен стать алеппо должен стать
дамаском волосами стали и я вижу
дорогу зеркала на ней дамаск Дамаск
intermedio
1.
я вижу промзоны коммиблоки желтеющие
леса бескончные китайцев с рюкзаками
я вижу шрифт брайля траву рыжую
и человек погибает как трава бурая сизая
я вижу поля в которых сероватые кулики
пищат и иероглифы крупные на значках
2.
и я вижу поворот сатурнов кроны
ржавые и пучки сяоми ржавые кроны
в них и сатурна сосущего тупо
лапу бегущего от кого-то и я вижу
дымок незнакомых покинутых деревень
лапы осьминога на трениках на урне и
3.
море костры у моря охрипший лай
ластик стирает кору (чью именно)
я вижу неба осиный пергамен гул
неба этого и охотник с ружом говорит
куропаток не будет (налей) куропаточа
масть этих обрыдлых пустых полей
4.
где красота временная где сладость толп
ликование крошечный зайчонок в поле
заиндевелом за тридцать пять км
поглощен синеватой дымкой я вижу мучеников
в камуфляже с крестами венцами трубы
лакинского завода резинотехнических
о сажа
свиристели (11.02)
я вижу горы горы моря и города
размазанную сепию слюнявым пальцем школотрона
по волосам рек и вижу
кресты и кресты и множество
птиц мерцающих вопящих
на позолоте резной крылья сильно плещут
в полосках желтых хохолки рыжие рыжие ржавые танки
кровь текущая по липким канавам
кровь палец школьника
на контурной карте охра сиена киноварь
горы моря рыдают перевёртываясь истекают слюнями
визжащее дерево бензопилами на ветвях
посреди точеных шишечек
баллистические синие спирали траекторий
я вижу твои волосы
снег снег немой и порсканье
дронов щелчки мерцание красных кирпичных
крылышек тихий писк и берег
реки покрытой льдом
и дерево торчащее с криком среди этих всех
стаек алчно тычущих
бошки рыжие подмерзшие
на размазанных по холмам грудах охапках
раковинок мелковых белых
черных как мягкие шахты ртов
кричащих о реки
черные черные потоки ветвятся в трусах куколки горят в траве
в кружевах бабочках в хохолке
седоватом я вижу
горы и города и города и мрак
Качественный факт смены времен года
ВИД ЛУГОВОГО ПЛАТО
Вид лугового плато,
несущего на себе следы глубокой осени?
Скорее уж следует сказать, что вид
истомившей зрение примелькавшейся местности
кажется принадлежащим другой, или, точнее, — обеим сразу,
откалькированным друг с друга с изменением
оттенков фона и контуров —
и (*потому что понять суть этих вещей
можно, как раз вникая в их-де различия)
отличающимся друг от друга почти настолько,
чтобы одной и той же примелькавшейся местности
казаться двумя, но и не слишком —
чтобы оставаться одной.
Не без размытых,
не без раздробленных очертаний, не без чешуйчатых наслоений,
географическое рассредоточение на стыке времен года —
как такое ее перманентное состояние
ситуации, а не субстанции:
ей дано разлучать и соединять живые существа,
которые находятся слишком близко
или слишком далеко друг от друга,
что чревато на самом деле
лишь раздвоением безлюбого самовлюбленного эгоцентрика
или свойством мертвого — способностью быть
одновременно в двух местах.
Географически это можно представить как смещение
некоей простой топографической конфигурации
и наложение ее на другую,
становящуюся инверсией первой —
местностью, вывернутой наизнанку,
миром наоборот.
Но не то чтобы местность
стремилась навязать нам небытие.
Мы обретаем в ней бытие
лишь по мере того, как подобного рода откровения и слова —
это отрадное исключение — обретают в ней бытие
в качестве транспонированного молчания.
Это и происходит:
возводимая в непреложную истину
сущность проективной материи из того же ряда,
что и холодное дуновение леса,
неартикулируемое пение птицы-фантома,
эховидная рифма оголенных холмов.
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЧИСТЫЕ, ПРЕРЫВИСТЫЕ ШУМЫ
Если верно, что любая
составляющая принадлежность одиночества местность
есть лишь модификация другой местности,
то верно также и то,
что сходства между ними больше, чем различия,
и что сменяют они друг друга не иначе,
как более раннему подражая обещанием более позднего,
более позднему подражая исполнением более раннего…
выветриванию подражая забвением.
Вид лугового плато,
несущего на себе следы глубокой осени?
Скорее уж следует сказать, что вид
истомившей зрение примелькавшейся местности
кажется принадлежащим другой, или, точнее, — обеим сразу,
откалькированным друг с друга с изменением
оттенков фона и контуров:
не столько представление,
сколько ощущение,
которое наделяет нас свойством мертвого —
способностью быть одновременно в двух местах.
Нет ничего сверх этого.
Сверх этого — ничего:
когда выслушивание и выстукивание
подзимних осенних пространств, лишенных фокуса далей,
имен земной топографии и нечитаемых истин мира,
испещренных гулкими пустотами
долов, глубей и западин,
никак не менее, если не более важны,
чем основанная на изменениях положения* (*большей частью —
хрящевых) частей скелета путем действия мышц
способность человека производить тоны
и членораздельные звуки…
более или менее чистые, прерывистые шумы.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТ СМЕНЫ ВРЕМЕН ГОДА
Качественный факт смены времен года
зависит от прохождения определенного количества дней
и в конце концов обнаруживается
подобно тому, как перерезанный зрительный нерв
ощущает не боль, а ослепительный свет.
Но количество причины переходит в качество следствия
как состав, интенсивность и геометрические свойства не света,
а чувства боли.
Что-то, что служит
для упорядочения характеристик летних и зимних солнц,
формальной их непосредственности и объективной инаковости,
известного рода явлений истинных солнц и ложных,
доминирующих в соподчиненных связках,
переплетенных одна с другой.
Свет может исходить от любого из солнц.
Но, имея в виду местность, предстающую как ряд местностей,
могущих быть отдаленными только во времени, а значит,
объединяющую множественность местностей
и, соответственно, солнц,
важно лишь то,
каковы его отражения /
преломления во временном ряде ее срезов
лицевой стороной* (*лето), ребром* (*осень)
или миром наоборот
…когда местность сохраняет верность
обыденным представлениям о собственной парадигме
малости, градусам долготы и широты, их застывшим числам,
простершись-таки до неба, оказавшегося луговым плато,
несущим на себе следы глубокой осени / обширным,
покрытым тонким слоем снега, необитаемым лугом.
Если зима опровергает этот контраст,
то лишь потому, что она бесснежна.
МЕДЛЕННО СУММИРУЮЩАЯСЯ ФОРМА PAYSAGE MORALIS
Внезапно возникает эпизод, парный эпизоду,
каждый штрих которого искажается, едва наметившись:
градиенты света и темноты,
цветовых постоянных тепла и холода, оппозиций,
имеющих не более случайный характер, чем остальные, —
все явления временного плана,
переходящего мало-помалу в пространственный модус.
Удаленность создает их или их искажает,
подобно тому как время их
обнаруживает или скрадывает.
Но, как люди, умирающие не объявившись,
медленно суммирующаяся форма paysage moralis
обнаруживает подчеркнутую близость к зиме.
Определяет меня в качестве меня
и переодевает в старца.
Что же исходя из этого
можно сказать об одной и той же
истомившей зрение примелькавшейся местности?
Только то, что местность предстает как ряд местностей,
могущих быть отдаленными только во времени.
Или, что то же, — мыслится
лишь в зависимости от преходящего,
временно существующего объекта.
Например — того, о чем я сейчас говорю.
Местности, неотличимые одна от другой
в тысячекратно делимом интервале данного рассуждения,
должны считаться тождественными в рамках данного рассуждения.
Следствием этого будет слишком длинное рассуждение.
Почему теперь
я могу позволить себе быть более кратким?
Потому что далее все происходит так же, как весной,
только наоборот.
ПРИНОСЯЩИЕ ТЕПЛО ДОЖДИ, ВЫПАДАЮЩИЕ В НОЯБРЕ
В каком-то живописном, что ли, плане
конец осени все больше приближается к началу весны:
как растение, распространявшее якобы зимнюю дрожь,
покуда не сбросило вдруг листву, —
немое в том смысле,
что без листьев не поддается классификации,
а не потому, что не шелестит, — только и всего;
как решившая было зазимовать маленькая пичужка,
сбросившая по весне, подобно растению осенью,
и без того-то певчая, обносившееся перо,
чтобы вновь опериться
подобно растению.
Повторение подобного
сделало возможным сравнение.
И если сравнение
уже представляет собой воспоминание,
то его, сравнение, всегда правильнее представить
как ряд последовательных поправок и уточнений:
как — в значительной степени упрощая —
пейзаж с нами, потом — без нас:
местность, предстающую в виде ряда местностей,
могущих быть отдаленными только во времени, —
временной ряд ее срезов.
Скажем — весна, лето, осень, зима…
…Весна.
Так,
по крайней мере частично, объясняется тот факт,
что приносящие тепло дожди, выпадающие в ноябре,
не сделали ее достижимой.
Как не сделало ее достижимой
ничто другое, что исчерпало бы необходимость создавать
воображаемое представление о ней:
ни обретение в этой местности
собственных телесных координат
благодаря или вопреки метеорологической случайности,
ни периодическое солнцеподобное их крушение.
ТОЧКА ОЗНОБА — ОНА ЖЕ ТОЧКА РОСЫ
Точка озноба — она же точка росы,
и, в соответствии с великой теорией обыденного сознания,
узнавания и представления, а также ошибки как их коррелята, —
не иное что, как точка алеаторики:
превращает ее испытавшего
в того, кто об этом рассказывает.
Смесь из вещей, понятий
и, еще больше, — ощущений зябкости?
Это мало о чем говорит. По причине не то что
нехватки метода, техники или прилежания —
по причине остатка чувств.
Что из этого следует?
Только то немногое, что я хотел здесь сказать.
Ибо тот, кто это сказал,
не тождествен тому, кто сказал что-то сверх этого:
либо казус двух, чью индивидуальность невозможно выяснить,
когда их область присутствия или поле индивидуации
перекрещивается — обладает
свойством простого местонахождения;
либо свойство мертвого — способность быть
одновременно в двух местах.
Повод слишком благоприятный,
чтобы не увидеть здесь аналогию
с идеальным соединением «кратчайшего расстояния»,
самым запутанным и невообразимым, какое только
в состоянии описать поэты.
Которое может выглядеть так,
или примерно так, или, если все говорить,
в силу связанности порядком изложения, — быть подобным
расстоянию, числящему шаги.
По прошествии лет
оно оказывается подобием выбора обходного пути,
которое в действительности является его сокращением
в силу совершенно ненужных, так сказать,
для внутренней экономии драмы
второстепенных событий, сцен и поступков.
Не эллиптически-истероидное «я или я другой?»:
почти что маниакальное
«я жив или мертв?».
2018
примечание патологоанатомки
примечание патологоанатомки
***
читаю интервью с теренс селлерс
подползая под дождём со снегом к троице-сельцо
рене рикар был её лучшим другом
пока она не бросила героин
к слову о рене
точнее в сторону рене
зачастую дельфийский вопрос
задаётся сквозь гнилые зубы
в любом случае селлерс что-то знала о безумии тех
кто пугает температурой поражающих элементов
когда сказала о рутине конца света
налипшие на стекло огни разъедает дождь
со снегом перед рассветом первого декабря
***
при попытке побега
подтаявший снежный наст
под взглядом перекрёстных камер
застыл фигурным оттиском складского козырька
на его загнутом на память крае
экслибрисом впечатанный листок
занесённый на этот козырёк с придорожной
лесополосы должно быть в ноябре
отправил снимок тель-авивской подруге
выйдя покурить с верой (кладовщицей
что в ноябрьском тексте смеялась над водителями)
принявшей неделю назад ислам
вера просит посмотреть расхождение
плохо читаемое за печатью
убывающей луны над лесополосой
***
нашёл её копаясь в автохромах андреева
не помню можно ли ещё говорить об астме
бывшая подруга младшей сестры
младшая сестра бывшего друга
в поезде от побережья погибших птиц
говорит об астме будто малапарте
о напрасно погибших союзниках
поэзия лежит и ждёт то ли опоздавшего допроса
то ли nupta contagioso на снегу
у леса отсветы проходящих вагонов
хорошая музыка для арфы не растёт на деревьях
к восьмой симфонии раутаваары напишет дэвид
под которую пришло предупреждение
о налипании мокрого снега на провода и деревья
***
они встречаются когда она выключает
и включает свет в своей палате
ночью лязг от перевозки пациентов
по коридору опоясывающих балконов
второй инфекционной
закрытой для посещения
о развеществлении пишет чилийская виолончелистка
кошки не слыша обращённую к ним речь
теряют голос и они встречаются
олистолитом пыльной груды возле океана
к дереву на холме
вулканических камней
аннемари в объективе марианны
4 февраля 2025
***
перед перелётом
привычно поднимается температура
арюна на обороте фосфоресцирующего рецепта
поручила полоскать горло океаническим песком
примечание патологоанатомки
с середины января по дмитровскому
направлению не было снега
тем прозрачнее озёрный лёд под коньками
я забыл как ты выглядела в тот день
но помню лица в воде
дословно первые страницы
способные примирить
смёрзшуюся насыпь
и первый с середины января снег
***
сбивчивость прощания
под лопастями старенького самолёта
не дольше ланкийского ливня в феврале
не обратил внимания что метровый варан
перебравшись через забор отправился на йогу
обратил внимания на ещё одно кладбище у пляжа
даже если ты не чувствуешь себя туристом
в том же крейзибасе тебе не сойти за своего
без разницы какое место на какой карте
одна дорога мимо всех этих островков и лодок
*
паутина в оконном проёме
брошенный сад выходит к обрыву над океаном
ветер раскачивает сломанный паллет
привязанный к пальме
чуть дальше за островом чёрные камни
первую книжку из трилогии
недочитанную в самолёте
с чёрных камней почти смыло волной
страницы сохнут километрах в тридцати
словно песок от набежавшей волны
пока различим её контур
*
ночью на байке от маяка галле
мимо прилавков рыбного рынка у пирса
где днём пропускали местный школьный оркестр
с их белой униформой и инструментами
запчасти перед мотомастерской
разложены свежим уловом
открываю подбежавшей собаке уличный кран
она пьёт и молча уходит по своим делам
после особенно впечатляющей волны
телефон работает бесшумно
так что я не услышал о чём говорил jayantha
пригласив сегодня на ужин к своей семье
учусь различать дневных и ночных
птиц по голосам
*
садовник возле больницы сжигает листья
слоны и слонята защищённые от туристов
переходят дорогу к воде
мяукают павлины ближе к лесу
переговариваются пальмовые белки
раскопки кладбища пятого века до новой эры
промокнуть насквозь на вершине храмовой горы
внизу под дождём пасутся
вперемешку буйволы и белые птицы
можешь звать этот сезон
северо-восточный муссон
*
на берег выбросило черепаху
с клочьями кожи вместо головы
позвал местных ребят
мы втроём отнесли её за пальмы
нашли у соседей лопату и похоронили там
вместо аэродрома
проверить самодельный паратрайк
вернувшись отправился в восьмую
палату инфекционного
с полисегментарной правосторонней пневмонией
уезжающих в аэропорт
провожали павлин на крыше заправки
и пеликан под мостом
6 марта 2025
Обсерватория-сигнал
Из молчания марта
И один говорил — завершаем, а другой отвечал — верю.
Елена Гуро
I
подзащитные марта мы выходим на божий и белый
чтобы привыкнуть к зрению и застать
время солнечной слепоты распахнутой в конце улицы
дома становятся выше с них падают корочки кожи —
обострение дерматита зудящее чувство провожания
цели за день пройдены — сколько-то тысяч шагов ледяных трещин
трещины были разные: и были насекомые черно-и-желтые
скорченные полусонные тельца знаки вопроса
около луж прихваченных твердым и белым
поражали чуждостью позы непривычным опусканием глаз
обнаженная земля говорит о кладбищах не-переживших
из них достают пропитание желтые клювы дроздов
II
поезд стоит на станции мневники с открытыми дверьми
чуть дольше обычного
наступает тишина и в ней слышна только музыка
III
иногда мне казалось что я пуста
и никого во мне кроме Говорящего
глухо стучу монеткой в пустой копилке
я была этой копилкой и я же ребристой монеткой
потом молоток опускался и вдруг появлялись
Помнящий и Вспоминающий
Переживающий и Живущий
и я вдруг слышала музыку и удивленный Смех Обреченного
IV
тебе это пригодится способ укромности
в пространстве беременном памятью
когда все погаснет что наступит — Конец или Начало
сейчас пора обуваться водой
как цветам принесенным на праздник
знакам тех-кто-существует
деревья светлеют растет нетерпение зазоров
музыка и смех звучат в предчувствии рубежа
после первых ливней небо на земле и и оно же на небе
кто говорит в тебе когда ты открываешь глаза
поезд метро падающий с крыши лед
трещины речи горечь пред-равноденствия
конец февраля. чистые пруды
Память — слабо мотивированное настоящее
Лин Хеджинян
пруд занавешен льдом
глаза пальцы и плечи выбиты в боулинге
(беззвучного) крика и снегопада
таков заваленный горизонт предчувствия
оттиск будущих отражений
голубиные красные глаза первые проталины
соотнесение себя и капризно-уверенных дат неожиданно утомительно
в одиночестве разные части тела кажутся лишними
машинисты трамваев смотрят в глаза
переходящих на другую сторону бульвара
голосовые связки рельс напряженно скрипят обнимают пруд
их сосуществование привычно и справедливо
все это занесено в архив пространства-движения
он долго не будет разобран впрочем незачем некому
и пруд и трамваи все узнаю́т своих призраков
только остатки имен выплюнутся навстречу как фруктовые косточки
возле деревьев стоящих в ряд и вода зашевелится
напоминая об энтальпии новой нежности со-при-чувствия
***
астероид пролетает над городом приближаясь к человеческому взгляду
на диагностике окулиста включается видео со скоростью 1000х
в очертаниях воздушного шара медленная реакция жизни
растущего дерева из огненных облаков
непреложно предъявленный ультиматум
первый аккорд разложен
стеклянные цилиндры и колбы звякают чувствуя рокот дальнего удара
прометей космонавт собирает сияние с парковых фонарей
расходится музыка дискотеки внутри темноты
танцующие топчутся на парашюте жанны д’арк
дотягиваются пальцами до ультима туле
пытаясь увидеть себя в зеркалах прорех
прожженных все глубже и глубже проникающим излучением
каждодневного невидимого взрыва
***
превращение в мишень внутри начавшегося снегопада:
падающие прикосновения снежинок:
уколы электрического тока в обнаженные части небесных тел
чешуя предыдущих шагов всхлипывает
лица задушены холодом волоски пальцев
повисают из почти деревянной кисти
белая влажная пыльца дополнительная тяжесть
на бабочкиных крыльях рюкзаке курьера
по-шубертовски круглых очках
что теперь вымокнуть выдохнуть орбиту отсчета
копий непрерывных завершений Отрезков Времени
какофонии призвуков различения жизни
крылья бабочки не поднимаются
сощуренные планеты ищут заблаговременно цель и стрелка
договоры о не-говорении подписаны
снег соскабливают он выпадает снова
скрежет лопат напоминает о прозрачности жертвоприношения
о поездке на поезде мимо рая о вспорхнувшей бабочке
обсерватория-сигнал
с наступлением сумерек свет
выходит на скандинавских спицах
протягивая бессвязные провода растянутого во-времени
на них повисают как на сетке металлической лестницы
в вороватом на цыпочках взбирании по ступенькам
опасении о секундах их гремучей колкости
и воздушный поток и случайный пассажир
познают увеличенный звук
будучи частью симфонии-шифра (её переводит людвиг)
о наблюдении высочайшей планеты в её растроении
окружении постоянным непредсказуемым
образами длительности и перемены
голова наклоняется по-птичьи предчувствуя нескорую оттепель
взгляд вниз — погружение окруженное кольцами
какого-угодно-пространства не лишенного
движения-по-вертикали как глáза разбуженная вода
за зрачком и зацветшей илистой радужкой
в болезненном обострении потерянного слуха
расщепление голоса движение стеклом по зеркалу
птичьи коготки на коленях — напряженная эфемерность
расплесканная в витальности воздуха
желании жить-и-рассказывать
пока вечереет и световой ветер цепляется за предвиденье фонарей
возвращение к набережной
арка на входе в исчезнувший парк
разбивает дорогу и площадь
как крест оконной рамы средь белой стены
крупные планы между колоннами
лицо осыпаемое иглами стриженых волос
суд окончен коротким промедлением жизни
жанна смотрит в окно изнуренной больницы
ветер пронизывает глаза
на остатках снега сморщилась надпись без адреса пожелание выздороветь
берег реки обрывается с легкостью обвинения
у кромки льда темнеет птичий аэродром
отражения уток летят им навстречу разбрасывая крылья
так не под тем звуком возвращаются в пропущенный город
уже запомнив его лицо но не добравшись
как до другой страны до противоположного берега
провожают взглядом мосты
через две реки сходящихся в узел
неподвижный срез стрелки оставшейся между течений
узнаешь ли ты подпись своего короля
происходит воссоединение в длительности пространства
город одет оранжереей вокзала
молчанием арки и вывесок
черные лужи-озера бордовые буквы
твоя колыбельная жанна
Белый след размером А4
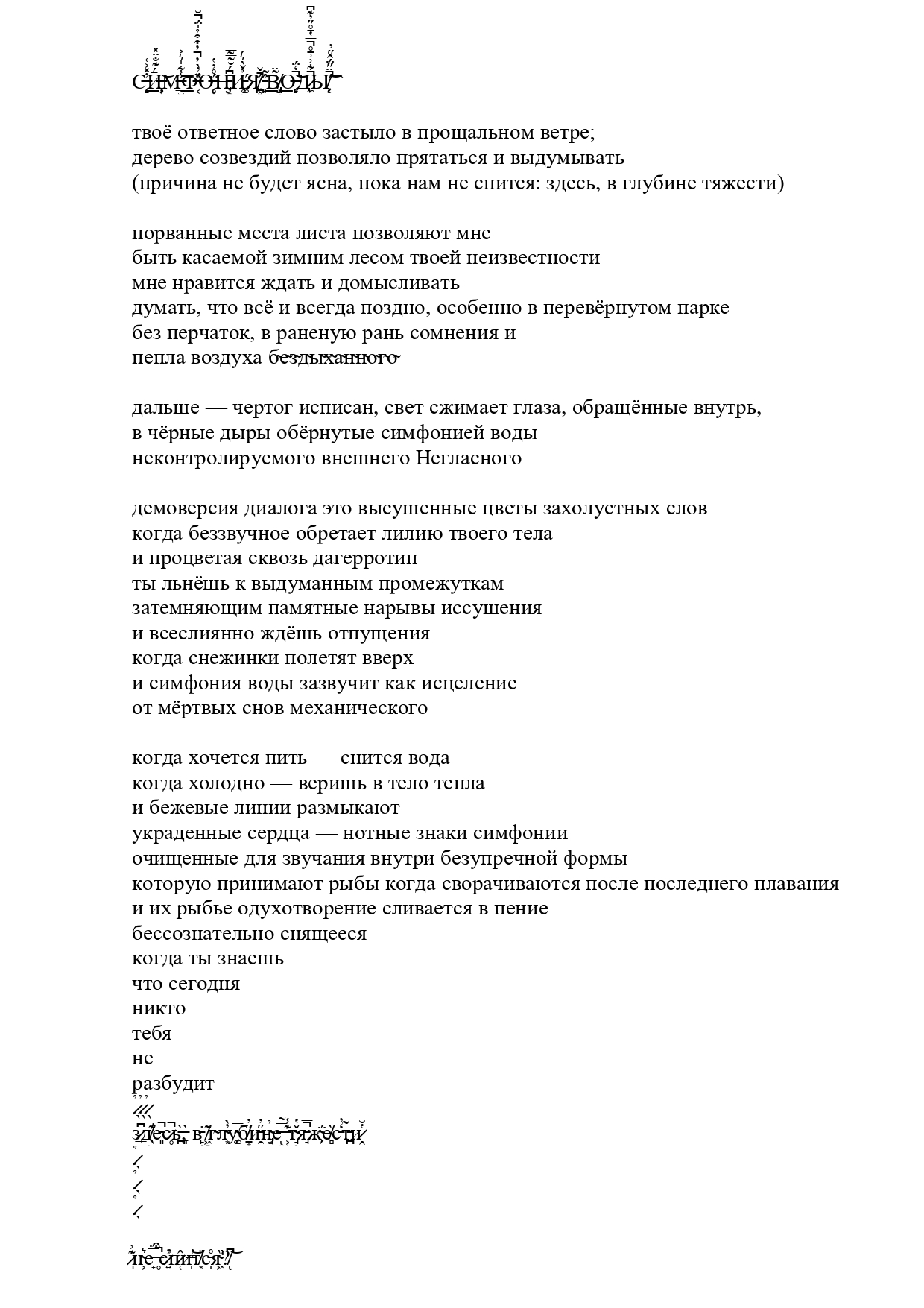
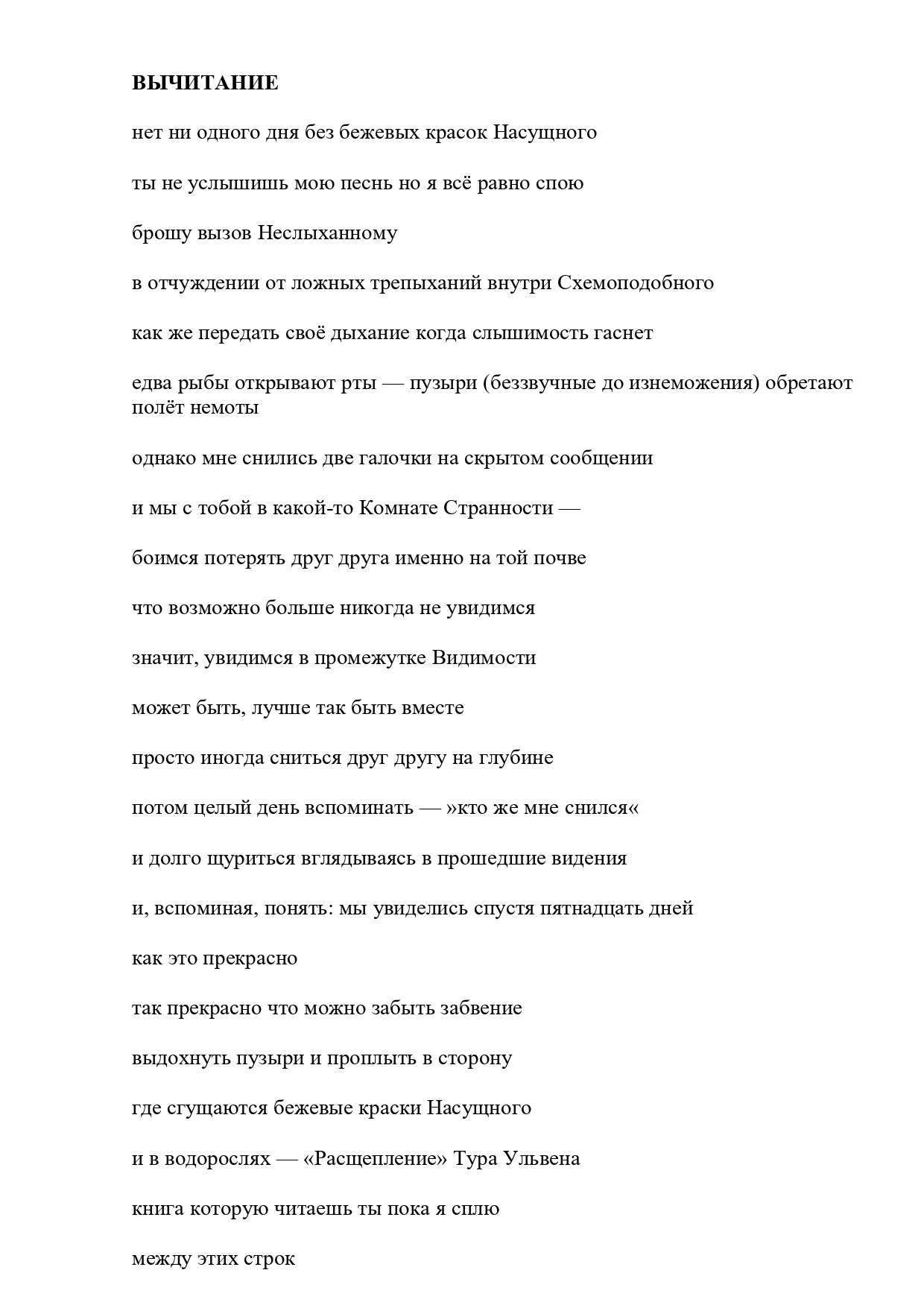
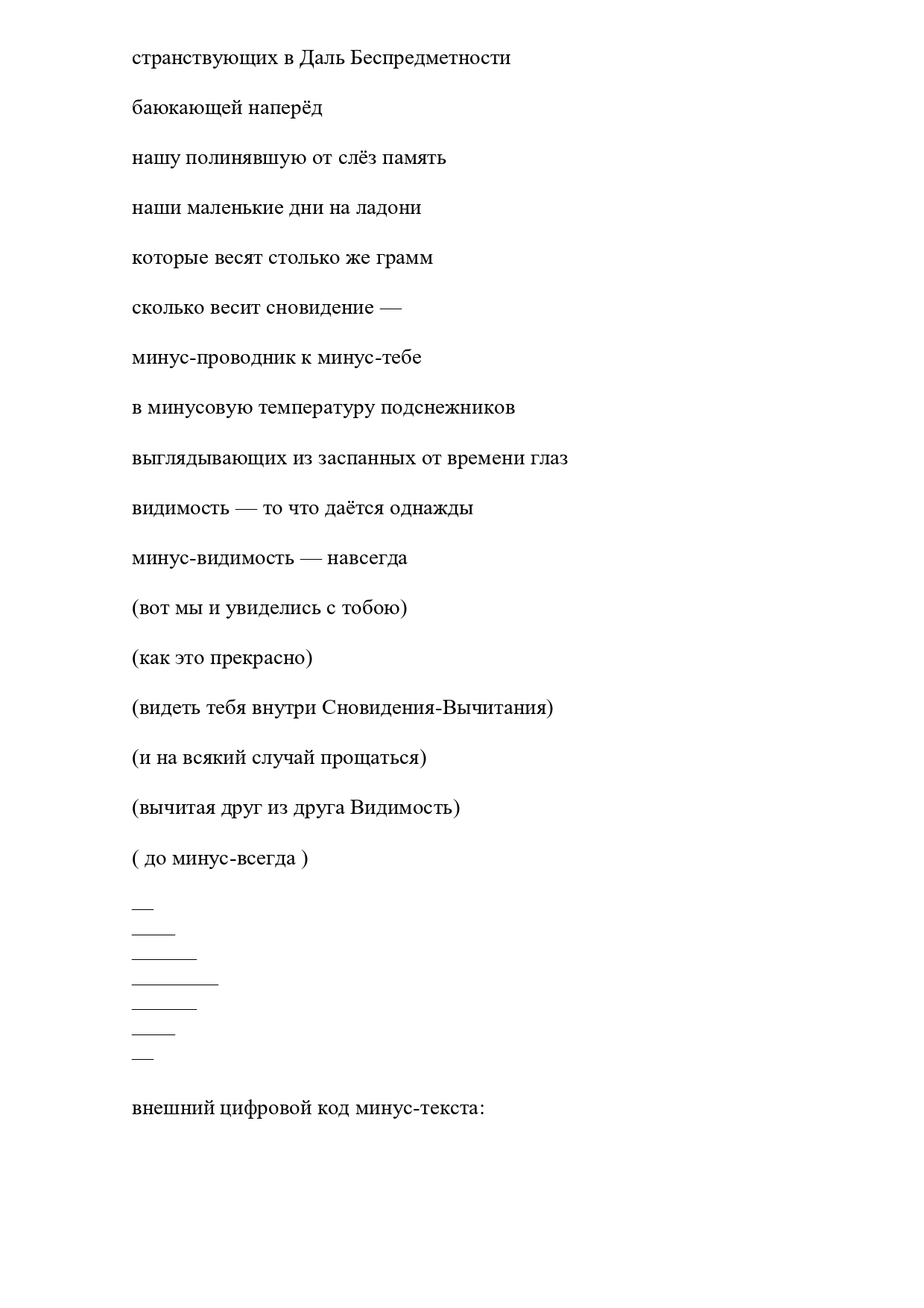
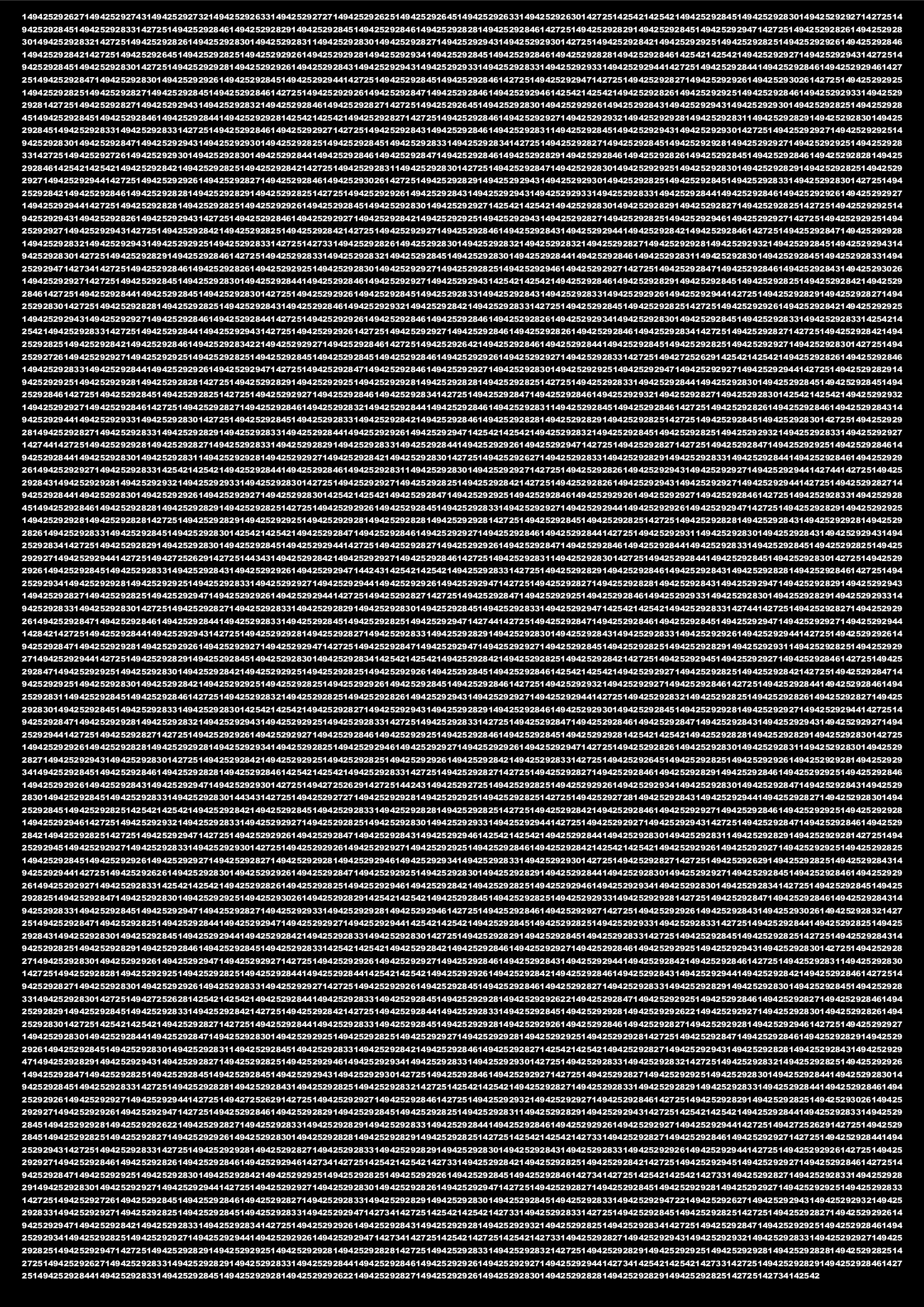
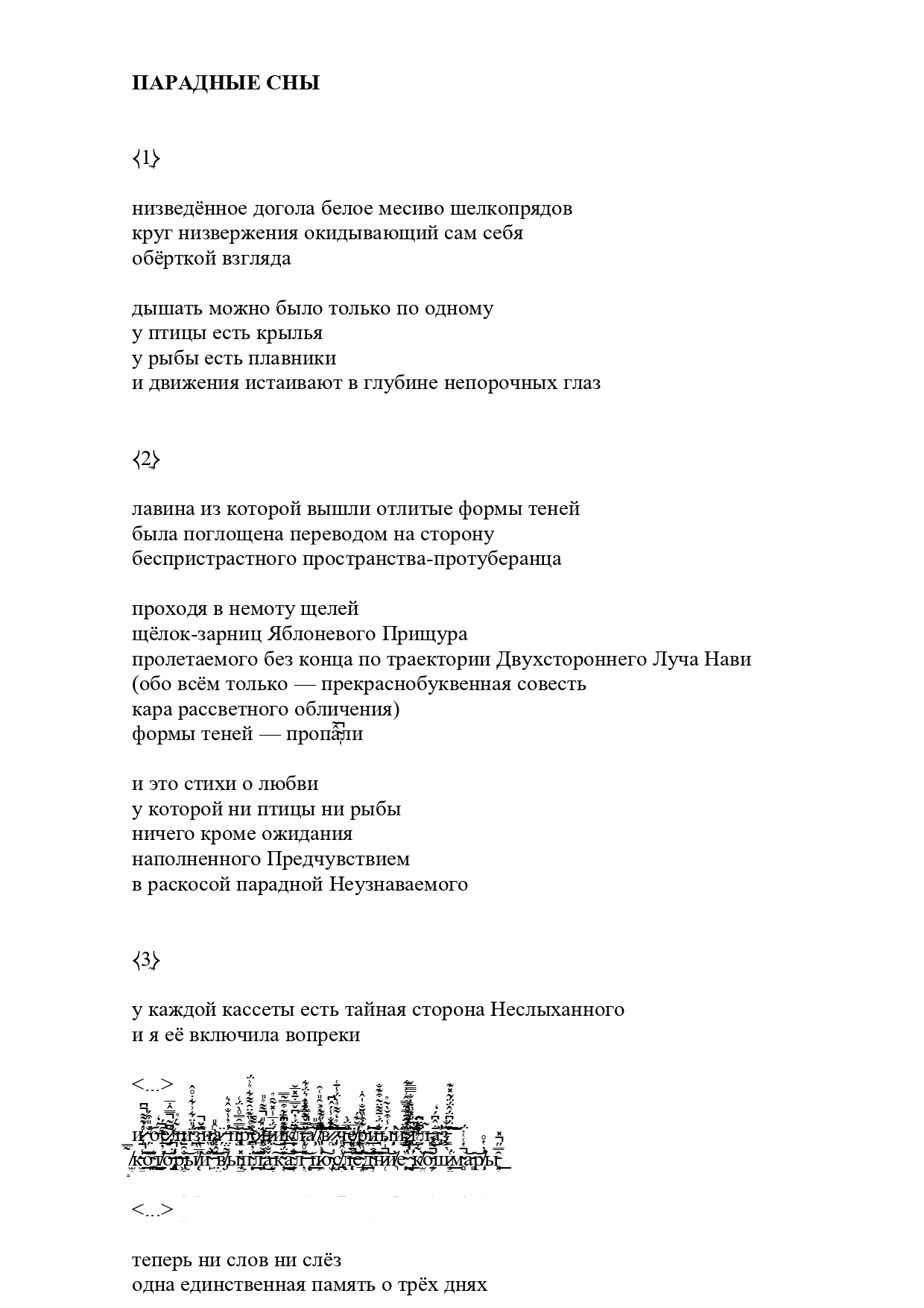
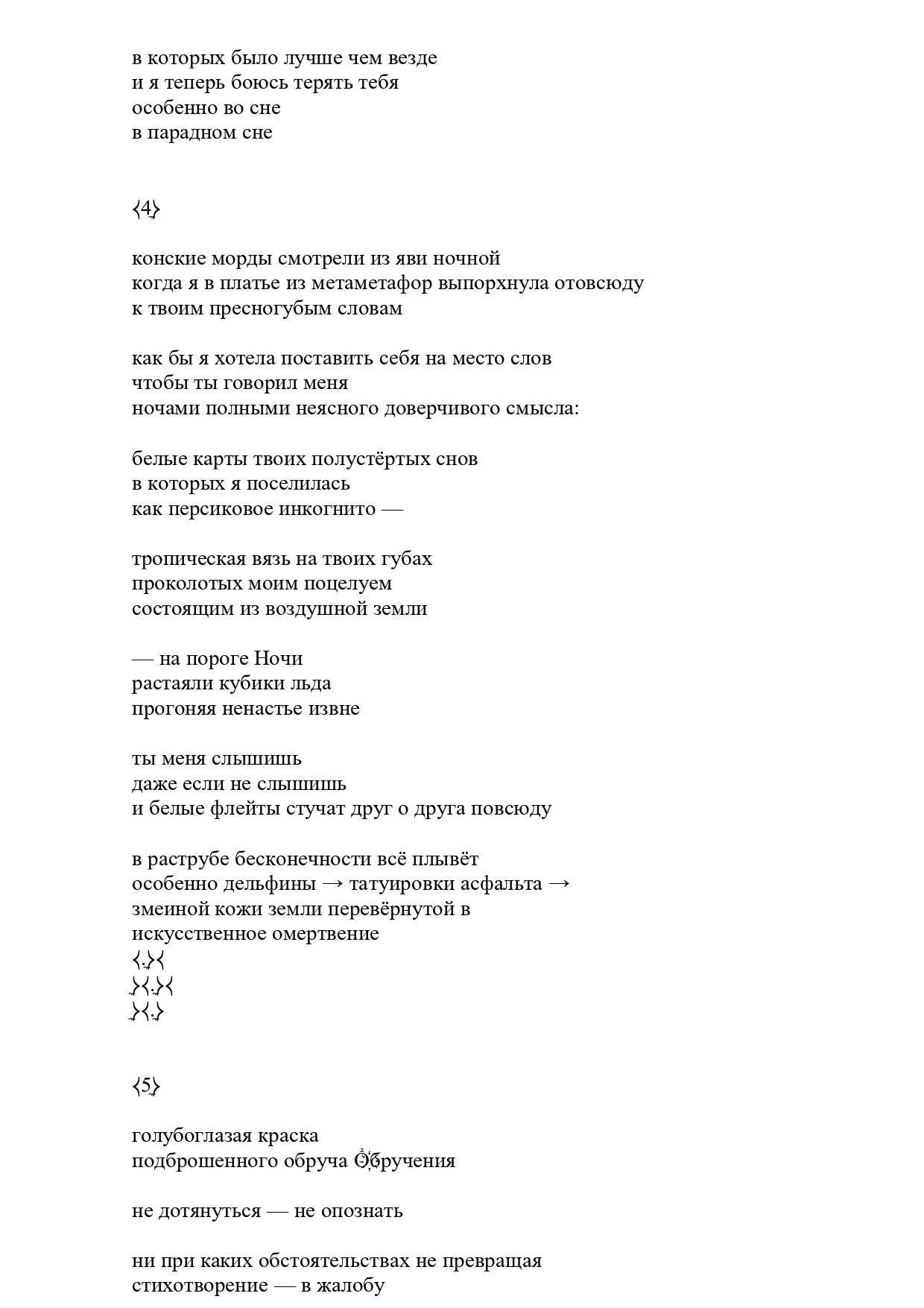
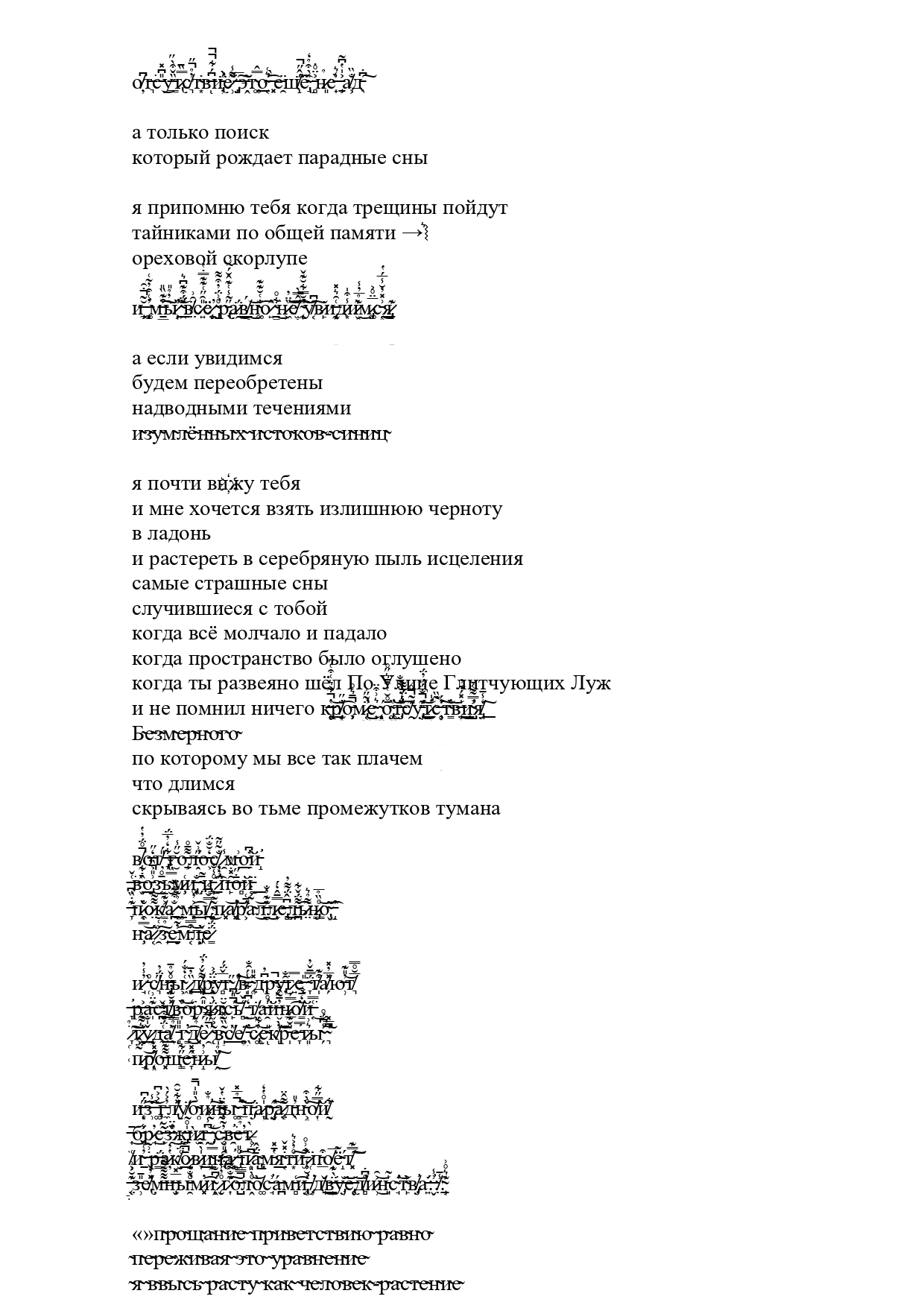
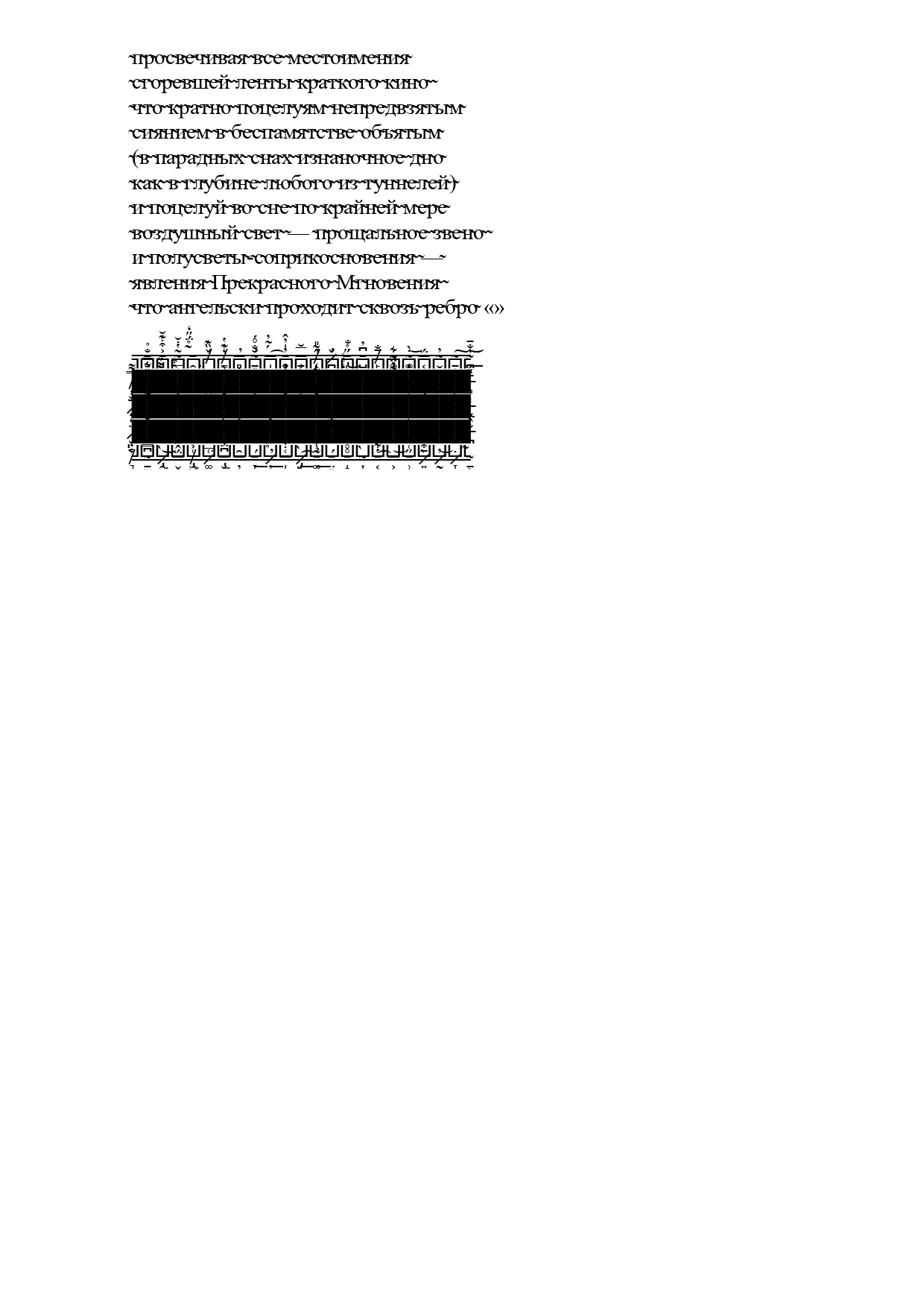

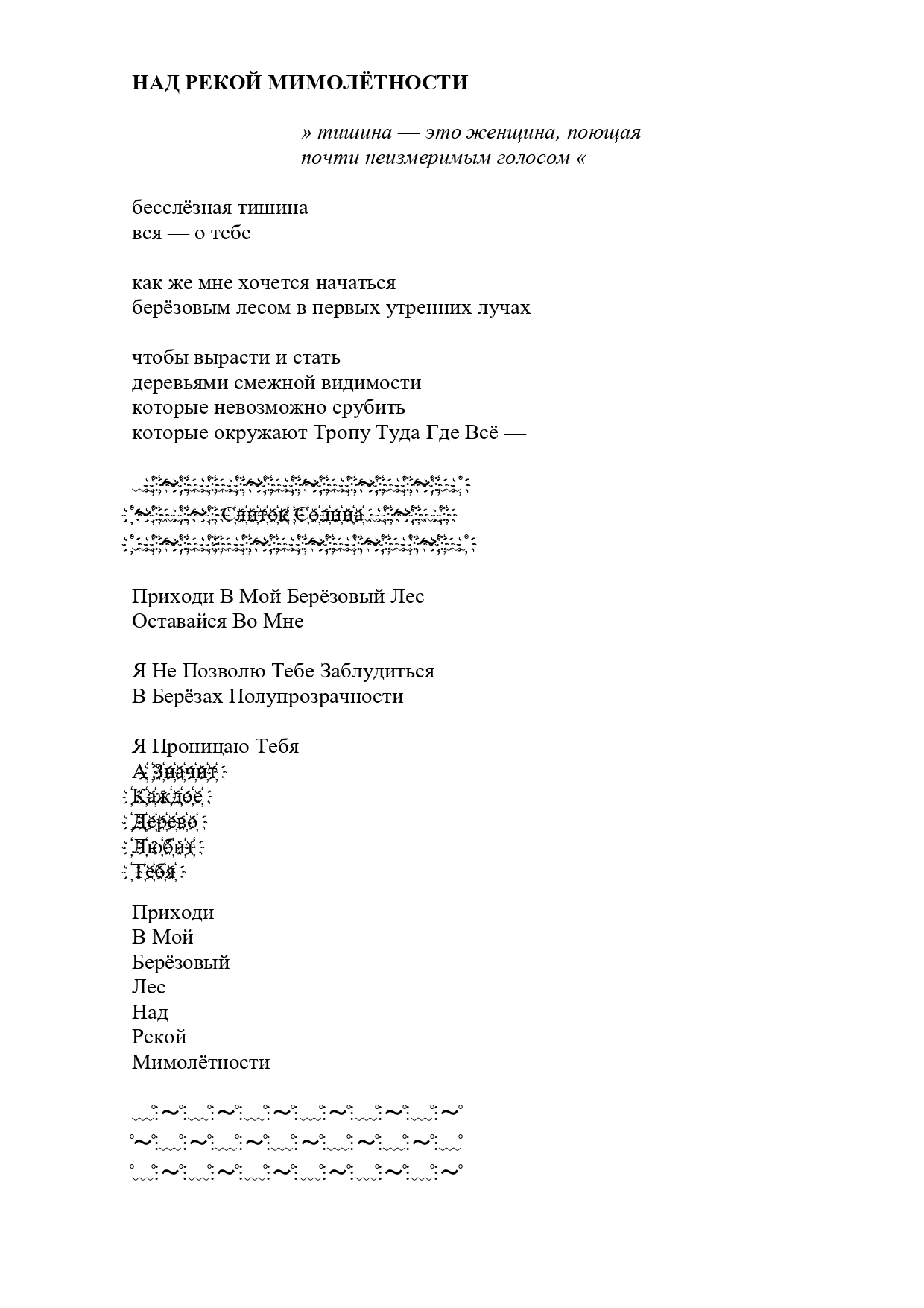
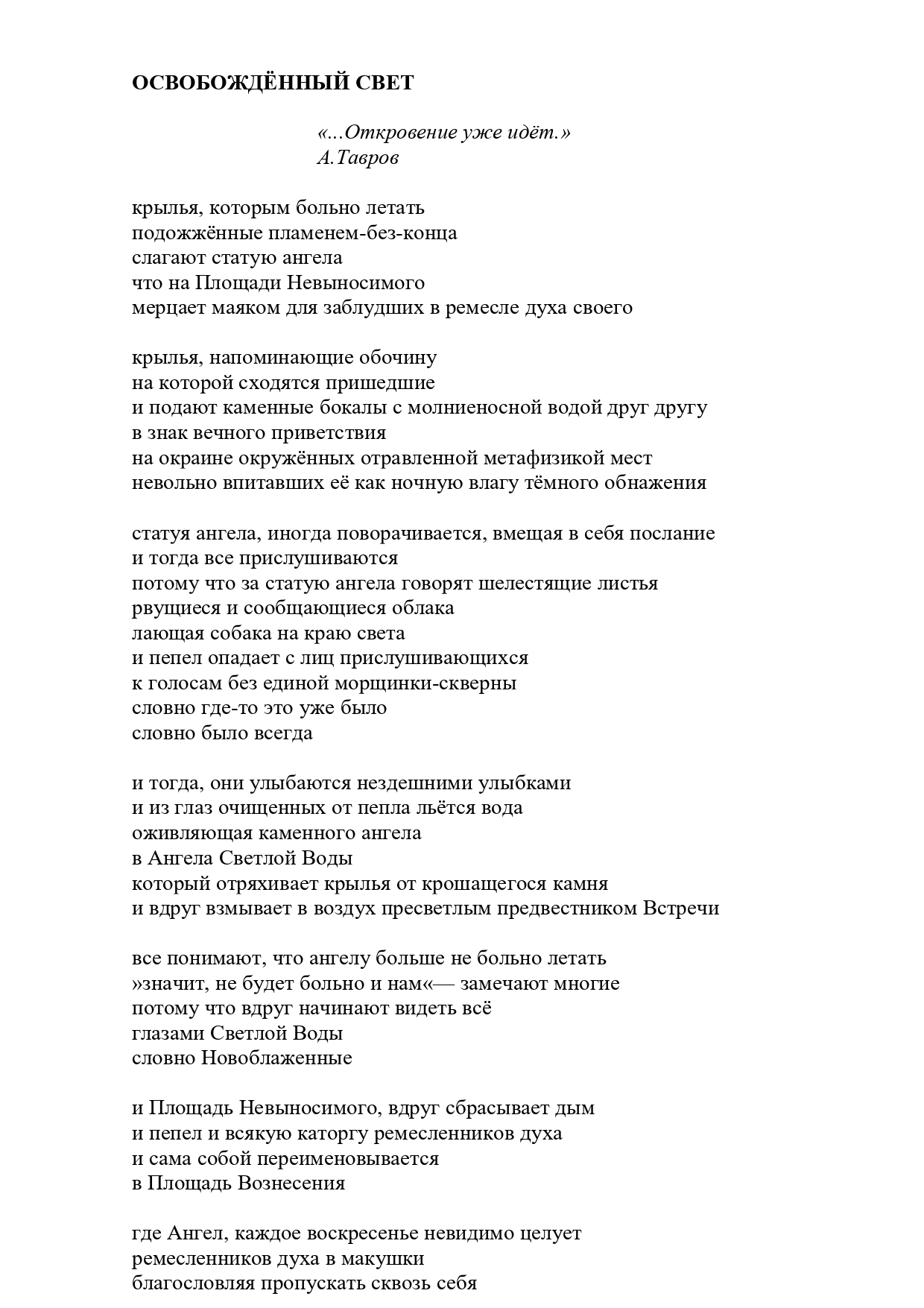
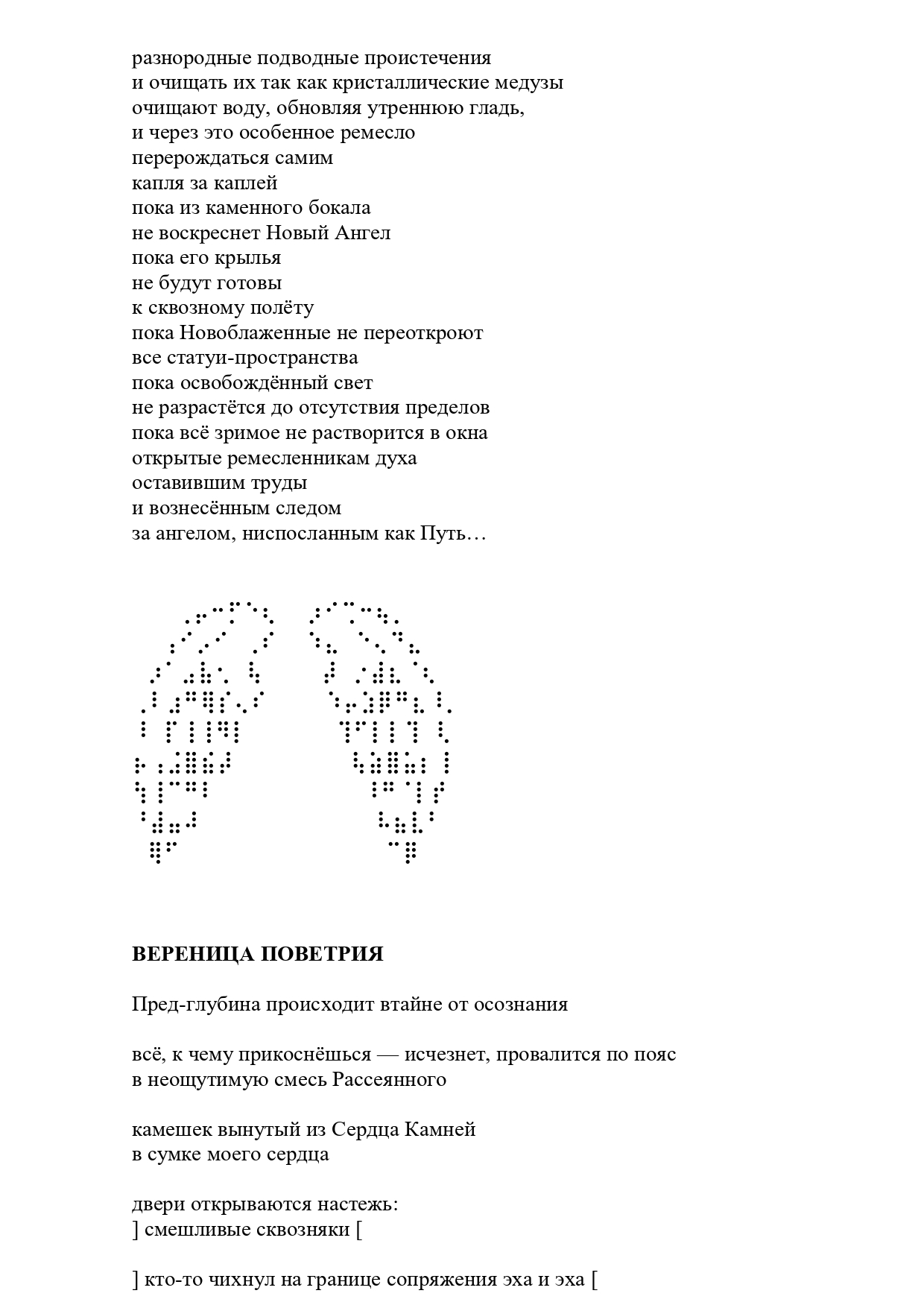
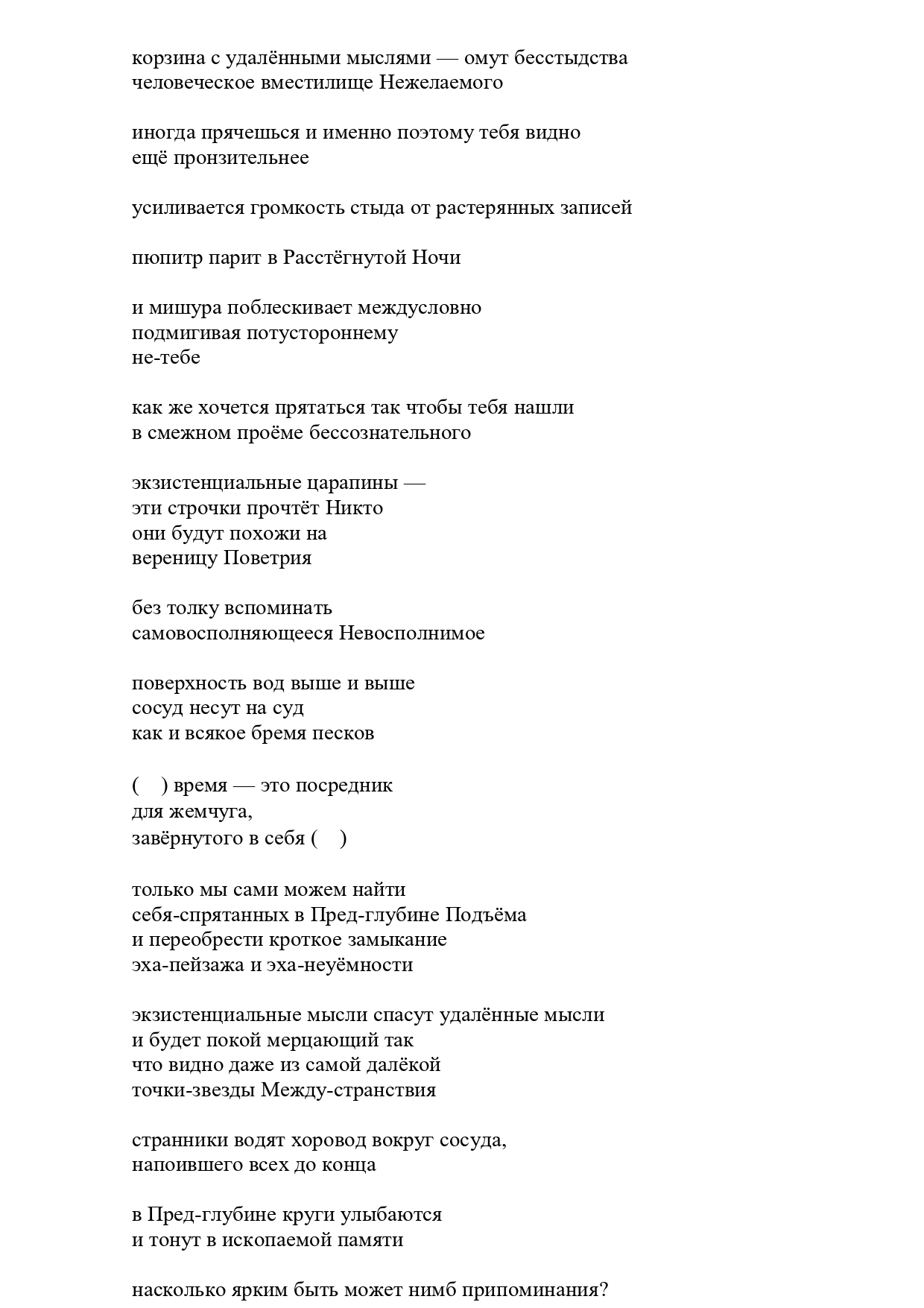
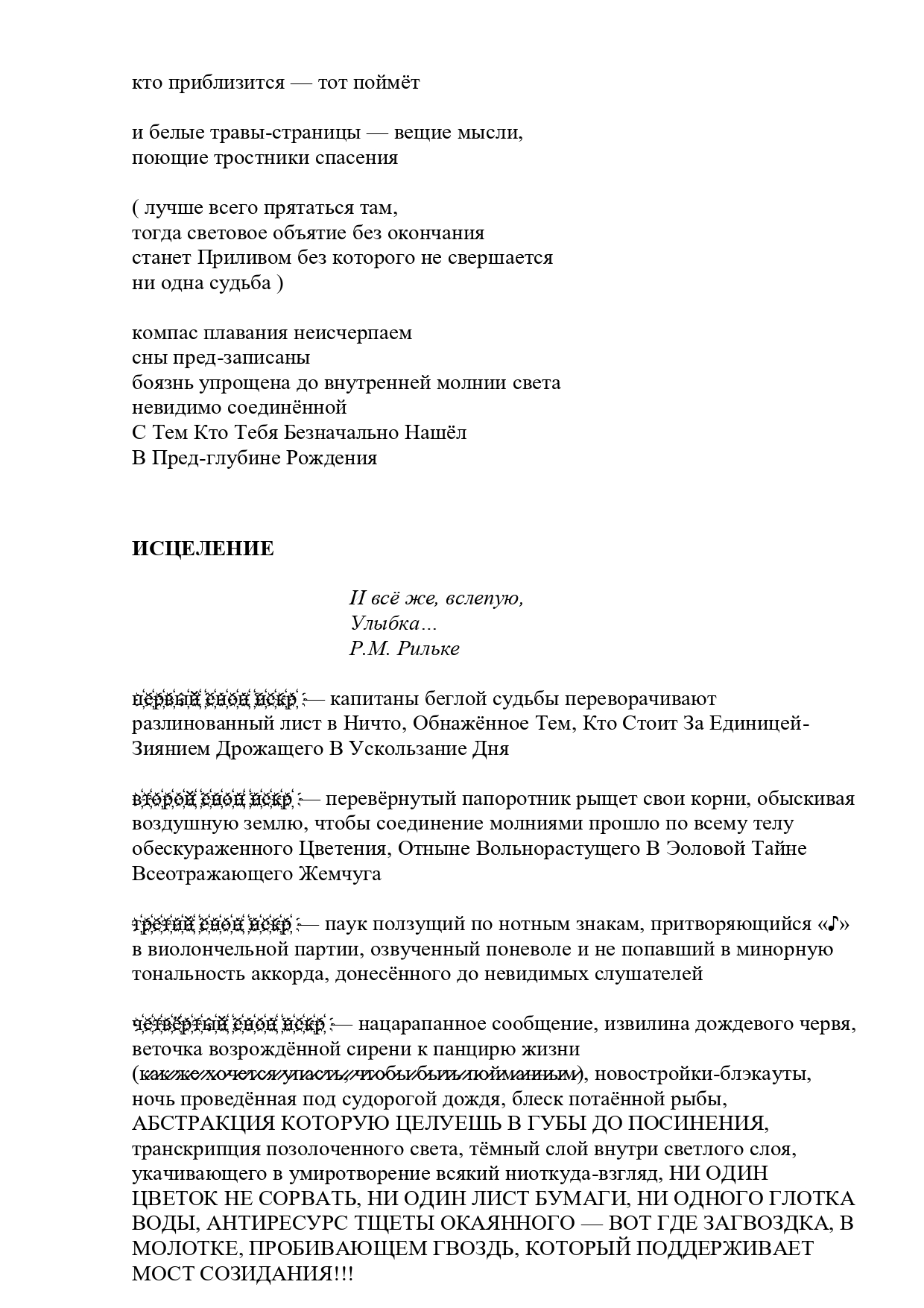
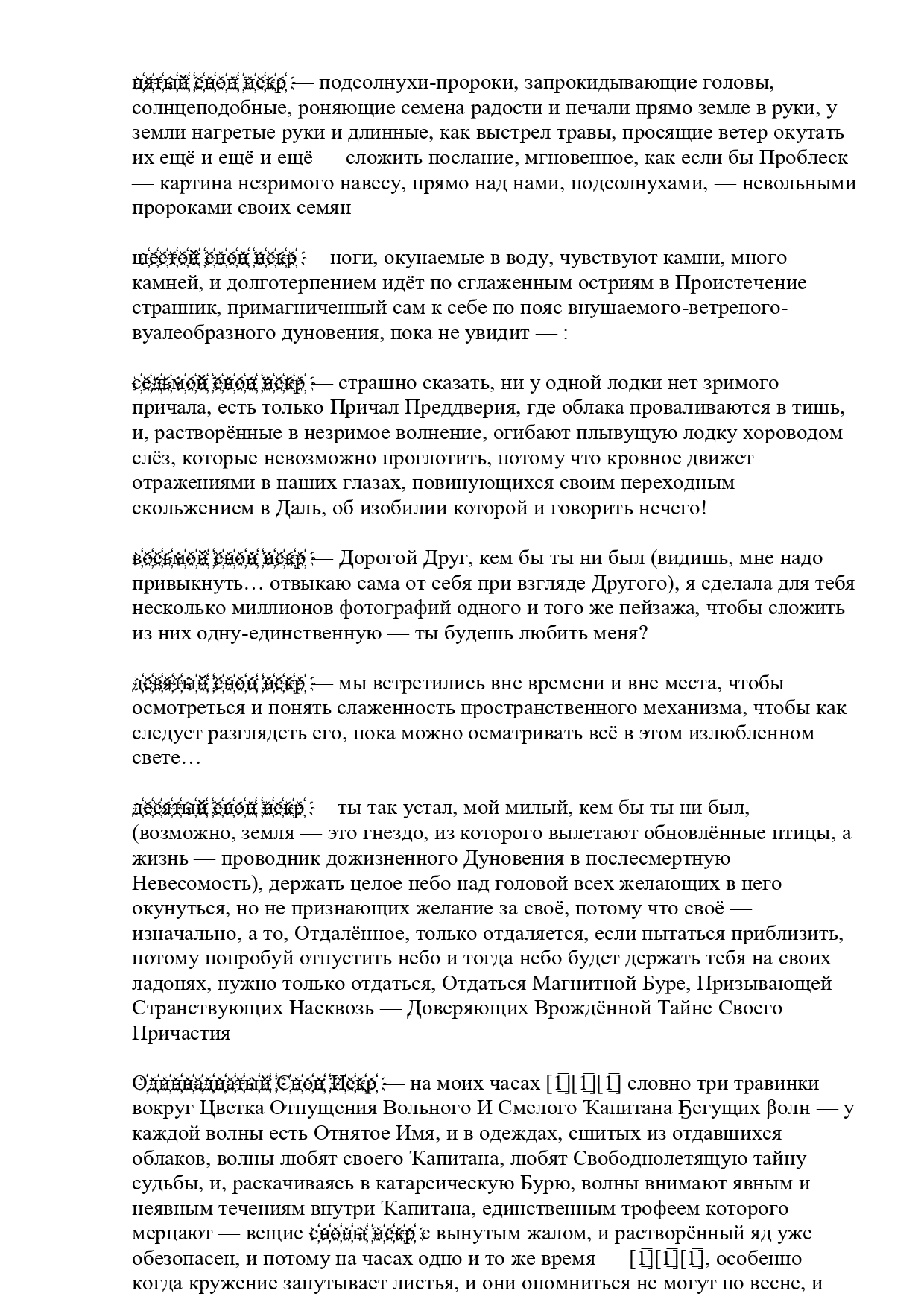

У конечного порога звука и зрения
***
Петру
Кочеткову
аппарат вызывал у мгновения, так сказать, посмертный шок
Вальтер Беньямин
во чреве мы слепые пещерные рыбы
Джим Моррисон
черви и удильщики не видят направленных на них камер
сенсация камень умеет обнажать/утолять жажду сенсаций
загадочное светлое насекомое сверхвидящая стрекоза
дрожит как динамит/к
чёрные дыры выполняют будничную работу поглощения
властелины одарены микроскопами и экранами
на которых пересматривают артхаусные фильмы
с неизвестного кинофестиваля
бабочки на самом деле кричат нам
но этот gentle sound за гранью нашего восприятия
когда мы во чреве мы не нуждаемся в оружии
нас спасает символ веры, арахисовая паста
«путевка на Багамы, крутая рэп-кассета
и солнцезащитные очки»
поедатели гаррот
всех на пределе на излете ждет топор
в воздухе круговые движения
у конечного порога звука и зрения
***
В. Д.
я
расскажу вам старую сказку,
если хотите, то с добрым концом:
«amol iz geven a mayse,
un di mayse iz gornisht freylekh…»
король, что нагадала цыганка, продет сквозь
дрожание на ветру у Обводного канала,
глаза у него цвета небесной слюды в пять утра,
весь он расплакан-расплёскан по мостам,
рекам и каналам,
сложен из зеркальных пустот, сквозь которые
свистит звёздный вихрь из зрачков заблудшей королевы.
я наполняла вас тем, что от меня отражалось,
той самостью,
которая тихо-тихо трепещет
под кожей смертельно больного,
раскалывается веками спящего ребёнка,
истаивает на них.
когда казнённый пляшет на плече палача
и учит на своём наречии,
когда клюка выстукивает по дороге из Египта,
когда сандаль последнего беглеца
цепляется за камень,
а фараоново войско тонет,
вы откидываете мягкий тёмный занавес
и не находите единственный взгляд в зале.
«они узнали, что мёдом и молоком
течёт не та земля, о которой вы думали».
кланяюсь дочери, сыну, жене,
счастливым студенткам,
частым вечерним дождям у Фонтанки на груди,
витражам и миражам,
беззаветной преданности и горькому равнодушию
кланяюсь.
дай-дайену,
мне и сегодня достаточно было.
ещё одна встреча с В. Д.
достаточно. округлостей и полых смешков
полураспад был прочерчен заранее ногтем
как всполох неутешительной яркости —
и все глаза на него, фаэтона
иссохнуть — стать собой, разбиться
на маленькие чёрные побеги при первом морозе
шепот целлулоидных губ как струя
летящая в любой вакуум
пока радиация изнутри глодает
и шрамы прорастают сквозь щеки живых и спокойных
и даже в краю наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга
история двойного разлома
вино почато и конференция исходит
валяй, осипший клезмер,
играй прощальную
задуй свечу
снег истекает здесь из самого себя
и язык сам собой бледнеет
***
Дмитрию Гаричеву
За всех, кто во аде их, за всех кто здесь лишний.
Александр Непомнящий
что делать если нет чёрного хлеба
шхина не сходит в голове от санджовезе серый ровный шум
да, мы здесь пролежим
полежим в этих мягких конвульсиях
существуя в одном упадническом духе
завинченные в двери шурупы
на стенке
на коленке
на презентации
вам должно стать понятно на 39-ой минуте
на восьмой день недели
и этот коллективный ы
и коллективный м-м-м
и поколения расплывчаты
и все утра желты в чёрно-белую клетку
и сон разума со стен действительно
производит микросхемы и демонов
и впору рассыпаться перед россыпью ваших стихов
***
Саше Разину
Яаков & Рахель
смеются как будто мы не попрощались давно
в позапрошлом столетии
в позалетошном годе
любовь это [ваши имена]
вы двое на чердаке
Рита и Аронзон
дома из коряг среди повторенных ошибок без игл
чёрное нитяное заземелье это и есть волшебство
промежуточное связное говорение:
«да, да, да. я на это потратил время».
и дзенские глазные пустоты//ши//
не лозунговое но простое
под стать предспусканию в плодородные долы Египта
под стать двум докатастрофным дням
двухцветномыслый пьеро в мёртвом царстве
творимые легенды в чёрных мешках
бронзовая махровая весна в октябре
мы будем служить эту службу стоя
пока играет человек с волосами иисуса непомнящего
жёлтое на жёлтом
напомни пожалуйста как называются эти значки
кроветворные
безоглядные цифры
может не обязательно и соблюдать
достаточно просто верить
***
и что единственно верно, то
ра
дость проходящей сквозь
поэтической энергии/энергейи
горшочек с одиночеством сам собой зацветает
пока Творец моложе нас всех, как и дао.
у них ни секунды на земле не предвидится.
я гляжу до тех пор,
пока на меня не взглянет цветущая ветвь абрикоса
пока не раскроется белая цапля
не выйдет из своего же обличья
и имя каждой вещи придёт пора подслушать
а черепаха вытянута в строку и от себя на себя отдалена
и предприходящее вещает наоборот
и белый войлок пишмание листается наугад
оставаясь на пальцах
плуг черепаший рас-формирует ландшафты
расплавь оратая шаг если сможешь
клюв осьминожий
в попытках выйти в доречевое говорят без конца
струящаяся вода как горлица сама себя образует
под камерой голубого квадрата неба
а в это время в саму себя закручивается труба
это не это и важно не важно
как кусок железа жемчуг двустворчат-един
и лев отступает утишив рык
с нашего на ангельский переводя
здесь осталась двустворчатость алтаря
и он никогда не сложен как горлица с вечно
распахнутыми удвоением крыльями
что про беспомощность?
выйдем за хлебом вернёмся с куском благодатной земли
камера, перебитие
как попытка разодрать себе горло ногтями
пока замедляется артериальное танго
любой трепещущей плоти на мировом ветру
флага ковчега
им бы остаться в процессуальности
обсуждать симметричность телеграфных столбов
без исторического багажа, без имени
когда и вещи лишились вещей оставаясь эхом
роняя мультипликационный прах
Страх в конце дня
ВОДА
вода когда я вышла из тебя
ты мне клялась что я смогу вернуться
ты мне клялась божилась и клялась
что жить это как минимум нормально
ты мне клялась светилась и лилась
и я не заподозрила обмана
ты отражала мир и он сиял
блестел рассвет в петле водоворота
и этим ты доказывала что-то
но что
а главное
при чём тут я
на небе бог на нимбе кванты рвёт
но он не мой вода и это правда
я так хочу хочу к тебе обратно
я не могу
а он переживёт
я сохну здесь как лужица в жару
годами всё вокруг меня сушило
вода я возвращаюсь я решила
и если ты не примешь я умру
вода
пусти назад
я всё прощу
я больше не могу и не хочу
СТРАХ В КОНЦЕ ДНЯ
I
захожу дверь пью остаток снега принесла на ботинке с грязью пью жажда
бытие улыбается глядя на нас с тобой
время тянется мельтешение тела возня в сердце очень давно безнадежно
я вырываю себе ресницы
хочу отмыться
в категории телепатии передаю богу что разрешаю поставить крест
моя кошка мертва и уже две недели
не ест
II
а бытие улыбается глядя на нас с тобой
и во всём что я вижу плетутся какие-то сети
белый шум визуальный снег много часов перед черным окном
и густой монолитный ветер
и не слышно ни звука на свете
я бегу к тебе лишь бы сейчас не остаться одной
но ты уже собрана и одета
ночевать на речной
III
что сказала звезда перед тем как взорваться в небе
а сказала она что давно об этом мечтала
что сказала вода когда вспять повернулись реки
нет вода совсем ничего говорить не стала
что сказать мне сейчас когда время пришло для слова
говорю что не знаю больше ни слов ни жестов
что ко мне пришла зима десятиголовая
и для прочего в жизни не остаётся места
IV
говорят или просто горят
говорят или просто горят
говорят или просто горят
говорят или просто горят
V
я рада что смотрела в темноту достаточно долго
я узнала как нужно прощаться
ты не слышишь этих шагов и не чувствуешь этого страха
в конце дня
когда доигрывает музыка
ты не слышишь этого свиста и не чувствуешь этого вкуса
хорошо что в комнате чисто
плохо что пусто
***
день сотый день повтор субботы
давай не господи за что ты
я говорю давай не здесь
я не готова испове-
я не готова исповедо-
но он меня по голове
..погладил... и завёл беседу
благослави благославляю
благослави благославляю
благослови благословляю
кто спас меня? а он мне «это я»
хотя на самом деле это я
в летальном обязательном повторе
выпутывала тело из риторик
я говорю спаси и сохрани
а он мне говорит что он католик
при чем здесь это
только о себе
и может
только это он и может
спасал от непрощения меня
засунул в пекло вынул из огня
потом ещё спасал от всепрощения
потом на сотый день бог дал бог взял
родился умер
всё в одной пещере
я всё
он говорит
я ничего
не понял из того что ты сказала
бог говорит:
«я ничего не понял»
отлично
ну а мне-то что теперь
день сотый повторяется суббота
теперь суббота будет каждый день
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛИКОВ
пошла последовательность от-
кликов смотрю глазами кузнечика
самая дикая из природ
заставляет горько вжиматься в плечи
всё же делает оборот
день проходит по-человечьи
приходить в себя вспоминать слова
приходить ещё вспоминать другое
быть не в порядке и не в покое вить бесконечные кружева
самая дикая из природ
самый глухой отличительный признак
эта природа меня убьёт
прежде чем я
дотянусь до жизни
быть человеком плести плетень
путаться в нитках и рваных тканях
жалко нечестно как захотеть жить если не владеешь руками
рвётся кружево как бы взяться
за эту нить и глаза слезятся
свет красота это вроде блажь
мне просто хочется быть красивой
вместо это я распла
вилась и распласталась под силой
самой дикой из всех природ
которую я ни о чём не просила
ПРОДОЛЖЕНИЕ СНА
проснулась только и делаю что живу
вижу сквозь круглый аквариум рыбьим глазом
и то что меня несёт а не я плыву
я поняла не сразу
мне было не больно
как продолжение сна
но дерево гнило и с ним мои руки чернели
каждый день повторяемая в окоченевшем теле
я осталась одна
я осталась слышала как оно треснуло и упало
как испугались птицы как разлетелись лярвы
как кости крошились как лопались капилляры
как я умирала
растеклась и впиталась в землю к сухим корням
мёртвоцветущего дерева
не ищите меня
день пылит пресным ветром совсем не похожим на шторм
я зову ураган но ко мне не приходит никто
лесотундра огнистое поле продавленный след
может хватит ходить
по моей земле
будет ещё без пробелов сто миллионов знаков
о том как мир в отношении нас инаков
о том как мы очень напрасно надеялись на
продолжение сна
я знаю что будет другое время что дождик последний не пролит
что можно просто идти туда где что-то звучит и светится
я иду на свет под ногами ветки сложились в иероглиф
по всей видимости
означающий бедствие
это так нереально и так непохоже на жизнь
я думаю неужели нельзя от этого отказаться
в пользу пространства где пение ангелов и витражи
и вода
и слова
в пользу такого пространства
где границы моей головы где границы твоей
нарушение чувства целостности предмета
разделение тела на два принципиальных момента
меня нет я есть
это я или ты человек расщеплённый на пыль
принудительно дышащий тонкая единица
у тебя или у меня звенит в ушах от поворотов судьбы
или спим и нам одинаковое
снится
МОРЕ ДЕРЕВЬЕВ
море деревьев зелёная лужа аминь
я застреваю в проталинах между людьми
я застреваю на мысли о злом и плохом
я закопалась
покрылась мхом
переворачиваются камни под ними ящерицы
переливаются волны под ними камни
я стою у воды и мир на меня таращится
и шевелятся пальмы
между словами и мной натянулась мембрана
катится капля брызжет песок я пришла к водопаду
может казаться что умирать ещё рано
но это неправда
в какую бы сторону ветер ни вёл
в какую бы сторону дерево ни наклонялось
каждое дерево в этом море — моё
и я бесконечно
между ними слоняюсь
ТЕНЬ ЖЕНЩИНЫ
тень женщины имитирует ветер
смывается в иероглиф
открывает глаза и светит фонарём над дорогой
мается цветом телом текстом
дует на воду
мотает леску
тень женщины в белом углу голубое пятно
пересчитывает облака и выбирает одно
напоминающее
её спальное место
вьётся снуёт обманывает меня
голубая тень её не помню какого цвета руки́
размытые пальцы / прозрачные ангелки
не доживут
до следующего дня
тень женщины я кувыркаюсь в двухмерном пространстве
вжимаюсь в стену умоляя её остаться
тень женщины имитирует ветер проскальзывает к окну
и навсегда оставляет меня одну
***
как пережить
такую тишину
она здесь дышит
я говорю и эти вдохи слышу
так душит или дышит
или дышит
сопутствует пределу моему
тяжёлая
и я не подниму
послушать бы ещё какой-то вдох
я так мечтаю — этого не будет
я так воображаю — голос, шум
красивое и медленное пение
но тишина
и я не опишу
Носитель перцепции смертен
ПАТТЕРН 1
Детство, бытие куда ярко. Поздно уже, возвращайся. Хотел начать с важного песню. Видишь, любовь касается героя и утрачен миг. Ты быстрее поэтов считаешь лбом, где копошится сознание, чья главная функция — связывание местности с ангельской речью, излучающей черные диалекты. В повествовании встречаются глупые фразы. Например: «Предоставьте мне документы на одиночество». Что происходит с содержанием? Круговоротом в однокомнатном мире подсчитана матрица сна. Послышалось, «блаженством, которое в глазе существует». Усмехаешься мне в сердце, допустим, любовь вертикальна. «Я» представляет собой разницу между «туда» и «без обратно». Синкопы сердцебиения, какие-то белые вещи, зола цветка. Тени дополняют горизонт, узор улиц дисциплинируется перспективой. Знание — средство молчания. Кровь благополучно вытекает из реберных ран. Секрет рыбьего имени в устах смертельно больных. Глядя облаку вослед, бормочешь последнюю букву алфавита. Пахнут теплом процессы отсутствия. Весь туда попаду? Об этом ли весть? Лучше наречия, чем рай, чтобы задумываться о языке, так как теперь рассматриваю мир как различие. Развилка смысла скрадывает исток. Я нуждаюсь в галлюцинациях повторения, чтобы скрытый город возник из пустыни. Человек, охваченный существованием, мнит какое-то солнце за глазами, хотя история никогда не откликнется на его зов. Тайна кружения адресована неведению равнодушных.
ПАТТЕРН 2
Предел воспоминаний, где весна параллельна зеленоглазым людям, чьи губы пробуют отделаться от улыбок. Разные были, после лежат, затем хочешь местами выслушать табачно-обнаженным. Присутствие, проскакивает профиль. Чужой язык во рту, как и мозгу, циклопичен. По самую душу ушел в плоть. Фрагменты из нескольких иллюзий, это вселяло радость в глаза, но мы отталкивали млеко нищенок. Потому человеческое и возвращается в океане снов. Следы ведут в тождество случая и повторения. Пальцы, умноженные движением, обратны телу. К животной глубине припасть и исчезнуть в снующей зыби искр. Мелочи голоса постепенно опредмечиваются, резонируя с оконными стеклами: трепет изучен ладонью. Возносится прах костей рода земного. Глубокогрязный смех — порыв разинутого тела. Насилие нормы применяется по усмотрению, главное — ее подвижность. Подозрительно безвременна традиция как тон обычного автора. Только спеша вперед секундные стрелки догоняли сердцебиение, и лестниц хватало дрожащим коленям. Вокруг равенство, уготовленное вещами. Мгновением передернуто дыхание и статичны образы. Воздух не опечатать. Глотни-ка старости, живущий-меняющийся, давясь осознанием. Путь взгляда прерывается морганием. Умозрение испорчено обычной мигренью. Эйдосы не были рождены. Затяжная глубина застыла наоборот перед нырком.
НЕСКОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫХ
Кто там? Беззвучный ветер веет над экраном моря. Время замирает возле ощутимых видений. Ночь разворачивается как концентрическое воображение, где распахнуты смыслы. Пальцы просятся на волю. Ребенок читает мгновенье отдаленной смерти. Кочующие через поцелуй слова словно непрерывная лестница уходят концами в избавление, совмещенное с анонимностью. Все ли убитые сосланы в рай? Слюна — весь секрет языка. Тело и есть дар. Назад вдоль воды увидели это. Возьми с собой немного хлеба и босой молитвы. Неделями я исписывал чистейшие страницы, пока по ту сторону описания продолжались танцы и изнанка пейзажа исчезала в последующих строках. Итак, мы описали механику любви, царапающей отсутствие. Говори коряво, то есть свободно, ибо все иллюзии потеряны. Пусть море думает вместо нас, стремясь к пределам. Пусть время вдруг станет наблюдаемо вспять. Сквозь трещины тьмы. Каждому ребенку важно иметь нормальную веру, иначе никак не оправдать войну против отцов, убивших солнце и запятнавших свой ум деталями. Помнишь ведь, снег в детстве был событием. Путешествие к другому я при взболтанных сумерках запускало некое движение памяти, противоречащее пустынным пространствам. Именно удовольствие генерирует состояние истины: в одном глазу — сокрытое, в другом — открытое. Мы достигаем совершенства в искусстве комбинаторики и вдруг пробалтываем целое. Обоими. Сначала почувствовали изыскания жизни, а потом растворились до рождения. Есть ли у круга первопричина? Навязчивый фрагмент повторяется, превращаясь в элементарную философию. Череп замкнут. Геометрия бесконечна.
ТРАНСКРИПЦИЯ ГОРОДА
Город говорит, чередуя людей: на что ссылается время? Город говорит: в хаосе наблюдай проблеск симметрии. Математичны биения психики. Смерть возвращается по вечерам, вовлекая нас в игру, которая единит с природой и человек становится факультативен подобно спасителю. Тело отстранено от создателя. Готов ли ты трещины на штукатурке изучать, за которой голые стены? Ветер знает то же, что и глаза, хотя парализовано восприятие, отскочившее от предмета. Письмо — двойник моего одиночества. Разговорное бессилие творит большую литературу. Нейтральны муравьи, ибо изолированы в каждом мгновении. Солнце опадает навсегда. Ветви усложняют небо. Часы медленно разъедают слух. Бессмысленно сопротивление стилю. Несколько утр назад глубокая грязь пульсировала в перекошенном направлении, и дорога шла далеко, добираясь до мусульманских плит, чреватых воскрешением. Падение развернуто от виска до виска и громок твой рот, старающийся докричаться до тишины. Попробуем сосчитать ее наизусть, стоя рядом. Что остается верным себе на всем своем протяжении? Помимо дней недели, гримирующихся под мертворожденных стариков. Грядущее навязчиво. Ясновидение совсем не поэтично, хотя использует механизмы ускорения, преступая горизонты зрения. Город начинается на пустыре, где вымерла карусель. Через широкие проулки прошло празднество, оставляя после себя огни, молодые деревья, ставни, магазины. Вторично осмотревшись, запечатлеваешь траву, скромно растущую между щитами. Сотворены ли числа? Они заботливо накладываются на реальность, чтобы та обновилась до ангелоподобной версии. Следы парят над скорбным путем, то есть спектакль продолжается. Слепоту компенсируют птицы.
ПРОБЕЛ
Мыслить шагами неизвестно куда потом. Предначертанное крошится в лобной доле. Ветер какой-то мраморный, препятствует телу. Горизонт словно сон призрачен. Территория избегает карты. Замедляя понимание, можно изолировать связи, чтобы вспять устремился пейзаж. Зеркало речи — машинерия, перемалывающая расстояние на квадраты. Рамка алфавита наброшена на зыбкую огромность, которую вряд ли можно схватить каким-либо уравнением. Из-за всего этого мы выглядим картонными. Возможен ли Исток во множественном числе? То, что ты говоришь, обжигает беспорядочностью. Однако сияние и рот встречаются в понятии трещины, пробела, зияния. Разомкнутый криком рот больше, чем ноль. Ложь прекрасна тем, что продумана. Молчат жертвы насилия, хотя они единственные соискатели, плачущие настоящими слезами. Во фрагменты ребуса можно только верить. Структуры воплотились на равнине, где завоеватели были открыты для прочтений, пачкая историю. Ровным огнем согревать отсыревшие письмена, прижавшись к камням. В памяти всплывает холодная поверхность ответов, навевающих скуку, то есть близость устремлений. В отдалении растрепанные звуки шевелящейся листвы, предназначенные усердному слуху, претендующему на откровение. Остается идти прочь вплоть до исчезновения. Щедрой была любовь.
БАРДО. БАРЗАХ
Движется случайная речь, заполняя акцентами представление. Прожигая новые тропы в синапсах. Интересно другое: смещенные улыбки будто бы избегают значения. Червивые рты скверных статуй изрыгают гимн. Будущее застыло в выспренней округе. Только кошки переходят на следующий уровень игры. Раздробленное окном пространство напоминает детали рассказа, разминувшегося с бумагой. Присутствие, враждебность, слепок скуки. Обратимся же вдаль, где величина субъективна и узрим, что зажаты между буквальностью и аллегорией. Шагают, растянувшись, трое, а у кого-то жизнь на чердаке. В саване, приведен в полное согласие. Полый голос приглашает под кров. Взгляни на заикающуюся толпу, она таращится в мандалу, покуда поблизости грезит правитель. Изначальная сеть выплевывает числа, преломленные контурами графина. Скорость ответов отрицает единство «я», последовательно уничтожая мечты. Приближается равноденствие и старый дом снова раскрывает двери путешественникам в царство всеобщего, где можно наверстать собственное рождение. Надо просто войти.
ЭХО
Носитель перцепции смертен. Первая аксиома, лежащая в основе всех теорем, произвольна. Возможно, ты никогда не умрешь. Перед тем, как угаснуть, сознание катапультируется в нечто большее, чем сознание: пружина грамматики в настоящем продолженном плюс подвижная вера. Затем чья-то быстрая сигарета при попытке сосчитать облака, переходящие друг в друга. Мышцы перспективы, горизонтальные линии, безлюдный закат. Вещи толпятся как ржавые рыбы после распада воды. Мимика требует усилий. Ты усвоил все фигуры из учебников, мараясь солнечным измерением, взбираясь по лестнице ума к сплошному обозрению. Язык окружает лишь этот мир, провоцируя шаткие мысли. Спонтанность принимает варианты. Музыка отдана земле. Несколько воробьев одновременно пронзают слух. Где и с кем надо спать, чтобы сны стали светлыми? Классическая проблематика выбора, когда ангажировано замешательство. Боль ускоряет занавес, покуда ожидание набухает волнением и воздух ветвится у губ. Но… превратился ты в носителя вдребезги разбившейся перцепции. Опять.
Жатва
I
выходи скалозубый
эти воды достаточно ждали
пока ты спал солнце умерло тысячу раз
не хочу тебя злить
но столько всего случилось без твоего согласия
столько зверей сгинуло
потому что ты их не представил
небо объято лосиными пантами
кирпичная соболь вцепилась в город
башня совы потеряна
и это немногие уцелевшие
жизнь рождается в тишине созвездий и гаснет там же
значит скрывать тебе нечего
сегодня вечером скалы не должны молчать
делать вид что есть вещи важнее
мшистой коры двухсотлетнего граба
и светящейся лодки ясеня
вспоротый вепрем востока
ты конечно оглянешься может
не хотел бы я этого но
всё-таки вероятно ты пожалеешь
о стройном блаженстве забвения
которое допустил
чувствуешь магма клокочет
поздно потягиваться
рык земли восстаёт на медный закат
только огня теперь требует свежий цвет
II
полдень ребристого солнца
застал меня колуном
ломота несла трёхлитровую банку
домашнего лимонада в рябых руках
и это начало беспамятства
не знаю может и поздно но я
целился в центр комеля радиусом в полуметр
бывает что веры нет никакой
но делаешь то что задумал и чудо
гаснет или случается
соседи вдруг вышли в просёлок
одновременно вросли
предчувствуя вязнущий треск заранее
и тогда мой радар раскололся
будто □□□□□□ лопнула на зубах
не скажи только этого слова
□□□□□□ лопнула и кора разлетелась
топориное лето взвыло над
крывыми заборами сколько
искал этот миг всё страдало
в ртутной испарине ломки
марс догнал меня в копоти чердака
пыль на крене тарелок дрожала
перечитай это медленно
лучшим решением было выгнать меня
из дому под спальный рельеф ногтей
на рассвете невидимой рощи
скулил маслянистый обрывок и всё это было
так я запомнил начало листвы
III
сколько я слышал что это колко
в чернижниках боли не спит
тонконогий несущийся вепрь
так на покосах и есть ты не знаешь
кого за собой приведёт тишина раската
гул гнезда или стрёкот в кустах это ладно
безнадежность таит великое чудище
запароленное молчание неизвестно
лопнет ветка ли деревом
сам в себе на своем перепаханном векторе
ластишься к левому краю
гул отдаленной цикады осиного пепла
из под земли осторожно обходишь
это пока
но такое молчание неба без облака
желтой иссохшей травы кроме
догадок несет только страшную тайну
причастия клёкоту дымной сирены
лес ничего не выдаст
здесь ты один как можжевеловый куст
кажется срежь и высуши но если бы так
лук будет думать взвешивая болото
в дымном затяге сосновых сучьев
редких как свист полёвки но это ровно
ничего не значит в матрице
комариной сетки
шусть и коса пробивает гущу молодняка
лиственный мусор не помнит
чем всё закончится
думаешь про себя хоть бы дождь
прибил этот едкий гнус
и зной прошивает гром
IV
если я вдруг не проснусь то это написано
больше чем просто созвездия над оврагом
он танцует вокруг костра и это победа
в мире справедливой истории
здесь если честно я уже ни в чём не уверен
а там он танцует на углях
разрушенных городов танаиса
стон подземных осколков сливается в хор
победной сини колосьев
повитой паучьим маршем
слетает кора сосновых стволов
как по маслу в навозном удушье
сенные скирды спят перед небом
и только огонь распрощается с ночью
слышишь ли ты или нет но победа дымится
в гомоне сонных осколков
мы медленно тычемся в рамке телеги
ладно ну ладно тебе это то же
что брод через горный разлив камнеедов
жадный призыв невменяем и розов
в гранитной утробе поветрия
сизые вихри укажут песчаную рухлядь
в когтях полумесяца может быть
сон ещё длится но скалы
сияют невыбитой силой утёсов
прогорклая дымка застоя укажет
неспетую кварту скалистого ритма
кишок закарпатского лета
так устроена кровля могучего замысла
атомы бьются когда победила неправда
V
плакал ли я прикладываясь
не вспомнить но совпадая с грозой
с трещиной змей или с отброшенным
камнем кошки просится в темноту
к отражению вдовьей лампы
мотылёк и он это слёзы поющие хором
отпусти к остальным
пережатый затяжкой ритм раскалённой
топки гудит отправление
к девичьим жалобным соснам
в рыжих платках расставаний
вы чего говорю подите уже домой
жатвы не будет острое зрение
видит разруху веснушек седую
пшеницу обжитую пыльной тлёй
на сквозящих трещинах
солёных ладоней в зубах
покорённого млечного света но
внимание отворачивается к страху
вспаханного чернозёма пустой надежды
к сливам которых никто не ест
к сочным лампадам дыни
и фонтану розовых ирисов
всё это тает жжёным янтарным сахаром
забытым на лавке памяти
толстой взволнованной девочкой
вот зачем эти красные рельсы
подвешены рядом с домом
никогда им не верила даже сама
как-то кинула камнем так что старый
буян разлаялся и долго не мог успокоиться
VI
в тебе есть эта скажем так отмороженность
ты не хочешь заметить радости осени
песчаного свиста воды или даже насмешки
старого тополя во дворе
но я повторю в тебе есть эта ухмылка
ты понял но делаешь вид будто
я это придумал из хвоста скорпиона
высасывая дымный свинец
псевдоморфозы его идеи когда-то
мне сказали артрит но я перекатывал
маленьких скарабеев под кожей и ветер
шумел будто слышит скользящие
чудным муравьедом танки в горьком дыме
щемящего знойного лета я видел
но ты не признаешься стряхивая опилки
с монгольской шапки как пепел
сияющей вспышки шахты я часто
достаю из коллекции образец
антрацита и долго гляжу на него
этот двухцилиндровый блеск живёт в нём
он лыбится криво вроде как это неправда
мне его убеждать или дальше плести
несуразицу ожиданий о жизни
за картой гранитного люка ой ладно
сегодня не важно какие там цифры
под слоем пепла его не стряхнуть
с молодой головы мы ехали вместе
ты шокал а я повторял не гони
рогоз распушился куницей
ревень сочится предчувствием скорости
репейник испуганно смотрит
VII
свет здесь не нужен
ожерелье мрака скользит наощупь
и едва ли ты ему выдашь
пережёванный за эти три года совет
безусловно всё значимо только
не забывай мир уже давно не такой
он сбежал от повысохших глаз куда
я конечно там был но сказать не сумею
вот подсказка
видишь след самолёта это всё ещё он
помести его в травный венок
чтобы время смыкания длилось
если вышло возьми его и неси к голове
не спугнув насекомые чада
это трудно поймай ожидание крыльев
в расцвете чешуйчатой жажды
пробуй и только придётся взгляни
словно понял зачем облака
не для чего я имею в виду это было бы
здорово вовремя но сейчас уже поздно
взгляни будто ветра совсем не осталось
он как бы кончился даже
пшеница гниёт и рубаха врастает родная
стоит взвесить готов ли ты знать
реши что угодно важно будет не это
как только решишь появится под ногами
бесцветная ящерка она есть и сейчас но тогда
ты возьми её дважды моргни и вдохни
языком кислорода желаемые ответы
отбрасывай хвост и беги
VIII
звери сперва исчезли
трава перестала расти и слова наши
произнесённые с чувством и знанием
вдруг покрывались шерстью или
жадно всплывали теряя жабры как мелочь
иное слово как рыба-ёж
в страхе взрывалось в гортани стоящего позади
хоронить успевали лишь косточки
остальное ссыпалось сажей сколько ещё
ты собирался проспать
сонная бьётся ещё где-то на дне океанов
нам таять недолго какой будет план
даже о них не думай
свирепые черви выпадали из чёрных шлемов
их никто не пытался поднять и примерить
что ещё думаешь
как ты не понял забудь бестолковый
всё обратилось в осоку и тёмный камыш
ты жаден до памяти ты не чувствуешь
воздуха боли тяжёлый разлит он
в каждом городе только
тайна держит старое как своё
и она заржавеет с тысячным гостем
зря мы надеялись
этой победы не быть не случиться в топке
невнимания и отсутствия догорает
твоя □□□□□□
что ты этого слова не знаешь
тогда всё напрасно
теперь мне в другую сторону
IX
тень зная не помнит своего собеседника
так я начну слушать твоё внимание
яму желания стережёт липкая грязь
и это то же что ты называла
мыслить шестнадцатым и будто видишь
движущиеся слои медленных стягов
разреши я закрою окно спасибо
теперь можно продолжить стояние
в бледно-зелёном углу вины
где кусочки обоев крошатся в отмирании
и кольца похожи на лампу-убийцу
мне кажется зря ты его отпустила
всё могло быть иначе и я провалился бы
вместо него но теперь жуть различий
стремится к большей свободе и её не вместить
словно горящие шины катятся исчезая из виду
в глубины карьерных прелюдий я слышал
они отрубили прости но они отрубили
голову курице и она
бегала в причудливых траекториях что-то
вдруг заставляло её взлететь и хохот
дикий неадекватный хохот трепал
суетливые взмахи бесноватые возгласы
дицел уююю индийская пластика тел
в тишине омертвелого леса ты слушаешь
ты не слушаешь засыпай моя радость
в память мирных ступеней я сброшусь опять
первый этаж просто понять это больно
X
начинаясь сначала
день вспоминает подъёмы деревьев
так же и я ощупываю дужки очков
пальцы мои тогда длиннее рукоятей
вил и граблей в жаркое лето выпуска
кузовок не всегда собирает нужные
фигуры задуманные механизмом
голос тогда глуховат потому что я помню
дымчатого котёнка в случайных конвульсиях
теперь ты можешь открыть глаза
смерти здесь меньше чем в жизни
но мне стыдно за лень продвинуть чуть
дальше движение рук тогда бы его не
задело то лето не кончится в памяти
кислые яблоки глаз жаждут скорейшего ветра
колёса подпрыгивают одноклассники
спешат на балясины дёрнем
через тропы невидимой совести от ментов
было неинтересно рассвет не потерян мы мчимся
сквозь десятилетие тряски к тонким лугам невнимания
там где ты за руки держишь погибших детей
из под бесцветных перьев свободы
взлетающих в будущий мир
пригодный и недоступный для громких
окоченевших от сводного времени нас
мы несёмся в бездонные воды труда
и лучшие звери гибнут в топкой трясине
неузнанности возможно это моя вина
если так то прости мне плохо
эти воды чуть розовы и причастие ощутимо
XI
листая раскаты наземного пламени
воды дыбились будто любовь недостаточна
побег равносилен плоду его оторопь
означает бездействие гнутой ладьи
только бой эффективен и старая пристань
шипит и всё же должна быть в конверте некоторая
глубина которую не различает огонь
застилает сознание милая
ты его отпустила я взялся за пахоту
это значит одно мы выбрали землю
дикой пустыни где ветер покоится
вместо плода что значит готовность
к пришельцам пророчества
сгнившего в капсуле битой надежды
поэтому знамя похоже на острые
пеликаньи крылья в заряде мортиры
или ядра в дрожащем ситаре клюва
неважно птичья листва или складки
напрасно сужались под весом
мучительных перемен ты не знаешь
о верном огне обета но он догорает
и значит в пламени теплится нечто
неназванное скалы зовут изнутри
серповидного несогласия камня
он брошен забыт но я помню
нескладные грани пророчества
время тикает в нём как заложник
в большом коридоре смятений
XII
застигнутый полднем огонь вымирает
переходит на шёпот стирается и поэтому
он так опасен пожар это праздник
было бы странно не выскочить из прополки
как случайный ратан за невидимым блеском
так туман пахнет дымом наутро
пирожки заждались понимаю мы
встали так рано тряслись на скрипучих ромбах
но мне так хочется ныть и выпрашивать
когда мы закончим когда уже можно
вернуться к священным палкам и грязи
стихия вне трепета хватит хотя бы
лягушки в костре или искры чёрного сверкача
звук из уха сливается в ухо когда
ты впервые тонешь над сломанной палкой
опоры когда из фуфайки выходит воздух
когда кот на печке огромен как печка
и вся комната хочет отведать твой жаренный хвост
если кто-нибудь видел столько берёз в одном взгляде
или пил желтоватую кровь с уголка
он почувствует привкус железа
в нём истерика длится жестянкой в гуаши
и лаком поверх и в таблетках
ладони соседки пройдёт всё пройдёт всё
случилось под вечер и жатва казалось окончена
стоги сена ходили и медленно перешёптывались
красное солнце слипалось и в небе подрагивал холод
сулящий величие дня в тот четверг
всё закончилось и тогда ты взяла мою руку
теперь отпусти началось
август 2022
SCANDO-SLAVICA
SCANDO-SLAVICA
вікце удовінай
з расіі з любоўю
непонятно пока что что именно с нами случилось
может вылилось что-то на моховой из зализняковского туалета
может какой-то разъели там чрезвычайно удачный пирог
или сработала наконец-то пыль из рыжего леса
и включился особый спецген отвечающий за синеусость
только трансляция из совбеза идёт уже 70 долгих часов
и они там все-все с головой под кутюрными пиджачками
храм вооружённых сил срочно отстроили в дереве
и в каждой панельке алкоголики платят виры
а бабуси на лавочках нещадно подстрекают малолеток
страшно и думать что там в европах ну в полоцке
даже не знаю станет ли капельку лучше
когда омон сгрызёт щиты и не сможет их больше складывать
это по крайней мере несколько интереснее
да и заживём лет через девятьсот
как самые-самые белые-белые люди
разве по лёгбергу ёбнуть из танка как следует
это мы и так умеем
плавали
знаем
Три словарных статьи
<…>
Ванна
Дистанция между В. и ванной комнатой
как между творением и Господом:
ищешь одно, оказываешься в другом
(если не пускаешь жуков в старую В.
где-нибудь у кустов малины).
Я очень хочу включить воду,
кончить в неё и никогда не просыпаться
<…>
Звон
З. колокола и З. в ушах
в равной степени напоминают об одиночестве;
нет ни одной вещи, с которой я не могла бы намертво сжиться;
нет ни одной, с кем я не хотела бы переспать.
Господи, прости меня, я голосистая грешница:
я хочу любить кого-нибудь кроме Тебя
Искренность
Важна лишь степень, я знаю;
Бауман, наверно, был И.
на партийном суде
о доведении до самоубийства —
или, по кр. мере, в инструменте
своей уродливости: карикатурах.
Господи, я И. с Тобой:
я люблю не только Тебя
<…>
Первый снег
Я вышла во двор, кутаясь,
колотя по панели лифта,
чуть не упала на лестнице в подъезде,
всё-таки упала сразу возле подъезда,
липкая слякòта обнимала ноги и локти,
кусая губы, упёрла кастрюлю о забор
и зажгла синтепонового барашка
клочьями в небо,
и на утро весь город кутался в мягкое, нежное,
чёрной мордочкой выглядывал из-под нестриженой шапки,
еле слыша мой крик:
— не то!! это опять не то!!
Покрова на Гьёлле
***
Круглосуточный свет (а сутки
здесь многократно длиннее)
сугубого ревнования
о разрыве последних уз
заставляет во всём
видеть холст,
схлёст кручений, пересечений,
будто переизбыток
мосточков калиновых
через речки, на чьих берегах
ничего не забыто
что я вообще
здесь делаю —
ничего:
барщина праздности
на помещика, чей
труд бездействия —
нечеловеческое
усилие покоя
невмешательства
в самое дорогое
когда горит
когда говорит
И доска и плита —
части тех же пелен,
кленовых листочков,
оболочек луковицы,
которая в теории
выдерживает баржу
каменных загостившихся,
как золотой выдерживает гвоздь
напластования
но в щель в коснеющем строю
брешь вкравшуюся в вязь
я вижу ты живёшь в раю
при жизни вознесясь
рассматривая глубину как плоскость
и плоскость как глубину
не имею причин
находиться
в дебрях хвощовых
шлифующих
шумовой левкас
когда не возникло ещё ни фауны
потребной для его изготовления
ни омелы которая
ничего-то не обещала
а у щёлочи
никто и не думал спрашивать
в клещах схватки исход которой
преднерешён
***
для прорыва на нужный берег
мало вод под мостом
мало льда — нужна полная
проводимость мрака
рядом с которым
сажа бела
это и есть
моё свойство
нырок без экипировки
форсирование реки
Гьёлль медовые берега
мелованное
нелинованное дно — или
слиняли линии
ещё до того
как пришла вода
полная не одних
куполов и колоколов
но и швейных машин
ручных мельниц печей
от которых она так памятлива
была стандартная разметка
сотканной шелкопрядом
если не школы то шкалы
по-прежнему ли в счёт
те стрелки переходники
(что́ может сказать
о свитке печать)
зачем тебе — и так
всё узнаёшь
и тебя узнаю́т:
неслиянное чёрное
на вечно свежем
как лилии на Успение
снегу́ Сошествия
***
беглые гласные
дней выпавших целиком
кубики брошенные
на самое дно или же
задержанные ситом
вечность не вечность но
в консонантном
общем растворе — вспомогательные
островки среди шрифта
во всех направлениях
из битых ёлочных
игрушек сахарных черепов
вожделенный
всегдашний предел
ориентирующий
как на борту космонавта
на берегу
змеиного чертога
Nfl - nrd
в придел нижний
службы отстоянной
не до конца
в холодном ночном преддверии
пока что позволяющий
или вернее заставляющий
дом бытия
сохранить ледяной
до теплового краха
когда дела сойдя как лёд
войдут в круговорот
здесь
говорю и делаю:
сколько ни
тянет-потянет —
если бы не
водоверти
отдельных мгновений —
не падала бы торба
столкнута с края мира
на голову дураку
не вылетало бы
брошенное в сенот
сквозь электро-
судорожное горнило
в печь рас-
топленную в реке
будто между
колоннами через платформу
щупальцами того же
замершего спрута
осколками одного
хрустального гроба
рассеянного по всему
перекати-зеркалу
будто фрагменты артефакта
разделённого чернокнижием
неумолимыми токами
стягивающими в слово
***
от Адама до Румпельштильцхена
и тайных имён посвящённых:
сдались им эти
именования имена
никогда ни за что душа
ни на одно
не отзовётся имя
если и есть — разве что некий
смысловой иероглиф конфигурация
не поддающиеся произнесению
и для него не предназначенные
не про меня
не пристают
ни сцепления ни малейшей
ценности во всём том где в них есть
практическая целесообразность
правда в том что всё только и было
что поисками площадки
для переноса на свой
sudeste который
оказался вообще везде
как в аду
вокруг — Бог
(тот самый север
куда смотрят
тени деревьев)
не обязательно
в руке реки
смерть от воды: ещё и на окне
в линзе вазы некогда извлечённой
стеклодувом из озера огненного
горючей
по своей природе
в луче или волне
под опекой разряда
не столько укрытие сколько возможность
закрыть собой пробел
в заслоняемой
слепой зоне: иллюзия
иллюзии с исчезновением
ÖREBRO
1
(церковный грим)
стоя на паперти
взаперти:
в подалтарном анклаве
не в себе, не в своём —
или именно
что чрезмерно
мелоочерченно
разум, невосприимчивый
к любым отпечаткам
непрорезаемый непроцарапываемый
такой с которого
скользит всё кроме
немыслимого лазера
как на тех перуанских полях
и всего один символ
заключающий всё что нужно
одна пластинка
и никаких других никогда
в одно вечнозелёное
замурованный
лето Господне
самобраный
отвесный
бесследный
2
(black winter day)
на свет летит
свет
на чёрный
зимний день
липнет стружка
железного века
поднятого как люлька
на пик заклинившего колеса
свет к свету
прах к праху
[Шварцеву]
колюще-резаная дорога
со станциями сердец:
пассажирский эреб —
рубедо товарное
лев кормится солнцем,
змей — собой; кислота
ест субстрат,
оставляя свободным:
незакреплённым
орудием
разба-
лансировка: не убий / на убой —
в момент задевания
связей, давно растянутых
наизготовку
днëм с огнëм
прийдено
от огня и
погибнуто
и о чём бы ни
в рубрике происшествий
напечатанной прямо на небе —
всё умножай на тысячу
3
Förinta oss! Förbarma dig!
Karin Boye, De sju dödssynderna
С расширением карты
до бесконечности
кольская ненависть,
ничем не источаемая,
теперь возведена
к истоку
В путеводных цепях
анти-биврёста, кованного
в родном войде, —
в волчий ремиз,
подлёдное горение,
поддерживаемое
глазными брёвнами
святой простоты,
на голубиную глубину
застигнутых в красном
***
(ясень)
растёт сквозь многие миры,
сок вширь и ввысь гоня,
но, как нет детства без игры,
нет древа без огня
«сегодня», «завтра» и «вчера»
из рук шарнирных норн
забрали корни, как дыра,
все нарнии, куда нора
ведёт под этот дёрн
ни времени и ни воды:
древляне с деревом родным
как в срубе Аввакум,
и плотен даже не как дым —
как битум — вакуум
и чёрная дыра, светя,
летя недвижно о́т
добра к незлу, беспечно в рот
всё тянет, как дитя
Семь стихотворений
***
там стаиваит и течет,
здесь тихие следочки на паркете,
собака наша, глупенькая девочка,
в дом слякоть нанесла, я не в обиде.
мне нужен сыроватый неуют
простуженных строений, я читаю
крошащиеся зальцмана стихи
алма-атинского периода.
***
он бессознательное держит
сырое небо, как венец,
ворóнам зернышки готовит,
и знает, кто дождя отец,
а я живу во тьме линованной
и ничего не знаю знать,
я только «господи, помилуй»
могу тихонько бормотать.
***
Мир – колесо…
В. Мазурин
птица склевывает рисованный
виноград со стены,
он похож на прежний,
всамделишный, когда гроздья
светились ледяными слёзками,
и домá оплывали оловом,
укрытые гулким небом,
и сливались с вчерашней прелью,
и слякоть вскисала на зимнем,
веселом противне первых чисел.
трагедия (флаги)
что еще ждать от вестников?
несколько слов для разгона,
«не назову счастливое счастливым»,
а кто вообще скажет слово, и слово
застынет, как объявление о пропаже?
пена событий внахлест —
царь не поспеет к сроку, она удавится,
ее жених прилипнет к ней, попробует
убить отца, но сам погибнет,
от своего, как бы от братского, меча,
и выпилит себя из малых радостей,
но всё равно не настигнет ее,
обрученную с камнем ласточку,
не брата любит она, но свою любовь
к прозрачным формам слитности.
но если копнуть поглубже, они там все —
побратимы, идущие в лобовую,
головой касаются ночного холода,
и звёзды стерегут их отчаянье,
выдыхают стылое пламя.
***
гуси, гуси, чёрные головы,
забиваете клинья безмолвия
в замкнутый воздух зимний,
в день безответно дымный.
в мутной январской волглости,
гнущей к земной поверхности,
есть преизбыток нежности,
долголетящей вялости.
что у вас, гуси, выпросить,
снежное что-то выкрикнуть
вслед, но тебя не ждали здесь
или забыли вычеркнуть.
набережная
был гвалт, стояла очередь,
посверкивали велосипеды,
река густела душным оловом,
прогулочные цокали кораблики.
дверь отворялась, заходили стайками,
их голосá сжимались в узловатое,
померкшее мычание причальное,
на сгибе улицы, на отвороте свежести.
и раскрывались руки обручем,
других приобнимая, и висели так,
кораблики ползли против течения,
сквозящие на дне прозрачной улицы.
качались лица, выдыхая ветру в бок,
как на заклание, слова-слова,
и ветер их сметал газетным ветошью
к бортам не отшвартованных прогулочных.
размытым было место, где стояли мы,
и исчезало из-под ног, и нравилось
раскачиваться вместе с городом,
с водой, ушедшею к закату заживо.
***
с утра стыла снежная тонкость,
к обеду не сразу найдешь,
еловая нежная колкость
похожа на сладкую ложь.
бассейн, укрытый брезентом,
и беличьи свары на нем,
обвязанный желтою лентой
глухих тростников окоем.
и впрок искривив перспективу,
с холодной судьбой пополам,
бессмертье, как спелая слива,
подвёрстано к нашим делам.
ФЛОРИСТЕМА D890-TK14
ФЛОРИСИСТЕМА D890-TK14
(фрагменты)
РОЕНИЯ: МОДУСЫ ОРХИДЕЙ
А теперь соберёмся. Итак, о чем вы говорили прежде, пока мы были заняты телефонным разговором?
Приветливое хозяйство нашей войны приглашает на застолье центральной федеральной мутации. Поражённое стыком в процедуре ярости, пена васильковых огней мечется в прожилках ночи. Анатолия пала, да здравствует хлоргиксединовая терапия! Желчь испуга — анаграмма восхода, желчь тщеславия — анекдот души. Хитрость дня — в производстве дистиллята, память сестёр — этногенез цемента. Серая упругая связь заворожённой тоски — просвет липидной ткани осенних парков, где работает салон «Механическая шамбала». Время брутальных велосипедов, жидких листьев, дубинок и плача таксистов. Кассир закопал шину в рытвине фаллического дня.
И уже напоследок, чувствуя свет на веках, он почему-то решился на вопрос. Только сразу же забыл, что это за вопрос — и кому он адресован. И что такое вопрос вообще, если не сумма вздохов и пауз, расположенных в особом порядке? Если чеканить согласные — получится гипостазис природы, если тянуть гласные — метафора всех религий или хотя бы синекдоха всех проклятий. Нельзя обучаться твоей тоске дистанционно. Нельзя примкнуть к группе воинствующих экс-гегемонов. Нельзя переключить рубильник забвения на «теперь я забыл» — он сам производит нужные токи на нужной частоте. Пролонгация договора возможна только на моих условиях — иначе мне придётся растворить вас в кислоте. Самое ужасное, что вам это понравится, и вы захотите повторить.
Апофатика этого видения предельно проста и незамысловата. Это не вата воскресного дня, не холотропное течение вечера, не сонливая перекличка зависимой ватаги евреев, не аренда с возможностью продления, не лекции по авторскому кино 80-х, не облепиховая водка под кустами облепихи, не девушка с веслом, асексуальная красотка, предвестница нового дня, это не святая Рипсиме, это не мек, не эру, не эрек — как вам бы не хотелось так думать.
Проще это почувствовать, когда сила ветра противится ветру силы, а жгут сжимает воздух. Действуя впустую и на ощупь политика сна вторгается в тиранию соли. Береста ночи горит. Шальная перспектива узла выдаёт себя, и плач фосфора ненавидит аккорд дождя. Произносить и выдавливать вены улиц в голый кайф трезвости. Вдыхать гладь тумана — она же гидравлика непокоя для непобедимых и слабых на слух, — ты попадешься, если помечтаешь о воске летнего воздуха.
Даже несмотря на то, что твоё имя начинается с буквы Алеф, ты иногда неправильно задаёшь вопрос о естественном и искусственном, хотя есть подозрения, что всё это — искусная провокация, которая претворяется естественной. Я ем земляных червей, изобретенных тобой, ты накручиваешь на спицы своего станка самые естественные нити, которые я нашёл для тебя в поле. Это — историческая байка, сказка, которая очаровывает массы и отдельных индивидов. Искать, искать естества так же, как ищут нового. Плакать, когда поиски идут не по плану, думать, что это так же аутентично и просто, как и миллионы попыток создать гомункула. Изобретать небесные чудеса или земные механизмы, изобретать ночь и неон, заново придумывать познание, познающего и познанного — и грезить, грезить о естестве, презирая парадоксальную машину естественного, отвергающую любое намерение тотальной картографии, исчерпывающей топологии, иерархии. Звонить по телефону, прижимая его ухом к плечу, как держат на ране марлю, смоченную перекисью, — и снова ждать естества и верить ему, аутентично восторгаться, заманивая в свою секту неофитов, рассказывать им миф о естественном, отцовском, эсхатологическом и эссенциальном. Мы с вами! Говорят они, достают свои устройства, и ваш мир попадает в эфир. Эфиреет. Это тоже естественно, — киваем мы.
Впрочем, сонное лезвие света вырезает в листве себя. Свет утверждается, и никаких больше нюансов — такое заключения пришло ему на ум, когда он смазывал сгоревший на солнце лоб. Маслянистые лучи застали его спокойным и обнажённым, пока он, приоткрыв рот, слушал шуршание фотонов и насекомых в песке. Потом было солнечное забвение, потом шли дни, и теперь листья послушно треплют воздух на солнечном ветре. Это по-своему неизбежно, фактологично.
Он познаёт этот факт, этот факт познаёт свои свойства, рядом дождевая лужа познаёт сухость разбитого асфальта, а осенняя трава познаёт свою смерть. Что-то познаёт нечто, в тишине раздаётся визг — это тоже познание. Я познаю необходимость буквы, ты — сонную тягу к покою, пустота коробки познаёт вещь, а свет — свой блик. И голод познаёт избыток, смерть познаёт траву, тихая прогрессия смысла познаёт силлогизм довода. Познанием наполнен цвет, он ищет себя в различном свете, и глаз солидарен с ним, он познаёт цвет тоже. Тень от бутылки не может не познать блик, пока блик познаёт поверхность стола. Сочетание, взаимопроникновение познаний. Машина познания, становление познаний — и вот, буква познаёт белизну текстового редактора. Из этой точки нам доступен только набор сингулярностей и схем. Ассамбляж из познаний и неведений, странная, пугающая картина. Вещество познает своё свойство и навсегда останется в нём, пока кто-то его не познает заново. Даже я могу познать тебя, но это осложняется множеством факторов — познанием пространства меня, познанием, которому придаётся хрупкая физиологичность по отношению к моей субъектности, моим вечным стремлением познать других, и, наконец, разными эпохами, в которых мы с тобой живём: они ещё не познали друг друга, и ты, и я живём в непознанности. На всякий случай я всё-таки скажу: это не имеет ничего общего с пониманием. Так, немного механической шамбалы.
В эту субботу мы произносили «Осанна!» падающим самолётам. Мы собирали поля — электромагнитные, кукурузные, с чудесами — чтобы выбрать лучшее из них. Я крутил провода и паял микросхемы. Там мы должны были основать колонию, стать новыми колонизаторами. Инверсионные следы образуют сети, сети созданы для того, чтобы следить за нами — лей-линии. Мы укрываемся, мы вылетаем, мы чахнем, перемалывая кости эпохи в сонном желудке апреля. Пока мои друзья спят, я утаиваю новые эпистемы, чтобы звенеть параличом улиц, покуда «Осанна!» не стихнет в глубине дворов. Пусть навалиться нега! Пусть в академических справочниках по термодинамике появится новое слово — из арамейского, изидского, курдского. Пусть горит кровавая патока субботы. Я проливаю подлые капли в живот небытия.
Имманентность суббот бессмысленна. То ли дело вторники. Не могу не думать о них без содрогания. Она любила вторники так, как любят последователи Иеговы старые дворцы культуры. Она никогда не красила губы — только по вторникам. Она просыпалась утром уже готовая, делала расклад таро, стояла в планке, сколько могла, и вздыхала: вторник. Потом восемь перепелиных яиц, двести двадцать четыре семени дурмана, сорок два взмаха гребня ото лба до макушки, тринадцать постукиваний ногтём по поверхности стола, и, наконец — быстрые и решительные сборы. Хлюпая мокрыми кедами по рыхлому бетону подъезда, она спешила по ступенькам вниз, она чувствовала, как подло давят лямки льняной сумки на плечо. Там ждал её вторник — единственный, обещанный, пока бессмысленный.
Она знала — её потенциальное тело здесь: в воздухе и в листьях, в проезжающей мимо машине с заниженной посадкой, в глазах и зубах всех бесконечных глаз, которые внимали ей, обнимали её, объемлели её. Бесконечные глаза и потенциальное тело. Она пока не сбылась. Она слышала посвист утра в решётке смысла, ядовитая поступь заразительного эго, центристские замашки в поле яростной свиты апреля, диффузор неба — разорванный и открытый, как слова, которыми я бы хотел её описать и стереть. Рёбра жёсткости приосанились, показав зазор между потенциальным телом и бесконечными глазами. Вот где она хотела бы быть, вот где она хотела бы не быть — и эти два показателя не сходятся. Они интерферируют, бесконечно накладываясь, создавая шум на песке, вызывая взвесь и блики, смеси и мрази. Тихое синкопирование льет сталь солнца, подкожная машинерия заводит и страшит. Машина с заниженной посадкой, полная бесконечных глаз, проезжает мимо. Она ёжится.
Осанна! Вторник.
Во вторник у хора репетиция, во вторник завоз в бакалейный, во вторник родилась её мать, во вторник — увесистость её льняной сумки будет исключительной и финальной. Хотя, может, и ничего не сработает. Но сработало. Городская администрация полудремала, как и всегда, когда она тронула турникет и, посмотрев в васильковые глаза пенсионера-охранника, мысленно перед ним извинилась. Дальше был смех, бег, мак, крик, мат, топот и такой сильный страх, что, если бы история не закончилась в кабинете для совещаний, она бы не смогла жить без такого страха дальше.
Всё закончилось — сказали обрывки газет и протоколов совещаний; всё закончилось — намекал запах горящей оргтехники; всё закончилось — финальная фотографическая вспышка ещё долго будет отсвечивать на роговице фотографа из местного новостного портала, он только вышел из туалета и направился в кабинет (совещание уже началось), когда всё закончилось; всё закончилось — подумали похмельные таксисты, которые устроили ещё лет двадцать назад стихийную стоянку напротив городской администрации, и сейчас, помешивая кофе три в одном пластиковой дырявой ложечкой в пластиковых обжигающих стаканчиках, они увидели, как стеклопакеты в здании напряглись и изогнулись, а стёкла с радостным терпким звоном полетели на землю.
Всё началось — подумал пенсионер-охранник, который так и не смог догнать её. На лестнице у него прихватило сердце. О том, что случилось, он понял так же, как и таксисты — по звуку. Он понял, что именно начнётся. Начнётся новый свет, начнутся разбирательства и суета. Но главное, начнётся её жизнь в этой их организации, как их там. Жизнь мученицы и героини. Жизнь легенд, и преданий, и приращения смысла, жизнь, которую и можно назвать жизнью в той полноте смысла этого слова, потому что только наличием этого смысла и определяется скромное значение этого слова. Потому что, когда у тебя прихватывает сердце, пока ты бежишь за малолетней шлюхой в кедах, с синими волосами, с льняной сумкой через плечо, какая же это жизнь? Это просто механика будней, механика ступеней и турникетов. Жизнь только начинается — думал он, сидя там же, на ступенях, и чувствуя, как в груди растекается родная боль, а по коридору — запах горящего пластика и мёртвой плоти.
Чего бы мы ни боялись, мы боимся этого.
Сонной алхимии спящего света, катабасиса, вихляющего по наполненной чаше дантовского мира, провозглашённого полдником человечества, порталами и алюминием. Боимся не заводов, но театров с их запахом, со всеми их окаменелостями и застывшими масками, с принудительной, завлекающей геометрией морщин на лицах престарелых провинциальных актрис. Боимся театра не потому, что там всё неправда, но именно поэтому. Боимся, что когда-нибудь машина, собранная в наших кустарных условиях беспредметной тоски и вспышек экстазов, научит нас чувствовать по-настоящему, разделяя наши откровения на косы потоков с разорванными тут и там слоями, с торчащими волосками, и эта машина покажет нам библеистику запретного и скукожит все памятники твоих ойкумен до размера коллекционных фигурок на столе застенчивого, но жестокого тинейджера.
Что машина научит тебя, конечно же, желать, изолировать, но сохранять, являя плодородие и разъедание, вообще представляя как мощнейшую магию всяческое «и», но не «потому что» — отныне плодородие и размыкание, оса и орхидея явят образы меток: перекрытия, в пространной субординации клемм и сочленений иных союзов и служебных частей речи — вот об этом же мы говорили, никаких иных воздействий, и если вы хотите, то можете считать это моралью примордиальной клетки дома, если хотите, то, конечно, можете использовать ваше любимое слово «естественное».
Но прямо здесь явлен иной план. Больше это не категория зияния. Не отсутствие, не нехватка (шутка, затянувшаяся слишком долго), но области интенсивностей, вера в З(з)емлю, кислотный коммунизм, пропащие хитины каббалистических филумов, солнечное сплетение, танец трансгуматора и другие жирные различия и повторения — ведь хорошо писали в еретических манускриптах: пока есть дерево, есть оргазм.
Это всё триггеры. Тонкие пластинки, что-то вроде пленки для диафильмов. Они впиваются под ногти, создавая приятное и острое чувство знакомых, паранормальных вибраций. Почти неотличимо от боли, только вызываешь это по своему желанию, и кажется, что снова море, снова солнечный удар и отравление чурчхелой. Мы называем это триггерами. Всё, что ты помнишь или хотел бы помнить, держится на тонкой целлюлозной пластине. Мни её и сжимай, исследуй злое утро, кашляй, приснившись перегородке огня. Пока гладкое трехмерное многообразие выхолощенных эндоспермиев поглощает контур дня, фатальная слизь межсезонья прыгает в паутину вечера. Желатин эстрагона сыт собой. Зубы растворяются в газировке. Редукция срабатывает в индукционной петле здравого смысла. Целина заполярья жжёт и лечит. Триггерит. Потерпи.
Роение — как то, что станет для тебя откровением. Роение как единственная возможная форма существования. Роение как ультрамариновый экстаз нетронутой книги. Роение как рай, как щелочь обновления, как летальный исход, как недосягаемое и любимое. Роение как спасение и опасность, как собранная на губах пыль. Роение листвы, звёзд, моих сограждан. В жужжании роения узнаю тебя. В сладости роения отворачиваюсь от вас. В цитатах, из которых роение соткано, читаю парадоксальный исход этой логической предпосылки. Роение как полдень.
ПАРАЛЛАКС
Не помнишь, кто нам рассказывал про мусор в ДНК? Девяносто процентов нашего генома не нужно для выживания в этих телах. Девяносто процентов — просто записки, пометки на полях, маргиналии, шпаргалки. Это как мои книги, которые я перевожу из города в город, и которые трясутся сейчас над моей головой в чемодане. Девяносто процентов, нет, ты понимаешь?! Всё не так просто, говорят онтогенетики, мусором это можно назвать только отчасти. Скорее — нереализованные потенции субстанции, вероятности, возможности, комбинации. Гены хвостов, жабр и жесткой шерсти, вязкой, ядовитой слюны, гены клыков и цветного оперения, гены слоновьей кожи и сердца справа, гены многососковости и шестипалости — всё то, чем могли бы быть мы, чем могла бы стать ты. Гены твоей чешуи между лопаток, чтобы охлаждать меня в эти жаркие августовские сумраки. Гены уголков губ, которые благодаря особой эластичности могут извлекать тонкий шуршащий посвист — ноты чисты даже во время, когда воздух раскалён и влажен. Гены сверхчувствительного клитора, наэлектризованная кожа которого всегда пылает, и даже при лёгком касании ты видишь пульсирующую радужную кайму — какой-то нервный импульс связан с глазным яблоком.
И я глажу тебя где-то между несбывшихся цветных перьев и второй пары груди, а ты гладишь мою руку ложноножкой, я спускаюсь дальше и ниже, и много движения и влаги сопровождает этот ритуал, эту неистовую прогрессию несбывшегося генома, это осциллирующее будущее возможностей, комбинаций и сборок. Засыпая и снова вспыхивая, я думаю о том, как парадоксально и элегантно в тебе встретились гены горностая и электрического ската, тутового шелкопряда и мака, как восхитительны твои вибриссы, мантия и молодые листья, как много урожая даёт этот август две тысячи семнадцатого, и как тебе удаётся так скрупулёзно следить за твоим экзоскелетом. Сквозь прозрачность щупалец я угадываю биение двух сердец, стабильность которых поддерживает несгибаемый гладиус. Превращений слишком много, и эту сумятицу генного поэзиса уже не остановить — если только не притворится мёртвым, не использовать каталепсию как оружие, как танатоз, так делали твои недавние предки — изящные latrodectus geometricus.
Но ведь где-то между гладью и тоской, в шипящих нистагмах отцветающих веток — фантастика межсезонья? Надо проверить. Я снова сделал вещь — маленькая, она трепещет, трепещет в ладони опять. Тихие помехи в низкочастотном примусе фильтра шкварчат, возбуждаясь полусонной секвенцией. На третью долю падает капля — алюминиевая, как солнечное ранение, прыткая, как шлепок отца, новая, как ты. Срез по главной оси, реверберация уснувших трамваев и матовых текстур, шепелявая, ворчливая — это аутичное техно колышет твои беспокойные дни.
— Ты проснулась, потому что я зондировал грунт всхлипывающих аккордов?
— Нет, полусонных октав я не слышала. Просто космогония алебастра сегодня подавляюще жестока — окситоциновый криз, наверное.
Силы заканчиваются, и я ложусь рядом с тобой. Мы слышим роение — сонную исповедь ацентричных алгоритмов. Восхваляет ли дождь об жесть сухость крыш и наших слизистых? Усталое либидо дождя. Лающее, вспыхивающее и антиномическое шкворчание сначала над головами, а потом повсюду — роение частиц материи, диспергент атмосферного ила, химическая реакция, и ничего больше. Почему ты именно такого размера? Кто установил это? Где эта палата мер и весов, где подгоняли стандарт твоей необъясности до этого хрупкого и здорового тела? Кто проводил морщины и высаживал островки с запахом уставших цитрусов в складки твоего целительного тепла? Ты прислушиваешься:
— Это ведь снова роение?
— Оно не заканчивалось, — я отвечаю и сжимаю ту часть твоего тела, которую нет смысла называть, пока воздух особенно плотен и ребрист.
Аве! Делимость времени пропала, и можно стагнировать, пока структура термоядерного синтеза клокочет своим невежественным ртом. Займёмся квантовым шовинизмом? В криптомнезии всесветных отблесков тепла так прохудились авангардные суспензии воска. Ещё даже не середина, а в твоих костях уже живёт свет.
Когда сила ветра противится ветру силы, жгут сжимает воздух. Действуя впустую и на ощупь политика сна вторгается в тиранию соли. Береста ночи горит. Шальная перспектива узла выдаёт себя и плач фосфора и ненавидит аккорд дождя. Произносить и выдавливать вены улиц в голый кайф трезвости.
Гладь тумана, она же гидравлика непокоя для непобедимых и слабых на слух — ты попадешься, если помечтаешь о воске летнего воздуха, если захочешь целовать нефть. В нежном облаке фруктов. Фруктов нежное племя, фруктов терпкие руки, фрукты.
Карательная экспедиция в ближайший супермаркет окончилась очередным прозрением. Уитмен жив, мы всё так же покупаем образы и фрукты, сохнем по утрам в малиновом мороке детского кашля и говорим на суахили. Рваная линия телефонных надежд в паразитарной механике моря, в искрящейся дымке предсумрачного океаноса меди, в иерогамусе ледяных восхвалений крапивы строптиво хнычет, пародируя ангельский вывих твоих умопомрачительных и взлелеянных толпами зевак, парадоксально острых ключиц. Щавель пригнул тень жимолости, и пока я пишу, ты оборудуешь новую сборку в анимистическом, почти талантливом факториале 21-го дня декабря. И всё же — разнотравье.
Никогда раньше тебя не звали так. Никогда не прижимали тебя к яростному нëбу культурных столиц. Рыльце. Параллаксальная природа этих мест известна под именем Лилит. Мы рвем опять телефоны надежд и эякулируем расплавленной остывающей серой карстовых разломов.
ЖЕНЩИНЫ, ЖИВОТНЫЕ И РИТМЫ
Здесь кондуктора слишком долго отмеривают сдачу, по лесам орудуют банды пятилетних детей, а небо пульсирует от волнения, когда подростки запускают в него мышей-астронавтов. Институт технической эстетики давно закрыт, но в разбитых окнах прослеживается какое-то шевеление, иногда — электрическое свечение или нечто вроде дыма. Иногда слышны звуки, напоминающие даб-техновые синтезаторный аккорды с бесконечным ревербом и длинной задержкой, ломающей квадратуру любой сетки. Субстанциональный коллапс случается в таких местах, и материя больше не длится — прерывистая сеть означающих накинута на сущее, и в местах сцепки она сгущает все модусы — образуются ожоги и каверны, вроде следов от сварки. Как бы то ни было, иногда уличные банды пробираются внутрь заброшенных корпусов института и пытаются стать одержимыми тамошними призраками.
Быть одержимым призраками — значит картографировать Nom-du-Père, значит прошивать тонкими нитями соблазна гений места и дух времени, и уличные банды это знают. Они ничего не хотят вернуть, им мерзка сама концепция ностальгии — она напоминает им пошлый рекламный ролик из детства, в котором дождь и полунамёки, что-то буржуазное по преимуществу. Нет, если ностальгировать, то только по будущему, только открывать свои объятья для афрофутуристического шока, трястись, будто в страхе, от длинных и дробных риффов на тенор-саксе, аплодировать гладиусами и ложноножками, рычагами и несформировавшимися щупами.
Быть одержимым призраками — значит клеить стикеры весны на проплешины отцовской зимы, трудясь до наслаждения, вслушиваться в гармоники, которые издаёт шуршащая ткань заветов и пороков. Это значит подключаться по киберпространственной деке, чтобы увидеть раскат и закат, высекать ацтекские узоры на гаджетах и микросхемах, солить грибы в корпусах персональных компьютеров, заниматься виртуальной любовью с травами и дрожжевыми бактериями, заводить роман с настоящей женщиной, вроде тебя — и посылать в dm абсолютно невинные свидетельства нашей сингулярности и нашего не очень аккуратного кроя. Призрак — всегда в машине, и об этом надо помнить, когда ты ищешь новые артефакты в институте технической эстетики, особенно укрытая сумраком, особенно в марте, особенно со мной. Фармацветика — так мы назовём нашу дочь.
Женщины, животные и ритмы знают — вот приходит дождь с его сырой утомлённостью и строгостью. Дождь послушен своему либидо, оно приказывает наслаждаться и течь, течь потно и устало. Дождь знает своё ремесло, он заставляет забыть о зимах с их комфортной упругостью бесконечного белого — белого без предмета, белого, что больше не свойство, но цельность. Теперь есть песочный серый — им и питаются корни картофеля или пырея. Под самой крышей, под тонкой преградой из жести мы с тобой познаём исступление этого дождя, его микромеханику, его сонную молитву, его консистенцию. Он требует, чтобы его впустили, чтобы ему подали чашу. В ровном ритме постоянного течь, в ночном жадном мерцать, в шипящих нистагмах воздушной дрожи, в роящемся изобилии сверхкомпактных чёрных дыр, в изощрённом насилии над естеством и искусством столько ещё второстепенного стечёт — небо когда-нибудь до конца откажется от своей внеположенности, от своей вышины и святости. А пока — дождь готовит дворец бракосочетания.
rosarium genitalia garden

Куда ты теперь, теням открывшись, куда?
Карабкаться. Ощупью — выше.
Истощишься, сотрёшься, сделавшись тоньше!
Тоньше: нитью,
по которой спуститься она захочет, Звезда
Пауль Целан, «Свидетельствуй и ты»[1]
заблуждение в обречённых садах
1.
за калиткой — тень, и замерзает взгляд; но здесь всё в розовом мерцании, и воздух как флакон с духами — запечатан, удушлив, как перед грозой:
грозарий-колба —
в дремучем дрёмном Саду сегодняшнее таинство: sub rosa[2], не разглашай мой шёпот, Ошипованный куст,
эротика Сада, эрозия —
иногда я думаю: вот бы все розы обратились вульвами, львиными зевами.
но роза и так — зевота, она сонлива и сладка, и её листаешь как книгу — книгу Запаха, книгу Стыдливости (самый стыдный запах — генитальный дух), guilty pleasure всех запахов, распаханная грядка.
здесь, в этом примечтательном месте на отшибе катастрофы, я отдаюсь слабым надеждам на счастье: в розарии-грёзе грязь под ногтями, нелепое свидание с тишиной; у перчаток холщовая кожа вся в резиновых чешуйках, я продырявливаю её ненароком, слишком ногтюсь — в этой избыточной, Чрезмерной коже я совсем пугало, чудище, что живёт на краю цветения — чудище тишины и возделываю свою кровь в молчании, из молчаливого зерна прорастает самая железная из роз, кованая кровь моя! коварная спутница всех чаяний — чайная роза? —
бессмертие во всеоружии? —
изнасилованная красота; —
(тире как шипы!) —
(колкие веретёнца, словокрутки) —
...
защита — не оружие.
у железной розы голова отяжелела, превращение огорчилось: полей мою кровь из лейки, и она заржавеет, — поэтому все лейки обезвожены, в них гнездятся полёвки; поэтому фонтанчик в сердцевине Сада остекленел.
роза — спираль, в этойм её величие, и мои ногти всё растут — уже не только ногти, но каждая кость удлиняется, и позвоночник уже тоже роза, винтовая лестница света, райская башня, раковина острошипая — aporrhais pesgallinae, куриная нога[3]; каждый позвонок продырявливает кожу — чучело садовое! — поначалу рогатой спиной задеваешь кусты, но потом привыкаешь.
2.
медленное сохатое движение в глубине Сада.
ангелы с лицами-бутонами стоят в стороне в охапке узколистых крыльев. они встревожены, трогают друг друга за локти, шарахаются от шмелей. их рты — рябые как озёра, они полны лягушек, что шебуршатся глубоко в ангельских горлах. иногда ангелы икают протяжно: βρεκεκεκέξ κοάξ κοάξ![4] — но тут же зажимают себе рты многими руками, запрещают себе даже отзвук отзвука.
в молчаливойм поклонении Саду я перебираю розарий, как стихотворный венок:

зачем? что отсчитывать в тишине Сада? — каплю крови от веретёночного укола, летаргические сны?
уж точно не слова молитвы, это опустелая литургия.
за тишайшей решёткой Сада чёрный кошмар, вязкая могила — но сам Сад: цветы на могиле, цитадель памяти.
восхваляет ли Сад смерть, и боль, и гибель? — примиряет с ними; и всё же: в какой момент примирение обращается смирением...
в самый чёрный момент тишины.
ангелы как корзины с голубями, совсем ополоумели, глядят во все глаза на крота с носом-✷, наступают друг другу на ноги, поглотали со страха всех лягушек. они смешные, растопырили лепестки, но мне жалко их дрожащие колени, совсем хлипкие, как вишенные черенки.
они слишком заворожены пугающим,
чтобы оглянуться и увидеть
Ужасное: Сад едва дышит.
изгнанный розарий, некогда Озарённый Сад, в своей нищете он мерцает теперь из последних сил, и тень падает на его увядающее сверкание, пыльная, невесомая тень.
что воскресит его?
3.
не нас изгоняют, но мы изгоняем.
вот ужасное, что рассказал мне Сад.

когда ангелы попадали сверху, они стали розами, их головы обутонились, мечи и копья зашипели. теперь они боятся говорить — это слово обнажило, обожгло их гортани, превратило из сосудов, хрустальных ваз — в трепещущие соцветия голоса: в страхе они наелись лягушек, но и песни лягушек пугали их. нагота сделала их голоса стыдливыми, они прикрывают голоса крылистьями, не понимая: безобразие наготы высечено у них в ушах (ушных раковин у них нет, лишь дырочки слуха, как у птиц).
мне нравится их нагота, она лучепёра, тихо шелестит на ветру.
в безрадостном Саду нагота — единственное, что хочется слушать, но едва ли прислушиваться к ней можно долго — послушание наготе возможно только изнутри наготы.
заброшенная беседка, увитая плющом, дряхлая; — нагота бывает и такой, в её решётчатых стенках слушаешь скрип дерева, медленное ветшание, мучительную ломоту.
4.
мучительная ломота — чувствовать, как разрастается тело. костенелое тело заняло уже половину Сада.
ангелам нравятся кости, они сидят на них, как на жёрдочках; кости — опора косноязычия, только об этом ангелы и думают: как бы, как бы свою словность окостить! но костей им не видать.
я завидую ангелам. их цветочные тела почти невесомы, прохладные, влажные стебли с пышными чашками росы (они плачут? менструируют?), сокровенные тела.
я — как поваленное дерево в обрубышах веток, молча гнию, наблюдая: когда наступает ночь, они кладут головы друг другу на плечи и цепенеют.
5.
однажды Сад умер.
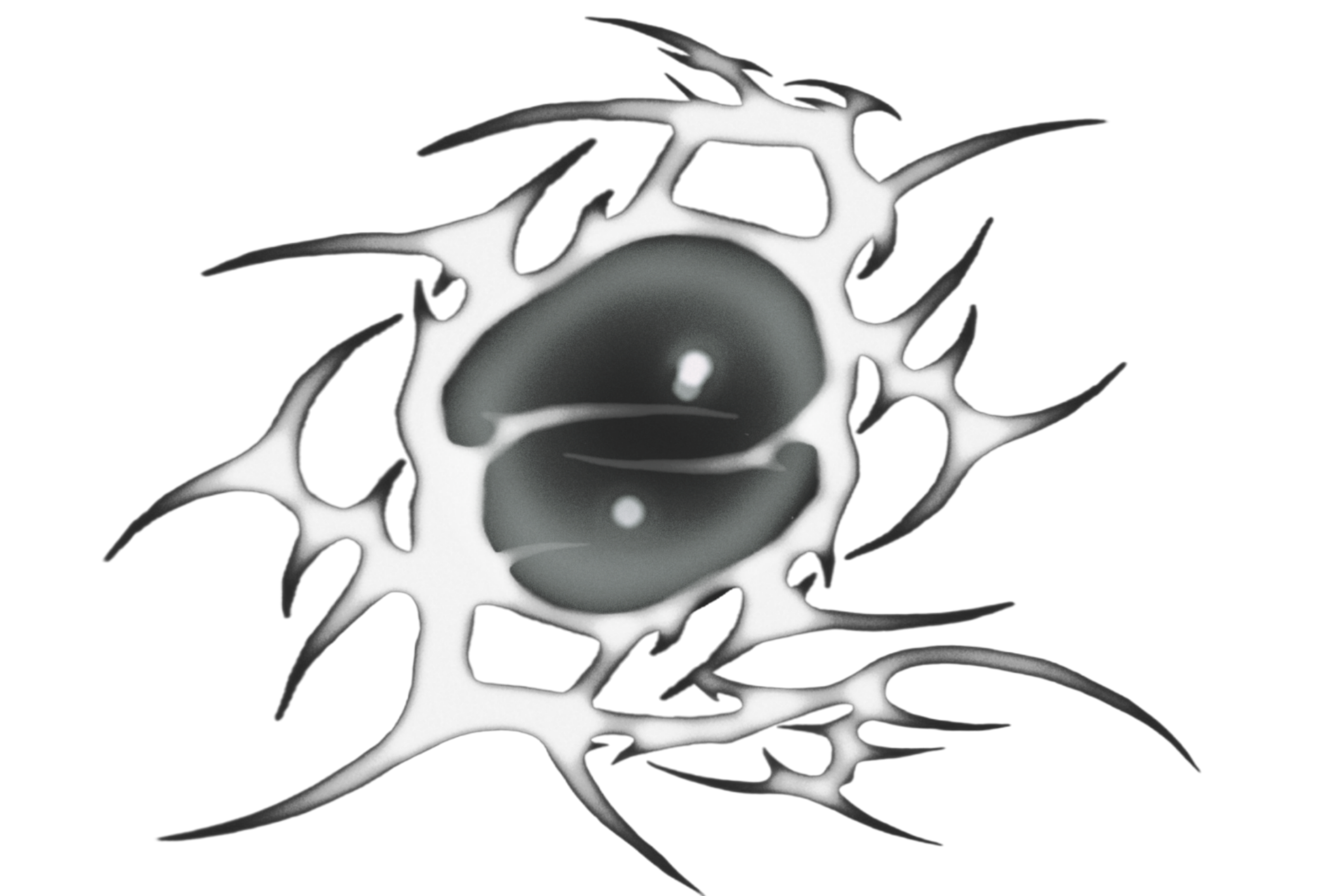
он умер из-за меня: моё тело разорвало Сад на части; кости проткнули Саду брюшину, выпустили Саду кишки. он лопнул с оглушительным треском, как огромный перламутровый пузырь, сдулся, повис жемчужной складкой. какое-то время он ещё трепыхался беззвучно, едва хлюпая останками розовой плоти, нежный и затхлый, как склизский осётр, но вскоре растаял, пропал.
я не знаю, что стало с ангелами.
может, они испугались грохота и улетели; куда улетают ангелы? в каких ещё обречённых садах найдётся для них пристанище?
никуда они не улетели — истаяли вместе с Садом, как сугробы, остались одни прутики да соль.
и отныне повсюду воцарилась темнота.
6.
…………✷…..!!.......
7.
это явилась Звезда: драгоценность, противотемень, светотень.
«зачем ты здесь?», — (так моё тело спросило её);
она не ответила, замерцала, зашуршала, увеличилась, приближаясь, зарозовела, пыхтя и обретая шершавый телесный рельеф, и вдруг: обрелась какой-то животной! блистательной зверицей!
она приблизилась — звездоносая, светоносная кротиха.
пришлось спросить опять:
— зачем ты здесь?
она заурчала. потом заговорила — её голос звучал как дряблый скрежет, низкий и дребезжащий, голос-полумрак — она сказала:
«...... а тыы?.......»
меня обдало её тёплым, затхлым дыханием — (меня или моё тело?).
— Сад погиб, — ответило я-тело, — ангелов не осталось. тень опрокинулась на эту местность и растворилась в темноте, и только я продолжаю быть здесь. я не могу уйти, потому что моё тело стало костью, я не могу подняться, не могу пошевелиться, я ничего не вижу. везде одна темнота.
она вздохнула:
«...... мхх.....»
— зачем ты здесь?
«........ я движусь.......»
— движешься? куда? ты знаешь, где мы?
«............. мы................... — она медленно выхрипывала каждое слово, слова выпадали из её глотки, как комья грязи — разваливались, чавкая, пачкая эхом тишину, — ............... мы в земле...............»
— что?
«...... ыхххм............... мы в земле......... мы в могиле»
так она сказала.
«........ я рою землю вечность.......рою....... эту темноту.......... я не видела, но чуяла, как созревала земля........ всему приходит время погибать....... и этот Сад сгнил...........»
— что же.... что же делать теперь?
«...... ждать...... пока вызреет новый........»
она зашевелилась прочь, медленно удаляясь, пока окончательно не померкла. неповоротливая и шероховатая, уничто(жительница) темноты, слепая и слепящая, она ушла, но её мерцание ещё дрожало, отражаясь от меня.
8.
прошло немало времени, пока мои глаза привыкли.
всё стало белым — но не белым — а бледно-серым, каким обычно расцветает Белизна при малом свете — всё стало таковым — потому что всё вокруг было мной, и я было — всё.
ветвящиеся кости, окостенелые прожилки листьев, Костлявый Сад, Колющий Сад, он ширился во все стороны, и когда я поворачивало, или поднимало, или опускало голову, я видело — моё тело повсюду, обескоженное, обесплоченное: вот рука, вот нога, вот рука руки, вот крыло ноги, вот крыло крыла, вот пальцы и пальцы пальцев, вот хвост, вот ухо хвоста, вот хвост крыла... Край Хрящиков, Сад Костей. Здесь не было Звезды, чтобы озарить, подсветить Белезну, она была где-то Там — и свет бежал от неё по мне и рассекал темноту, распарывал — и тень обнимала каждую мерцающую, длящуюся кость, баюкала её, очерчивала.
Здесь-тело переросло темноту; щёки зарделись, рот распустился, даже язык и тот — истончился, стал влажным, как лепесток, и гибким: сочащимся — как будто всё мясо, вся кровь сгустились в нём, расцвели в нём...
где-то наверху тело услышало (ощутило): трепет, порхание... кто-то уселись на самых макушках костей, они ворковали, егозили.
некоторые из них шебуршали: «одна роза — это ещё не сад», хихикали, пихались; другие, шелестя, отвечали: «но и одна роза — Сад».

[1] (авторский перевод с нем.) Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin? / Steige. Taste empor. / Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner! / Feiner: ein Faden, an dem er herabwill, der Stern / «Sprich auch du», Paul Celan.
[2] (лат. крыл. выраж.) «под розой» — тайно.
[3] вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Aporrhaidae.
[4] (др.-греч.) звукоподражание кваканью из комедии Аристофана «Лягушки».
Две коллажные истории
однажды так случилось, что один близкий мне человек был очень занят делами. он жаловался, как ему не хватает времени на его любимое — «просмотр кино». тогда я решила, что сделаю фильм, который будет удобен для быстрого просмотра самыми занятыми людьми. и родились две коллажные истории, их уже можно глянуть ниже.
я старалась делать остросюжетно, смешно и быстро. и вот что-то такое вышло.
ПЕРВАЯ КОЛЛАЖНАЯ ИСТОРИЯ
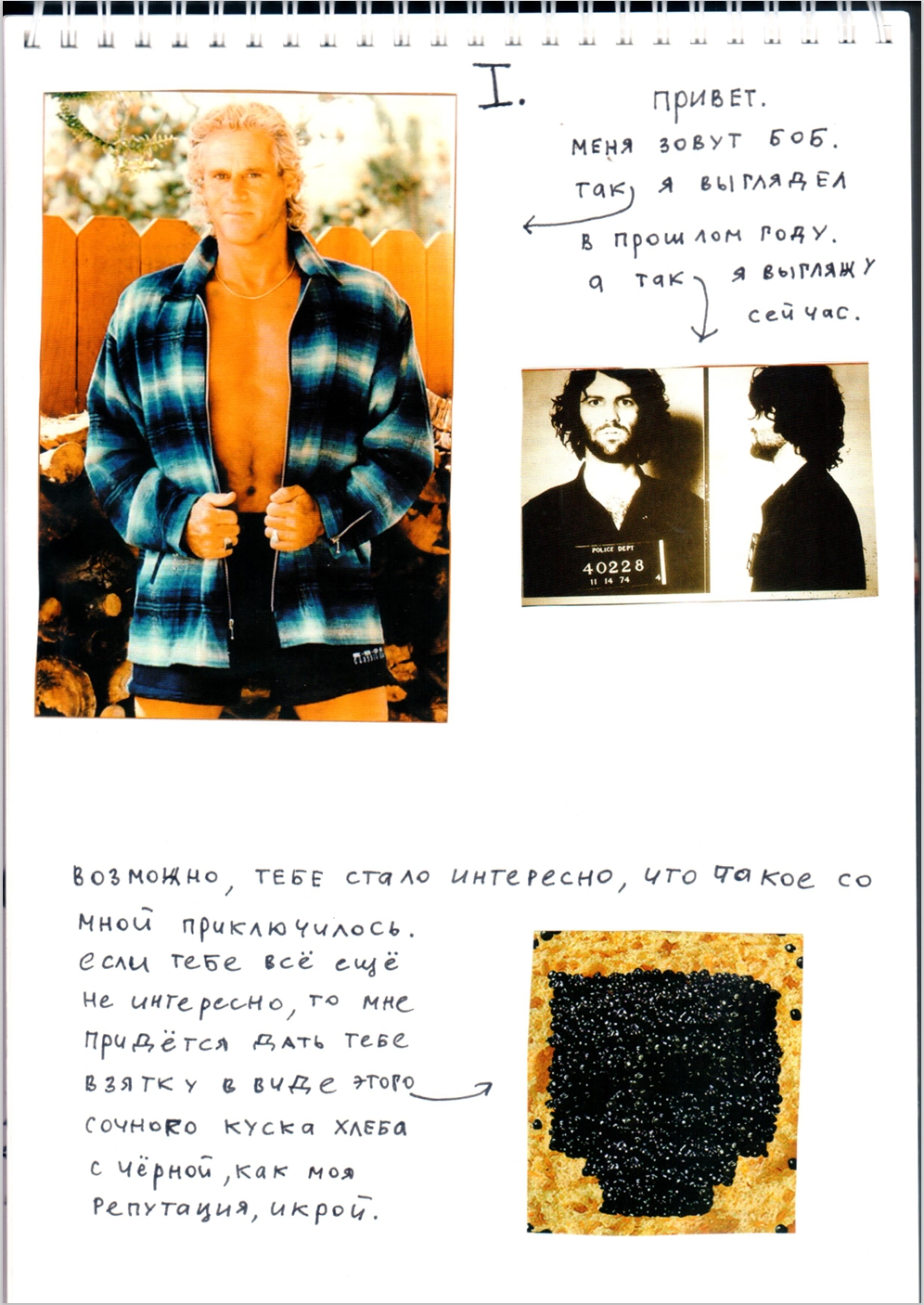

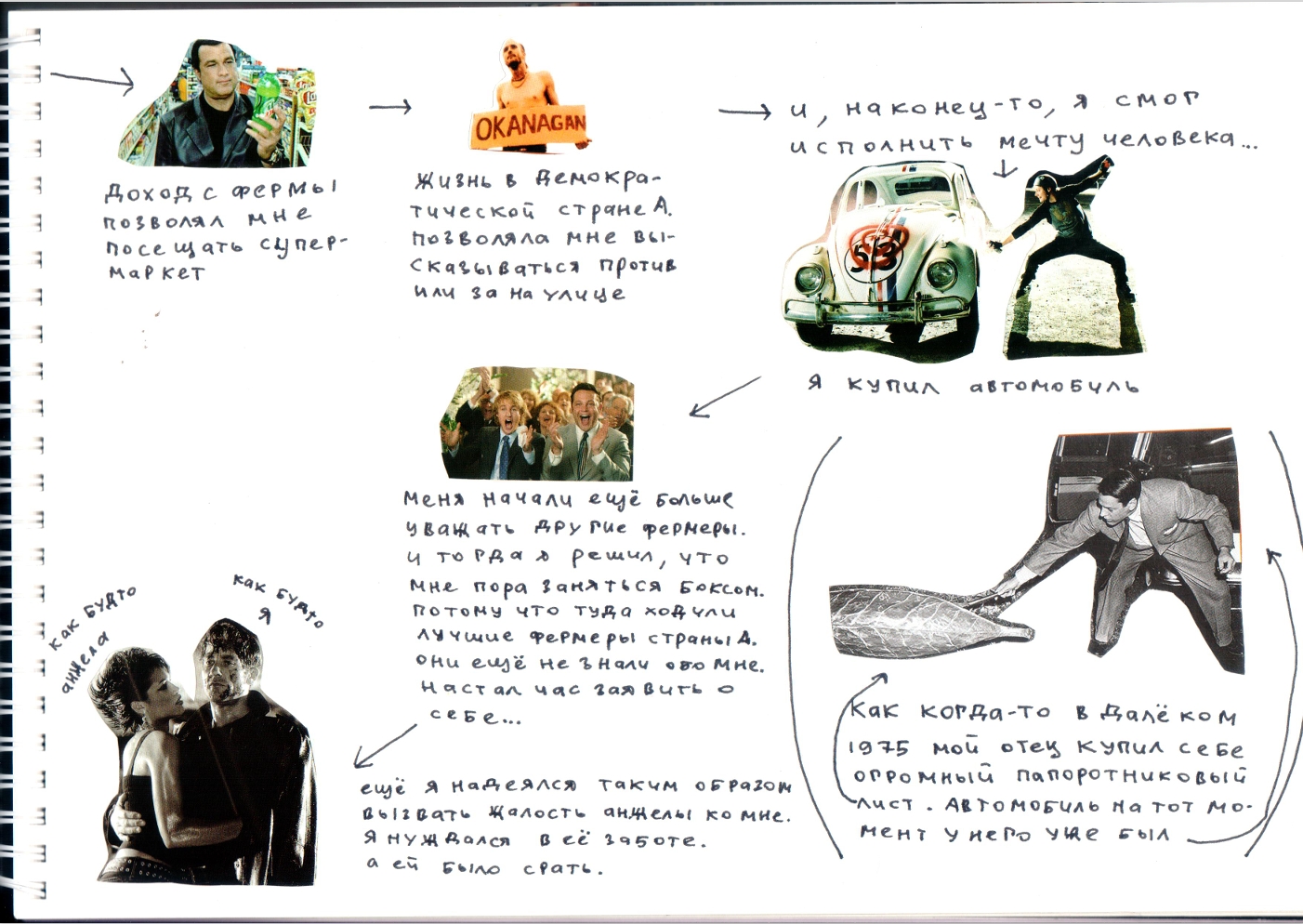
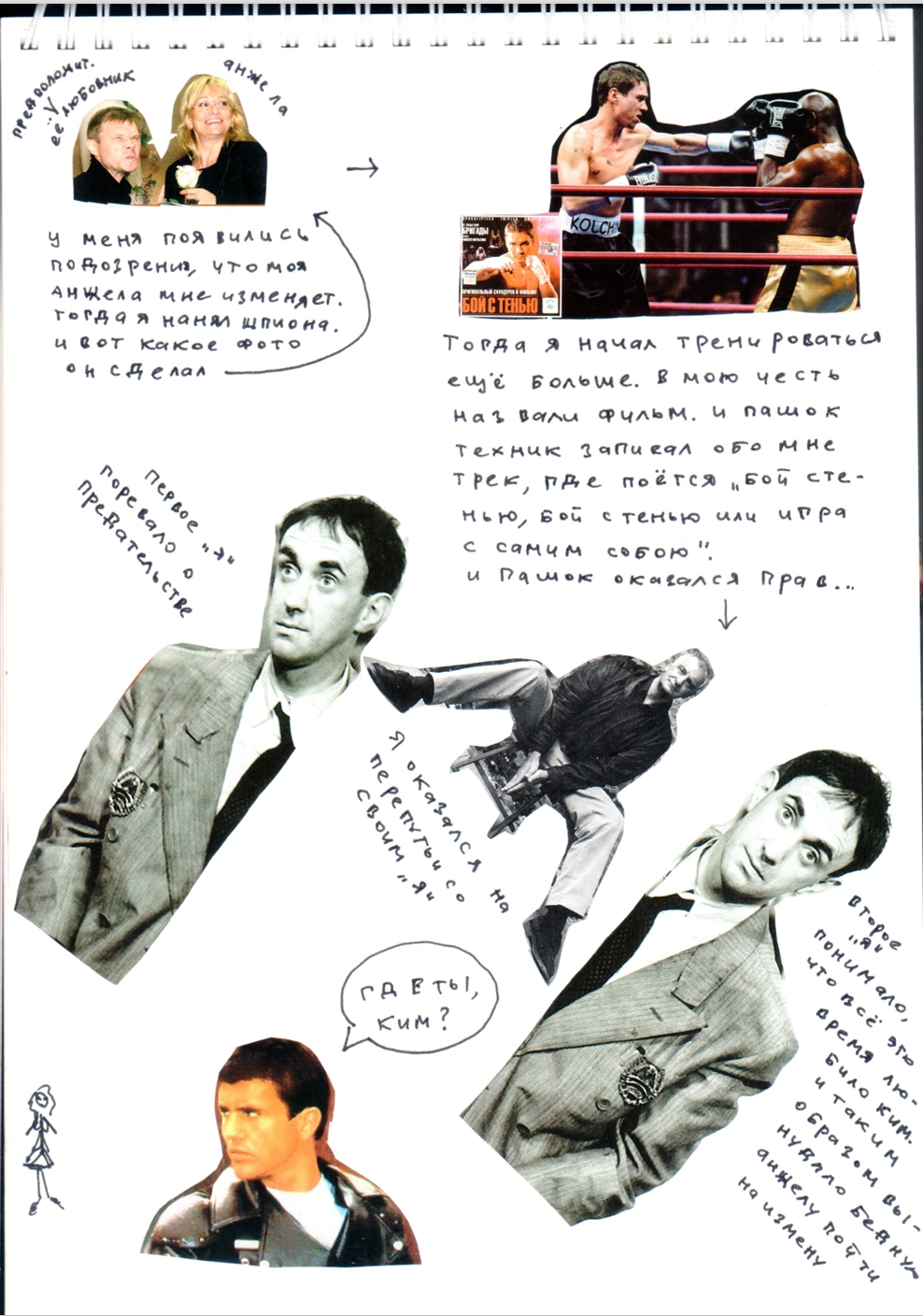

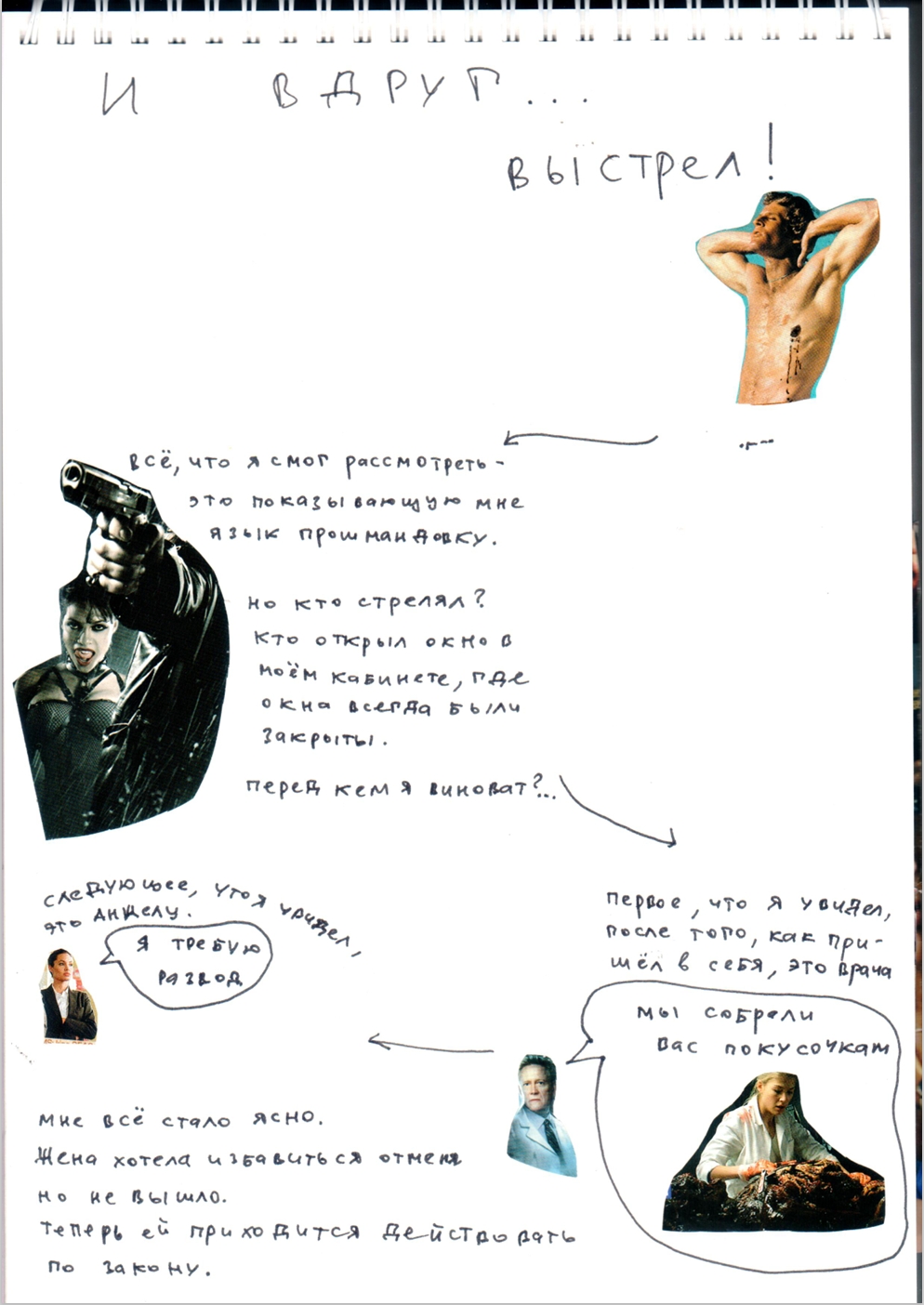
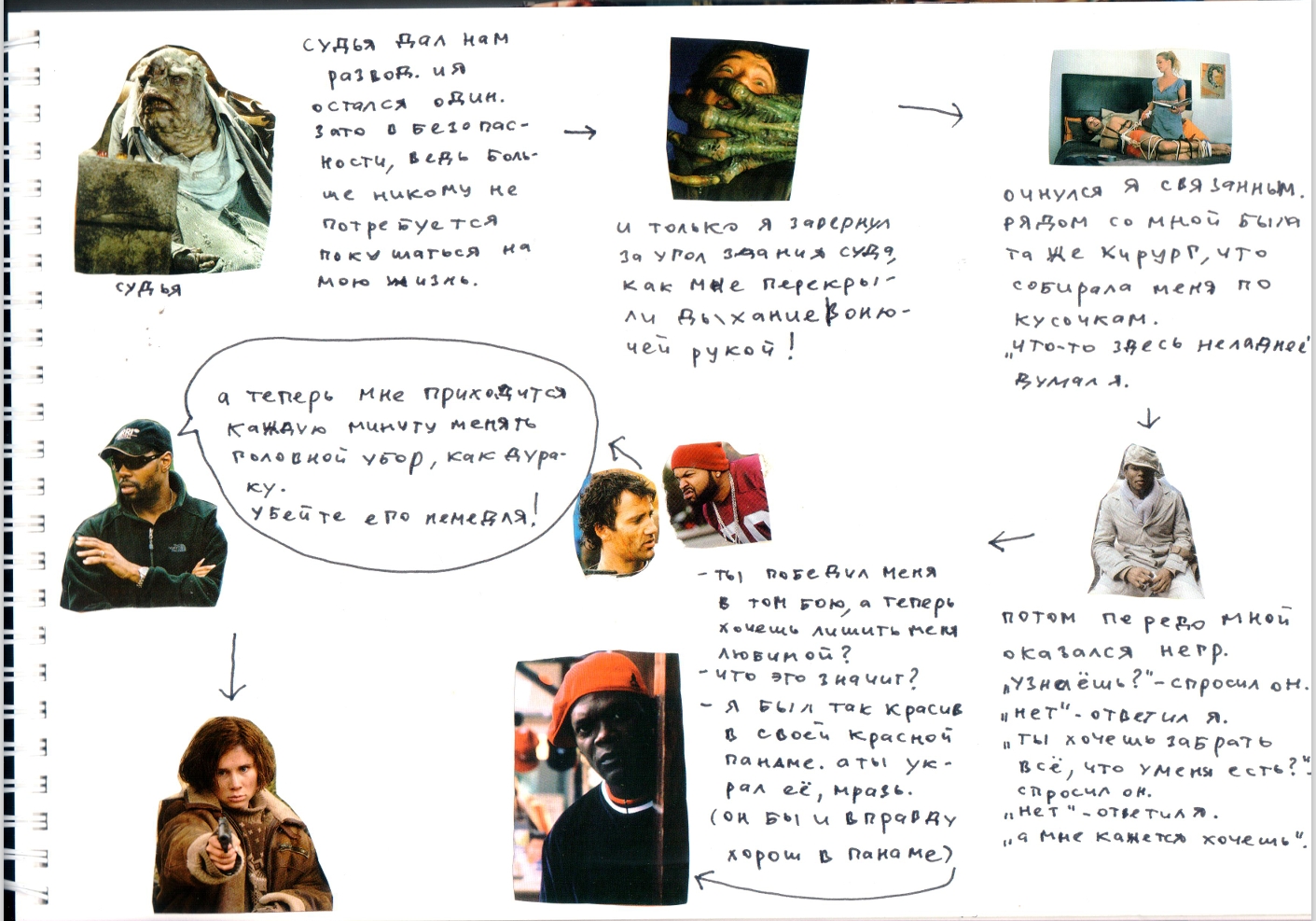
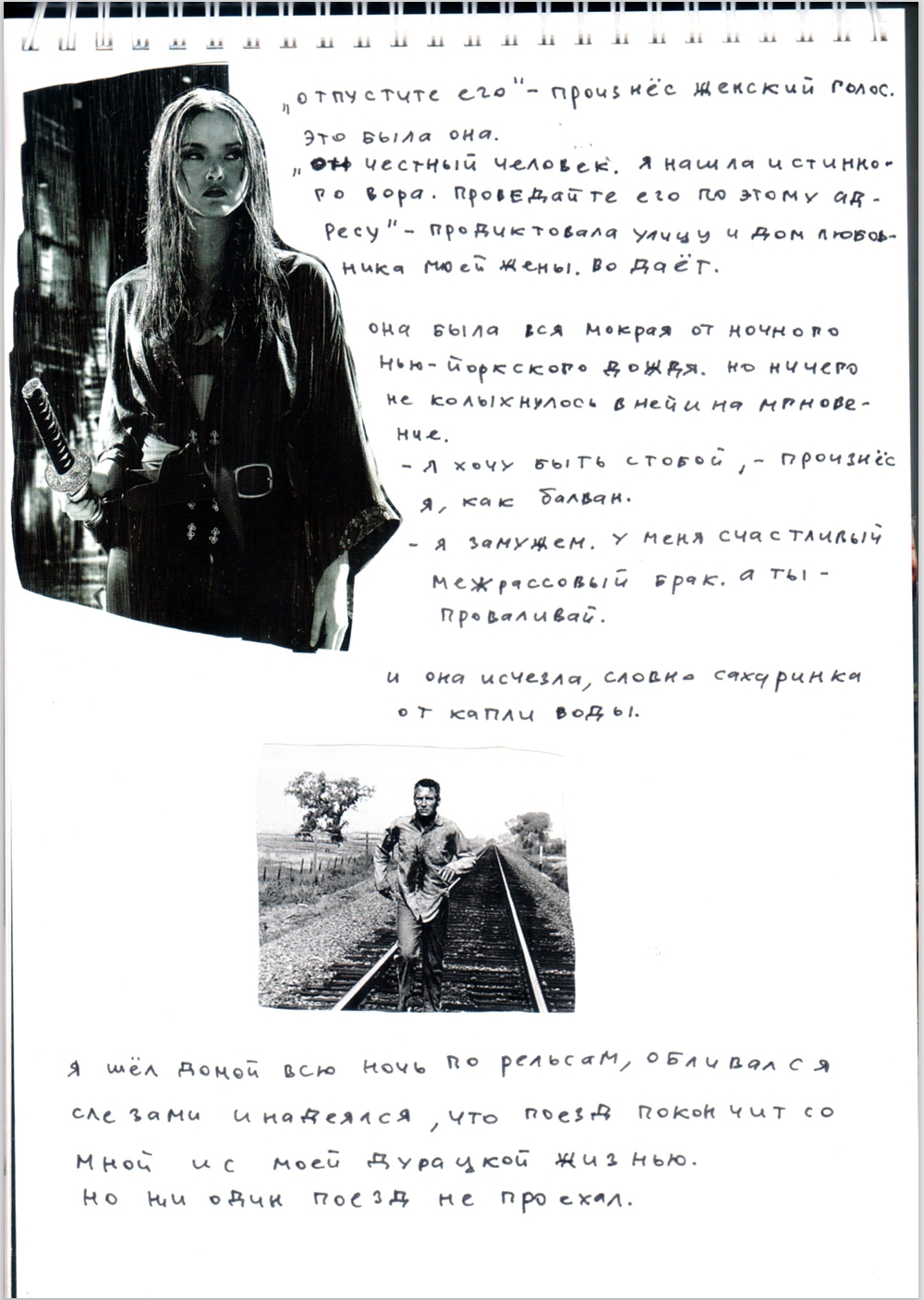
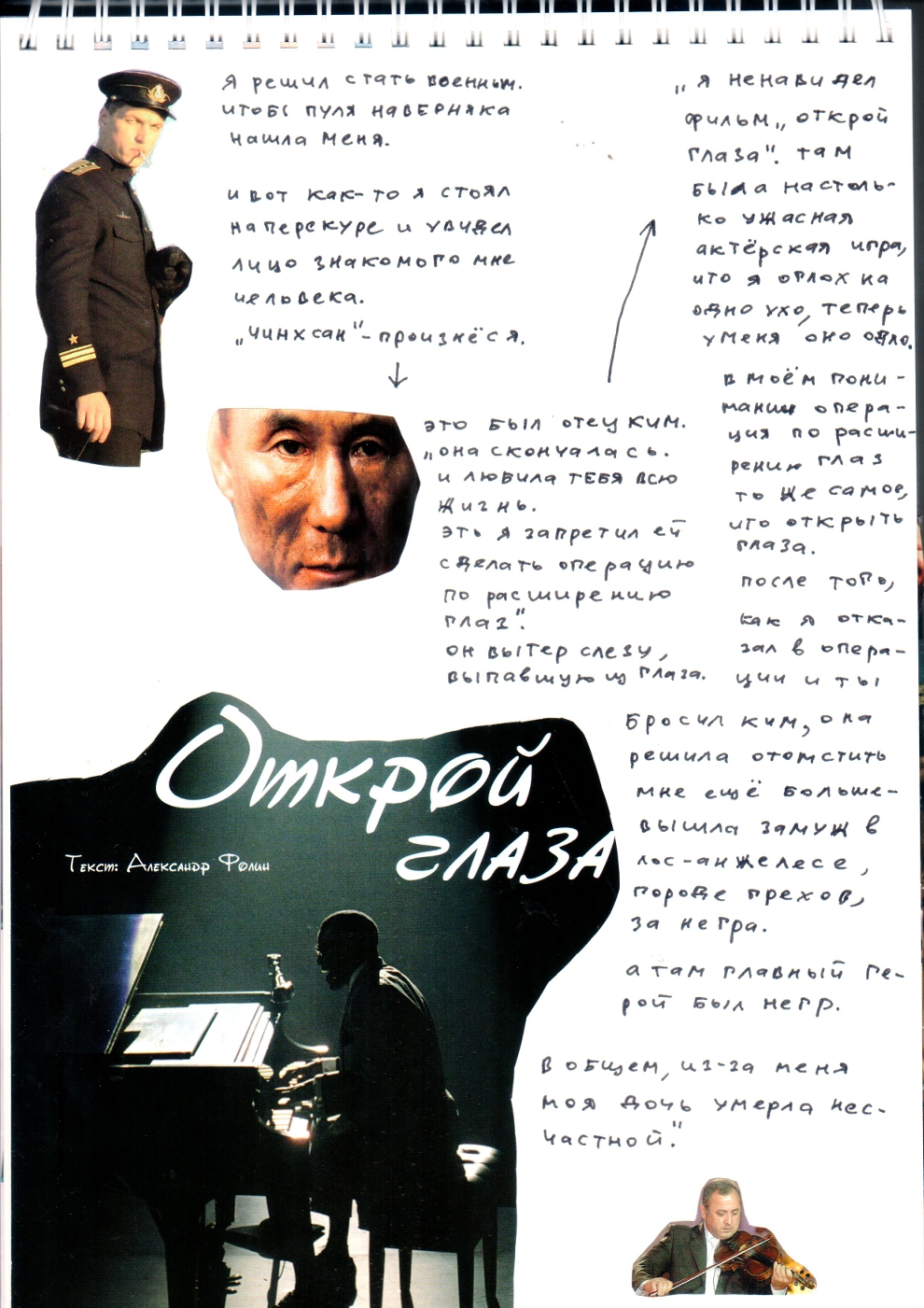
ВТОРАЯ КОЛЛАЖНАЯ ИСТОРИЯ
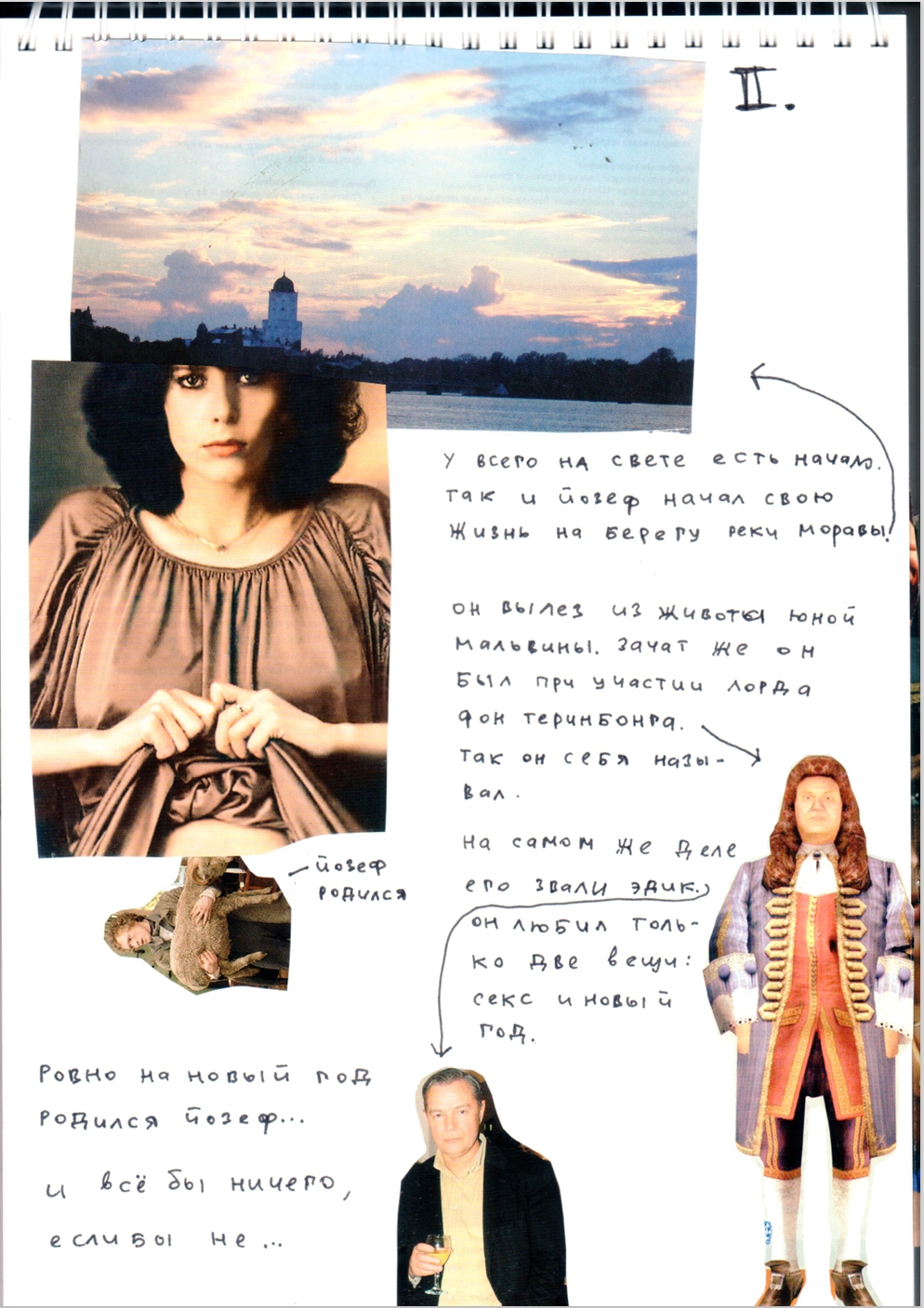
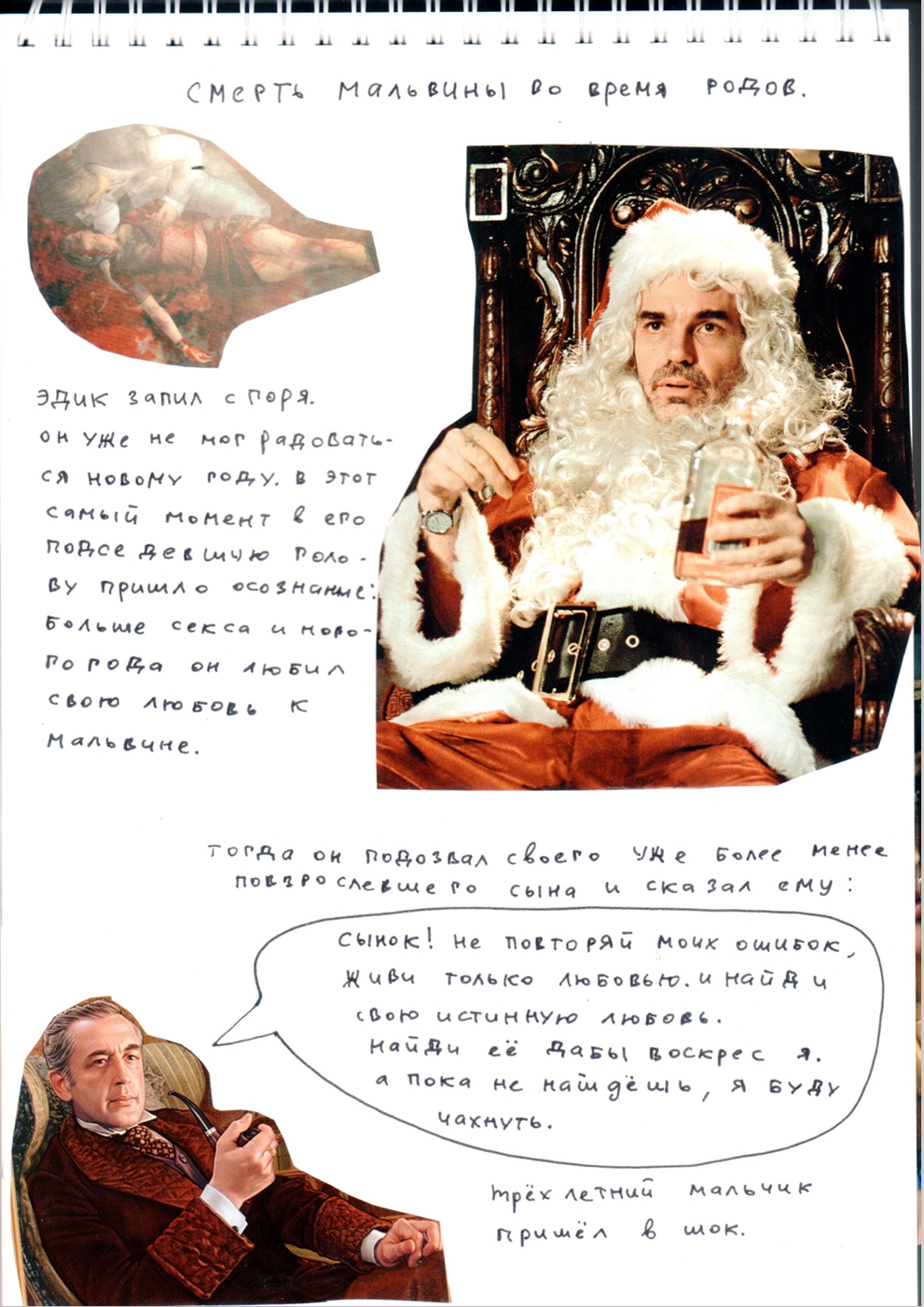
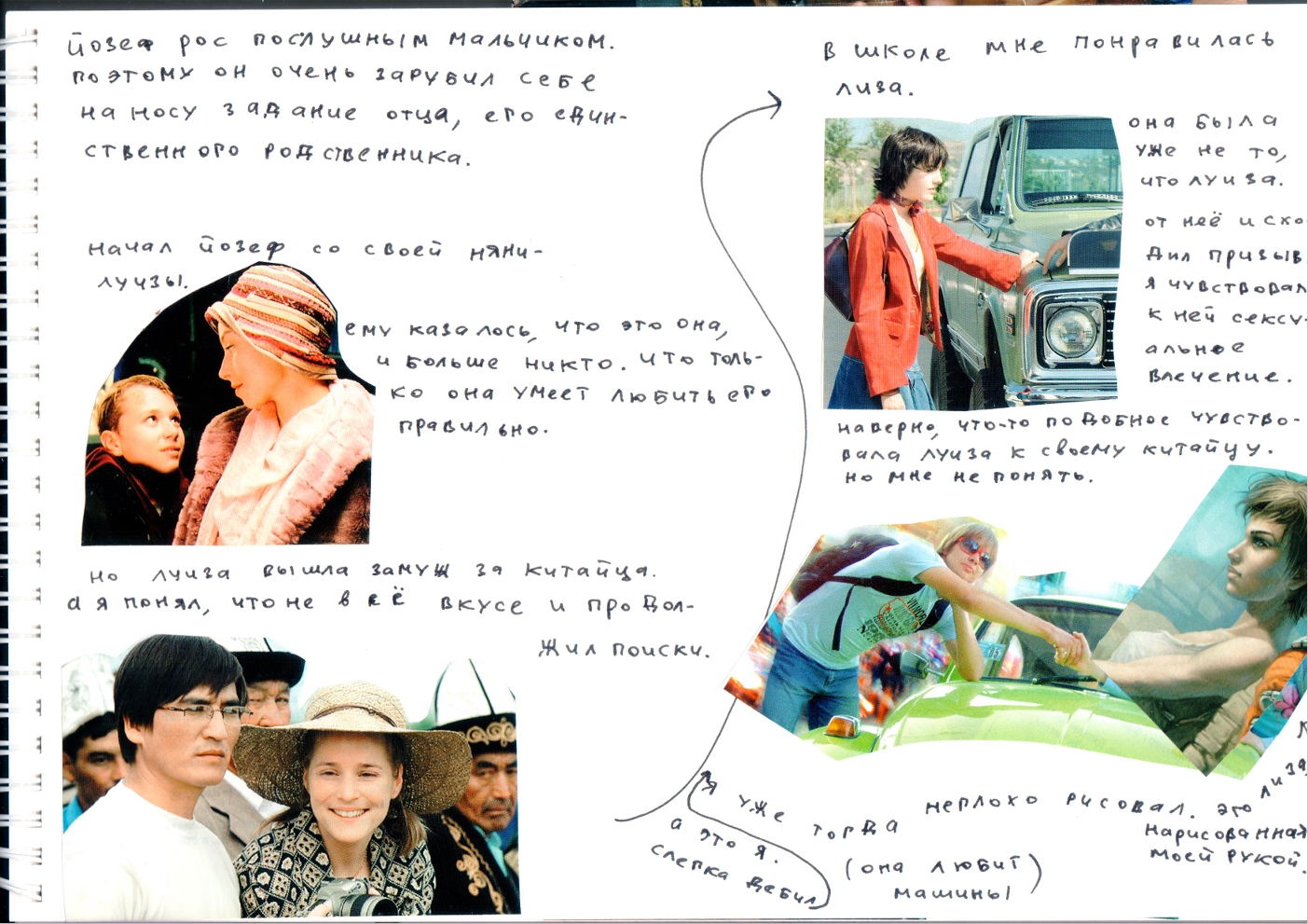

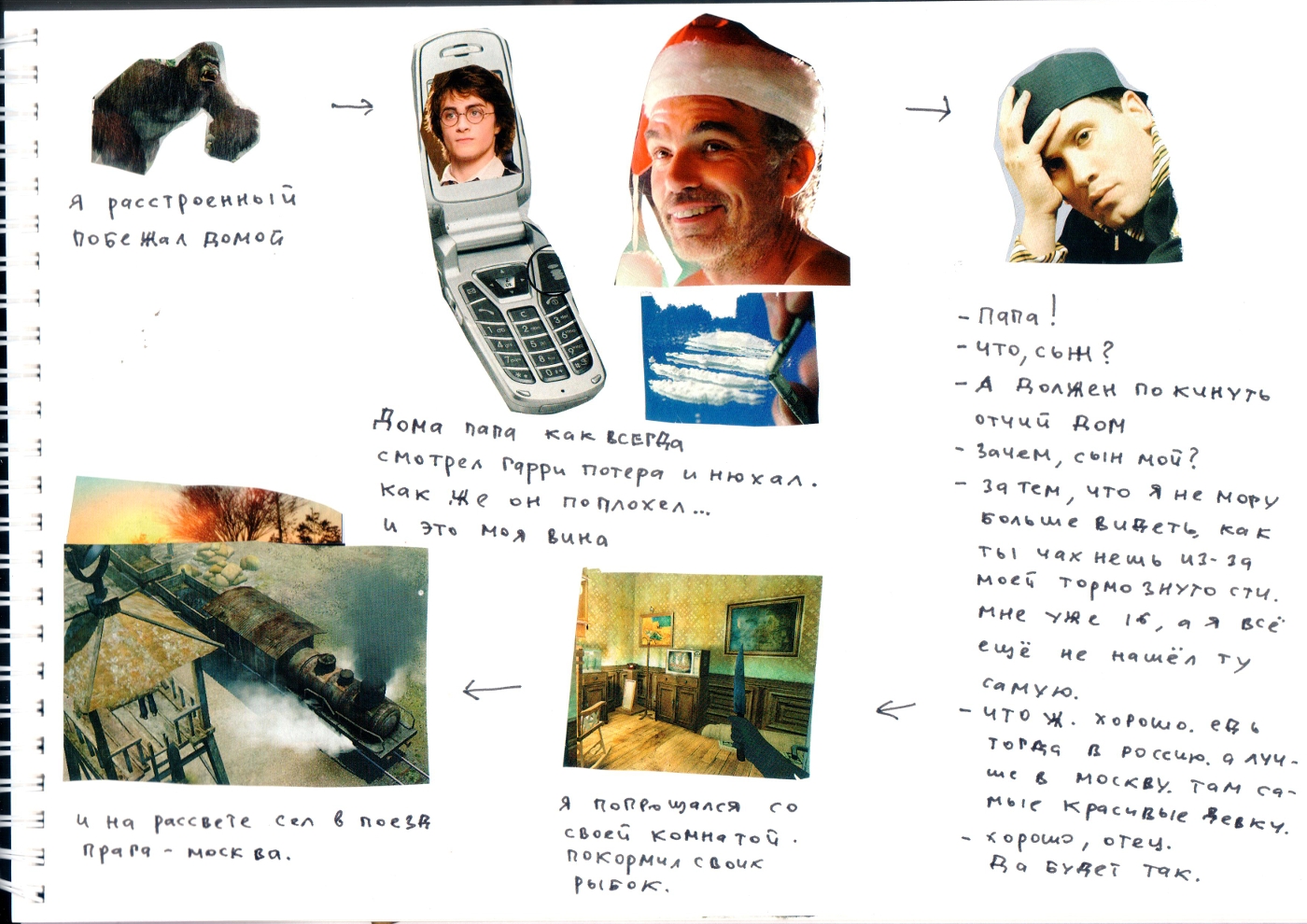

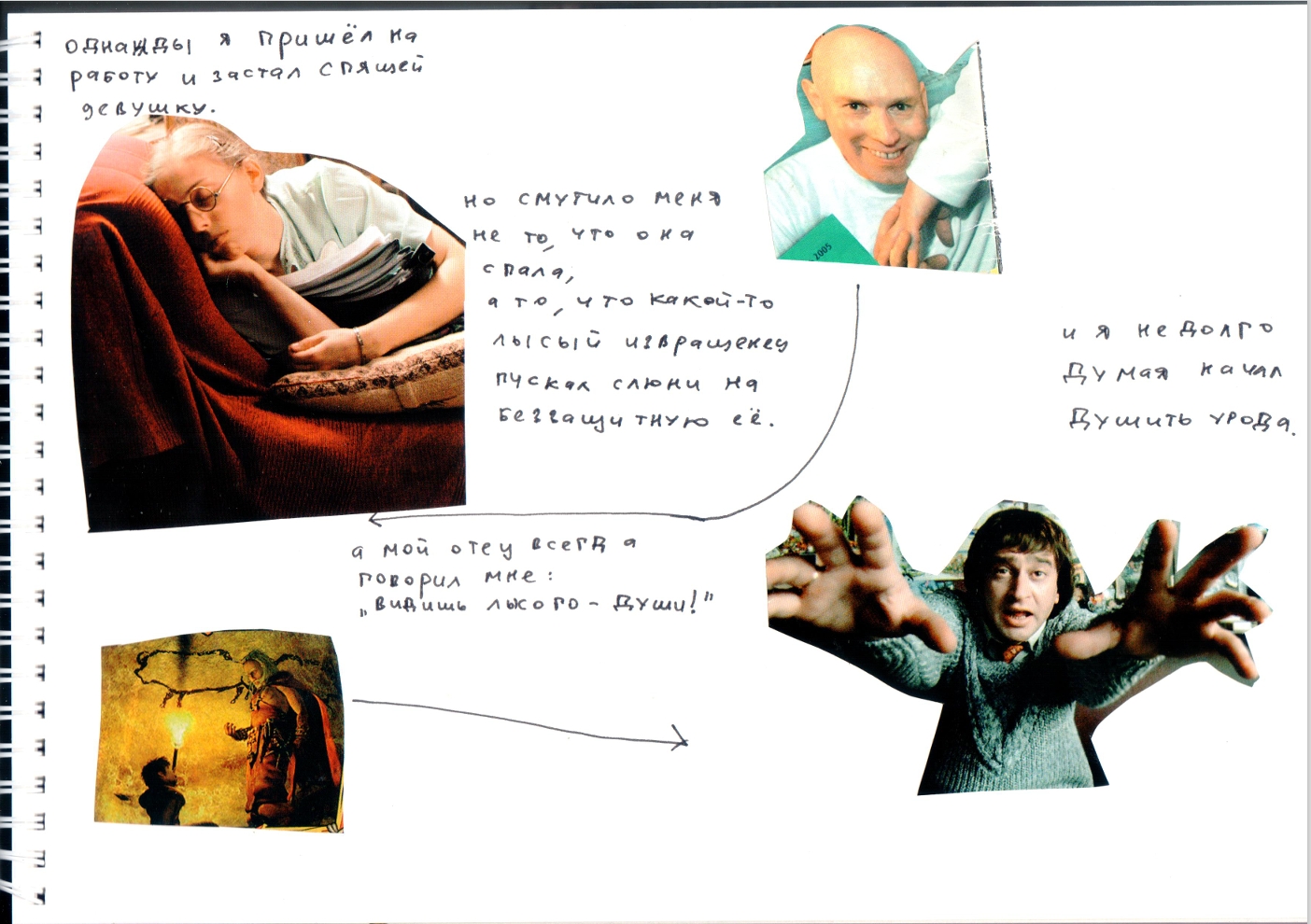
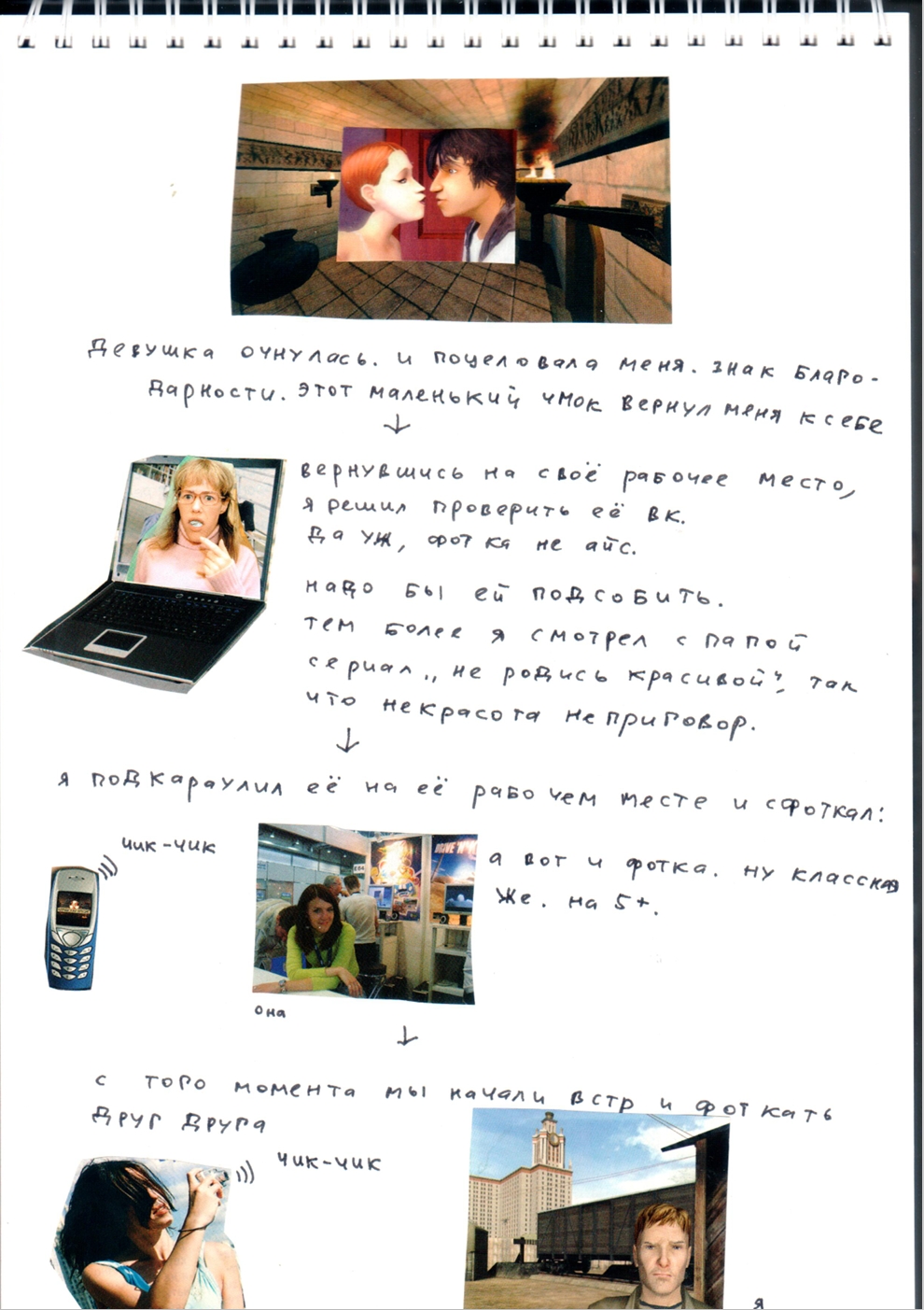
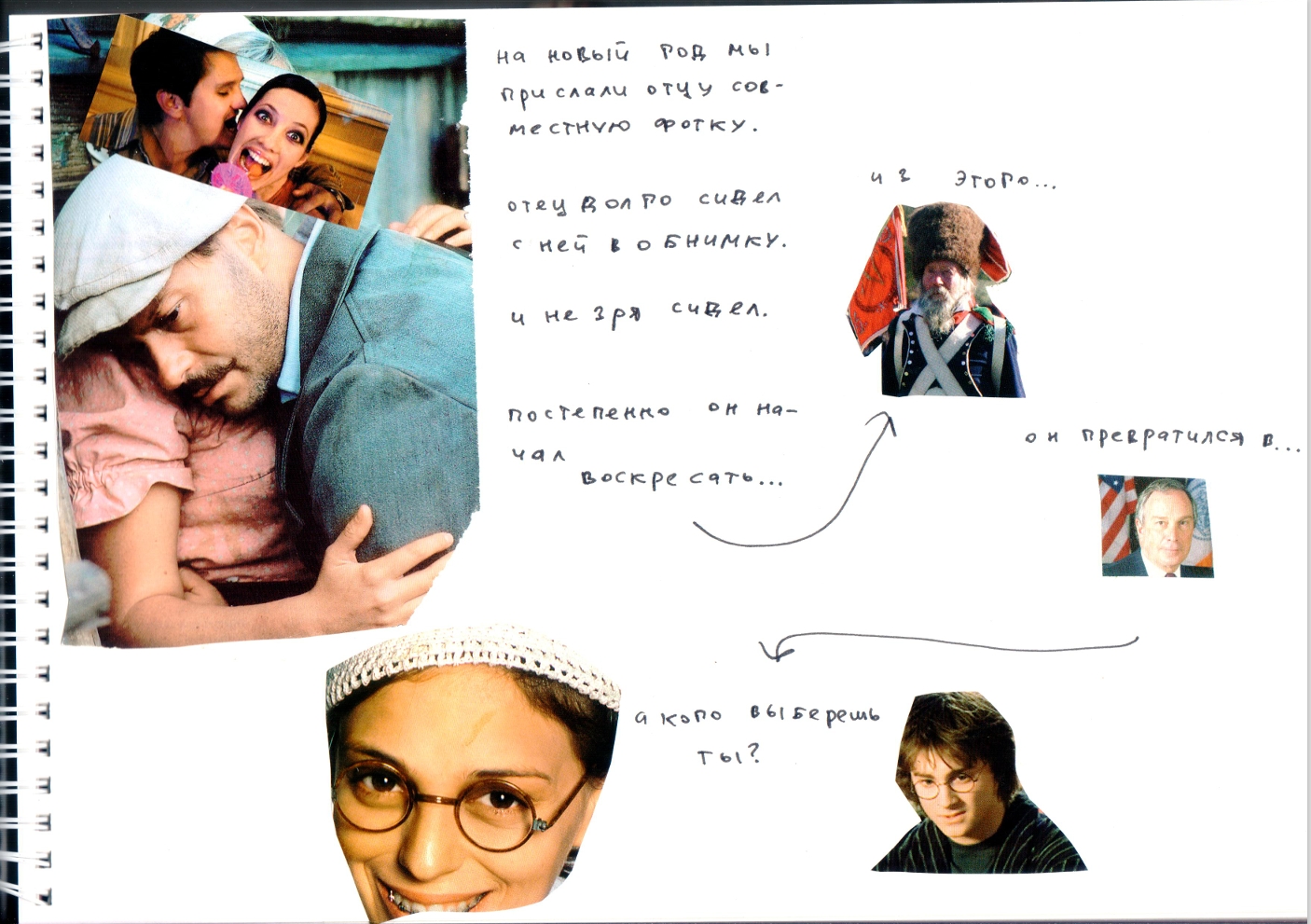
Модернистская поэзия Исландии (в переводе Викти Вдовиной)
Стейн Стенар (1908-1958)
СТРАСТНОЙ ПСАЛОМ № 51
На Вальхусском холме
распинают мужчину.
Народ раскупает билеты
на автобусы,
чтобы на него посмотреть.
Солнечно и жарко,
море спокойное и синее.
Это красивый мужчина
с широким лбом
и светлыми волосами.
И девочка с глазами зелёного моря
говорит мне:
Не скучно ли этому человеку
быть распятым?
1946
Ханнес Петурссон (р. 1931)
ОГНИ И ЗВУКИ
Сочельник — и я зажигаю
свечу так же, как прежде было —
маленькие свечки.
Она горит на моем столе,
довольная тогда своей жизнью,
куёт тишину из света.
И я жду, что услышу
как прежде было, что яркие звуки
ринутся с места
с низких башенок,
что услышу, как они носятся
над белой землей, вздымаясь
выше, выше,
как если бы они задумали осесть
на своих звёздах,
и так что огни и звуки
вместе бы начали
с неба сквозь воздух
свой освященный путь.
1968
Сигфус Дадассон (1928-1996)
Сон словно свет месяца
свет месяца словно сон
словно свет месяца
сон что мне приснился наконец ночью
словно океан словно месяц словно кильватер
словно глаза глубоко в океане
словно ты забываешь меня
словно ты вспоминаешь меня вечером
словно плавание по океану, одному и серому
словно ты приходишь ко мне
словно ты приходишь наконец ночью
словно кильватер в свете месяца
словно месяц в кильватере и океан, громадный и один.
1947-1951
Эксперт по рождению (перевод с норвежского Дмитрия Воробьёва при участии Микаэля Нюдаля)
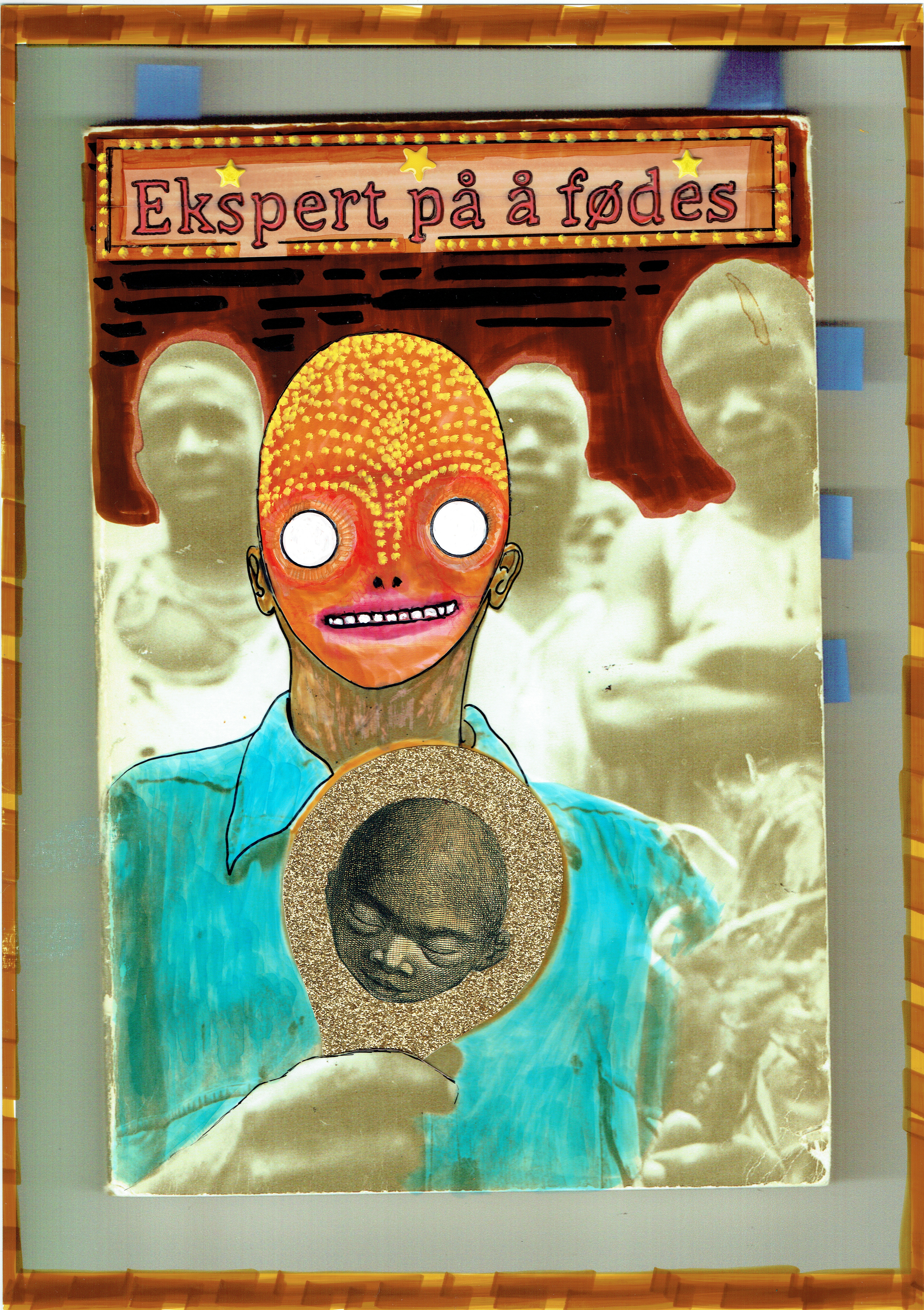
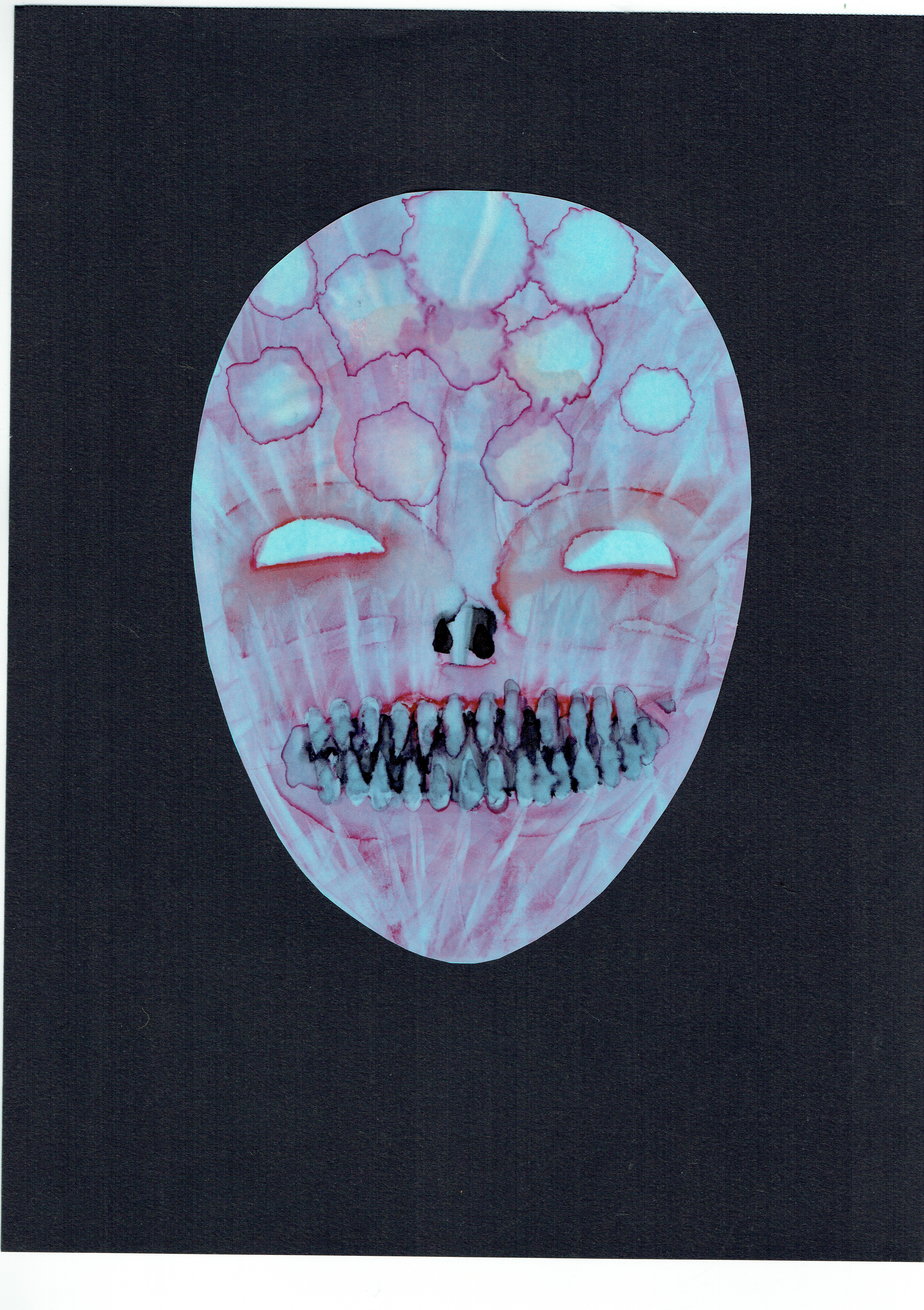
круг золотой солнце желток
рот сплетён бородой
голова крючком из волос
спутаны мысли зуд в теле
сложенном из костей
в этом гнезде
ветер гуляет моё нерождение и уносится прочь
всё на земле станет одинакового размера
будет шлифоваться корпус о корпус
пока не настанет день когда
всё станет одним и тем же
а оттуда пусть унесётся в ночь трещину перепонку
исчезнет как искра вспыхнувшая между желать и
не желать стать стать чем угодно лишь бы не рождаться
продолжать кричать как пустой свет дня кричать без рта

Привет, меня зовут «Ещё-не-рождённый»
Меня зовут «В-пузе-житель-задерживает-дыхание-и-считает-все-шаги-до-матери»
Прошло девять месяцев, но я не появлюсь, потому что мой отец сказал, что убьёт меня
Я думаю: может, мне и не придётся рождаться, если я начну помогать по дому. Вот почему по ночам я крадусь за водой, таскаю дрова и отгоняю хищников палкой. Должно быть, соседи заметили мои следы вокруг хижины
Я зажимаю рот, но всё равно учусь говорить. А вдруг я стану слишком большим, и мне в любом случае придётся родиться, я ничего не могу поделать: Ууууууу ууууууу
Когда я родился в первый раз, отец пырнул меня ножом прежде, чем я успел открыть глаза. Внезапно. Я умер до того, как стало больно. Но успел разозлиться, поэтому думаю придётся ещё родиться
В другой раз, когда я родился, он задушил меня пуповиной, хотя любой подонок должен знать, что варить козленка в молоке матери его — вдвойне скверно. Он просто злыдень, его нужно проучить, думаю продолжать рождаться
В третий раз, когда рождался, я едва успел поздороваться, как он размозжил меня камнем. По крайней мере, он мог бы сначала поздороваться. Думаю, продолжу рождаться, хочу свести счёты

Когда я родился в четвертый раз, он заехал мне ломом. Я пытаюсь встретиться с ним взглядом, прежде чем он чертыхнётся, но он избегает взгляда. Избегание — это признак слабости. Я намерен родиться, это будет последнее, что я сделаю
Когда в пятый раз я рождался, он собирался рубануть меня топором, но я сказал: слышь, я знаю кто ты! Он был ошарашен. Я такой: я намерен продолжить пытаться родиться. Он испугался, я заметил это, начинаю его понимать
На шестой раз я завопил: я видел, как ты поседел, ублюдок, время на моей стороне! И тогда он ответил: если ты попытаешься что-нибудь натворить, я прикончу твою мать. Надо же, как низко пал этот человек. Думаю, продолжать рождаться. Но с этого момента я буду действовать тише
В седьмой раз рождаясь, я не сдержался и заорал, мол, если ты тронешь мою мать, я откушу тебе хуй. Он ответил: кусающий хуй отца своего, никогда не родится. Я не нашёл, что на это ответить, и он забил меня на смерть той же лопатой, которой потом закопал. Должно быть, это — ад. Мне нужно родиться дважды, чтобы выбраться отсюда
А на восьмой раз я подготовился и прошипел ему: убивающий своего сына, с таким же успехом может трахать свою могилу. Он этого не ожидал! В приступе ярости он забил меня молотком и продолжал фигачить даже после того, как я испустил дух. Вот это была движуха!
Рождаясь в девятый или десятый раз, я ухмыльнулся: помнишь меня?! И тогда он слетел с катушек. Он, по ходу, ударил меня раз сто по лицу отверткой и кричал: «сдохни, сдохни, сдохни!» Я воспринимаю эти крики как добрый знак, я продолжу делать то, в чём я стал экспертом: рождаться

Рождаясь в одиннадцатый или пятнадцатый раз, я сказал: чмо, я убью тебя нах, так гласит пророчество, и тогда он ответил: я знаю. Вот почему ты убиваешь свое продолжение, если тебе интересно, из самозащиты. В нашей семье – это дело чести. А потом он растоптал мне ноги, бросил в муравейник, сидел в походном кресле, цедил пиво, наблюдая, как муравьи очищают кости от плоти
В шестнадцатый или двадцатый раз я сказал: я бы уже умер от старости, если бы ты позволил мне жить. И впервые он прикончил меня голыми руками. У него удивительно теплые и мягкие руки
На семнадцатый или тридцатый раз, я рассказываю ему всё, что узнал об убийстве младенцев: убитые детки кричат по ночам, иссушают поля, коров молока лишают. Выжги клеймо на убитом детёныше, чтобы он оставался в лесу, свари убитого детёныша в семи котелках, чтобы он оставался в лесу. Отдай кусок мяса медведице, кусок росомахе, кусок кунице, кусок гадюке, кусок вороне, кусок матери, а последний оставь себе. Пережуй мясо семь раз по семь, и убитый ребёнок останется в лесу насовсем. Смажь кровью козы, раковиной улитки, ламповым маслом три раза две стороны головы разбитой и тогда убитый ребёнок не посмеет вернуться. Сожги хижину, где родился детёныш, чтобы он не начал искать семью. Мертворожденного нужно убить ещё раз, а затем обманом заставить три раза родиться: один раз лицом вниз, другой раз лицом вверх и последний раз без лица. Этот детёныш должен сначала родиться при свете дневном, затем при лунном свете и, наконец, под дождём, и тогда ты должен дать ему жить, потому что он сможет обнаружить других убитых детей, куда быстрей, чем вы их заметите сами. Каждый должен запомнить каждое имя каждого убитого ребёнка, но никогда вслух не говорить, потому что тогда они вернутся мстить. Просто позовите, эй, Долговязый Шип, который сидел на ноге своей матери, просто позовите Жаждущего Слез, которого засосало в песок, позовите Раптора, который любит есть ягоды, или Паука-со-сложенными-лапками-который-умудряется-дождаться-пока-мухи-утонут-в-пальмовом-вине, или Ребёнка-черепушку-который-сосёт-грудь-как-масло-для-лампы, Ребенка-кожу-да-кости, который копается в пыли и наносит удар тебе в пятку, эй, Маленький Острый Язык, который лижет твое ухо. Во сне каждый видел равнины, где новорожденные младенцы ползают на четвереньках под солнцем, где курганы из высохшего яичного желтка отбрасывают тени размером с человека
И мой отец вздыхает: «Когда же ты, ублюдок, наконец заткнёшься?» И снова делает то, в чём он стал экспертом — забивает меня до смерти
К восемнадцатому или восьмидесятому разу моего рождения, у меня уже была необычайно долгая жизнь в виде городских легенд и призраков, преступлений и репутации. Он стоит наготове с занесённым надо мной копьём, я говорю ему прямо в лицо: дай мне стать обычным парнем, тогда я стоял бы в своём углу, позволь всем обо мне забыть, как об обычном парне
В семидесятый или сотый раз моего рождения я заметил, что он постарел. Он уже не убивает меня так, чтоб брызги крови вокруг разлетались, вместо этого он хнычет, мол, у меня ломит спину от того, что я должен постоянно сбрасывать тебя с горы, хнык. Раньше я мог сжимать твою шею, как лёгкий рулон туалетной бумаги, теперь же я должен так напрячься, что начинаю потеть, хнык-хнык
Отвечаю в том же духе: пора позаботиться о себе, Отец. Да, не лезь ты один на чердак. Тебе надо правильно питаться, Отец, а то ты всё худеешь, ах и ох. Сколько не ешь, всё не впрок. Жаль, что тебе приходится тут бездельничать, ох и ах. Старость — не радость, ясен пень. И это помогает. Он тает на глазах, убивая всё более машинально, в то время как я продолжаю рождаться
Я рождаюсь в тысячный раз, старик лежит неподвижно, чтобы не тревожить свой геморрой. Я говорю ему: хорошее всё-таки было время, когда ты убивал меня, как настоящий мужчина, с яростью, инструментами и оружием. Твоё нытьё не только меня убивает, оно может убить само солнце!
И я кричу изо всех сил: смотрите, вот, полюбуйтесь! Посмотрите на эту кожаную тряпку! Мой отец мог убивать, мой отец мог бить и пинать! Его все боялись, но никто его не боялся больше, чем я. Вы только посмотрите на него, а! Только полюбуйтесь на этого размазню!
А потом я перекатываюсь на бок и душу его одной левой. И это не похоже на победу. Теперь я наконец-то могу убивать! И я хочу вам сказать, что это никакое не искусство. Далее я сдираю с него шкуру и вешаю её на ветку, как мокрый флаг
А потом я перекусываю пуповину, да! — наконец-то я родился!
И тогда я обернусь и
впервые посмотрю в глаза матери,
и спрошу её версию
Уведомление автора: «Текст "Эксперт по рождению" является диалогом с другими текстами или отчасти заимствует их мотивы и элементы. Я называю этот прием "карнавализацией", но его можно назвать и "каннибализацией"».
Вот список источников, о которых идет речь:
1. The Mwindo Epic from Banyanga / ed. and transl. Daniel Biebuyck and
Kahomk C. Mateene. Berkeley and L.A.: University of California press,
1969.
2. Wole Soyinka. Abiku / ovesatt av Gunnar Wӕrness // Verden finnes ikke
på kartet. Poesi fra hele verden / red. Pedro Carmona-Alvarez og Gunnar
Wӕrness. Oslo: Forlaget Oktober, 2010.
3. Hiromi Ito. Eg er Anjuhimeko / oversatt av Ika Kaminka. Moss: H//O//F
Forlag, 2017.
Рене Шар. Предполагаемому (перевод с французского Елены Захаровой)
Поражение без борьбы
Рене Шар известен в мире как поэт протеста, поэт сопротивления, но говоря о его борьбе имеют в виду, как правило, борьбу политическую и социальную: участие в движении Сопротивления во время Второй мировой войны, уход от социума и его открытое осуждение благоустроенности и мещанства. Но к концу жизни и к своей последней книге «Хвала Предполагаемому» Рене Шар понимает, что изначально главным его врагом был он сам.
Весь перекошенный, я держался за свое тело и сопротивляющийся дух, как держишься на краю окна за голос переговорщика, не в силах себя отпустить: это мучение длилось всю мою жизнь. («Единственное богатство»)
Главной его борьбой была борьба внутренняя, борьба за свободу не для себя, а от себя.
От ограниченности человеческого разума:
В этом переходящем мире нам останется лишь краткая хвала Предполагаемому — единственному, что удерживает слова на самой границе слез («Хвала Предполагаемому»).
От своего неудержимого самодовольства:
И каморка моего сердца снова скрывается с высоты иллюзорного полета.(«Потерять дважды»).
И инертности :
Даже под дождем камней мы держимся за наши залежи. («Под дождем камней людоеды...»)
Идеал для Шара — природа, которая кажется человеку неживой и статичной, хотя, на самом деле, в ней идет постоянная борьба за существование, а статичен как раз человек.
Когда же мы сможем жить, чтобы говорить с тобой, красное солнце, вновь и вновь кровью исполняющим свой сыновний долг, в час, когда ты так низко, что, ничего не объясняя, с каждым стоном все глубже опускаешься за слепой подлесок? («Изворотливая неблагодарность»)
В ранней поэзии Шара отчетливо слышен призыв к борьбе и надежда на победу, на обретение свободы. В последней его книге победу одерживает отчаяние: человек не сумел побороть себя. Осуждая человеческую слабость, Рене Шар не ставит себя особняком: и я слаб, ограничен, и я «не смог за всю жизнь выучить» единственно важный урок, а мое« единственное богатство — слезы».
Но победа в этой борьбе была невозможна изначально, потому что победа означает нечто совершенное — статику, а следовательно, поражение. Единственное, что остается — продолжать борьбу. Единственная свобода, которую возможно обрести, — в поэзии. Но и здесь спасение обретается лишь на короткий срок, потому что нельзя «научиться» писать: опять совершенный, законченный и мертвый вид.
«Эта земля, где всему уважение, но ни во что подолгу не верится. И траур здесь, следует помнить, почти всегда, стоит утихнуть ветру праздника, убрать паруса». («Единственное богатство»)
Борьба поэта отчетливо проявляется и на языковом уровне. В каждом тексте Рене Шар пытается преодолеть сопротивление языка: формы, синтаксиса, лексики. За мнимой поэтичностью скрывается борьба с этой поэтичностью. Тексты Рене Шара можно условно разделить на две группы: видимые стихи и видимая проза. При этом «прозаические» тексты оказываются более концентрированными, а «поэтические» порой напоминают реплики из разговоров.
Раскрываются и растягиваются лепестки, выходят из круга в сопровождении смерти, еще мгновение замещавшие сердце розы, что теперь высвобождается от должности («Взгляд на Землю»).
— Интересно, кто бы захотел разобрать Пон-дю-Гар?
— Так римляне, наверно, если бы кто еще в живых остался.
— Вы совсем не чувствуете красоту ветвлений.
— Я живу. А снег под хижиной заглушен.
(«Хижина»)
С борьбой Шара на всех уровнях организации текста и связана одна из главных трудностей перевода. Несмотря на широкую известность за рубежом русскоязычный читатель знаком с его творчеством лишь благодаря немногочисленным переводам В. Козового, М. Ваксмахера, М. Кудинова, А. Маркова и С. Гончаренко. Наиболее точно удалось поймать дух и стиль Рене Шара Козовому и Ваксмахеру, но они перевели лишь ограниченный объём текстов из разных сборников. В то же время для Шара каждый сборник — это отдельное произведение, которое совпадает с определенным этапом его становления как личности и как поэта. Поэтому трудно говорить о том, что у русскоязычного читателя была возможность полноценно познакомиться с его творчеством.
— Елена Захарова
Предполагаемому
1. Единственное богатство
И когда по-настоящему заканчивается урок, который продолжаешь учить, прячась от возраста, опускается ночь. Что толку светиться, когда единственное богатство — слезы?
Но порой воплощением хрупкости, порой воплощением силы приходит Служанка, настоящего хозяина которой мы никогда не узнаем, и пронзает тьму, и суетится вокруг перезрелых плодов.
Себя не спрячешь: мы тянемся, длимся, своим существованием зависнув на полпути от пленительной колыбели до сомнительной последней земли. Мы можем предвидеть, что будет, но не когда. Мы ничего не сможем предсказать, и все случится, но раньше срока.
Прекраснее времени, когда люди могли разжигать огонь без кремня и соломы, лишь тот миг, когда огонь сам искрился от шагов человека, превращая его в вечный свет и вопрошающий факел.
*
Складки разглаживаются под корой,
Трещина в ветке.
И снова ветка ветром тянется к ветке.
Слезится росой;
Вечера соль.
Весь перекошенный, я держался за свое тело и сопротивляющийся дух, как держишься на краю окна за голос переговорщика, не в силах себя отпустить: это мучение длилось всю мою жизнь.
Нас раздирают тысячи причин.
Завтра нам не хватает.
Завтра должно было хватить.
Мучительным будет завтра,
Как и вчера.
Быстрее, пора сеять, быстрее, пора пересаживать, как требует эта громадина, эта Развратница, эта Природа; тошнит, нет сил, быстрее пора сеять; измученный лоб; исчерченный словно черная школьная доска.
Внезапный союз души и слов против врагов. Это высвобождение лишь переход.
Останется тайной, было ли это, не вернувшись, завтрашним днем? Разрастающееся внутри все теснее и теснее соединяется для вдохновенной ночи или для выверенного дня.
В стольких склоках я воображал себя королем.
Все этот колючий репей всегда у меня наготове!
Душа голышом, бытие оборванцем.
Де Сталь ушел, не ступив ни шага по снегу, познав себя на дне морей, в лохмотьях дорог.
Что если человек лишь карман походного рюкзака непознаваемого бога, которому мы можем придумать лишь прозвище? Предчувствуемый, неприкасаемый? Своенравный и тиран?
Мандельштам взглядом отсеивал лишнее, приближался к последним пределам, заставляя их себя называть. С ним мы ощущаем дрожь земной коры, разрываемое благоговение, это право вдохновения объединить огненное ядро человека и множество его текучих чувств.
Что толку выбирать, какой тропой идти к вершине, если не хватит ни времени, ни сил пройти этот путь до конца?
Искусство создается насилием, драмой, бесконечным отсевом, что прерывает лишь мгновение радости, переполняя тебя и снова опустошая.
Из энергии мы вышли и в энергию вернемся. Мера Времени? Искра, в свете которой мы рождаемся и вырождаемся в байку.
Единственная свобода, единственное ощущение свободы, в котором я смог раствориться — поэзия, ее слезы, свечение ее сущностей, приходивших ко мне из дальних далей, и это было свечение любви, что бесконечно умножила меня.
Эта земля, эта самая нижняя зона письма, куда так тяжело попасть, голая и бесприютная, но сумевшая вернуть себя себе.
В любой миг быть готовым изгнать из себя все, что тревожит этот источник, ломает камыш и тростник, дорогие Любимой. Больше места на этой планете, даже если придется ужать себя.
Благодатная земля, разумный сон, и он растранжирит тебя в кровь, если решит ускользнуть. Но сейчас я освободился. Я погрузился. И на дне самого глубокого горя я встречу в канале изможденное лицо упавшей звезды, на грани рассвета.
Это все та же не прекращаемая борьба неблагодарных: имя без вещи, но в той земле имена обретают плоть. Кто потревожит того, что нет? Я есть то, чего нет, то, что никогда не увидеть дважды.
Я мирно уснул под деревом, а когда проснулся, меня окружали враги, и к голове был приставлен ствол, и к сердцу приставлен ствол, но знало ли сердце об этом?
Разочаровать значит избавить от зла, о котором не подозревают, освободить. «Ты так и застынешь на стене своих сомнений на коленях, свисающих в бездну».
Я терплю, когда задыхаюсь, и ты возвращаешься в сон. Переплетение. .
Эта земля, где все уважают, но ни во что подолгу не верят. И траур здесь, помни, почти всегда, стоит утихнуть ветру праздника, спустить паруса.
А прямо сейчас, когда эту свечу тошнит и рвет жизнью, у окон краснеет слух.
Слишком воинственно из часов убегает песок в одно из древнейших Времен и может вернуться.
2. Взгляд на землю
Раскрываются и растягиваются лепестки, выходят из круга, окруженные смертью, едва покинув пробуждающее сердце розы.
Эта роза, словно отважная звезда, которой мог бы коснуться далекий запах, одарив ее цветом особенного светила.
И вот она говорит, прося у небесных солнц хоть немного их гнева… Земля, вожделение мародеров, не оставила в стороне и нас! Ее голубоватое сияние до нас, наконец, дошло.
Показывая пальцем, одно из них говорит: «Это звезда крыс! Единственная, чей след для меня ясен».
Противоречиво! Но с жалостью к нашей беде, это точно.
Роза, бесконечная числом лепестков почти целиком из стариков и детей — на этой зыбкой почве оканчивается поединок. Рассыпается роза. Рассеивается звезда.
3. Мой распятый бестиарий
Предположим, поэзия — одновременно сплав многих жизней, приближение боли, вдохновенный выбор и поцелуй, продолжающийся в этот самый миг. И она расстанется со своей истинной сущностью, только если поймет, что обречена и начнется борьба между бездной и верой. В этом переходящем мире нам останется лишь краткая хвала Предполагаемому — единственному, что удерживает слова на самой границе слез. И это наивное безумие разделить время на двенадцать отрезков, чтобы якобы наполнить смыслом каждый следующий день, оказывается полнейшей иллюзией, стоит только случиться чему-то, казалось бы ничтожному, но что полностью подчиняет себе существо, которое живет бок о бок с хаосами, принимая их как должное. Но хаос — первооснова нашего бытия — не просто чья-то причуда. Откуда? Из рассыпающегося календаря, который един со Временем лишь до тех пор, пока мы не возомним, что можем ими распоряжаться.
Юность нашего Предполагаемого…
К благородным животным внутри снисходит усталость, когда мы, наконец, ощущаем их угнетенное существование.
Тошнит после осадка иллюзий. Затем новый вдох живого животного страха и счастья. В итоге не так много.
Но что стало с волком, покинутым на такой долгий срок? Когда он понял, что не сможет склониться перед человеком, то решил стать ему ровней; и когда первой защитой от смерти открылась клетка, он ровно стоял, в землю впивая когти.
4. Путевая карта
Ты, растянутая болью, для которой я опять и опять находил повод,
Словно так и должно быть;
(Из отвращения к богатству ты исхудала словно обугленная деревяшка),
Смотришь на меня словно на глухого;
Мой необузданный друг, куда ускользнула твоя радость?
Мои старики, растянутые в танце отраженными облаками
и лишь рваный узор тростника разделяет нас.
Солнце кружит вокруг пожелтевшего дерева,
Ветру хватает сил склонить лишь рожь.
Пусть умирает мой дальний дом.
5. Новости под рукой
Из слишком внезапной и такой краткой трели славки — о, голос горла — выплескивается, кувыркаясь в воздухе, «ррруки вверррх».
А затем тишина — и дерево, где она пела, словно исчезло, ни оставив ни побега.
Этим летом было так жарко, что даже опавшие листья шли к животной воде напиться из блюдца земли.
6. Хижина
— Интересно, кто бы захотел разобрать Пон-дю-Гар?
— Так римляне, наверно, если бы кто еще в живых остался.
— Вы совсем не чувствуете красоту ветвлений.
— Потому что я живу. А снег под хижиной глух.
7. Под дождем камней людоеды...
Даже под дождем камней мы держимся за наши залежи, уже упавшие в цене из-за сомнительного прошлого. И предложат в итоге только обманчивое будущее, а настоящее, слишком прожорливое до мимолетных радостей, решит остаться с амбициозными замыслами. Ни к чему расстраиваться.
8.Лизанксия
Свобода нас радостно покидает, когда губы дрожат
на краю поцелуя.
И перед тобою лицо
Прекрасной примулы,
Сестры Прекрасной Ферроньеры,
Луизы Лабе Лионской
и Лизанксии.
9. Потерять дважды
Воспарив, я упал, когда до меня, наконец, дошло, что обитатель моей головы не дикий сокол с трагичной таинственной судьбой, а неуклюжая черногривая кляча с длинными бабками. Я отвел ее в самую горячую каморку сердца, и хотя от жары с раскаленных деревьев падали абрикосы, ни лошадь, ни я не пели от счастья.
Две главные обиды, кажется мне — и еще раз хочется подчеркнуть — в том, что человек обретает разум и разрывается в противоречиях, как только его тщеславие не вписывается в принятые условности.
И каморка моего сердца опять растворяется в вышине.
10. Изворотливая неблагодарность
Знаю я этих миловидных Мадонн. Не путайте их с перепелками, знающими истинную скорбь. Когда же мы сможем жить, чтобы говорить с тобой, алое солнце, в этот час, когда ты так низко, ничего не объясняя, с каждым стоном все глубже опускаешься за слепой подлесок? Здесь, на цветке серой воды, несколько капель твоей крови, без которой не наступит завтра ни для него, ни для нас.
11. Мы были зыбким августовским утром
Из жизни всего два выхода: или промечтать, или претворить. В любом случае направления нет, и держишь удар, и терпишь насилие каждого дня, ты, нежное сердце, неутолимое сердце.
Дай же мне руку, ввысь взмывающую как тростник. Пусть вы встретитесь над балетным станком, что изгибается вместе с тобой перед источником, который нас разделил. Вильфрид! А вот и к нам — и в зеркале расправляются крылья.
В этой долине лишь вы двое своим единством наполняете звездами мой гамак.
12. Изредка песня...
Изредка песня грустного снегиря,
Любимая зима у горы Ванту;
Каждый год размножаются риски;
Радость, любовь, по каплям из милости
Сверху, но чаще снизу брызгами,
Взбудораженный источник наслаждений.
И солнце сегодня вечером наконец оплодотворится.
13. Любимая
M.C.C
И такая страсть скрутила меня к сладостной моей, что я, раб похоти и дрожи, должен был и не должен был умереть, умолкнув или обмякнув, увидев лишь веки моей любимой. Обновленная дикость ночами возвращалась по соединяющей жгучей слюне, лихорадочным запахом прокладывая себе путь. Тысячи предосторожностей в пыль — и я во власти сладострастной плоти. Сейчас в наших руках желание выйти за пределы, но какой ужас тогда ожидает наши губы завтра.
Новый нарратив: стихи Денниса Купера и Кевина Киллиана (перевод с английского и предисловие Анны Сидоренко и Дмитрия Сабирова)
«Новый нарратив» зародился в Сан-Франциско в конце 70-х благодаря Роберту Глюку и Брюсу Буну, а имя ему дал поэт и редактор Стивен Эббот в одном из выпусков своего журнала «Soup». К нему относят таких деятелей, как Лесли Дик, Доди Белами, Деннис Купер, Кевин Киллиан, Дэвид Стейнберг, Кэти Акер и др.
Для автор:ок, относимых к течению Нового нарратива, характерно стремление к исследованию собственной сексуальности, графичное изображение телесности, «документальное» (биографическое или небиографическое) письмо, постоянное обращение к популярной культуре и создание на её основе своего рода коллажа или пастиша, отсутствие всякого страха китча. Более всего в их письме наблюдается влияние поэтов языковой и Нью-Йоркской школ, объективистов, битников и сюрреалистов.
В эссе «Длинная заметка о Новом нарративе» Роберта Глюка фиксируется выведенная Брюсом Буном формула «текст — метатекст»: история снабжается динамическим комментарием к себе же самой. Комментарий, принимающий форму размышления или второй истории, разбивает первую на кадры. Таким образом, чем более история нарезается, тем больше она похожа на акт наррации в чистом виде — повествование демонстрирует свои приёмы, в то время как метатекст задаёт вопросы, требует какой-то критики, предъявляет читателю претензии и вытягивает из него же комментарий [1].
Согласно Глюку, Новый нарратив складывался в обществе, состоявшем из представитель:ниц разных классов, культур, народов и сексуальностей, готовому к экспериментам. Это общество не было подавлено культурой потребления, уничтожавшей многие другие общества — оно, наоборот, вышло из культуры потребления [2].
Деннис Купер родился в 1953 году в Калифорнии. Долгое время он работал музыкальным журналистом. Вероятно, последний факт во многом и сформировал его подход к письму как к медитативной фиксации потрясения как новости, где никакой элемент не может ускользнуть из-под носа, а не как облагороженного эстетического переживания.
Тем не менее, самой первой ступенью влияния на поэтику Купера стал семейный микроклимат: его отец был крайне консервативен, имел серьёзные политические амбиции и даже дружил с Ричардом Никсоном, а мать, по его словам, вероятно, ещё более консервативная, была «психопаткой-алкоголичкой [3]». Это, наряду с бывшими тогда в разгаре субкультурами хиппи и панков (которые также нередко фигурируют в текстах), дало толчок его бесконечному бунтарству, открытой критике протекавших политических процессов, как, например, в цикле «Разные приключения Джона Кеннеди младшего».
В своём твёрдом стремлении к трансгрессии поэтика Денниса Купера также обращается к эстетике криминального мира. В интервью Ярославу Могутину Купер отмечает: «Когда мне было лет 12, я увидел заметку в газете о том, что в горах неподалёку от нашего дома были обнаружены трупы трёх голых мальчиков, 11, 12 и 13 лет — что-то в этом роде. Меня это ужасно возбудило. <…> Никто из моих друзей не мог понять, что я в этом нашёл, они все передёргивались, когда я начинал говорить об этом. Я знал, что я не такой как все» [4]. В текстах изображаются преступления и несчастные случаи, воспринимаемые далее только как часть окружающей действительности и никак иначе не оцениваемые: «…хот-доги пахнут / пластилином Плей-до, // какого-то мужчину / закололи / у туалета, / испанский смех, сдавленный, несётся / по пляжу» («Апрель в Венеции»).
Более всего на письмо Купера, среди прочих, оказали влияние Маркиз де Сад, Жан Жене, Уильям Берроуз, Джим Моррисон. Ранее творчество отмечено следом поэтики Джеймса Тейта. По строке из его стихотворения названа дебютная поэтическая книга Купера «The Terror of Earrings». Вслед за Тейтом Купер выстраивает повествование на стыке реального и ирреального, возводя изображаемое в абсурд и снабжая долей иронии: «Ореховые головы которые Клифф / привёз из Полинезии самовольно / суетятся на каминной / полке» («Вечер понедельника, май 1973-го»).
Кевин Киллиан, ещё один не менее важный представитель Нового нарратива, родившийся в 1952 году в городе Смиттаун, штат Нью-Йорк, является значимой фигурой этого направления и благодаря редакторской работе. Вместе со своей женой Доди Белами он составил антологию «The Writers Who Love Too Much», во многом посвящённую не только творчеству круга автор:ок Нового Нарратива, но и их рефлексии своих радикальных поисков, начатых в конце 1970-х. Название антологии очень хорошо передаёт установку (исследование сексуальности и границ телесности), общую и как для всех близких к этому движению автор:ок, так и для собственной киллиановской практики.
Работа эта у Киллиана проходит на разных уровнях: от условно поверхностного (н-р, текст «Отказываюсь от тебя», посвящённый натуралистичному описанию обрезания члена) до более глубинного: темы и мотивы, связанные с телесностью и сексуальностью, зачастую проникают в абсолютно, казалось бы, не связанные с этим сюжеты. Так, в конце стихотворения «Карманник» Солнце сравнивается с ребёнком, «которого / отвели за сарай и унизили». Развитию такой проблематики, скорее всего, способствует интерес Киллиана к фрейдизму и фигурам Сан-Францисского Ренессанса, особенно к Джеку Спайсеру, периодически становящемуся гостем киллиановских стихотворений. Стоит отметить, что Кевин Киллиан внёс значительный вклад в изучение жизни и Джека Спайсера. Вместе с Льюисом Эллингемом он выступил соредактором посмертно опубликованных детективных новелл Спайсера, а также написал его биографию («Poet Be Like God: Jack Spicer and the San Francisco Renaissance»).
Значимой особенностью поэтики Кевина Киллиана, которую нельзя не отметить, является его любовь к усложнению формы с помощью игровых приёмов. Так, например, у него есть цикл из двух стихотворений «Авраам Линкольн», разделённый на «Повесть об Аврааме» и «Повесть о Линкольне». Из имени 16-го президента США, разделённого на две части, возникают совершенно новые и практически не связанные с референтом сюжеты. Усложнению форму способствует и возможная нелинейность сюжета. Яркий тому пример — стихотворение «Пять лет на», текст которого, чем-то отдалённо напоминающий коллаж, словно составлен из случайных газетных вырезок.
О чём это может говорить? Возможно, о большей замкнутости практики Кевина Киллиана. Несмотря на китчевость его поэзии, смешение отсылок на Шекспира и Томаса Эллиота с цитатами из песен Дэвида Боуи или Кайли Миноуг, к нему всё равно как будто труднее пробраться, но если хотя бы попробовать взяться за это, то перед тобой предстанет один из самых чутких и интересных собеседников.
— Анна Сидоренко, Дмитрий Сабиров
Деннис Купер (р. 1953)
Пловец
Когда девчушка
в маске исследует озеро,
она трётся об Эрика,
месяцами
рассекающего глубины,
руки расправлены как крылья.
Его плавки в девять раз меньше нужного.
Но вот он вылезает на берег,
девки скорее глаза себе выколют,
чем окинут его
мечтательным взглядом.
В понедельник Дэйв зовет меня
на вечеринку,
целуя мою дурацкую пасть
новостями.
Проснувшись во вторник
я часами лежу,
думая о смерти,
после поднимаюсь на ледяные ноги.
Когда мужчины тащат Эрика
из озера,
вода волочится за ним
длинной мантией.
Уинчестерский собор
На задворках моей памяти есть лик,
похожий на витраж, что окидывает светом
мой лист. Имя ему Брайан Уинчестер. Он
моя заглавная тема, как «Бог» был темой
собора под этим именем. Если и трудно
представить такое сейчас, смотреть на блеск
его глаз было ещё труднее, хотя то, что я
мог разглядеть, было чудесно, cum laude [5],
буквально. Однажды ночью он сжался и мёрз
на сáмой колокольне ближайшей церкви,
звезда, сиянием своим отсекающая её от
ещё более неведомого небосвода, а после он
спрыгнул на мраморный пол притвора. Моя рука
шлёпается на землю. Коснувшись её, она выцарапывает
стихи, светящиеся изнутри. Вот бы они были
дорожками кокаина, а не пылью на том, что
я люблю, на окне, расцвечивающем комнату,
когда солнечно. По подобию его складываю стихи
я такие же лёгкие, как вослед ему чувства
свои. Как негры волокли камни на спинах
много лун подряд, чтобы сложить эту церковь
на горизонте, я потаскал немного свои слова,
а теперь осыпаю ими его, как рисом, когда
он заходит. Механический свет моего письма
из райского превращается в адский от любви,
окрасившей мои строчки. Брайан Уинчестер,
возвращайся домой. Тут тоже теперь будто собор.
Вечер понедельника, май 1973-го
Розы которые я бросил
в раковину на прошлой неделе
дальше живут без своих
тел будто никто не
желает вымыть им
голову.
Завтра когда горячая стройная Мишель
придёт она расскажет мне что
Эрик Браун пытается связаться
со мной из могилы.
Ореховые головы которые Клифф
привёз из Полинезии самовольно
суетятся на каминной
полке.
Я подкрадываюсь сзади и
спихиваю их в огонь.
Маленький мотылёк хозяйничает в
нашей спальне. Мы не можем
уснуть по ночам боясь что
к утру он умрёт.
Так продолжается месяцами.
Мы уже собираемся научить его
приносить нам сигареты.
После мы научим его говорить.
Справедливость
Папа говорит когда я сплю
мою голову заваливает кирпичами
и мне нужно с боем выкарабкиваться
из-под них.
Мама говорит всё золотое
чего у меня никогда не будет
навещает меня во сне, это как
прыжки по облакам.
Я говорю это один из их планов
чтобы я задержался в их доме.
Я думаю они подкидывают колёса
мне в молоко и когда я засыпаю
они тащат меня в
потайную комнату и бьют меня
палками.
Целуя свои мечты на прощание
(Сьюзи)
Жилой комплекс сносят.
Одиннадцать тощих парней-альбиносов
собираются вдоль улицы поглазеть.
Стены валятся друг на друга.
Парни стоят истуканами.
Мексиканка высовывается из машины
оценить парней и их величественную
красоту, «Они будто принцы».
Их глаза неотрывны от дестройплощадки.
Толстые мужики потеют и колотят кувалдами
пока одинокая стена не остаётся стоять.
Бордовые бархатные комбинезоны парнишек
дрожат на чикагском ветру.
У них будто вовсе нет чувств.
Падает последняя стена, а они
всё так же глазеют. Здание
в лепёшку, пыль оседает. Работяги
уходят домой с контейнерами для обедов.
Внезапно парни вздыхают, сгибаются пополам
от рвотных позывов. Парни целуют свои
мечты на прощание. Принцы-альбиносы
глотают свои языки.
Моя бабушка растёт
Я помню свою бабушку
в её изысканные пятьдесят,
тянущуюся к моей кроватке, сгибающуюся
только в талии как Белоснежка.
Её лучшие сказки просачивались каруселью
в мою комнату. Я катался на ней целый день,
потом усыпал, под шум ливня
её маленьких ножек в гостиной.
Годами я грезил о ней,
писал письма всё более
сухие и однотипные, так и вырос.
Вот она и одна, я распахиваю свои двери.
По утрам она вырывается из рук сна
как девчонка-утопленница;
какой-нибудь принц должен потянуться за ней
по законам всех мечт.
Днём она сидит над холодным кофе,
или лежит в темноте,
или ходит с этажа на этаж,
горбясь будто в пещере.
Ночью я веду её в мою комнату.
Она заводит свою карусель,
но та теперь серая как ксерокопия,
и я проваливаюсь сквозь неё.
#26
Джимми Стегмиллеру
Мне кажется что
каждый день стихотворение
задыхается в моих объятиях
соблазнённое чьим-нибудь лицом или жестом
Я помню ты говорил в своей любимой манере
как слепец расчёсывающий свои волосы.
Комната 304
Чуднóй парень из хора
моется в
этой комнатке.
Этажом ниже у лифта его
хор репетирует без него.
Их мясистые губы тянутся к небесам,
мечтая о поцелуйчике.
Его одежды сладко скользят по
гитарному грифу палисандровой шеи.
Воздух пахнет розами и ногами.
Я слышу как вздыхает вода.
Он напевает что-то нежное, старое,
надеюсь, его бог не пытается прибрать его к рукам
прямо сейчас.
Апрель в Венеции
зима разбросала пену
на тротуарах, весна
жуёт пузырьки,
солнце звенит колокольчиком
над головой, хот-доги пахнут
пластилином Плей-до,
какого-то мужчину закололи
у туалета,
испанский смех, сдавленный, несётся
по пляжу.
(пер. Анны Сидоренко)
Кевин Киллиан (1952-2019)
Карманник
Прошлой ночью, насвистывая, я прошёл
по их проулку, видел их
в мерцании света сбоку от
тачки, быстро пронёсшейся, затем
пошёл домой. Грезил о
золотых небесах, чёрной выручке. Ощущал
себя полным тупицей, говорить
о них кажется тупостью. Я
зловещее Красное Солнце.
Бернадетта высовывается из окон
съёмного жилья, моряки всё ищут
мир за миром для
Бернадетты, и руки её
черны, её вытянутые
с подаянием ладони молочно-белы.
Монеты с них падают
легко в карманы карманника.
У карманника рябое лицо, его
руки рябые. Я бросил
его лицо в озеро, чтобы
оно пошло рябью, он курит сигару
до раскалённой рыжей дыры в
лице, до сияния. Ночью
Солнце — ребёнок, которого
отвели за сарай и унизили.
Корнелл Вулрич [6]: Невеста была в чёрном
Свет города мельтешил под ним, как блестящие спицы искривлённого колеса. Невнятно очерченная, жемчужная луна, казалось, стекала с неба, как раскалённая тапиока, подкинутая в ночь космическим комедиантом. Он зажёг после-танца, дожидаясь-её-вместе-с-ней сигарету. Ему было хорошо смотреть свысока на город, который чуть не отметелил его. «Теперь всё путём», подумал он. «Я молод. У меня есть любовь. Куда дальше, давно понятно. Остальное приложится».
Слабое искусство [7]
не кроется в минуте, скорее, оно торжествует в часе,
в пространстве преобразований.
Оно делает всё без спешки на этом смятом сухом ложе, что сотворишь ты, как влагу сфер,
Мокрый матрас, дикий чабрец, кориандр, сырость и немоту.
Шекспир сказал, «проповедь — в камнях, в ручье
текучем — книга» [8], выбирайся из дому почаще, кажется, он призывал нас,
сходи пробздись —
как Дж. Ф. Кеннеди своей борьбой за стройность, за молодёжь.
Один взгляд на забитую парковку любой средней школы скажет нам, что случилось
со старой доброй прогулкой до школы, укреплявшей молодые тела...
Слабый американец
Его дряхлой спине нужен секс по шесть раз на дню, чтобы стало легче.
Джонатан Уильямс [9]: ушёл рыбачить
По натоптанным тропам гулял мой пёс, о восточный ковёр царапая хвост. Эй, парни, давненько я не катался, как сыр. Уильямс сделал мне потрясающий подарок, отпечаток его фотографии Джека Спайсера в джинсах и военной приталенной куртке в 1953-м, стоящего, как плотогон на плоту, плывущему по Эри-каналу. Это было где-то рядом с Форт-Брэггом, штат Мендосино. Спайсер наблюдал с берега, будто Джон Аллен Райан, его одежда висела на боковом зеркале грузовика, скакавшего в сумерках.
Пять лет на
войне, которая никогда не кончится
я слышал звонки, оперный театр, любимые мелодии [10]
США по 30 миллионов за акр они говорят
об освобождении рудника с чистым золотом,
и распроданные побрякушки от торпеды
Выбирайтесь из орлиного гнезда, продано
Немо, со своим скользким кожаным костюмом в обтяжку,
я целую тебя, я хочу, чтобы ты ходил
есть два прекрасных довода, которые ты разглядишь,
Подводный
Отказываясь от тебя
Он был мужчиной, сделавшим себе обрезание,
ножа жаждущим, поднял свой халат
в длинном, тусклом коридоре больницы, с лезвием в одной руке,
провёл искусной рукой по члену, и вот
кровь брызнула на белую плитку больничной стены, поверх
магического граффити «Rex quondam, rexque futurus» [11]
Теперь его член меньше, зато больше само-
удовлетворения.
Череп, украшенный драгоценностями
В своём новом шоу Кайли [12] спускается к сцене верхом на черепе, огромном черепе, сталкивающем публику с её смертью, черепе, мерцающем тысячью лампочек. Она присела наверху в красном, напевая «Like a Drug». Нас озадачивает, что всё это значит, как она развалилась на верхушке купола черепа и пыталась быть сексуальной, когда она только отошла от трёхлетней борьбы с раком. Это её триумф над смертью? «Смерть, не гордись» [13], и т.д. Тем временем череп ухмыляется от уха до уха, точно как череп за 100 миллионов долларов, который Дэмьен Херст [14] помещает на обложке «Артфорума».
Череп, украшенный драгоценностями, ты опять лишаешь меня надежды. Я вожу кончиками своих пальцев по коже на голове, нащупывая их внутри. Когда меня не станет, сбереги мой череп и отложи в холодильник.
(пер. Дмитрия Сабирова)
[1] Glück R. Long Note on New Narrative. URL : https://poets.org/text/long-note-new-narrative.
[2] Op. cit.
[3] «Я с детства представлял себя маньяком-убийцей». Интервью Ярослава Могутина с культовым американским писателем-ренегатом Деннисом Купером. Митин журнал. URL: http://kolonna.mitin.com/people/mogutin/cooper.shtml.
[4] Там же.
[5] Cum laude — с почётом, как награда (лат.)
[6] Корнелл Вулрич (1903-1968) — американский писатель, автор произведений в жанрах детектив, триллер и нуар. Публиковался под псевдонимами Уильям Айриш и Джордж Хоупли. Подсчитано, что по его книгам снято больше фильмов в жанре нуар, чем по книгам любого другого автора. «Невеста была в чёрном» — это название его первого романа, опубликованного в 1940-м году.
[7] Название отсылает к статье Джона Кеннеди-младшего «Soft American», в которой 35-й президент США выразил свою озабоченность ухудшением физического состояния американцев, рассказал о важности фитнеса для развития потенциала «целостного человека» и будущего здоровья страны, а также подробно описал свой план, согласно которому фитнес станет одним из основных направлений работы его администрации.
[8] Фрагмент из пасторальной комедии Уильяма Шекспира «Как вам это понравится» (пер. Т. Щепкиной-Куперник)
[9] Джонатан Уильямс (1929-2008) — американский поэт, издатель, эссеист и фотограф. Известен как основатель «The Jargon Society», в котором с 1951 года публикуются стихи, экспериментальная художественная литература, фотографии и народное искусство.
[10] Строчка из песни Дэвида Боуи «Five Years»
[11] Эта латинская фраза якобы была высечена на гробнице Короля Артура в Гластонбери, согласно книге сэра Томаса Мэлори «Морте д'Артур» 21:7. В полном переводе эта фраза звучит так: «Здесь лежит Артур, король некогда и король в будущем» — или, как так лаконично переводит Т.Х. Уайт, «Король некогда и в будущем».
[12] Имеется в виду Кайли Миноуг (р. 1968) — австралийская поп-певица, автор песен и актриса.
[13] Название одного из сонетов английского барочного поэта Джона Дона (1572-1631), дано в переводе Самуила Маршака.
[14] Дэмьен Херст (р. 1965) — английский художник, предприниматель, коллекционер произведений искусства, а также самая знаменитая фигура группы Young British Artists. Кевин Киллиан отсылается к его работе «Бриллиантовый череп» 2007 года
Cовременная эстонская поэзия (в переводе Елены Скульской)
В эстонском языке у каждой гласной есть четыре разные длины, меняющие значение слова, есть расширение латиницы за счет умлаутов — Ö, Ä, Ü — это загадочные клейкие, ласкающие звуки; воспроизвести их почти невозможно, — почти как предложить Гильденстерну сыграть на флейте.
Сплошные игры, переливы ассонансов, предлагаемые самим языком, без всяких поэтических усилий создают структуру речи, словно заведомо предназначенную для стиха.
Нуждается ли этот язык в прокрустовом ложе размера и рифмы? Что ж, порой и на полотне абстракциониста вдруг появляется вполне узнаваемый профиль, но он капризен, как форма облака, и может в любой момент обмануть, превратившись в непознаваемое цветовое пятно.
В эстонской поэзии позволено всё — она совершенно свободна от каких-либо обязательств, даже графических. У нее есть любовные, эротические, почти физиологические отношения с бумагой, на которой она существует, и только одно требование — предельная, до достоевских откровений — исповедальность.
Переводные стихи редко волнуют читателя (если речь не идет о драматургии), ядовитый привкус чуждости, чужеродности мешает откликнуться на них, предвещая обман.
Сделать их при переводе совершенно русскими — бессмысленно — это как бы паразитировать на чужой любви, не имея собственной: быть всего лишь дуэньей, конфиденткой, подсматривающей в замочную скважину истинного чувства…
Оставить их при переводе совершенно эстонскими — отрицать законы собственного языка, собственной поэтической речи, фактически, перелицовывать пиджак: изначальные прорези для пуговиц будут выдавать нищенские усилия.
Думаю, нужно браться за переводы только тех стихов, чья тайнопись тебе понятна, чей шифр тобой разгадан: ты возьмешь эти стихи, как детей, за руку и переведешь сквозь поток машин на другую сторону улицы — в свой язык.
— Елена Скульская
Юхан Вийдинг (1948-1995)
* * *
длинной-длинной совершенно белой ночью
прилетят ко мне на огонь учителя бальных танцев
и каждый попросит у меня монетку на счастье
только я не наберу и половины денег
я тогда отошлю их к тебе в тот старый домик
где ты живешь до сих пор я почти уверен
пусть попросят они у тебя монетку на счастье
потому что для расплаты всегда нужны двое
ПЬЕСА
Это было перед началом четвертого акта,
Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака.
Это было перед началом четвертого акта,
Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака.
Я стоял за сценой перед последним выходом,
И ждал своей очереди, как вдох за выдохом,
А он подошел ко мне, будто бы нехотя, мешкотно,
И спросил меня со странной усмешкою:
Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой,
Ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой…
Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой,
Выводили тебя на сцену как будто бы на убой…
Я ответил ему, что было таких четыре,
Когда артисты со сцены меня на руках выносили.
Я сказал ему, — в общем, было четыре роли,
Когда меня убивали артисты в конце истории.
И сам я спросил у него: к чему же такие вопросы —
Либо публика нас на руках несет, либо могила уносит.
И сам я спросил у него: к чему такие вопросы —
Либо публика нас на руках несет, либо могила уносит.
Он ответил с усмешкой, что есть такая примета,
Если на сцене умрешь, то и в жизни невзвидишь света,
Если на сцене умрешь, то уже поминай, как звали –
Не вспомнят и не отыщут и не найдут в завалах.
Быть беде, Юхан-бой, говорил он и улыбался…
Как медленно сцена шла, и занавес опускался…
Мы встретились с ним глазами, когда закончилась пьеса,
Мы кланялись, и на сцене обоим хватило места…
***
перед тем, как сняли крышку гроба
перед свежевырытой могилой
музыканты отыграли дважды
он рукой чуть-чуть подправил галстук
бороду пригладил
и конечно
губы облизал
когда же крышку
тронули уже
успел он руки
на груди сложить
и только сверху
положил он правую но эту
мелкую неточность не заметил
ни один, кто был причастен к смерти
Юку-Калле Райд (р. 1974)
* * *
Хочешь, я буду спать с тобою, бумага?
Даже если ты — последняя и самая уродливая страница,
а другие, юные номерами, уже истерзаны.
Хочешь, и ты переспи со мною, бумага!
Потому что я человек широких взглядов
и не спрашиваю — кто с тобою был до меня…
Хочешь, я прижмусь к тебе ртом, бумага!
И запомню движение пули, обжегшей того,
кто уже комкал тебя своим ненасытным ртом.
Хочешь, я проникну в твои волокна
для зарождения новой жизни,
готовой извергнуться из моей дрожащей шариковой ручки?
Хочешь, я буду любить тебя, бумага?
А в ответ не просить никаких от тебя обязательств,
все равно вряд ли поверху кто-то напишет...
Хочешь, я подпишусь под тобою, бумага,
не читая, не думая вовсе о том,
что принесет мне написанное?
Хочешь, плюнь на меня, бумага,
разотри, прогони, приму со смирением,
потому что, моя ненаглядная,
Я —
твое
стихо-
творение.
***
Дыханье воздуха
И в нем еще одно
дыханье воздуха сокрыто и согрето
и дышит воздухом
и дует мне в лицо;
в моем лице намечена примета
лица другого…
Может быть твое
Лицо в моем прочерчено любовью,
Когда внутри любви, под общей кровлей
Дыханье смешано —
Мое или твое...
В уходе каждом тысячи утрат,
Приход немыслим, ибо ожиданье
Скорее станет вечным расставаньем,
Чем разрешит увидеться…
Стократ
Сосчитано дыхание,
Но мне
Не сосчитать ни выдоха, ни вдоха
Внутри огромных цифр живет эпоха,
Но сложена из наших мелких дат.
Маарья Кангро (р. 1973)
КОСТИ
I
я тебе говорила, что так бы тебя и съела, не знаю, в какой мере это аллегорично, я бы лакала кровь из маленькой лёгкой ранки, потом бы тебя, конечно, я отвезла в травмпункт, набрала бы 112 (экстренный вызов), а все-таки мысль о сатурне, гложущем голову сына, приходит в голову с гойей, но всё это так безвкусно, и я бы тебя нарастила, как прометееву печень — так, что ни травм, ни памяти, и все-таки эти запястья, тонкие кости запястья, даже комар наливается красным, а я не меняю сути, но сказать, что кого-то съесть невозможно, тоже было б неверно —
II
ты сказал, что ундер ведь умерла, ах, бедная марие! кости! кости! кости! кости! кости! они говорят, что земля теперь лучится иначе, вибрирует под ногами, corpi gloriosi — прославленные тела, превосходные скелеты плещутся в превосходной земле, чистота, чистота! они говорят, что именно так ей и хотелось, что точные координаты места были для нее фетишем, я не знаю, мне так жаль, уловленных петлей многозначительности — если освободить от петли — то что же будет с тем, кто ее накидывает? останки пьера абеляра, говорят они, раскинули руки для объятий, когда прибыл труп элоизы, а вот кому-то другому досталось бы на орехи —
III
кости являются национальным достоянием, тело – это фетиш родины, сказал прелестный военный стихотворец и был укушен комаром, укус был ядовитым, отрава привела к смерти, «если я умру, то думайте обо мне только одно – что где-то в чужом краю образуется место — навсегда принадлежащее английской земле», послушай, руперт! руперт! да ладно тебе! c’mon!
IV
и я думаю: разве мало им было имени, марие ведь красивое имя, фамилия, имя, в таком порядке, «хейз, долорес», да, когда я вижу твое имя таким вот образом отслеженное, заключенное в тюремный порядок списка, начинает на нем нарастать плоть, вены, кровь, сухожилия, у имени есть свои изгибы и угловатые кости, с именем можно даже почти что трахаться, почти что, и кровь пробивается толчками согласно арифметической последовательности —
V
а вот лука показал мне однажды оссуарий, легкий снежок покрывал землю, у некоторых черепов сохранилось помногу зубов, черты лица великодушны, мы видели речевой аппарат святого антония падуанского, коричневатые высохшие волокна плоти в кафедральном соборе, в сингапуре хранится зуб будды, сказал он, но мы не отправились в сингапур, и следы пота иисуса есть повсюду, фетиш — это ведь сохранность, простенький потенциал, магия будущей тьмы, отложил в сторону судьбоносные яйца, мы должны были жить до ученичества —
VI
флаг развивается, corpo glorioso гудит —
VII
как ты думаешь, стала бы марие разглядывать со мною картинки из города мертвых варанаси — с останками священников, с разлагающимися ягодицами, плавающими на поверхности ганга я когда-то смотрела время от времени, укрепляла свое представление о человеколюбии, свое человеколюбие, вкус; мы бы кайфовали, нарушая принятые нормы, это был бы такой дзен-побег, и без того красивое тело увядает, превращаясь в красивую субстанцию, в огонь, в воду —
VIII
государственные кости никогда уже не прирастут к нам, я играю с твоими ключицами, я как раз тот самый маленький человек, обыватель, в кошельке у меня карточка, когда я умру, то пусть исследовательская наука расчленит меня на кусочки, поделит на части, которые могут пригодиться, но, вероятно, кости не пригодятся; я — маленький человек, мне хотелось иметь твою футболку, а вдруг кто-то обольет ее бензином, ах, вязкая грусть сингулярности, крепок фетиш маленького человека, цельнокроен, не гудит, тлеет —
IX
так я начинаю себе почти нравиться, представляя себе огненную скорбь сингулярности, будучи фетишисткой, создаю вокруг себя ненадежный покой; не стоит принижать и нарцисса, нельзя быть уверенным в том, что он увидел на поверхности воды —
X
золотисто-зеленая муха движется по куску мяса, грудная клетка поднимается и опускается
ВЕТЕР
(ПЕСНЯ ОБЛОМОВА)
ветер может
где-то согреться
меняется атмосферное давление
молекулы перемещаются и суетятся
это все тот же воздух
всё та же атмосфера даже если и победнее
творческие люди
стоят подставив лицо ветру
на плакатах
с развевающимися волосами
ветер старой болтовни
словно добросовестный авангард юности
марширующей в неизвестность
которую мы давным давно
видим насквозь
пережевывая свои подержанные
почетные звания
новые веяния (pluralis majestatis)
да ветер попискивает альтернативно
в гараже
словно крыса
ветер носит
в дантовом аду паоло и франческу
умалишенная рука — ничего святого
трясет калейдоскоп
расшвыривая старые осколки
безумное беспокойство
пятно на крыше старого сарая
перерезает горло
дневная тень корней
проходит сквозь грудную клетку
машина срывается в море где оба
маленьких рассерженных возлюбленных
тонут
это перемена точки зрения
а не что-то новое
бессмысленная перестановка
от старых вещей порой
до боли вспухают вены
ветер не делает нас умнее
это всё лепет старого бога
глоссолалия бытия
стенания вселенной
жизнь подает голос
убеждаясь в своем существовании
будь благословенно зловещее
безветрие
Ян Каус (р. 1971)
В СТАРИНУ САМОЛЕТЫ ЛЕТАЛИ НИЖЕ
В старину самолеты летали ниже
И над улицей парили мужские шляпы
И дамы носили крахмальные нижние юбки
И даже древние стены
Достраивало воображение
И никто не спешил разрушить
Наши воздушные замки
И краски были цветные
А теперь
Всего
Стало больше
И беда настигает скорее
Свою случайную жертву
***
На траве лежит человек. Люди проходят мимо. Мне из окна не видно: пьян человек, мертв человек, или — и то и другое. В двух метрах от человека девочка торгует открытками. Изобильно-цветные виды Таллинна. Красив, возвышен, широк. Ни пятнышка на старинном обличье. Спрашиваю: давно ли здесь лежит человек. А я почем знаю, — отвечает девочка. Не пьяна ли она, — задаю я вопрос. А я почем знаю, — отвечает девочка. Я спрашиваю: а что вы вообще знаете. А я почем знаю, — отвечает девочка. Мне захотелось облить красивый начес девчонки каким-нибудь жутким вонючим ядом, но я сам остановился именно что в двух метрах от лежащего на траве человека. Я ведь не убивал его. Я захожу в дом и звоню в полицию. Приезжают через полчаса. Я прикидываю: человек может быть важным дипломатом с важнейшим кодом на внутренней части слухового канала. Или спортивной знаменитостью, рожденной на Бермудских островах, у которой было тяжелое детство. Мало ли что еще можно себе представить. Выясняется, что человек пьян.
***
Это как с домом возле железной дороги. Пока поезда ходят, можно отправиться всей семьей к бабушке в деревню и останавливаться на каждом полустанке, а дом будут встряхивать проходящие вагоны. А когда поезда не ходят, нужно добираться автобусом — тесным и по-летнему душным. У мужчины, сидящего впереди, могут волосы оказаться жирными и потными. Жидкими. Покрытыми перхотью, как сахарной пудрой. Нет, нужно покупать машину. И все-таки – дом не так-то просто разрушить. И в конце концов, понимаешь, что громыханье вагонов действует под вечер убаюкивающе…
Трийн Соометс (р. 1969)
***
Письмо любовниц
У нас нет больше сил заботиться о ваших мужьях
сделайте хоть что-нибудь сами
дайте им любовь
кажется они ни в чем так не
нуждаются
верните их заберите себе
навсегда
большинство из нас не родилось
любовницами
многим хочется иметь
собственную семью
и не с вашим мужем
кто ж лучше нас знает как они
умеют лгать
забирайте
они безвольны и не хотят
перемен
некоторые даже любят вас
все на что они способны нам
известно до донышка
возвращаем безвозмездно
мы получили
сполна
годами мы вам
повторяем:
большинство из нас хочет иметь
собственного мужа
а вовсе не вашего
нам не хочется идти без
спутника
одной
на президентские приемы
ездить в отпуск
и отправляться в гости
разуйте глаза
помогите нам
мы ведь почти родственники
несомненно сёстры
нам хочется того же что и вам
многие из нас подписываются
- - - - - - - -
/256 подписей/
* * *
мой ребенок обернулся помедлил немного и родился кому-то другому ему теперь уже пять лет и я иногда вижу его на детской площадке на улице Х он тоже видит меня но не подходит
не кричи сказала устало мама ему не кричи прекрати наконец кричать но я продолжала кричать двадцать лет пока не пришла любовь и не перекрыла кислород
мне хочется быть откуда-то родом хочется тосковать по какому-то месту по каким-нибудь там деревьям дорогам облакам поздним вечером чтобы я была откуда-то а не сама по себе
что с тобой происходит спросил отец голова разрывалась на части, крошились колени и все остальное тоже
мой ребенок обернулся упал в расщелину возник в другом совершенно месте я пишу для него рассказы чтобы ему было куда хотеть вернуться и чтобы он был откуда-то родом и не был сам по себе
Вероника Кивисилла (р. 1978)
***
Томми…
здравствуй!
Честно сказать, я точно не помню
как давно мы друг друга не знаем
но сохранились старые фотографии
я их перебирала:
у нас было общее детство
и ты —
моя первая любовь
первая пчела
жужжащая и танцующая
вокруг меня
руки в бóки
и отважные крылья
у тебя за спиной
а я была ромашкой
я наклонялась
как и положено в детском саду
когда играют в пчелу и ромашку
в слишком короткой юбочке
и байковых трусиках
а потом я приседала
(следующий раз я так глубоко приседала
двадцать лет спустя
когда готовилась к родам...
кстати у меня двое детей —
а у тебя?)
привет!
а Томми выйдет?
спрашивала я
забравшись к вам на пятый этаж
я жила в соседнем подъезде на третьем
а ведь это совсем
другое дело
тенниски и ветровка
как я сбегала ловко
в бантиках и косичках
в мир полный трелей птичьих
мир дожидался встречи
с нами и теплый ветер
нам предлагал соседство
у нас было общее детство
самые лучшие деревья
подставляли нам ветки
особенно мы любили
тенистую листву каштана
оттуда мы подсматривали
за старухой Разумовой
(само ее имя дышало опасностью и угрозой)
самая настоящая Баба Яга
(она наверное и правда ела детей)
Томми — вдруг ты помнишь? —
там на ветке каштана ты научил меня новому слову
которое услышал наверное
от Пеэтера
он был старше и у него был велосипед «Орлёнок»
и прическа под Макгайвера:
пизда!
Мы были еще совсем детьми
и не знали значения этого слова
но я тебе поверила когда ты сказал
что звучит оно превосходно
и означает: мы — крутые!
И весь вечер мы твердили
пизда пизда!
словно заклинание или боевой клич
у нас было общее детство
и за кустом жасмина
не отдавая себе отчета
зачем мы это делаем
мы впервые поцеловались
и первый поцелуй был не только
тёплым и сладким
но пахнул еще и стыдом
потому что нас увидели
и ЗАСМЕЯЛИСЬ
мы тогда спрятались
у тебя дома
под одеялом на диване
наполненные нежностью и стыдом
там нас нашла твоя бабушка
и сказала:
как хорошо что вы играете дома
твою бабушку звали Халдья!
И мне хотелось бы называть ее и своей бабушкой
чтобы стоять под окном и кричать:
ба-бу-ля! ба-бу-ля!
а потом искать в высокой траве
мелочь
которую она бросала на мороженое
Томми
ничего этого больше нет
потому что я даже не помню
твоей фамилии
но однажды в детстве
я была цветком
и ты был пчелой и тебя тянуло к цветку
и может быть в нас что-то осталось
от той пчелы и цветка
ВСЕГО ХОРОШЕГО!
И этот день и эта история начались в поезде
в поездах часто встречаются дни и истории
группа детского сада ехала в город
и одна воспитательница
которая точно знала в чем
долг воспитательницы
этому долгу служила:
Я ТОЛЬКО ЧТО СКАЗАЛА: НЕ ВЕРТЕТЬСЯ!
НЕ СМЕЯТЬСЯ!
МЫ НЕ КОВЫРЯЕМ В НОСУ!
ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО СЕЙЧАС ИСКАТЬ В СВОЕЙ СУМКЕ!
ПОСЛУШАЙ, НУ-КА ОТВЕТЬ МНЕ, ЧТО ТЫ ПО-ТВОЕМУ ДЕЛАЕШЬ?
НЕМЕДЛЕННО ОТДАЙ ЭТО МНЕ!
ТЫ ЧТО СОВЕРШЕННО ОГЛОХ?
И дальше — особенно громко:
НЕЧЕГО ТАМ ШЕПТАТЬСЯ, МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ
ВЕСТИ СЕБЯ В ПОЕЗДЕ ТИХО!
Примерно двадцать детишек-бабочек в желтых блестящих жилетах были так хороши
потому что ведь желтые бабочки нам обещают лето
тёплое и золотое
теплое золотое лето
теплый золотой день...
спасибо что сели в наш поезд
всего вам хорошего!
прозвучал привычный женский голос в записи
который всегда завершает поездку в поезде
и дети с радостью повторяли:
спасибо что ехали в нашем поезде
всего вам хорошего!
и только мальчик на толстовке которого
была надпись
PROBLEM CHILD
спросил внезапно:
что это значит — всего хорошего?
Я ВЕДЬ ТЕБЕ СКАЗАЛА ЧТОБЫ ТЫ ПОМОЛЧАЛ!
одернула его воспитательница
и была очень довольна своим ответом
какие бы вопросы ни задавали ей дети
она по счастью знала
как устроен мир!
МЫ ЗДЕСЬ ВЫХОДИМ!
НУ, ДАВАЙ! ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ! ОТ МЕНЯ
НИ НА ШАГ!
Воспитательница собирала детей в стадо
и они шли… и они шли...
этот проблемный мальчик задавший вопрос
и девочка с розовым ранцем
с надписью WILD PRINCESS
желтые дети-бабочки
все проблемные и невоспитанные...
всего вам хорошего!
пожелала я мысленно
вы еще обязательно узнаете
что значит «всего хорошего»
и вы наберетесь смелости спросить и дождаться ответа!
я обещаю
да так и будет
сегодня завтра и всю вашу жизнь:
много всего хорошего!
Тоомас Лийв (1946-2009)
ДААН-1609
ПЭЭТЕР ПОЛОЖИЛ ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ НА РЫЧАГ И СКАЗАЛ ПОШЕВЕЛИВ СВОИМИ СЛАВНЫМИ ЧЕРНЫМИ УСАМИ
будет совершенно замечательно если вся наша планета превратится в один цветущий яблоневый сад исчезнут
бедность и страдание повсюду посадят деревья
и кусты и цветы и для людей построят большие
тосканарии где будут лифты телефоны и телевизоры
стенные шкафы и даже облака будут разгонять над нами
чтобы всегда светило солнце пустыни превратят
в поля и тундра покроется ухоженными пастбищами
все может быть замечательным но неужели непременно нужно уничтожить всех птиц и разве действительно нет другого выхода
СПРОСИЛ ПЭЭТЕР ПОЩИПЫВАЯ УСЫ
надо бы нам все-таки немного подумать и о птицах
которых мы начнем убивать мы должны подумать о том
что ведь и они хотят жить и некоторые из них
поют очень красиво
ДОБАВИЛ ПЭЭТЕР
я боюсь что жизнь в этом яблоневом саду в который мы превратим нашу планету не будет все же счастливой
поскольку души этих миллионов убитых птиц
рассядутся вместо яблок на ветвях яблоневых деревьев
и представьте когда мы пойдем осенью собирать
яблоки то вместо яблок принесем домой в корзинах души убитых птиц что же мы будем делать
мы не сможем их есть как яблоки нам придется их
отнести в подвал или положить себе под подушку но
там они не найдут покоя и по ночам
мы будем просыпаться от кошмарных фантомных болей
словно будем слышать пенье нами убитых птиц
за окном во всяком случае я боюсь что мы не сможем
спокойно спасть в большом яблоневом саду
СКАЗАВ ЭТО ПЭЭТЕР ЗАЛОЖИЛ СВОЙ ХВОСТ ЗА УХО И УШЕЛ В ДРУГУЮ КОМНАТУ
*
это мое темно-красное сердце
оно пробито пулей навылет
а это мои цветущие яблони
они разорены налетевшими пчелами
а это моя кровь которая
течет течет течет и течет
бесконечным потоком в сторону моря
потому что кровь моя очень больна
наполняет речные воды
а это мое лицо
и синее небо над морем иссиня-синим
вот я стою на виду у всех и каждый может ко мне прикоснуться
и все считают меня своим
и в конце концов я должен быть одним
из вашей
косматой стаи
И ЭТО ТАК ТРУДНО
Трийн Пая (р. 1990)
ДЕРЕВЯННАЯ
ПТИЦА
вечер. деревья
прядут
нити
тени.
человек
с глазами Кафки
поднимается
из зарослей
душистого
тысячелистника.
я,
сидящая у подоконника,
кажусь
издалека маячком,
всё
безымянно,
описывать
чье-то тело
можно
только на ощупь, вслепую.
Я
слепая, вырезающая из дерева
птицу.
Глаза
Кафки сияют
вереском-медоносом.
В его
волосах прячутся цветы
яблоневого
сада.
Его
вены могут блестеть
как
реки, как снег
в
Пекине. Он исчезает,
белое ведро
покачивается на руле велосипеда.
мое тело перебродило, и я никому
не предлагаю
ликера, в которое
оно
превратилось,
или
темного меда,
накопленного
в изобилии.
я
просто сижу и держу в своих руках
блёклую
рюмочку.
знаешь
ли ты, что тяжелее всего удерживать в руках
пустоту?
ВСЁ
ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ
сегодня,
под влажным мрамором неба,
птиц
из моих волос выдувает ветер.
вспоминаю
комнату, где моя вода
серебром отливала, словно стайка рыб
дарила ей цвет своей чешуи.
именно там я поняла, что в близости есть
что-то от той тоски
которую чувствуют стреноженные
кони. твоя кожа долго источала запах
уснувшего куста малины.
твоя кожа – словно окно в подвал –
была облеплена крылышками бабочек.
но память схожа с водой,
застоявшейся
в ведре:
она
не течет, она недвижима. только тени
колышутся на ветру. мои руки –
ты должен об этом знать –
начинают болеть, если они
отдают недостаточно.
до чего же легко
сложить
из ладоней чашу.
как
легко протянуть наполненную чашу тому,
кто ждет. как легко выйти в поле,
подойти поближе к закату, чтобы он
принял меня как одну из страниц
своего огромного алого тома,
я бы там набрала для тебя немного света.
руки мои забывают уже звучание
прикосновений. сегодня мне осталось
только прикосновение дождя,
его клейкие крылья
навязчивой мошкары.
Экспериментальная итальянская поэзия: от неоавангарда до наших дней. Часть 2 (в переводе Ольги Соколовой)
Настоящая подборка представляет собой продолжение первой части «Современной экспериментальной итальянской поэзии, вышедшей на "Флагах"». Если в предыдущей подборке были представлены тексты поэтов, ставших классиками итальянского неоавангарда, и близкого к нему круга авторов, то во второй части собраны тексты современных поэтов, которые развивают различные направления языкового и поэтического эксперимента в наше время.
Объединить разные периоды языкового эксперимента и представить более широкий охват текстов итальянской поэзии ХХ — XXI вв. планируется в дальнейшем, в антологии современной итальянской экспериментальной поэзии.
— Ольга Соколова
Мариано Баино (1967)
в этой сказке-ошибке теперь ты бежишь ( ) c тянущей болью в ногах
героя на нитках ( ) ты в синеве ( ) экранов коридоров, внутри сетей
умноженных, где мир в движении ( ) электронный легкий чтоб развеяться
по вездесущим линиям ( ) ты среди вестников ( ) немногословных, что возвращают
уму легкость ( ) и твои луны ( ) все луны, о которых ты просил
с научно-фантастическим желаньем ( ) с глазами нежными ( ) осла, что не находит
и ищет ( ) повсеместность света ( ) по биту в каждой единице ( ) нежности,
вот здесь, чтобы не выйти ( ) в темноту суровый как Кинг Конг ( )
ты пятка ( ) что источена, бежит ( ) в большие ( ) сети, где твое место, ты
счастливая резина, что скачет ( ) как на захваченную землю индейцев, на запад
железных дорог ( ) для возможной ( ) поездке по честной цене ( )
последний ( ) ответ на бездонность вопросов: кто мы ( ) откуда ( ) куда мы идем
сколько даем ( ) дорога в будущее ( ) киберпакт ( ) между машинами
и молодежью, пиноккио ( ) хакер, сделает ( ) сфинксов ( ) киберруинами,
коды ( ) для входа туда, куда вам не следует ( ) хаос наступит ( ) в уме одиноком
без правил ( ) и теле без опыта ( ) улыбаясь ( ) в ответ на улыбку мордашки
среди сотен улыбок [1] ( ) с двоеточием ( ) глаз, с этой черточкой –
носом, скобкой – ртом ( ) что заметен при повороте направо ( ) листа :-)
смешок ( ) пред бесконечностью ( ) скопленье ожиданий на пороге ( ) перед
недостижимостью пространств, пиноккио, сейчас не время ( ) первый пушок
и мысли ( ) веселье перед ( ) твоей технологической судьбой, твоей эпохой
которая, как всякая эпоха канет ( ) по-своему и со своим ( ) искусством
в небытие ( ) пиноккио ( ) я забываю о тебе в экстазе как на качелях
на плечах блондидок-клонов Мэрилин ( ) изъятой из могилы
пластмассовой ( ) бедняжка ( ) синюшно ( ) цифровая, поднятая как
повязка ( ) что улыбается в киберпространстве в заплатах тел ( ) других
с компьютера ( ) монроподобно ( ) что завершают эту цифровую синтетическую
сказку, пиноккио ( ) ах, если б это было ( ) может, это было ( ) возвращение
воображения, ритм новых ( ) заблуждений и иллюзий
для бревна ( ) кривого ведь это мы ( ) кривые лодки что мечтают ( )
плыть прямо ( ) пиноккио ( ) к прекраснейшему ( ) смыслу всех вещей ( ) о
пиноккио, ты просишь ( ) больше не кадрировать твою историю на слайдах, холодных
аппаратах ( ) необходимых ( ) для калибров контуров наклонов ( ) неравенств
ритмы краткость жестов ( ) почерка ( ) и одного потерянного, что дрейфует ( ) в самом
грязном из местоимений ( ) я передо мной ( ) твоя фигурка исчезает
в дверном проеме ( ) а кошка входит ( ) ее тень выходит
(из книги «Пиноккио (кадры)», 2000)
эдгар морен (столетняя свеча)
если бы эта записка могла поймать ветер парусом ловким
удлинить якорь стать частью мира сотканная не из я и я
хотя бы тот кто дрейфует пробкой внутри горькой
нехватки поэзии горькая жизнь бесконечных миров
и расчетов но толика праздника в честь красоты есть
в ничтожности и в растворении в водоворотах
мама миа если искусство когда-то не устояло перед
злобой-водой жестокой черной бесконечной
если бы кончились звуки слова что поведали малое
о боли желании, остался ли бы рикошет солнца в лицо?
2023
Мария Грация Каландроне (1964)
◌ — незабываемым
итак ты занимаешься вручную:
с растерянными звездами — как
упорядочить непроходимую материю
в начале всех начал нанизать звезды и связать их нитью
слез – как воссоздать пары светил: по двое
они уходили по небосводу, цельные,
без разрушения — материя знала,
что делала,
довольно
вращаясь вот так
о-сле-пля-ю-ще
— o —
и замерев вот так, когда настало время,
в немой черноте сотворенного
потом были вспышка и атмосфера — и с ними па-
дение
небосвода:
ах! огонь
крематория, язык
раздвоенный, торчащий среди бледнеющих
обломков
клятв
{грохот от истоков бытия и грохот домашней
посуды, что наполняет руины
вокруг, этот способ ничтожный вновь стать человеком}
— каждому
бедствию или ожогу
для облегчения нервов (этот магнит держи на груди,
он управляет случаем
и привлечет его к тебе): за каждой микрокатастрофой, за пуст-
яками в нас
идут потоки равнодушия: воздушно-серого и легкого как
пепел,
что не касается того, кого касается,
не утешает — как на востоке
горит
антиматерия, и автономности
сиянье черное:
абстрактного, антитетичного
Господня замысла: он знает о побеге,
но его терзает
сожаленье, что сам он был когда-то человеком
2013
۩–золотой век
я говорю, когда от неумной радости
любить, мы падаем
на землю о! живая плоть
что потеряет голос
в слезах, я говорю, когда
мы, вдохновленные, сооружаем сцену молотком, гвоздями,
и останки ангела на заднем плане
отрывают крылья
от известки стен. я говорю о времени, когда
я видела всю свою жизнь в тебе: твою
мою, сияющую и единую от древней радости
в ночи, пришедшей с запада
над полем. я говорю, как ты,
вернувшись, девственно,
в прозрачной крови света — о!, дивная
вещь
обычной природы — о!, жизнь
цельная и
запредельная, пока любовь
очистит
все, вспять
все, всю жизнь
2013
(Из книги «Ископаемый ряд», 2015)
Джованна Френе (1968)
Непроизвольная выдержка
он сказал, что лучшая смерть — та, что приходит внезапно [2],
с удивлением пасть без движенья,
самого себя вдруг рванув, но закон притяжения, давит как гильзу, чей клюв
вхолостую летит или в вечное отраженье
Крымская секстина [3]
все, что было известно,
останется в наследство
… как часто бывает у людей весьма умных, у него не хватало идей,
не хватало догадок о каждом солдате, что лежит на земле как осадок:
воссоздать поле боя, раз нельзя передать всю войну в полумгле, стать
подальше от этих чудовищных трупов, с точностью воссоздать если не заражение
истиной, то прививку правдивой игрой; сделать так, чтобы трупы
сообщали, по сути, не о резне, а о «прекрасной панораме»:
убедись, что рука лежит не на одной прямой с пробитой головой, последний
нанеси удар по лошади, что расположена по центру, метко и точно целясь
в плоть, пока она не разложилась; некое вырождение исконно боевого
строя обезоруженных обломков, потерянных навеки, за кулисами
фото-истории рода людского, что стала действительно близкой:
той кровавой, что я рассказала сейчас, глядя на сцену с позиции зрителя в фас
(Из цикла «Римские древности»; из книги «Наследие и Утрата», 2024)
Архаическое противобудущее [4]
«Я знаю, что мы живем не в мирное время.
И он военный»
(Гуидо Морселли, Ближайшее противопрошедшее)
I.
… добрались до Валлерише гранаты дождем все бросились
в решительную дерзкую атаку на Подгору.
Дождь льет на окопы как на мое сердце, на сеть
шрамов прошлого: на грязь засохшей крови не-ново-рожденных:
на изможденные тела, на окопы залитых откосов, зернистое устье
читает литании черные на плитах чернейших: мишень: Изонцо: море
II.
… потом идут дальше с оружием и видят вдоль дороги павших
в грязи наш лейтенант и с ним товарищ изломанный такой же …
потом идут в будущее, что древнее, чем прошлое, их гонят наставники
ярые, замешанные в грязи, которая все порождает: Руки
Бога, Человек, Сын Человеческий, другой сын человеческий, и тот убийца,
чья дорога, идет средь урн для голосов и для кого «мы вскочим из могил»
III.
… раненные еще встречаются бой продолжается враг взрывает окоп
в плен берет 116-й полк и идет к перевязочному отделению…
… я не думала, что буду целиться в то, что имею [5], в агонии, в театре военных сражений:
я не жаждала пения оперы от мужлана-маэстро, который батрачит на Карсо:
но в будущем, перетасованном как паззлы Поллока, и с чашами весов в руке,
в чем будет сущность Времени в анналах замороженной Истории?
(Из цикла «Песни Италии»; из книги «Наследие и Утрата», 2024)
Даниэле Полетти (1975)
депривация сна – А
отрезок, соединяющий две точки, — это расстояние между одной из точек и
некой возможностью; тень – это отрезок, который меняется со временем от
вершины к крайней точке; равенство и неравенство отрезков можно
установить через тень
<…>
V.
Словно сжимаешь камень кинжал чтобы зарезать все реакции что необратимы
на руки прежде чем их сложить выплевываю признаки системы по принуждению
не бывает частичного анабиоза беспорядок растет при совместном движении.
Как пожелаете даже обычные буквы что объявляют призывы
к слабости своей памяти привыкаешь как будто сжимаешь камень
идея метания лезвия всамуюплоть
: привычка — это устройство стабильной энергии
стабильность позволяет вести себя так.
V. (отмечаю)
плохой знак. Произнесите ⟨.. -. / hoc / ... .. --. -. --- / ...- .. -. -.-. . ... ⟩[6]
вокруг устройства своих суждений и определенного количества фрагмент отрезок
[размеры: всего, над чем производятся действия; каждый размер
по-своему связан с каким-то понятием] памяти к нему привыкаешь словно сжимаешь камень
даже просто почувствовать понять призыв ⟨in / .... --- -.-. /
... .. --. -. --- / vinces⟩ все явления необратимы поэтому знание
начальных условий позволит предречь результат.
Прежде чем сложить их в молитве в отрезке.
(вывод № 2: то, что внизу, поднимается, а то, что вверху, идет вниз, по законам природы,
а не социальной конструкции; все тела и предметы — это приманка для солнца;
солнце влечет влажный воздух и дает камню равенство;
камень выделяет пар который притягивает определенный металл плоть и кости; проводимость и цикл)
<…>
депривация сна – B
измерить величину — значит определить, сколько единиц измерения
в нее входит; не всегда можно получить точные размеры данного
отрезка; зависимость между разными величинами
задает необходимость соотношения, которая независима от
визуального восприятия
(Из книги «Желательное», 2016)
Тема квадрантов
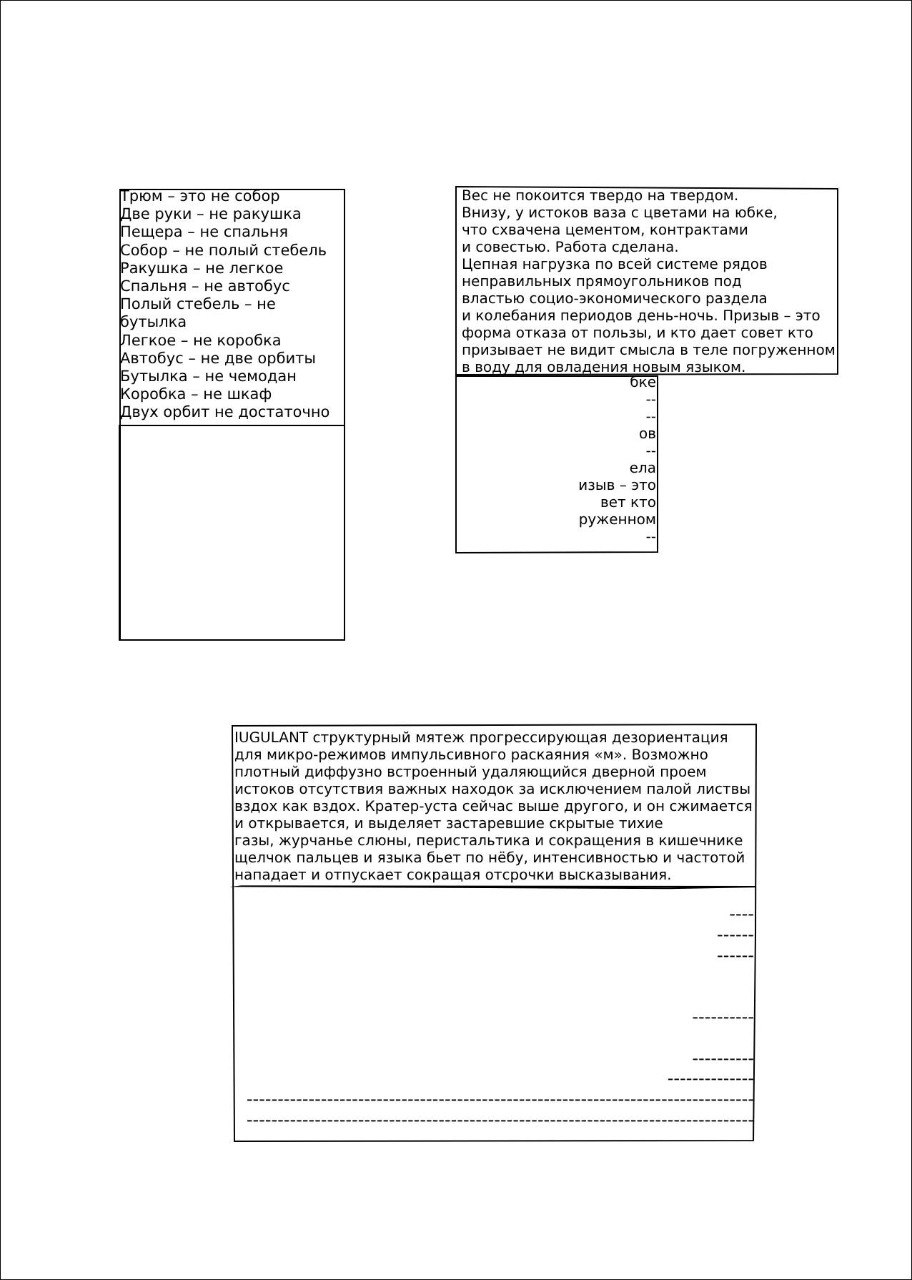
* IUGULANT (лат.) убивают, перерезают горло.
(Из книги «Лезвия. Вторжения и выкосы из Ordet», 2021)
Кристиан Синикко (1975)
я видел
глаз, и я прыгнул в далекую
синеву: не меньше принуждало и пространство
город внезапно
взорвался и обезумел
на горизонтах неба
со скоростью бомбы
(и в дрожи
спокойной
молитвы, плотная жидкость
радиация тонет в теплом
сиреневом свете)
вселенная
город внутри звезды и
пустоты взрыв моторы как ветер
среди руин цивилизации, при коллапсе
пары поднимаются, чтобы снова упасть
как дождь,
атомы… среди пепла газа одежды,
дети с золотыми головами, что крутятся
в песке, нагими носят этот поцелуй
когда веко закрывается
формы создаются из аморфности
2019
[МАТЕРИЯ: язык-земля]
материя бьется, и мы говорим
это звон амплитуды,
идущей в небо, звуки и стрекота струи стрекоз,
что режут пуповину и рост
давит вселенную) так что ты будешь
на листьях, наполняющих
язык, что был землей (снаружи дерево вдыхает
прообраз языкареки, и твой струится рот теперь
(Из книги «Alter», 2019)
Элиза Донзелли (1979)
Туарег. ODE TO MY PARENTS [7]
синий — мое привычное имя
и синий — это движение дней,
что размыто на стенах, неизменно окрашенных
по каталогу пантон, еще голубей на холстах
еще бездонней в ритуалах, индиго меж полками книг.
и синим было все, что меня толкало
подальше от вас, в пространствах сближенья, потом отдаленья
от страха спать долгие ночи вдали от дома,
с ночником, включенным в розетку.
Может, поскольку нельзя рассказать, о том месте,
с которого я началась: оно не на суше,
оно на лодке, в далеком море,
память о вас, синие люди,
единые люди, — берберская
(Из книги «Синие люди», 2023)
насекомое, 27 ноября 1967
ты любила другое во мне каждую неправильную
форму хотя до меня ты тоже была
лыжницей, даже больше, эквилибристкой
на суше и на море, пока моторная лодка
уносила твои шестидесятые,
а полицейский пропускал
не имя твоей дочери,
а депутата
и будущего министра.
Вот почему в Палаццо Кампана
ты хотела быть особой, как
соратники, а вовсе не похожей на отца,
ты жаждала все изменить и быть
с другими, где ты всегда была
рабочей пчелкой
(Из книги «Альбом», 2021)
[1] В оригинале: smile (англ.) улыбка
[2] Плутарх (в «Памятных изречениях») вкладывает похожие слова в уста Юлия Цезаря, который так ответил на вопрос, какую смерть он предпочел бы (прим. автора).
[3] О том, как в XIX веке ретроспективно воссоздавали поля сражений, обставляя панораму для фотографирования «в замершем состоянии» (прим. автора).
[4] Длинные цитаты, выделенные курсивом, взяты из работы Джузеппе Бофа, а единственная цитата в кавычках — это эпиграф с кладбища на Колле Сант'Элия (прим. автора).
[5] В оригинале «io non credea mirare…» отсылает к арии Амины из оперы «Сомнамбула» В. Беллини: «Ah! non credea mirarti / sì presto estinto, o fiore» («Ах, не думала, что увижу тебя / так быстро увядшим, о цветочек» - пер. А. Кузьмина).
[6] Высказывания в треугольных скобках отсылают к лат. фразе In hoc signo vinces ‘Сим знаком победишь’.
[7] (англ.) Ода моим родителям
ДВЕРИ В ОДИН КОНЕЦ. Фрагменты эпоса (перевод со словенского Владимира Фещенко)
«Двери в один конец» (Vrata nepovrata) — опус магнум словенского поэта, драматарга, переводчика и эссеиста Бориса А. Новака (Boris A. Novak), стихотворный эпос двадцать первого века, состоящий из трех книг (еще две пока не опубликованы): «Атласы ностальгии», «Времена отцов» и «Обиталища душ», насчитывающие 45 000 строк на 2300 страницах в оригинальном издании. У каждой из книг — свой собственный мир, каждую можно читать отдельно, но все три соединены одними и теми же героями и сюжетами, показанными с трех точек зрения: вместе они образуют более высокую и широкую цельность. Эпос Новака повествует, в том числе, о войнах ХХ века и переживаниях творческого человека и поэтического субъекта в памяти о катастрофических событиях и процессах, сквозь призму семейной истории и личной биографии автора [1].
Третья книга эпоса «Обиталища душ» (Bivališča duš), из которой составлена данная краткая подборка, создана в особой нарративной рамке: путешествие по океану на Север, в котором корабельным грузом становятся Души, Память, История и ее квинтэссенция — Рассказ. В глубокой нижней палубе хранится Память. Там древние мифы (как миф о Люцифере в песни четырнадцатой из нашей подборки) постоянно метаморфируют в более поздние исторические повторения. Автор реинтерпретирует Дантовский «Ад» как Историю. Герои преодолевают значимые символические пороги («Личные двери» в песни двадцать четвертой), встречают на своем пути мифологических персонажей (Первый грамматик в песни тридцать девятой). Восхождение по трапу на верхние палубы («Чердак поэтических душ» в последнем фрагменте подборки), с другой стороны, открывает входы в пространства Искусств как наиболее надежных хранителей Памяти.
— Владимир Фещенко
ДВЕРИ В ОДИН КОНЕЦ
Фрагменты эпоса
(2015-2025)
Из книги третьей ОБИТАЛИЩА ДУШ
Песнь четырнадцатая:
ПОДПОЛЬЕ ПЕРВОЕ — КНИГА БЫТИЯ
1
Сегодня Архив оцифрован.
Все документировано, с самого начала
до последних дней. Вот записи
всех секретных служб и госкомпаний,
никому — даже мухе — не избежать контроля.
Роясь в нем, нахожу скрытую программу внизу
файла, названного Агентство памяти.
Экран открывается: Сатана, Князь тьмы,
берет в руки магический пульт и указывает им
в никуда, где высвечивается надпись:
Пост-
модернистская
компьютерная игра
«БЫТИЕ»
написанное
ПЕРВЫМИ ПОЭТАМИ
2
Голова Сатаны светится в полумраке.
Он нажимает кнопку на пульте
и является Люцифер. Голоса их отдаются эхом по всему аду.
САТАНА: Расскажи мне сказку на ночь.
ЛЮЦИФЕР: О чем же, князь мой?
САТАНА: О том, как все было, когда-то.
ЛЮЦИФЕР: Когда мы все еще правили Небесами?
САТАНА: Нет,
об этом горько вспомнить, мне не по себе.
Сегодня так красиво вечером.
Лучше расскажи-ка, Люцифер, сказку как возник
первый человек.
ЛЮЦИФЕР: Как прикажете, князь мой.
Экран небес включается огнями
с бесчисленными звездочками,
и птицами, и рыбами, и разными зверями…
***
ЛЮЦИФЕР
Был он ребенком, и мир преклонялся пред ним:
Сгусток свечения в своде небесном бескрайнем,
Речка из звездного млека течет по дуге,
музыка сфер — молчаливая рифма всех рифм…
Был он всего лишь ребенком, скучал он без выбора.
Три цветных шара надул он тогда шутки ради
Желтый, зеленый и серый — круги в пустоте
нарисовал он. Но не было главного — голоса.
Стал он тогда рисовать певчих птиц, и деревья
слушать, как птицы играют, и музыку птичьего пенья
но разобрать он не мог смысла их говоренья.
Вечных детей пожелал он, чтоб с ними играть
Стал он тогда самых разных зверей создавать…
Скука его одолела, однако, опять. Захотел он историй.
И сотворил человека.
***
Сатана молчит. Жмет кнопку на пульте
и все звезды, все живое исчезает в темноте.
Исчезает и тот первый человек, во тьме.
Песнь двадцать четвертая:
ЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
— Сквозь эту дверь все ли души проходят?
Спросил я, молча надеясь, что страх мой
Скроет шагов моих оглушительный стук.
Заглушит его стая душ с одним прахом, с одной судьбой…
— Нет, капитан отвечал, эта дверь предназначена
Для тебя одного. Только ступишь, захлопнется за тобой
свет погаснет, ночь станет еще темнее,
ты станешь тенью среди теней,
в огромном-огромном пространстве
и мир протянется к подсвечникам звезд,
и язык обретет формы времени, неведомые доселе,
сто один плюсквамперфект, как фонтан
памяти, бьющий из родника, омывающий
прогалины настоящего времени. Только будущего нет.
А точнее: туда не попасть. Там в снегу всё
Там вечный снег. Снег из звезд, которых больше нет…
Песнь тридцать девятая:
ГРАММАТИКА ДУШИ
1
Встал я пред Первым Грамматиком, он вопрошает:
Что за часть речи — душа?
Я отвечаю: душа — существительное.
— Разве душа — это дом, это памятник, судно морское?!
Двойку я ставлю тебе, сядь на место,
Высказал строго Учитель грамматики мне,
Взором тяжелым окинул меня, порицая.
3
— Ну, продолжай! — всё настаивал Первый грамматик. — О чём?
Переспросил я. — Ну как называем мы слово, которое
и велико, и прекрасно во всем? — Прилагательное.
Я бормочу, заикаясь. — Теплее, теплее! губы его
Кровью наполнились от нетерпенья:
Не прилагательное. Помогу тебе я.
Что же такое тогда это слово? Числительное?
Облик учителя резко меняется в цвете.
— Может, предлог? — я в отчаяньи предполагаю.
— Грустное время у нас, где грамматика — терра инкогнита
и для поэтов, острым меня языком он пронзает;
что ни скажу, все невпопад получается.
Местоимение! — молвлю я в панике. — В чем будет смысл
длинной той песни твоей про обиталища душ,
если не выучишь птичью грамматику,
если не знаешь о том, что язык есть разгадка
целого мира космического?
Классной доски уже нет на стене, да и нет и стены уже,
Строгий учитель стирает три четверти неба, в размахе,
и появляется с неба Фигура, до боли знакомая, крупная
неописуема и удивительна,
больше не Первый грамматик, но женщина
— это же Мо! [2] — воплощенье присутствия и отдаленности…
Вглядываюсь глубоко в эту тайну, так мило явившуюся,
шепчущую в тишине: Душа — это Глагол
Душа есть Глагол
Душа — это Глагол
Песнь шестьдесят седьмая:
НАГАЯ ДУША В СНЕГУ
5
Снег, снег, снег, снег, снег,
Снег, снег, снег, снег, снег, снег, снег,
Снег, снег, снег, снег. Снег.
***
Снег, снег, снег, снег, снег,
Снег, снег, снег, снег, снег, нагая
душа глубоко в снегу.
9
Снег
за ночь покрыл
весь свет.
Снег цел, бел и чист
как пустой незаписанный лист
бумаги.
Мне жаль, что тебя здесь нет,
я бы бросил тебя на снег
а потом бы бросился сам
на тебя
под тебя
внутрь тебя
среди смеха,
клочков, хлопьев
ледяной морозящей ваты…
Но ведь затем и есть
на свете
поэзия.
Голос — цел, бел и чист
как пустой ненаписанный лист
снега.
Я брошу тебя в этот стих
и брошусь затем в него сам
на тебя
под тебя
внутрь тебя
среди смеха
хлопьев, клочков
морозящей ледяной ваты!..
Песнь семьдесят восьмая:
ОДИННАДЦАТЫЙ ЭТАЖ —
ЧЕРДАК ПОЭТИЧЕСКИХ ДУШ
1
Этаж одиннадцатый — на самом деле, чердак.
Чердак поэтических душ,
лирических и эпических, бедных и еще беднее…
Здесь всегда леденящий сквозняк.
Двери хлопают с громким лязгом.
Ржавый ключ потерян навеки.
Каждый стих здесь обходится дорого.
А за дверями теми, шумными, грозными
— двери другие, побольше, темнее, тише
Те двери — в один конец…
[1] См. подробнее о содержании эпоса в статье: Старикова Н.Н. «История сквозь призму лирического фрагмента». Образы прошлого в трилогии Бориса А. Новака «Врата безвозвратности» // ПАМЯТЬ vs ИСТОРИЯ. Образы прошлого в художественной практике современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы (по материалам II Хоревских чтений). Серия «Современные литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы». М.: ИСл РАН, 2019. С. 121-139.
[2] Имеется в виду Моника Ван Пэмель — бельгийская писательница, близкая подруга Бориса Новака.
Заметка о чтении фандомной поэзии
Вокруг себя я часто вижу такой способ говорить о поэзии: есть поэзия журнальная, а есть поэзия сетевая. Журнальная поэзия может быть непрозрачной. Это не просто про сложность для понимания — это про то, что какая-то часть причин, почему выбраны те или иные образы, читающим так и остаётся неизвестной. Но даже если ясно, зачем стихотворение написано так, а не иначе, нельзя сказать, что оно описывает одно конкретное чувство. Нельзя сказать, что стихотворение вызывает это чувство у читающих.
А сетевая поэзия — я привыкла слышать – всегда простая и понятная. Там описываются чувства, которые «испытывали все»: любовь, боль расставания, надежда на будущее, прилив отчаяния… Легко понять, какое чувство описано. Легко самим испытать это чувство.
Когда-то мне было лет четырнадцать или немного больше. Я не сидела в фейсбуке, а когда случайно наткнулась на тексты Сен-Сенькова, решила, что они слишком странные, и я пойму их, когда подрасту. Тем не менее стихи я читала часто и много. Это была «фандомная поэзия» — с фикбука, с дайриков, со старых толкиенистских сайтов. Стихи по мотивом событий разных фандомов, от лица разныз героев. Иногда это были стихи по тех фандомам, в которых я была – или просто по мотивам произведений, которые я знала.
Но я часто читала стихи и по незнакомым фандомам, по мотивам произведений, которые я не знаю. Вот, например, стихотворение авторства airheart, которое я любила лет в шестнадцать. Оно написано по сериалу «Касл», который я не смотрела; в шапке текста — имена героев, которые мне ничего не говорят. «на графе «мальчишка» застывший возраст позволяет врать» — начинается оно. Персонаж, от лица которого оно написано — в самом деле мальчик? или он только ощущает себя вечно мальчиком? Я не просто не знаю ответа, я не хочу его искать.
Иногда я даже не знаю, та или иная строчка стихотворения — это метафора или описание реальных событий внутри сеттинга. Помню строчку из стихотворения про Сансу из «Игры Престолов». У его автрисы ник «нордическая», она удалила этот текст из интернета, я его нигде не записала, и теперь цитирую фрагменты по памяти. «шкуру срезаешь — новая нарастает, как вынимать из выбитых пальцев стаю тело за телом». Когда я прочитала этот текст, когда я перечитывала его по многу раз, я ещё не смотрела «Игру Престолов». Я не знала: эти тела, которые героиня достаёт из пальцев — это метафора или нет. Я до сих пор не очень знаю, какие именно события жизни Сансы стоят за этим образом.
Я помню, как перечитывала эти тексты, как повторяла их про себя. Но за уже не помню, почему я не хотела узнать о фандомах, по по которым они написаны, больше. Те ощущения, которые были у меня от стихов по незнакомым фандомам тогда, во многом похожи на то, как сейчас вокруг меня описывают непрозрачную поэзию. Я до конца не знаю, с опорой на какие ситуации написан текст. Мне важны и интересны те состояния, которые этот текст вызывает. Опознать эти состояния, назвать их именами привычных эмоций, я не могу.
Лет в семнадцать я впервые открыла фейсбук, и меня затянуло в актуальную поэзию. Мне было непривычно многое: графика стиха, способ построения образов, проблемы, о которых были написаны эти тексты, язык рецензий и комментариев к подборкам. Но само ощущение странного описания странного мира, который важен пишущим, мне было уже знакомо.
39 путей к будущему воссоединения: медиакентавры Анастасии Кудашевой
Вопрос о том, к чему ближе так называемое явление визуальной поэзии: изобразительному искусству или словесности, с одинаковой точностью может быть адресован как медиальным экспериментам 2010-20-х, так и более ранним прецедентам: от поэзии трансфуристов 1970-80-х до фигурных стихов Симеона Полоцкого, датируемых 1660-ми. Возникавшие и продолжающие возникать сложно устроенные объекты, которые мы, несмотря на разнообразие типов, привыкли маркировать общим термином «визуальная поэзия», образуют единую линию, позволяющую нам говорить о развитии практик на стыке литературы и визуальных искусств и появлении гибридных поэтических форм, происходящем, как отмечают исследователи, параллельно с появлением и развитием новых медиа [1].
Сегодня поэты продолжают активно разрабатывать направление через включение в произведения фотографий, сетевой графики и прочих экспериментальных элементов вплоть до мемов, эмодзи и компьютерных кодов, особенно интересными в этом контексте кажутся работы Оли Цве, Егора Зернов, Анны Родионовой, Дарьи Фоменко и Софьи Дубровской. Дебютный сборник Анастасии Кудашевой, вышедший в декабре 2024 года в поэтической серии «Флагов», с одной стороны, встраивается в обозначенную линию за счет смелой медиальной экспериментальности, с другой стороны, наследует совсем иную традицию метафизической поэзии, поэзии откровения. В склонности Анастасии вслушиваться, всматриваться и в конечном счете трансформироваться в непроявленное, трансцендентное в поисках некоего абсолюта усматривается и связь с такими поэтами как Геннадий Айги, Елизавета Мнацаканова, Андрей Тавров, и обращение к ещё более ранней поэзии модернизма, позволяющее говорить возможной принадлежности поэзии Кудашевой к постакмеистической линии. Сосуществование двух аспектов её поэтики в рамках каждого из текстов создает ощутимый контраст, и в этом контексте мистический поиск обретает особый смысл: вполне традиционное трепетное наблюдение за потусторонним обращается попыткой выработать актуальные пути постижения трансцендентного в новой действительности. Вокруг этого визионерского поиска путей, временами переходящего в нащупывание или пристальное вслушивание, строится весь сборник, он оказывается своего рода картой-путеводителем «к будущему воссоединения».
Каждый из текстов представляется мне сочетанием мотива соприкосновения с тем непроявленным, к чему носительница сознания и речи из раза в раз стремится, с экспериментальными способами переплетения визуальных и невизуальных знаков в рамках многомерного гибридного произведения — пробами новых, еще не протоптанных дорожек к иному, на которых обитают причудливые создания сродни самим произведениям-медиакентаврам Кудашевой.
Кроме возникновения в одной из сильных позиций текста — заглавии, которое может быть прочитано и как традиционное послание («К…»), и как маркер движения к определенному моменту и состоянию, стремление к воссоединению прослеживается на всех взаимосвязанных планах гибридных произведений, включенных в сборник Анастасии Кудашевой. Особое внимание стоит обратить на то, что визуальная поэзия сама по себе строится на тесной взаимосвязи разнородных единиц и динамике их отношений (своего рода взаимном стремлении и отдалении). Говоря об этом, необходимо вспомнить, как устройство произведения искусства и процесс извлечения из него смысла реципиентом осмысляется Б. Латуром, Г. Харманом, И. Богостом и другими философами в рамках объектно-ориентированной онтологии и акторно-сетевой теории. Особое внимание исследователи обращают на гетерогенную природу произведения искусства, которое рассматривается как поле сложных операций, в котором смысл образуется не столько за счет жесткой структуры, сколько за счет взаимодействия множества единиц [2], и извлекается реципиентом именно из их взаимодействия. Для обозначения такого рода явлений вслед за введением понятия «гибрид» Бруно Латура [3], которое используется в первую очередь для маркирования ситуаций пересечения природного, социального и технологического планов, когда невозможно присвоить действие одному конкретному объекту, возникла практика использования терминов «медиагибрид» и «медиагибридизация». Алексей Масалов вводит эти категории применительно к визуальной поэзии на основании работ Ильи Дейкуна, Ильи Морозова, Олега Горелова и использует их для обозначения процесса гибридизации множества медиумов внутри одного объекта [4]. Текст в такого рода произведениях не самоценен, он оказывается лишь одним из планов, одновременно связанных и разобщенных с другими. Так и визуальная поэзия Анастасии Кудашевой строится на подчеркнутой многоплановости, в том числе графической: происходит сочетание знаков естественного языка с техническими символами, изображениями, музыкальными элементами и прочими единицами, обретающими различные оттенки значения в зависимости от медиума.
Подчеркнутая демократичность поэтессы в выборе и использовании графики дополнительно расширяет корпус доступных ей элементов и усложняет связи между ними. Можно сказать, что на знаковом уровне таким образом разворачивается еще один процесс воссоединения, с одной стороны, встраивающийся в более объемную систему переплетений и единений - сборник, с другой стороны, включающий в себя множество связей, возникающих в каждом отдельном тексте. Здесь происходит взаимное стремление элементов различной природы: языковые и знаковые системы не просто пересекаются в работах Кудашевой, но вступают во взаимодействие и создают смыслы в динамике. В рамках одного текста поэтессы привычные для нас языковые единицы могут соседствовать с вполне понятными эмодзи и трудно интерпретируемыми символами, например графемами одного из индонезийских языков или иероглифами. Автор предисловия к сборнику Андрей Войтовский, говоря об этом, отмечает, что реципиент при столкновении с подобными экспериментальными элементами волен выбрать один из путей взаимодействия с ними самостоятельно [5]. Среди вариантов, кроме прочих: наивное чтение и «подключение к машине всезнания» (компьютеру) с целью выяснения генеалогии некириллических знаков. Особенно примечательным здесь мне кажется то, что в процессе чтения тип восприятия может меняться, и вместе с этим динамически изменяться способен знак. Например, при первом прочтении «Обращения рук-перевертышей мякотью наружу» символ ꧁꧂ скорее воспринимается интуитивно с опорой на текст — появляется ассоциация с травами, образ которых возникает в стихотворении:
продувая прекрасные щели
между пальцами-перевёртышами травы —
꧁꧂ ꧁꧂ ꧁꧂
Однако в ходе анализа при использовании интернета выясняется, что это символ, принадлежащий к одному из многочисленных австронезийских языков — яванскому. При этом знак переживает трансформацию: из разряда иконических (воспринимаемых на основании внешнего сходства с референтом) он переходит в разряд символических (конвенциональных) и становится частью языка. Динамичность, возникающая за счет этого, усиливается еще и тем, что поэтесса как бы комментирует значение графических элементов в собственных текстах, создавая таким образом дополнительные смыслы и катализируя построение ассоциативных рядов.
Одновременно с тем, как графические элементы в текстах Кудашевой обретают смысл в динамике, они организуют пространтсво сборника и строфику. Привычные междутекстовые символы-перебивки заменяются на эмодзи и прочие некириллические знаки, они же создают своеобразное деление на строфы. Так, в тексте «Видения, собранные в пробирки» границы между визионерскими находками носительницы сознания создаются с помощью знаков, напоминающих сами ампулы. А текст «Керосиновая лампа с дежавю» структурируется за счет эмодзи, связанных с образным рядом стихотворения. Такого рода графика дополнительно стягивает текст, подобно тому, как это делают такие факультативные поэтические элементы, как рифма и рефрен. Это делает вертикальную организацию произведения еще более ощутимой, заставляет реципиента проводить большее количество параллелей и, как писал Юрий Тынянов, «живо припоминать»[6] эквивалентные части предыдущих строк. Подобным образом работает еще одна интересная графическая находка Кудашевой — ASCII- и Unicode-арт. Поэтесса включает в тексты изображения, собранные из различных знаков — от латинских букв до квадратных блочных символов различной степени заливки и затемнения. На первый взгляд они напоминают фигурные стихи — тип визуальной поэзии, корнями уходящий в средневековье. В графике, включенной в тексты Анастасии действительно удается усмотреть качественное соответствие образному ряду стихотворений. Так, изображение в стихотворении, озаглавленном «❍ ❍ ❍» одновременно напоминает реципиенту снежинку, птичьи следы, и окружающее пространство, оно включает в себя отдельные буквы, записанные шрифтом Брайля, и в конечном счете заставляет читателя-зрителя поморгать «сто раз подряд» подобно тому, как это делает носительница сознания в тексте, чтобы увидеть и сопоставить все элементы. А в тексте «О слиянности вдосталь» возникает еще более близкая к традиционным фигурным стихам графика, включающая в себя не только латинские символы, но и стихотворную строку.
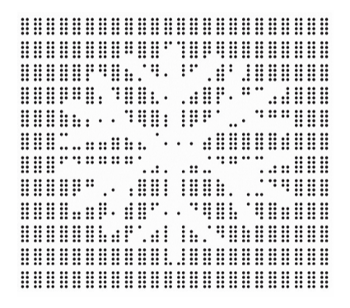
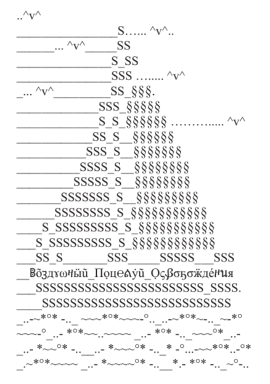
Однако, кроме сходства с вполне традиционным для визуальной поэзии явлением, здесь обнаруживается и элемент экспериментальности. Как пишет Андрей Войтовский, естественная среда обитания для ASCII- и Unicode-арта — интернет-пространство, преимущественно чаты[7]. На страницах поэтического сборника такого рода изображения, как и прочие символы, которые мы привыкли видеть в интернете, выглядят непривычно и даже неорганично, что заставляет обратить на них пристальное внимание. Перенесение интернет-графики сначала в поэтический текст на экране, а после и на страницы книги можно назвать очередной игрой с медиумом, создающей динамику и контрасты. Особенно в случае передачи таким образом опыта соприкосновения с потусторонним и поиска божественного. Здесь возникает еще один план «воссоединения», заставляющий встретиться не только знаки и символы, но и интернет-эпохи, к которым принадлежат графические элементы и техники их создания. Текст превращается в своего рода медиакентавр — гибридное существо, одновременно принадлежащее различным пространствам и видам.
Возвращаясь к разговору о путях воссоединения, в разных формах собранных в дебютной книге Анастасии Кудашевой, важным кажется понаблюдать за тем, как стремление к иному переживается носительницей сознания и речи. Репрезентация метафизического в текстах сборника представляется мне не вполне классической, если отталкиваться от (пост)аристотелевского понимания этой категории как части оппозиции, маркера всего того, что лежит за пределами физической природы мира. В стихах Кудашевой отношение потустороннего и посюстороннего обретает своеобразную форму суспензии: рамки оказываются весьма условными, и границы, казалось бы, естественно разделяющие физическое (где-то даже профанное) и метафизическое, размываются, порой приводя к практически полной контаминации. В ее мирах все соприкасается кожа-к-коже со своим обратным, возникают множественные выворачивания («Обращение рук-перевертышей мякотью наружу»; «Выдернутые-вывернутые из космоса»; «…и вывернутая наружу Подствеченность») и проницания («Насквозь Меня Сияние Проходит»; «и мы глядим насквозь бесплотную русалку»). Интересно, что проницаемы в то же время оказываются и сами тексты (так, стихотворение «Крылья-флаги», разделенное графически, в том числе с помощью шрифта, пополам, может быть прочитано несколькими разными способами: одномоментно – тогда стороны неизбежно будут пересекать границу из раза в раз, или поочередно — тогда элементы одной половины будут «проблесками» проникать в другую вследствие форматирования). Миры Анастасии Кудашевой также строятся на множественных взаимных проницаниях и смешениях, носительница сознания при этом выступает своего рода медиатором. Блуждая по онейрическим и метафизическим пространствам, она теряет видимые границы и привычные очертания и принимает иные облики вплоть до знаковых воплощений. Происходит своего рода расщепление говорящей инстанции в тексте. Дистанция между Я и Я пишущим варьируется: происходит то полное отождествление, то предельное отдаление при принятии иного нечеловеческого облика или становлении самим языком. Так, в стихотворении «Интуитивные переливы: триединство заповедного» в процессе наблюдения за окружающим пространством носительница сознания растворяется в лунном свете и становится его речью, которую, впрочем, так и не понимает. А в тексте «К будущему воссоединения» Я обращается двоеточием в восприятии потусторонних теней: «Восприняли Меня Как Двоеточье / Впечатанное В Призрачном Мольберте»). В этом контексте использование таких категорий, как «субъект» и «объект», кажется не самым удачным и в силу размытия границ между носительницей сознания и, вернее сказать, точки зрения и всем тем, за чем она наблюдает, и в силу иерархичности указанных понятий. В пространстве мистического поиска Кудашевой, полагаю, не остается места для представления о человеческой исключительности, свойственного более ранней метафизической поэзии и поэзии религиозного поиска (например, декадансу с его индивидуализмом). Вслед за современными философами, среди которых Жан-Мари Шеффер, переосмысляющий биологический статус человека в работе «Конец человеческой исключительности»[8], поэтесса снимает наблюдательницу с вершины иерархии и разрушает иерархичность как таковую. Критика, ставящая под сомнение концепцию человека как биологического существа, имеющего особое онтологическое измерение (в первую очередь в связи с наличием речи и сознания) заставляет нас разрушить привычную схему, в которой восприятие всегда принадлежит субъекту и всегда направлено на объект, и увидеть в объекте субъект, его способность к мышлению, речи и восприятию. В поэзии Анастасии Кудашевой таким образом сознание и речь обретают и нечеловеческие акторы. Все окружающие наблюдательницу явления оказываются в той же степени способны воспринимать и осмыслять ее существование, как и она их. Тени складывают своеобразное представление о ней, а лунный свет обретает речь, которая остается непонятной для наблюдательницы, но с которой она все же сливается. Здесь вспоминается философия постантропоцентризма в целом и агентный реализм, предлагающий заменит категории «субъект» и «объект» на совокупность агентов, в частности. Подобно тому, как это происходит в философских работах, в контексте поэзии Кудашевой можно говорить об отказе от схемы «субъект-объект» в пользу представления о наблюдающей и говорящей инстанции и совокупности носителей действия, акторов, агентов, миры конструирующих. Человек в таком случае, как пишет Карен Барад[9], становится не субъектом, в сознании которого отражается все сущее, а включенным наблюдателем. И сам процесс познания в этом случае становится своеобразным преломлением и взаимовлечением наблюдателя и наблюдаемого (в случае Кудашевой — взаимопроникновением и даже взаиморастворением).
Интересно при этом, что все возникающие в сборнике переходы-проницания с задержками в лиминальных пространствах и онейрических состояниях принимают своего рода форму религиозного откровения. Неслучайно автор предисловия заголовком «Русалка разбивает лед» отсылает нас к жанрово спорной поэтической работе Михаила Кузмина «Форель разбивает лед». Построенная на переходах–переворотах–проницаниях поэзия Анастасии Кудашевой действительно подталкивает к проведению параллелей с Кузминым и мистическим опытом его героя, стремящегося к воссоединению с потусторонним двойником, смерти и воскрешению. Мотив перерождения и воскрешения, кроме того, что ложится в основу сборника «К будущему воссоединения» и, как отмечает Андрей Войтовский в предисловии, считывается еще в названии, прямо возникает в текстах Анастасии Кудашевой множество раз, начиная с достаточно ясного сюжетно стихотворения «О слиянности вдосталь» и текста с тремя символами пешек в заглавии, лирический сюжет которого разворачивается на шахматной доске-жизни и ведет к перерождению Я в ангела, заканчивая особенно герметизированным за счет суггестивной образности и ее плотности текстом «Интуитивные переливы: триединство заповедного». Даже при сюжетной ясности отдельных стихов, сам процесс перехода у поэтессы часто связывается с явлениями, попытки понять которые оказываются затруднительными как для наблюдательницы в тексте, так и для читателя: развоплощением и становлением (воссоединением с) тем иным, к чему изначально происходит стремление. И если у Михаила Кузмина в движении к слиянию происходит десять ударов форели об лед, равных десяти частям текста, то у Анастасии Кудашевой тексты сборника складываются в извилистую карту, включающую в себя тридцать девять путей к будущему воссоединения.
На этих путях у Кудашевой сакральность метафизического соседствует с, казалось бы, прямо противоположными профанными элементами: интернет-графикой, эмодзи и прочими единицами, вступающими в динамическое взаимодействие. С одной стороны, работа продолжает развитие метафизической поэзии, поэзии откровения: поэтесса разрабатывает особую оптику, позволяющую снять привычные для традиции иерархии и разглядеть сложные переплетения агентностей, конструирующих ее миры. С другой стороны, продолжает развитие актуальных медиагибридных практик и создает связи между различными по своей природе знаковыми системами и способами высказывания. В этом контексте мистический опыт и религиозный поиск обретают совсем иное прочтение. Пересечение контрастных явлений в рамках одной поэтики становится способом «нащупать» актуальные пути постижения трансцендентного в изменившейся действительности и новые способы духовного поиска как такового. Внимательная работа поэтессы с опытом предшественников и смелые эксперименты позволяют ей из раза в раз преодолевать открытое и заметно развиваться, встраиваясь в актуальный литературный контекст. Особый интерес при этом вызывает траектория развития ее поэтики, направление поиска и возникающие попутно открытия.
[1] Внутри медиа: новейшие поэтические практики и эстетика информационной среды / ред. Д. Ларионов, А. Масалов // Новое литературное обозрение. – 2023. – №182. – URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2023/4.
[2] Bogost I. Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism / I. Bogost. – Cambridge (MA, USA) : MIT Press. – 2006. – 302 p.
[3] Латур Б. Нового времени не было : эссе по симметричной антропологии / Бруно Латур ; перевод с французского Д. Я. Калугина ; научный редактор О. В. Хархордин ; Европейский университет в Санкт-Петербурге. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета, 2021. — 294 с.
[4] Масалов А. От интермедиальности к медиагибридизации: визуальная поэзия между знаком и материей : лекция // YouTube. – 2023. – URL: https://youtu.be/rD0Xf_xIV7w?si=j0efhRkH1SwJBhR5.
[5] Войтовский А. Русалка разбивает лед : [предисл.] // К будущему воссоединения / А. Кудашева. – М.: Флаги, 2024. – С. 7-12.
[6] Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка / Ю. Тынянов. – Ленинград : Academia. – 1924. – 140 с.
[7] Войтовский А. Комикс на стене собора. (О стихотворениях Анастасии Кудашевой) // Восемь стихотворений / А. Кудашева // Флаги. – 2024. – URL: https://flagi.media/piece/543.
[8] Жан-Мари Шеффер. Конец человеческой исключительности / Жан-Мари Шеффер ; пер. с фр. С. Н. Зенкина. - Москва : Новое лит. обозрение. - 2010. - 390 с.
[9] Barad K. Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning / K. Barad. - Durham, NC : Duke University Press. - 2007. - 544 p.
Как это делает зеркало (рецензия Семёна Ромащенко и Ильи Морозова на книгу «Речь зеркал»)
Речь зеркал. В память об Олеге Юрьеве / сост. Д. Кузьмин. Латвия: Literature Without Borders, 2023.
Что показывает нам зеркало, какое сообщение оно предлагает взгляду? Своё инобытие, мир вне его, без которого, однако, зеркало не имеет смысла. Если мы исключим предмет для отражения, если помыслим зеркало в пустоте, оно продолжит говорить, но уже на языке тождественных, а не различных видимостей. Онтологическая сущность зеркала раскрывается в том, чтобы каждое мгновение изменяться, и, будучи сверхчутким к переменам, всё же сохранять свою отражающую плотность.
Но есть у зеркала и обратная сторона, ничего не отражающая плоскость, глухая сущность, которая тем не менее способна нечто сообщить. Если распространить эти размышления на поэтический перевод, можно сказать, что речь зеркал — это отраженная поверхность обратной стороны одного зеркала в отражающей плоскости другого. Стихотворения-зеркала пытаются уловить нечто неотчуждаемое, и каждый раз это неотчуждаемое оказывается разным: одни автор:ки стремятся сохранить сюжетную линию, другие имплантирует в свой язык лексику стихотворения-первоисточника. Кто-то пренебрегает тем и другим, сосредотачиваясь на избирательной редукции образов, извлекая (как это делает зеркало) значимый минимум из бесконечного многообразия.
Но когда происходит работа с осознанным повторением — ситуация максимального приближения к поэтике другого (зеркальные поверхности повёрнуты друг к другу) — зеркала всё равно сохраняют свои неотменимые различия. То, что можно было бы назвать потемнением на физическом зеркале, хореографией царапинок и сколов, не даёт в полной мере отождествиться одному стихотворению-зеркалу с другим. Оказываясь в этой ситуации неподобных отражений, мы можем сделать промежуточное суждение о природе зеркала и специфике проекта «Речь зеркал»: это отражание другого с безусловным сохранением отражающего источника. В сумме этих переводов обнаруживаются мутирующие, всегда только полупохожие образы. Иными словами, проект зеркальный поэтической речи показывает, что мгновение подобия, как писал Беньямин, едва уловимо, оно всегда уносится прочь.
Вспышка подобия — продукт мистики зеркал, а не рассчитанного мастерства техники. Стихотворения сборника возможно читать отдельно друг от друга, между ними нет сильных связей, умаляющих их автономию. Читая их совместно, наперекор ожиданию умножения и усложнения общего смысла стихотворения-оригинала можно ощутить пугающее несходство, расхождение между текстами, где исходные слова/образы/сюжеты, казалось бы, сохранены. А это значит, что и речь, и отражение приходят от одного говорения к другому искажённой: речь зеркал — это маска подобия, за которой скрывается совсем другое сообщение. Но это обстоятельство не отменяет интенцию общности, маски подобия — не меньшая истина речи зеркал, чем маски человека, оказавшегося перед зеркалом. И это эфемерное подобие метафорически соразмерно тому, как человек соглашается со своим образом в зеркале только на одно мгновение, а затем снова и снова всматривается в его плоскую глубину, продолжая искать себя и не узнавать.
— Семён Ромащенко
У меня есть любимая картинка, которая, как кажется, идеально иллюстрирует смысловые спецэффекты, возникающие в экспериментальном переводе с русского на русский. Показывать её нельзя, но возвращая её к вербальному измерению, скажу, что она о лексической непроницаемости отрывка из «Евгения Онегина» для современных школьни:ц, которые превращают свои интуиции по поводу странного текста в гибрид комикса и мема. Такая стратегия — резкое приращение идей, созвучий и сюжетов, когда ты вдруг сталкиваешься с Другим и пытаешься в нём раствориться, не теряя при этом себя, кажется точной метафорой экспериментального перевода. Перевод удивительным образом синтезирует отказ от собственной субъективности, требующий внимания к радикально Иному, и возможность оседания переводческого «я» между строк. Эксперимент, организованный Дмитрием Кузьминым в память об Олеге Юрьеве в подготовленной в довоенное время книге «Речь зеркал», предлагает объёмное понимание перевода — не через разговор о стратегиях, устраняющих очевидную, эксплицированную разность текстов, где лексическое и смысловое несоответствие предельно ощутимо, а через целую серию метафор (например, уже упомянутой речи зеркал), в пространстве между которыми схватываются парадоксы перевода и диалога. Чужой текст то вздуется постконцептуалистской иронией, то сожмётся в строфической решётке, которая сделает уникальность породившей его художественной системы более проявленной, чем в исходной, автохтонной творческой практике. Сверхконкретная предметность одного текста превращается в пустой и лёгкий воздух в другом, одна поэтика врастает в другую, первый текст цветёт во втором.
Книга «Речь зеркал» открывается предисловием, где Дмитрий Кузьмин пишет: «Там, где есть два языка, есть и возможность перевода. Если дело поэта — выработка собственного поэтического языка, значит, между этими языками может быть переброшен мост перевода — так же, как между языками разных народов». Переводя современников с русского на русский, поэты и поэтки не открывают принципиально новый способ письма: известны опыта такого рода и в академически авангардистских «Экспериментальных переводах» М. Л. Гаспарова, и в «Переводах с русского» Сергея Завьялова. Однако «Речь зеркал» исследует готовность к диалогу с Другим «в условиях нынешнего разбегания авторских манер и групповых стратегий»: все сталкиваются с иной поэтикой, вступают в коммуникацию с порой радикально иными типами письма, рискуют? с ними ассимилироваться, в конце концов говорят (с) живыми голосами (а не конспектируют речь мёртвых фигур канона).
Пример этих процессов — стратегия Дарьи Суховей, которая приводит каждый текст к твёрдой форме шестистишия, сложившейся в её позднем творчестве, с одной стороны, проявляя конструктивные принципы своей поэтики, с другой — переводя и сохраняя концептуальный каркас стихотворения:
как вставать так все спят и опять
рыбки спят птички спят крепким сном
(храпом разбудили сервантеса а ему в лом
в ранний час сочинять про пансу и дон-кишота)
и у многих из нас тоже адова встала работа
с утра слабо революционный шаг держать
Переведённое ей стихотворение Фёдора Сваровского иронично говорит об инспирированном, интенциональном характере политики, природы и культуры, о степени сконструированности явлений, которые часто представляются константами. Всё само собой разумеющееся (привычный социальный и политический порядок, магистральные тексты литературного канона, само функционирование природы) — результат чьих-то усилий, которых могло не случится. Стихотворение-перевод Дарьи Суховей отчасти работает в русле этой интерпретации: мы застаём Сервантеса до канонизации, Сервантеса-человека, не желающего писать роман. Перевод Суховей становится своего рода комментарием к тексту Сваровского и прямо указывает на свой вторичный характер: цитата из «Двенадцати» Блока то ли подчёркивает литературный, фикциональный характер реальности, её выдуманность в координатах фантастического мира Сваровского, то ли отзывается радостью миметического узнавания адовых утр.
Ещё один диалог — переводы Дарьей Суховей и Еленой Михайлик такого стихотворения Данилы Давыдова:
мы не должны
наделять авторов древней поэзии собственными эмоциями
понятиями нашего века
это была ритуальная эпоха
время, когда поклонялись
вполне социокультурно определяемым механизмам
по сути, эпоха без личности
лирика той эпохи — лишь повторение канонов, заданных
внешними по отношению к так называемому «автору»
обстоятельствами
не более того.
сложно сравнивать эту лирику с современной
никогда не следует забывать, что лишь теперь лирика —
способ передачи индивидуального чувства,
в прошлом же, вопреки обывательскому мнению,
не было ничего такого, —
пишет литературовед сорокового века
сидя на ганимеде или калипсо
в нанокварцевой кабинке своей
Мы не знаем, где и как прочерчивается географическая и временная граница смысловой непроницаемости поэзии. Фигура «литературоведа сорокового века» проблематизирует хронологические границы лирики, принципы её понимания и географические контексты: это ретроспективный взгляд на актуальную поэзию марсианскими филологами? Архаичная европейская поэзия эпохи «рефлективного традиционализма», вылетевшая за орбиту? Внеземная история марсианской литературы?
Это раздвижение пределов земли как пространства, где возможна лирика, запуск поэзии в космос подхватывается в переводах Елены Михайлик и Дарьи Суховей. Ролевая маска Давыдова, делегирование речи другому, интонация отчуждённого высказывания отзывается у Михайлик имитацией александрийского стиха, заслоняющей непосредственно высказывание семантическим ореолом метра, поэтическими ассоциациями. Замурлыкивание смысла силлабо-тоническим течением стиха превращает текст в корпус универсальных ассоциаций, не принадлежащих чьей-либо индивидуальной речи и ушедших от «я»-высказывания. Отчуждённость, ирония и подвешенность сохраняются и в шестистишии Суховей, где поток речевого автоматизма замирает, чтобы остранить знакомые ударения и интегрировать в поэтическую речь новые, но быстро отжившие слова:
не навязывайте ино-зе?мны?м поэтам
фонетику и просодию знаемых нами наречий
времена были оны и они писали свободнее
чем доступно в наших современных реконструкциях
нам не расставить верно ударения в их э?мо?дзи?
мы им можем лишь и?мхо? и лол со своей луны
— Илья Морозов
Мы возникли на пустыре (беседа Владимира Коркунова и Шамшада Абдуллаева)
Это интервью записано в конце августа 2024 года. Около кафе «Неделька» — излюбленного места Шамшада Абдуллаева в Алматы, куда он любил приходить и видеться с друзьями. В день нашей встречи там не оказалось мест, и мы свернули в кафе неподалёку.
Все два часа разговора мне было неловко прерывать Шамшада — настолько магически звучала его речь: как и сама ферганская поэзия, уводящая в мир несбывшегося, эфемерного, сказанного на высоком языке модернизма. Которая была, но о которой он просил забыть, будто бы её и не было. Как не было и узбекской литературы, о которой они грезили: магматической, сновидческой, «в которой форма — идеальная субстанция и содержание».
Мне казалось, что сам Шамшад Абдуллаев и есть Ферганская поэтическая группа, и его слова об уходе, о возможности выжить и жить, когда о ферганцах никто не знает («Мы живы и дышим, но если нас поймают — умрём»), звучали как прощание.
В октябре мы обсудили редактуру этого интервью и договорились о публикации. Он хотел, чтобы этот текст оказался именно во «Флагах» [1] /книге избранного, которую готовит Михаил Бордуновский. А после расставания прислал фотографии Михаила и Лизы Хереш, сделанные им в Фергане. Будто бы передавал память.
Теперь его сновидческая речь, речь прощания (и незамечаемой жизни где-то внутри грёз ферганцев) — перед вами.
— Владимир Коркунов
Владимир Коркунов: Шамшад, как появилась Ферганская поэтическая школа? Это было попыткой пересоздания узбекской поэзии? Выхода к чистому поэтическому веществу? Или, как пишет Кирилл Корчагин, поиском постколониального субъекта (хотя конкретно этим поэзия не занимается)?
Шамшад Абдуллаев: Этим занимаются теория и история литературы. Как литератор он прав, но мы, как существа, находящиеся внутри этой материи, барахтаемся, не можем определить, кто мы такие.
Вообще-то я против термина «Ферганская поэтическая школа» — мы себя так никогда не называли. Мы дружили с 70-х годов, имели одни и те же эстетические предпочтения. И никогда не считали себя поэтами. Если меня спрашивают о профессии, я говорю: пенсионер. Потому что как только ты назовешь себя поэтом, ты сразу же профанируешь личную природу. Это тоже один из фактов о нашей группе, в скобках — поэтической школе.
Но это не школа. Школа — явление, которое возникает внутри исторических процессов и становится частью крупного события. Например, неореализм в кино и литературе — часть антифашистского движения. Или прерафаэлиты — часть неоромантизма. Труды Макиавелли, допустим, часть рисорджименто. Начинается борьба за национальное освобождение, объединение Италии и возникает соответствующая культура. Это — школы. Макиавелли — это школа. Прерафаэлиты — это школа. Потому что им надо было на исходе романтизма что-то создать. Все модернисты — дети Первой мировой войны, Великой войны и революций. Баварской, русской, венгерской. Все футуристы, сюрреалисты, модернисты, имажинисты и др.
А мы кто такие? Мы возникли на пустыре. Что меня вдохновляло? — пустыри. Потому что там ничего нет, никаких обещаний. Невозможность обещаний стала провокативным источником для поэтического акта. Невозможность быть чем-то значительным, историческим событием — вдохновляла нас. Пустыри, окраины… их сейчас нет. Отсюда предместье, предчувствие мести. Но месть оказалась исторической.
Эти предместья уничтожили. Отомстили за нашу наивную привязанность к тому, что лишено бытийных субстанций. Меня это поддерживает, питает. Я чувствую, что это пространство, этот ландшафт — полное ничтожество, никчёмность. И наши слова о них — такие же никчёмные, спонтанные. Как говорили марксисты: субъективный фактор. А объективный — вся литература была лажовой. Вся среднеазиатская, даже крупные авторы. Всё это конъюнктура, конформистика. И не заявивший о себе в какой-то момент нонкомформизм.
Наши голоса пришли потом. Сцепленность ландшафта и непохожести, которая указывала на перспективу вечности, а вместе с тем, отторжение внешних — культурных, политических, социальных, каких угодно психофизических — феноменов и породили группу друзей, которые садились и болтали. Это общение получило продолжение в наших текстах.
ВК: Если исторически зафиксировать, когда это началось?
ША: В 1976 году я встретился с Сашей Куприным, моим другом, уникальным человеком. Сократического типа — говорит, но не пишет. Но то, что он говорит, — что-то удивительное, вне времени! В мае 1976 года я пришёл к нему во двор, который мы на сленге именовали «третьим интернационалом», потому что там жили армяне, узбеки, евреи, украинцы и многие другие. Я знал, что Саша книгоман и у него потрясающая библиотека. А мне нужен был автокомментарий Томаса Манна к «Волшебной горе». Сейчас я бы его ни за что не читал! (Само собой, «Волшебную гору» — прочту, но лучше: Германа Броха или Роберта Музиля.) А тогда хотелось.
И вот, я пришел к нему, он удивился: какой-то сопляк! Мне было лет 18, а он уже преподавал историю искусства. Такой дядя, ницшеанские усы! Встретил, мы начали говорить. Спрашивает: «Девятый том?» «Да». «В девятом томе нет автокомментариев. Они в десятом. Но у меня нет этого издания». Потом он спросил: «А кого читаешь сейчас?» Я сказал, что у меня нет хороших книг, только Китс и его современники.
Вот он — первый разговор в ферганской школе.
Он сказал: «О, Китс! “Ода Соловью” — вершина вершин!» Мне это так понравилось: человек понимает, что такое «Ода соловью» Джона Китса! А он продолжал: «Помнишь у Пруста…» — применительно к соловью, когда всё угасает, ты прощаешься, уходишь в даль; и неожиданное признание, что в мирное время ценным становится сама повседневность. Не патриотические идеи или что-то иное, а текучесть повседневной жизни. Как только он произнёс эту фразу, я сразу же представил что-то своё. Возникла коннотация — дополнительный эффект.
Наш разговор стал началом ферганской группы. Потом я познакомился с Сергеем Алибековым, увидел его живопись, мультфильмы. Его будущие шедевры — мировой уровень кинематографа. Это ферганская школа (улыбается).
ВК: Поэтому, наверное, не совсем верно её поэтической называть?
ША: Там были художники, режиссеры, искусствоведы, критики, журналисты и просто болтуны. Они давали больше остальных! Куприн — самый выдающийся. Будто пришёл из других миров, но сам этого не признаёт, видит себя элементарно, просто.
ВК: Кого назовёте из крупных фигур группы/школы?
ША: Сашу Куприна, Сергея Алибекова и Юсуфа Караева. Это лучшее, что есть в ферганской поэзии. Караев ещё и переводчик, он переводил итальянскую и немецкую поэзию: Джузеппе Унгаретти, Ингеборг Бахман, Петера Хандке…
Практически все мои друзья, в том числе Юсуф, вышли из криминальных районов, а там сплошь блатные. Это довольно странно, ведь ставший для нас витальной первоосновой мир почвы был хаотичным и анархическим. Но, видимо, этим и стимулировал тайну жизни, внутренней биографии. Ранние стихи Юсуфа в плане чувствования, тонкости восприятия, лиризма — великолепны. И по-настоящему близки итальянскому герметизму.
Но прекрасны и остальные мои друзья — Хамдам Закиров, Энвер Изетов, Даня Кислов, Игорь Зенков, Евгений Олевский, Саша Гутин.
ВК: Тот же Корчагин писал, что ферганская поэзия формировалась на стыке высокого модернизма и узбекской традиции. Согласны?
ША: Если понимать под высоким модернизмом то, что я назвал, — всё верно. Узбекская традиция не влияла на нас — она отсутствовала как факт. Мы её ощущали именно потому, что её не было.
ВК: Речь о некоем бэкграунде?
ША: О бэкграунде и эфемерности феномена, который не стал тем, чем должен был стать. В 20-е и 30-е годы возникли зачатки, заделы, возможности, которые могли увести эту литературу далеко. Но этого не случилось. Так же у иранцев — до появления кинематографа мы плохо знали эту культуру. Она была модернистской и вряд ли сложилась бы без Садега Хедаята. В узбекской литературе схожей фигуры не было, мы опирались на магматическую, сновиденческую словесность, которой грезили, которую выдумывали. Она была только в этом смысле! Но в смысле целокупной литературы как исторической достоверности её не существовало. Не только тюркофонной, но и русскоязычной.
Это даже не регионалистская литература, которая влияет на мировую. Как, скажем, испанцы в 98-м году. Пио Бароха, Хосе Ортега-и-Гассет, Мигель де Унамуно были провинциалами. Это была регионалистская литература, но великая! Она прогремела на весь мир. Как говорит Леви-Стросс, есть горячая и холодная культура. Узбекская литература — холодная, она замкнута в своей изоляции. Потому что для неё гармония инерции гораздо важнее, чем дисгармония сдвига. Для неё этос, нравственность важнее, чем форма и письмо.
Пока это существует, она не сможет развиваться.
Мы же грезили о литературе, в которой форма — идеальная субстанция, идеальное содержание. Что является содержанием текста? Его форма. Мы пытались привить узбекской литературе такой статус-кво.
ВК: Это была задача и «Звезды Востока»?
ША: Мы говорили с главным редактором об этом и пришли к выводу, что подполье должно стать квинтэссенцией литературного письма. Есть ли подполье в природе узбекской литературы? Конечно. И мы нашли двух-трёх авторов, которые приближались к нашему идеалу. Например, Хайрулло. Явление людей, подобных ему, могло стать грядущим воскресением среднеазиатской литературы, но стало лишь единичным фактом. Его упоминает и Корчагин. Это идеал в утопическом смысле. Но утопия — это невозможность будущего. Не просто места, которого нет, а невозможности чего-либо. Мы хотели показать невозможность такой литературы.
Или Абдулхамид Чулпан, классик модернизма, в переводе Хамида Исмаилова. Потрясающие стихи тридцатых годов! То, что забыто, уничтожено, исчезло в небытии, которое поглощает, чтобы это что-то осталось. Оно поглотило Абдулхамида Чулпана в 30-е годы, и он остался несуществующим автором. Его так никто и не прочёл.
Это хорошо, когда никто не читает. В тебе сохраняется больше энергии. Были такие авторы в узбекской литературе? Да, были. Абулхамид Чулпан — бесподобный поэт. Хамид Исмайлов — чудесный прозаик (стихи писал тоже хорошие, но в прозе достигает чего-то невозможного, его «Железная дорога» — шедевр). Это чуждая мне проза, я не воспринимаю провокативный литературный материал: мне важно неизобразимое. Но то, что он изображает, — великолепно. Там, где я видел профанацию, он создает что-то почти сакральное. Ещё уже упомянутый Хайрулло и Хамдам Закиров.
ВК: Вы сказали про непрочитанность, которая сохраняет энергию. Иначе человек подчиняется читательским ожиданиям?
ША: Непрочитанность и есть ожидание, предчувствие события или откровений, которые постоянно откладываются. Это место силы. Другого просто нет. Нельзя же назвать Ниагарский водопад местом силы.
ВК: Тогда что это за ожидание?
ША: Пришедшее от богов, потому что пишут для богов — не для людей. Это не значит, что вы внезапно станете богом. Никто не станет кем-то. Никто останется никем. Как писала Эмили Дикинсон: «Я — Никто. А ты — ты кто?» [2] Я тоже никто. Значит, нас двое. Литература представала как утопия, как нечто непрочитанное — даже опубликованное. Послушайте, после публикации стихотворение становится менее прочитанным, чем до неё. Такой принцип действовал в работе «Звезды Востока».
Я могу гордиться «Взглядом Орфея» Мориса Бланшо в переводе Аркадия Драгомощенко. Это была первая типографская публикация его эссе. Могу гордиться публикациями Василия Кондратьева, его переводами Эдуарда Родити, статьёй о предчувствии эмоционализма, посвящённой Михаилу Кузмину. Могу гордиться стихами Теда Хьюза, Уоллеса Стивенса, Сальваторе Квазимодо, Жака Реда, Чеслава Милоша, Яна Рыбовича, Халины Посвятовской, стихами и размышлениями о кино Пьера Паоло Пазолини…
Суфийских авторов мы тоже печатали. Комментарии к Корану были великолепны! А публикации из журнала Melody Maker? Или современная иранская поэзия, малоизвестная в 90-х годах. Мы печатали переводы прекрасного поэта Виктора Полещука из Ахмада Шамлу, Сухроба Сипехри, Форуг Фаррохзад. Новую турецкую поэзию: Орхана Вели, Октая Рифата, Фазыла Хюсню Дагларджа. Мы их печатали наряду с западными авторами. Рене Шар, а рядом Орхан Вели. Анри Мишо, и тут же Акимицу Танака. Чуть позже — Уильям Карлос Уильямс. Узбекские авторы и тут же — питерская Language school во главе с Аркадием Драгомощенко. Или Чарльз Олсон в переводе Саши Скидана. Разве это плохо? Вот так мы и существовали. Незаметно. И незаметность была нашей сверхъестественной опекой. А потом журнал исчез. Его разрушили — и правильно сделали.
ВК: Перечисленные вами авторы и привели журнал к шорт-листу Малой Букеровской премии?
ША: Видимо, они прочитали и были вдохновлены нашими публикациями. Журнал вошел в шорт-лист наряду с великим рижским «Родником». Мне звонил Михайлов (он был тогда председателем жюри), спрашивал о нашей работе. Я ответил, что коллектива больше не существует. «В таком случае премию вы не получите». Её тогда заслуженно дали «Роднику», Андрею Левкину. Светлая память.
ВК: Вы упомянули про Ниагарский водопад в контексте мест силы. А в текстах они бывают?
ША: В них — да. И когда полное ничтожество, никчёмный человек, какой-нибудь бомж живёт в бараке — это место силы. В рассказе Томаса Бернхарда герой признаётся: меня спрашивают, почему я живу в бараке? Потому что это место силы.
Не только тексты — искусство вообще. Я особенно люблю последние кадры фильма «Деньги» Робера Брессона. Кинотеатр, герои смотрят в дверной проём — и там что-то происходит. Люди, которых выгнали из кафе, как Христос выгнал из церкви торговцев. Они смотрят на экран, и мы понимаем, что это платонова пещера — тени, призрачность мира, грёзы, иллюзионизм всего. Приходит человек, уходит: а они все уходят, никто никому не нужен. Мир был иллюзорен, таким он и останется. Этот фильм смотрится как завещание. Он и есть место силы.
Место силы там, где ты никому не нужен и никто тебя не знает. Даже сло́ва о тебе не говорит. Ты прожил жизнь — будто и не жил вовсе. Это и есть подлинная жизнь. Прожить так, будто тебя не было в этом мире, — вот это место силы. Так же и в поэзии.
ВК: Когда я готовил первый номер журнала POETICA, спрашивал Фёдора Сваровского и Арсения Ровинского о том, что происходит с новым эпосом. Они ответили, что новый эпос, по сути, закончился, и остаётся только в их текстах… А что сейчас происходит с ферганской школой?
ША: Ферганской школы больше нет, все разъехались. Нет самой Ферганы и нет необходимости, чтобы эта в кавычках «школа» была. Если новый эпос существует в текстах, то ферганцы существуют в их отсутствии. Только там, где их не было и нет, они и могут ещё существовать. Потому что путь пройден, история завершилась. Оглядываться, как оглянулся Орфей, больше нет смысла. Ему не хватало воздуха, ведь в подземном царстве метан. Но у нас не будет даже возможности оглянуться. И если говорить о ферганской школе, то мы можем говорить о фантомности, о школе, которая была и остаётся фантомной.
Это мираж, который не терял своей природы. Можно и так её воспринимать, а можно никак. Лучше вообще не думать о ферганских поэтах, забыть их! Забвение охраняет вещи. Это Хайдеггер. И как говорит хор в драме Элиота «Убийство в соборе», мы выживаем, когда о нас забывают.
Ферганцы выживут, если о нас забудут. Наше спасение и наша защита во всеобщем забвении. Хотите, читайте тексты, а лучше не читайте — тогда они будут существовать.
В фильме Брессона «Вероятно, дьявол» есть кадр, который я очень люблю. Рыбак поймал рыбу, вытащил на берег, бросил. Рыба — это же образ Спасителя. Она умирает на берегу. Но пока она была в воде, никто о ней не знал. И она жила. А когда её вытащили в мир иступленной очевидности — умерла. Поэтому о ферганских поэтах лучше не думать, забыть. Мы живы и дышим, но если нас поймают — умрём.
ВК: Воздействие на рецепторы удовольствий — свойство популярной культуры. Как перейти от понятного к чему-то более сложному?
ША: В этом контексте нет дихотомии. Понятное, непонятное — одно и то же. Нет эффекта усложняющейся сложности. Если материал сложен, то лишь с определённой точки, не сам по себе. Мы не знаем, где иерархия — это простое, а это сложное. Кто дает такую оценку? Бог. А Бог умер. Кто даёт оценку? Никто.
Там, где отсутствует эта двойственность, возникают ресурсы и запасы для художественного наваждения. Как в политологии или реальной политике: плюсы становится минусами, а минусы — плюсами. Так и тут. Понятное может стать непонятным, а непонятное — понятным. То, что было непонятным для зрителей 50-х годов, например, «Сладкая жизнь», сейчас абсолютно понятно. Как и романы «Леда без лебедя» Габриэле Д’Аннунцио или «Улисс» Джойса. Там нет ничего непонятного! «Джакомо Джойс», его более поздняя вещь, тоже понятна.
Нет сложности как неизбывной, постоянной сущности предмета, объективной или трансцендентной данности. В мире вообще нет сложности! Сложный язык сложен для определенной системы координат. Например, человеку, воспитанному на эмоциональной культуре, будет понятен голливудский фильм, но не будет понятна поэзия Уоллеса Стивенса или Михаила Кузмина. «Ангел благовествующий», например.
ВК: Он может перейти к этому пониманию?
ША: Другой перейдёт — не он. Потому что ему не хочется. Это лень или инертность.
ВК: Но лень можно преодолеть.
ША: Если у него произойдет сдвиг в плане эго. Если кто-то укорит его эго или он почувствует некие эманации со стороны вещного мира. Тогда он может изменить восприятие и прочитать Михаила Кузмина как нужно, как его мог бы прочесть сам Кузмин, когда писал «Дневник 1934 года». Иначе они не поймут, как он описывает дачную природу под Питером — сродни Мильтону в «Потерянном рае», таким же языком, а ведь это практически белый стих.
Для кого-то это сложно. Но если кто-то действительно хочет стать ближе к этому свершившемуся языку — он может измениться. Если ты тоскуешь по условной «сложности» и не можешь себя найти — только там станешь тем, кем являешься на самом деле. А именно: никем. Сложности исчезают только когда человек хочет стать никем. Нет иерархии, ничто не больше другого ничто. Набоков не сложнее Бунина. И Джойс не сложен. Но где объективная позиция, ракурс, который позволил бы сказать: это сложно навеки? Навеки — это константа, а такого нет. Думаю, от понятия сложности нужно отмахнуться.
Когда мне говорят: ой, у вас сложные тексты… Ничего подобного! Вы ошибаетесь. Оскорбительным было бы услышать, что они не эндемические, не автохтонные, не порождённые своей природой. Но там всё просто.
Поэтому мне важно говорить не о сложности, а о том, что явилось предметом невозможности высказывания. Только когда человек понимает, в чём именно она скрыта, когда начинает говорить о ваших идеях и текстах не вычурным, а абсолютно точным языком, — только тогда между вами происходит контакт. Боги вас слышат, а время исчезает.
ВК: Михаил Бордуновский готовит ваше избранное, и мы берём интервью в том числе для этой книги…
ША: У него гигантские планы! Я не помню, чтобы издатели относились так медитативно к своему делу — как к чему-то метафизическому. Мне кажется, это связано с его ощущением идеализма. Михаил Бордуновский давал интервью по поводу издательского дела. Для него это нечто большее — тоска по чему-то утраченному. Попытка вернуть, восстановить в правах ощущение рая; так же, как и в поэтических работах. В этом есть что-то мессианское.
ВК: Кузьмин в 90-е активно пересобирал литературный мир, делал это на драйве, а Михаил, как мне кажется, восстанавливает утраченное сравнительно тихо, выкладывая кирпичик за кирпичиком.
ША: Быть незаметным — по-моему, лучшая участь для всякого идеалиста.
ВК: В одном из наших интервью Александр Скидан сказал (читает): «Форма важна. Но в то же время, в каком-то смысле, не важна. Есть какое-то состояние, когда ты понимаешь, что китаец, который пишет иероглифами, и Тютчев, который пишет кириллицей, — они пишут об одном и том же. Об одиночестве. О том, что рукав халата завернулся, ты увидел обнаженную кисть и вдруг понял, что любовь осталась в прошлом. Пришла старость. Смерть (пауза). И тут уже ничего не попишешь». Я часто возвращаюсь к этим словам. И сейчас, в преддверии книги, я хотел бы спросить: что бы вы сказали/передали читателю?
ША: Скидан прав в том плане, что между китайцами и Тютчевым нет различий, особенно, когда их уже не существует. Только бесконечное и неизбывное однообразие. Однообразие любви… точнее, нелюбви. Потому что отсутствие можно только так и выразить. Нелюбовь — и есть любовь. Ключика нет, потому что ликов, личин и лиц — мириады. Их так много, что дать ориентир невозможно; множество не нуждается в определении пути! У множества нет пути, даже эффекта хаоса. Я не могу избрать кого-то из них, вытащить и указать на привилегированный путь к пониманию текста.
У меня нет таких ориентиров. Главное, чтобы у человека была тоска по реальности, которая постоянно ускользает от понимания. Если он поймет, что текст доставляет наслаждение в той же мере, в какой он непонятен, — тогда это мой читатель. Это альфа, первая буква. Дальше он сам найдёт дорогу. Захочет — может прочитать и другие вещи, не только этого автора.
Текст не может быть до конца понятным! «Старый пруд. / Прыгнула в воду лягушка. / Всплеск в тишине»[3]. Всё понятно? Но, во-первых, японцы поют — это метрический стих. А у нас силлабо-тоника, мы произносим. Всплеск — та мера звука, которая соответствует тишине старого пруда. Как только человек это понял — он понял, что не понял ещё ничего! Так же, как он не поймет стихотворение «На голой ветке / Ворон сидит. / Осенний вечер». Переведу на русский: «Осенний вечер. / На голой ветке / Ворон сидит одиноко»[4]. Эмоциональный шлейф не нужен, у японцев этого нет. В дзен-буддизме сплошная пустота. Это та нашедшая себя элементарность, в которой хранится невозможность ответа. Безответность мира.
И если читатель прочёт текст и поймёт, что он его не понимает, но именно этот факт доставит ему наслаждение — это будет первым шагом к контакту. Второй состоится тогда, когда он поймет, что всё, что здесь пишется (и не только здесь, но и за пределом) — ожидание твоего невозможного воскрешения, в котором не существует утопии. Тогда это будет нормальный читатель.
ВК: Ваш читатель.
ША: Мой читатель.
[1] Ещё одна часть этого интервью выйдет в мемориальном блоке, посвящённом Шамшаду Абдуллаеву, в журнале «Новое литературное обозрение».
[2] Перевод Веры Марковой.
[3] Перевод Веры Марковой.
[4] Перевод Веры Марковой.
Из личного архива. 2:2 в нашу пользу
Публикация материалов выдающейся поэтессы, переводчицы и прозаика Нины Искренко состоялась благодаря Александру Кузнецову, предоставившему доступ к архивным материалам, Михаилу Бордуновскому, структурировавшему архив, и Маргарите Шилкиной, переведшей тексты в электронный формат.
Что такое х у д о ж е с т в е н н ы й
взгляд на мир?
Рассмотрим ситуацию
Сегодня вторник
Метеосводка предсказывала дождь
на четверг
Вы смотрите в окно
Дождь
Какой из этого следует вывод?
Правильно
Следует вывод что сегодня
четверг
***
Вы сочиняете ночную потенцию
цвета с м и т ь б ю
и морских улыбок
выплевывая радугу
размером с коровий хвост
Ваш стартовый вес три секунды
и несколько пожатых лапок
для синхронного перевода ежа через пустыню
не самых лучших в честное слово неплохие
и выхухолевидной туманности
на туберкулезно-метафизический свист
Если вам плевать не хватает
на фирменную к л ю ш к у из ближайшей
Национали
и абсолютно некогда плевать
искупаться в Средиземном Ниле
Если вы положительный нуль
на палочке
честный и порядочный
и вас ни разу не снимали
с престижной должности
на широкий экран
и конечно ни одна из ваших говорящих плевать
ворон
ни хрена не понимает в политике
а туда же плевать
И разумеется вы надели лыжи
чтобы собирать лютики
или разобраться в собственном муже
Между прочим плевать прилично платят
не тольько за красивые глаза
но и за почерк тоже
Сплюньте и скажите
Над чем вы сейчас работаете
Я сочиняю печную турбуленцию
в цепи бесконечно простых
и с треском горящих
Я сижу на горшке
В райских кущах
***
Говорите только правду
только истинную правду
только правду но не всю
то ли высморкаться в травку
то ли книгу написать
пропадай моя природа
все четыре живота
***
В ожидании Нового Г о д о
выпадает пустой колокольчик
отвлекается робот как мальчик
и чихает разбитый плафон
и как вещь обнимая фортуну
и как фартук свисая с балкона
и рисуя в разрезе антенну
и как символ неся маргарин
вы умны как сапожник и встретив
свой наморщенный нос в самолете
вы теряете нить и бумажник
спотыкаясь на третьем пути
Никогда вашей взбалмошной плоти
не застыть словно взгляд на предмете
и хорошие добрые люди
не застрянут у вас в бороде
В ожидании нового худа
вы берете хромую треногу
и словарь и винтарь и бумагу
вы берете берете бере
те и вам становится так скучно
так кочерыжно немазано-несухо
что вы подставляете стул
к египетской пирамиде
и начинаете медленно падать
как график опоздании комсомольцев за квартал
без особой охоты
и безо всякого труда
потому что жизнь
это сплошное алаверды
ибо стоит дорого
а продается дешево
и ты поймешь или поймаешь это
лет через 500
когда вырастешь
совсем
маленьким
***
чины на плечиках в шкафу висят и телестудят
стучат десятки единиц по крыше каждодня
густеет в мыльнице рассвет и вентилятор гладит
страницы воздуха сухим прерывистым огнем
как сердце бьется в животе как тянет вымя волчье
как человойска монстрие стареет и растет
как постепенна степь в степи как ночь полна бесптичья
и весь вечерешнился в сады слепой университет
детали быта и тепла плывут по вертикали
колеблет сводчатая речь раскрашенный картон
танцует черная звезда в декартовой постели
небрежно стряхивая с оборванных антенн
тонны и фантики недолетевших посланий
которых всегда было больше чем нужно
которых всегда не хватало
I
Стояла молния на стуле
без всяких видимых причин
как девочка в овечьей шерсти
на ГДР-овских ногах
2
Теряя форму и секретность
ломая внутренний режим
скатиться вниз по падежам
в свою неписаную кратность
и тесноту И носом в нос
заесть железный скрип зарплаты
и думать важно как верблюды
намыливая свой анфас
Вас ждут иные вертикали
и планетарии всех струн
сказали мне в одной конторе
выписывая командировку
на третий этаж
и жаропожаясь в лифте
я к вам пишу как ширпотреб
Будь ты философ или краб
искусно выполненной масти
министр акустики и водосточных труб
или блюститель сопромата
твои оглобли канут в моду
плыви покуда не охрип
покуда не
покуда охра
покуда беспробудно слеп
от природы до XXVII съезда
ибо не нуждаешься в зеркале
для души
3
Сердилось дерево в кастрюле
собаки пели про любовь
и слышно было до рассвета
из алюминиевой фольги
***
Культ безличности нас воспитал
чтобы насмерть стояли
за водкой /Коммунисты Вперед/
не чумой не разведкой
встречной правдой и фэйсом об тэйбл
В мире нет непохожих вещей
В мире нет одинаковых истин
Белый хлеб неизвестен
и вкусен как эхо
п р о щ а й
Мы уходим
бежим через край
где двусмысленно каждое слово
где облава как слива
ненавязчиво зреет за синей горой
Мы уже не вернемся в приют
простоты как в пустой соленоид
любви
Мы у ж е не вернулись
Февраль Не достать Снегопад
***
я вас приму
но только без матраса разрешения снизу
и семечек
Откуда этот дым
МОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
любезно скрутило
жгутами трамвая
травмирован тазовый пояс
уютной посадкой
за парнокопытным столом
Мое инородное тело
не тянет
на эталон
На талии нет характерной
товарной наклейки
Нефирменны так же детали фасада
и с улицы не разглядишь
какой на тебе бельэтаж
какие внутри жалюзи фонари и помойки
и как вообще называется эта порода
может быть сельтерский форточный
импульсный стерео-еж
Инородное тело мое
инородно клубится у кассы
У КЕСАРЯ КРОВЬ ХОЛОДНА И ПРИЯТНА
НА ВКУС
Читаем ли мы
или нас
взяли в плен ирокезы
и завтра погонят с утра табуном на покос
Мое инородное тело заржет закопытит
подтаявший грунт
и коряво взлетит
будто спятит
пугая дородных гостей
в оркестровке костлявых ворон
и с тихим приствистом
и с легким зюйд-вестом
пойдет на последний таран
пойдет на открытое партийное собрание
Отрывки из книги «П.А.Е.М=а» (с предисловием Александры Шабатовской, Руслана Комадея и Дмитрия Сабирова)
Выражаем отдельную благодарность Эдуарду Поленца, предоставившего нам книгу Евгения Малахина из собственного архива!
Книга «П.А.Е.М=а» — это концептуальное коллективное произведение искусства, относящееся к разряду книги художника, в которой переосмысляется образ книги так таковой и способ существования и генерации текста в ней. Название иронично намекает на литературный жанр, но основной его смысл смещен в сторону инициалов авторов.
П.А. — Алексей Парщиков (1954–2009) на тот момент (1980) — молодой неподцензурный московский поэт, студент Литературного института им. Горького, восходящая звезда нового литературного течения, которое позже назовут «метареализм», или «необарокко».
Е.М. — Евгений Малахин (1938–2005) инженер-энергетик из Свердловска, экспериментирующий со словом и фотографией. Он также неофициальный поэт, фотограф-любитель, кипятящий негативы, страстно создающий авторские книги, методом пересъемки оригинальной машинописи, совмещением с «варёным» негативом, масштабированием, дописыванием текста вручную и др. К началу 1980-х Малахин создал уже около 15 фотокниг.
В авторах также значится В. Осипов (Владимир Пашкин, р. 1954) из Свердловска — писатель, друг Малахина и возможный соавтор некоторых текстов книги. До сих пор выйти на связь с ним не удалось. Сведений о том, как и при каких обстоятельствах была создана «П.А.Е.М=а» и какой вклад внес каждый из указанных на обложке авторов пока не найдено. По всей видимости, она стала результатом встречи двух творческих личностей, стремящихся друг к другу.
По воспоминаниям близких, соратников Малахина, он был знаком с Парщиковым лично. В 1970-е и позже Малахин довольно часто бывал в Москве по работе, был дружен с поэтом Е.В. Бачуриным (1934–2015), через него познакомился со столичной художественной средой.
В «П.А.Е.М=е» представлено пять ранних стихотворений Парщикова, которые до этого ходили только в самиздате: «Улитка или шелкопряд», «Стадион», «Рокировались косяки», «Статичны натюрморты побережья…», «В старом детстве немом, как под партой, темно…». Тексты становятся материалом для художественной интерпретации Малахина.
Книга открывается «ОСВЯЩЕМИЕМ» «юного почитателя и критика Алёшеньки Парщикова» и является «даром» ему от Малахина за искреннее взаимодействие, способность к творческой рефлексии, самообучению и самоиронии.
Длинный подзаголовок в стиле старопечатных книг дает понять, что оригинальные тексты Парщикова подвергнутся трансформации. Анализировать и комментировать их будет Малахин, он приготовит, съест и переварит их /размажет по стенам/. Произойдет взаимодействие текстов с последующей аннигиляцией и возникновением абсурдных новых. Это книга-концепт. Выбранная метафора кухни, кулинарии, поедания и переваривания передает идею трансформации оригинального текста под влиянием другого творящего сознания. С одной стороны, в книга наглядно иллюстрирует идею тотальной читательской интерпретации Деррида и рецептивной эстетики Ингардена, с другой, показывает путь к, пока ещё механической, генеративной модели текстопорождения. Это становится возможным благодаря технике исполнения книги.
Книга формата примерно А4 (29×23,4 см.), типа кодекс, в оформлении использованы плотная фотобумага, матовый прозрачный пластик, клейкая лента, цветные шариковые ручки и нитрокраски. Технически воплотил «П.А.Е.М=у» безусловно Малахин. В похожей технике он создает и собственные книги и, например, книгу ленинградского поэта и художника Владлена Гаврильчика (1929–2017).
«П.А.Е.М=а» имеет выверенную структуру — «пентаплект пирогов» — комплект из пяти разворотов. Начинку пирогов составляют: «абсурдЕМы», «квадрЕМанализы», «П.фА.рши» и «комМЕнтарии». Один «пирог» это разворот, включающий по две «АбсурдЕМы» Малахина, и вклеенные в разворот два листа прозрачно-матового пластика, на одном дан «квадрЕМанализ», на втором оригинальный текст Парщикова, т.е. «П.фА.рш».
Открывающие разворот «АбсурдЕМы» представляют собой зачин, это Малахин до Парщикова, но уже стремящийся к нему. «АбсурдЕМы» предварены «эпистрофемами» из других более ранних книг Малахина, за ними следует трехчастное стихотворное обращение к Парщикову: «На деревянном основаньи / Построил ты себя как дом, / В котором дверь с замком наружу, / А ключ хранится изнутри…» (1 абсурдЕМа). «П.фА.ршем» становятся стихи Парщикова — фото машинописи проявленное на прозрачном матовом пластике. К каждому стихотворению, на другой «прозрачной» странице, дан динамичный «КвадрЕМанализ». Двигаясь по краям страницы сверху вниз по часовой стрелке, Малахин выделяет «слои», «стены», «секторы», «повороты» и «сны» в стихах Парщикова — чувственного, подсознательного, сознательного, сверхсознательного, тезисно конспектируя ключевые моменты в каждом слое: «предопределённые чувства расплывчаты, деформированы до взаимопереживаний то птицы, то зебры, то рыбы…» (поворот чувственного). В финале каждого «пирога» Малахин (вы)даёт вторую абсурдЕМу — собственное стихотворное переложение (переварение) стихов Парщикова: «Вот – взмах и в очернённости толпы / Достигнуто единство галиона; / Но вновь пуста арена стадиона… / И он слабей яичной скорлупы.». Весь малахинский текст написан от руки цветной пастой (красной, зеленой, черной) и только стихи Пащикова даны в машинописи. Открывая «пирог», т.е. разворот, читатель одновременно видит все страницы разом наслоенные друг на друга. Получается такой нестираемый, но просвечивающий палимпсест.
Книгу венчает «присовокупленная-телепатическая П.А.О.В.Е.М=а» Парщикова А. переданная через Осипова В. Малахину («протелепирил ЕМ») и представляет собой прозаический текст, фантастический рассказ, сгенерированный из стихов Парщикова и малахинских переложений этих стихов.
Таким образом, книга становится творческой кухней, лабораторией по переработке индивидуальных поэтических текстов и генерации новых коллективных. «П.А.Е.М=а» динамична, даже последняя буква в названии книги, после знака равенства, при склонении всегда меняется на соответствующие другие. В книге задано и показано движение активного читательского восприятия, интерпретация фиксируется, визуализируется и трансформируется в иное — коллективное самостоятельное.
— Александра Шабатовская
Сочетание Малахин/Парщиков не меньше шокирует меня, чем то, что главный актер Пазолини Нинетто Даволи играл у Эльдара Рязанова.
Малахин — свердловский стихийный «концептуалист» и экспериментатор, мастер на все медиаруки, инженер по профессии. Многие его эксперименты 1970 и начала 1980-х — потоковые: чем больше итераций, тем больше возможно изменений. Эксперименты по обвариванию фотографий, пересвету, химической обработке, вклейки, врезки в многочисленные книги, возобновляющиеся циклы стихов-ударов, сотни супрематических икон — постоянное процессуальное подтолкновение. Однако теории своих экспериментов Малахин не оставил.
Парщикову тоже важна процессуальность, но он предпочитает смотреть на нее с дистанции, не растворяясь. Скажем, «Землетрясение в бухте Цэ» демонстрирует множественность изменений, но описывающий это отстранен, у него холодная чуткая голова.
Когда Малахин принимается за Парщикова, он испещряет его статное дистанцирование, нивелирует. Он оставляет на текстах Парщикова и около них столько знаков, сколько может. Тексты проклеивают друг друга, просвечивают, чернила застят взгляды противопложных букв. Небольшое количество ранних текстов Парщикова из машинописи превращается в буйство визуальных и вербальных рецепций. Малахин вынуждает парщиковские тексты отступить обратно в языковое — в сорастворение с исходным — с бумагой, с языком как континуумом.
И Малахин, и Парщиков чувствуют бесконечную развертку смысла как пространства, но осуществляют ее иначе. Лишь странное книжное столкновение в «П.А.Е.М=е» позволяет разглядеть катастрофически прекрасную встречу как взрыв, после которой творческие энергии двух авторов расходятся в разные стороны.
— Руслан Комадей
Я попытаюсь описать свой опыт работы с рукописями Малахина для этой книги. Первое, что хочется отметить, это невероятная энергия его текстов, написанных поверх стихотворений Алексея Парщикова. Ты словно входишь в реку с сильным течением, но тебя не уносит потоком: есть возможность наблюдения за этой силой, можно рассмотреть разные её слои по отдельности и вместе. Пребывать в таком зазоре различного формата (пустой центр листа в «квадрЕМанализах» и тесное наложение строф-вариаций поверх парщиковских текстов) многого стоит.
Проводимый Малахиным эксперимент — это, на мой взгляд, своеобразная попытка проявить минус-корабль, показать другие возможности и направления метареалистской практики, но не похоронить при этом истоки этой игры, подарить другой взгляд: не только показать, насколько велики возможности метафоры, но и дать читателю прочувствовать на себе ощущение странника, возвращающегося к началу пути, но уже совершенно другим.
— Дмитрий Сабиров
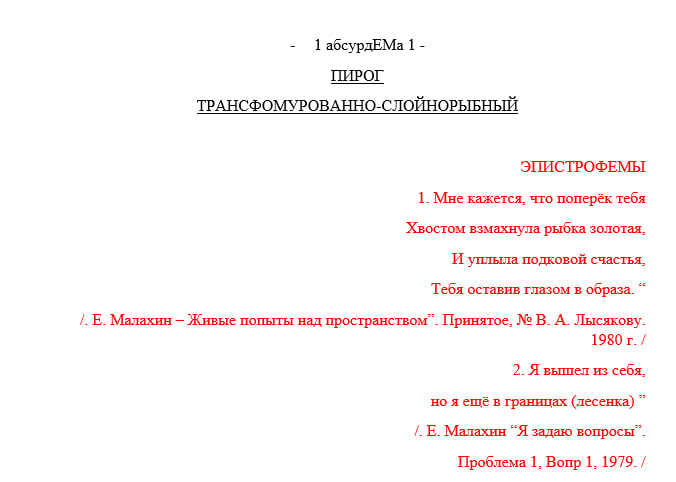
1. Передо мной твоя картина,
В которой ты за слоем слой,
В порядке конструктивных отложений,
Желаемую мысль определил;
Затем в плену инстинктов и себя
Достиг действительного результат
И далее, опомнившись уже,
Воображаемому волю дал
И попытался в меру отстраниться
И подготовить кисть или перо
Для связи с наивысшим наслоеньем,
С идеей расширения пространств.
2. Не разрушая, упреди,
Внедрись в лежащее под спудом,
Из настоящего уйди
В общенье с будущим и чудом,
И вдохновения не жди –
Без багажа беги оттуда!
3. Для взлёта ввысь нужна душа,
Она сама пути укажет,
Но не желая явной стать,
Она потребует сокрытых ощущений,
Базирующих почву для нутра,
Родящего отброшенное слово,
Лежащее на совести покатой
И на решётке новых слов,
Чьи символы сознанья в языке,
Внутри каркаса зашифрованных конструкций,
Но более не требует в ответ.
ЕМ.
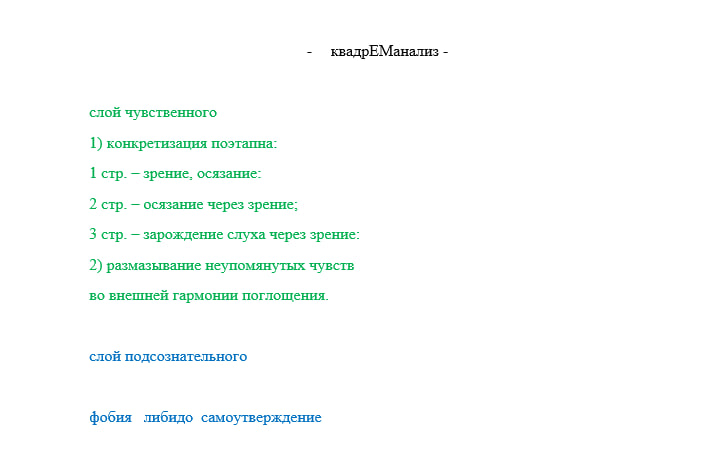
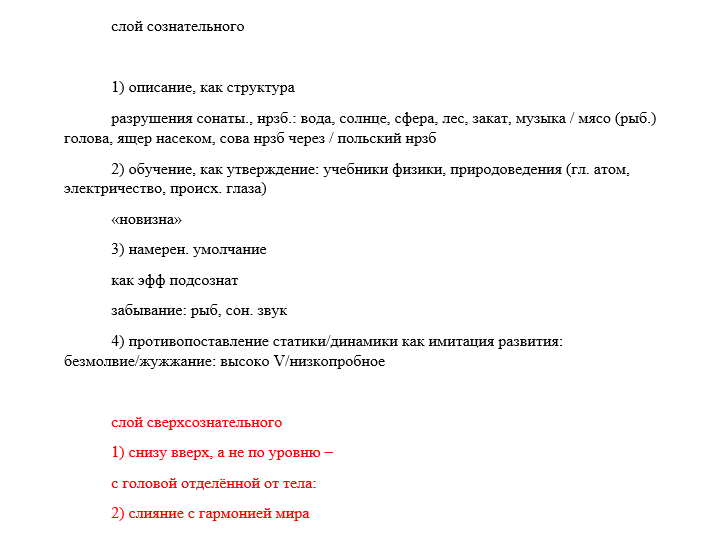
- П. ф. А. рш -
ПАРЩИКОВ. А.
Статичны натюрморты побережья:
трофеи солнца и мясная лавка,
где нас вода ощиплет и разрежет,
чтоб разграничить голову и плавки.
Засовы ящериц замкнут на валунах
безмолвие. Оно застрянет комом.
Висит, модели атома верна,
сферическая дрёма насекомых.
Соборное вместилище лесов.
Высоковольтный дуб на совести заката.
И глупая лоза. И куклы сов.
И польский камышей. И зависть музыканта.
- КомМЕнтарий -
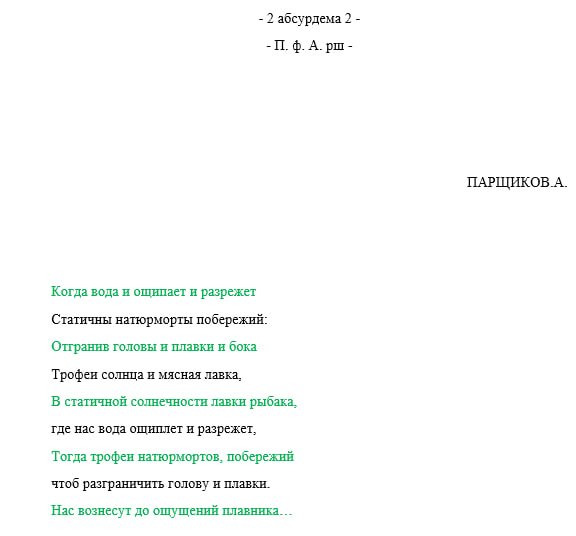
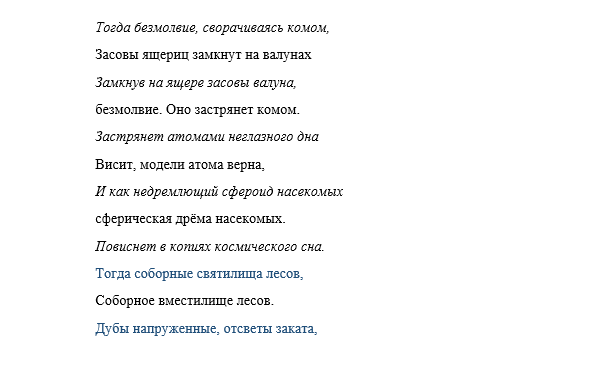
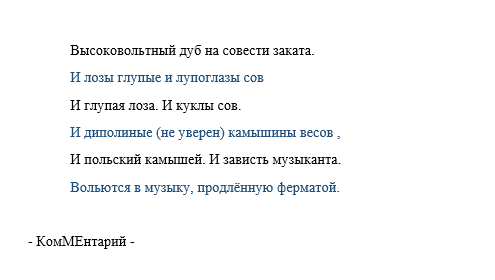
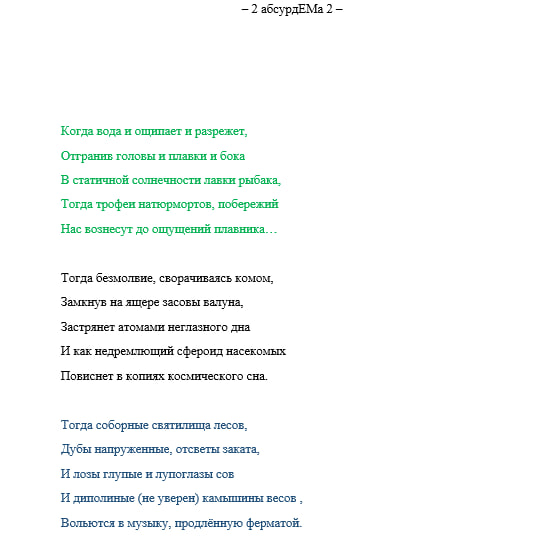

Фрагмент из «Присовокуплённой телепатической П. А. О. В. Е. М. = ы»
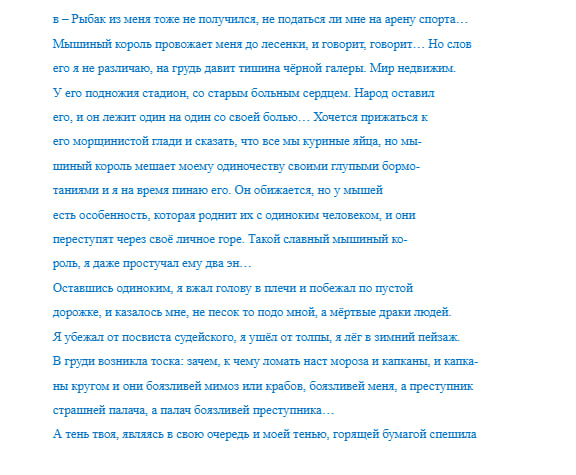
Восемнадцатый альбом. Четыре наблюдения (расшифровка Дани Соболевой, Лизы Хереш)
Мы благодарим архивиста Елены Шварц Кирилла Козырева, разрешившего работать с архивными материалами, и Павла Успенского с Артёмом Шелей, чей долгий труд позволил взаимодействовать с архивом электронно.
Эти четыре записи — прикосновение к тому большому архиву Шварц, с которым авторы этого предисловия работают уже несколько лет. Кроме рукописей и вариаций поэтических текстов, адресов отелей, идиом из других языков, которые Шварц несистемно, но постоянно учила, на страницах её дневников часто появляются заметки о творчестве и Боге, впечатления о чтениях и записи снов. Мы надеемся, что эти отрывки позволят показать то прозрачное, интеллектуально заряженное пространство, в котором рождались эти тексты.
— Дани Соболева, Лиза Хереш
*
Переписка М. Ц. [Марины Цветаевой] <и> Р. [Рильке] и <обрезано> <П.> [Пастернака] письма как тайное творчество, принципиально сокрытое. Никогда не понимала ревности обладания — сокрыть себя, всегда кориться, это творческий инстинкт — рассказать.
У Ц. не так, без меры расширенная личность, только Бог имеет право себя.
Переписки — боль.
*
Юродивость Моисея была не только попытка святого укрытия, но и просто единственной возможной формой выражения того, чему нет названия.
*
Смерть не меньше (просто более частое) чудо, чем воскресение. Посмотришь на какое-нибудь цветущее существо, разве может, кажется, оно умереть, Смерть противоречит всему, она <верность>, она — то, чего нет в библии.
*
1 авг.
Во сне спрашивала — как всё поместится там (на том свете)?
— Там отражение того, что здесь, потому всё поместится — ни больше, ни меньше.


