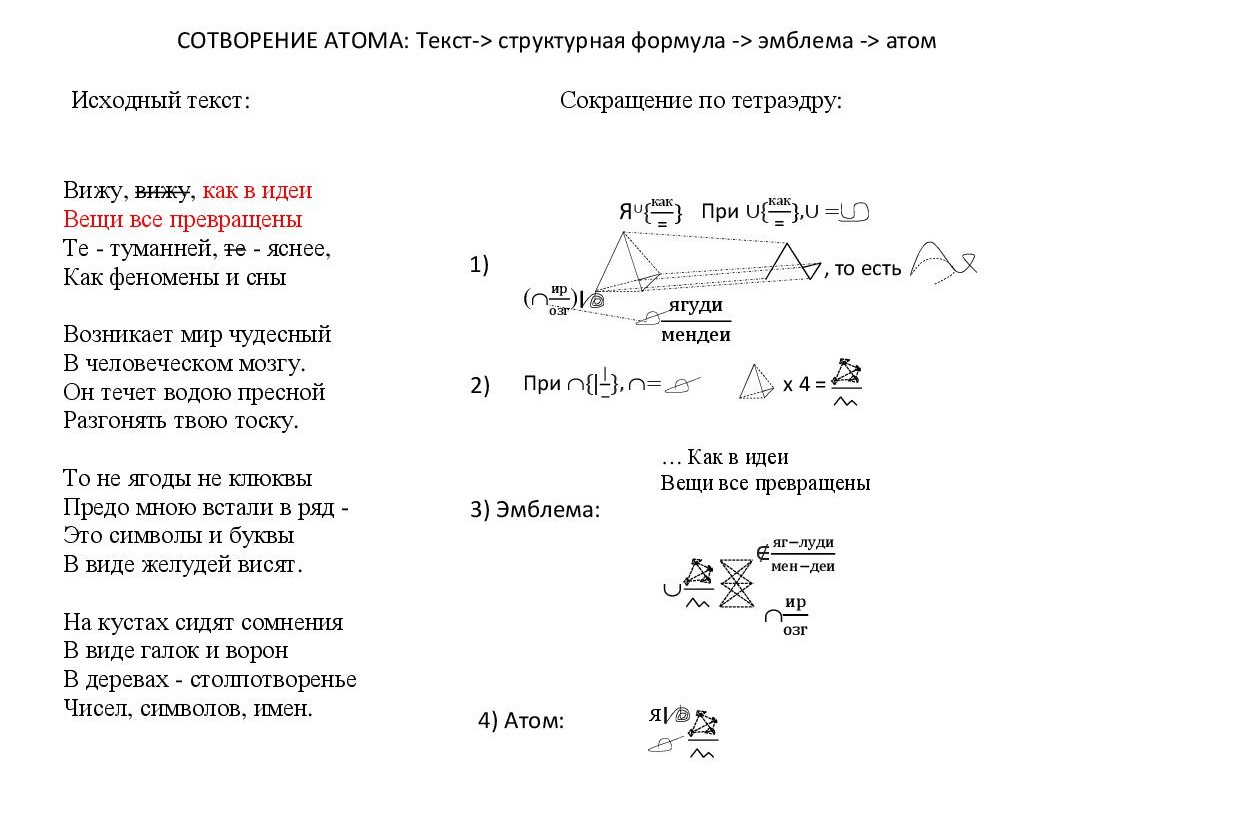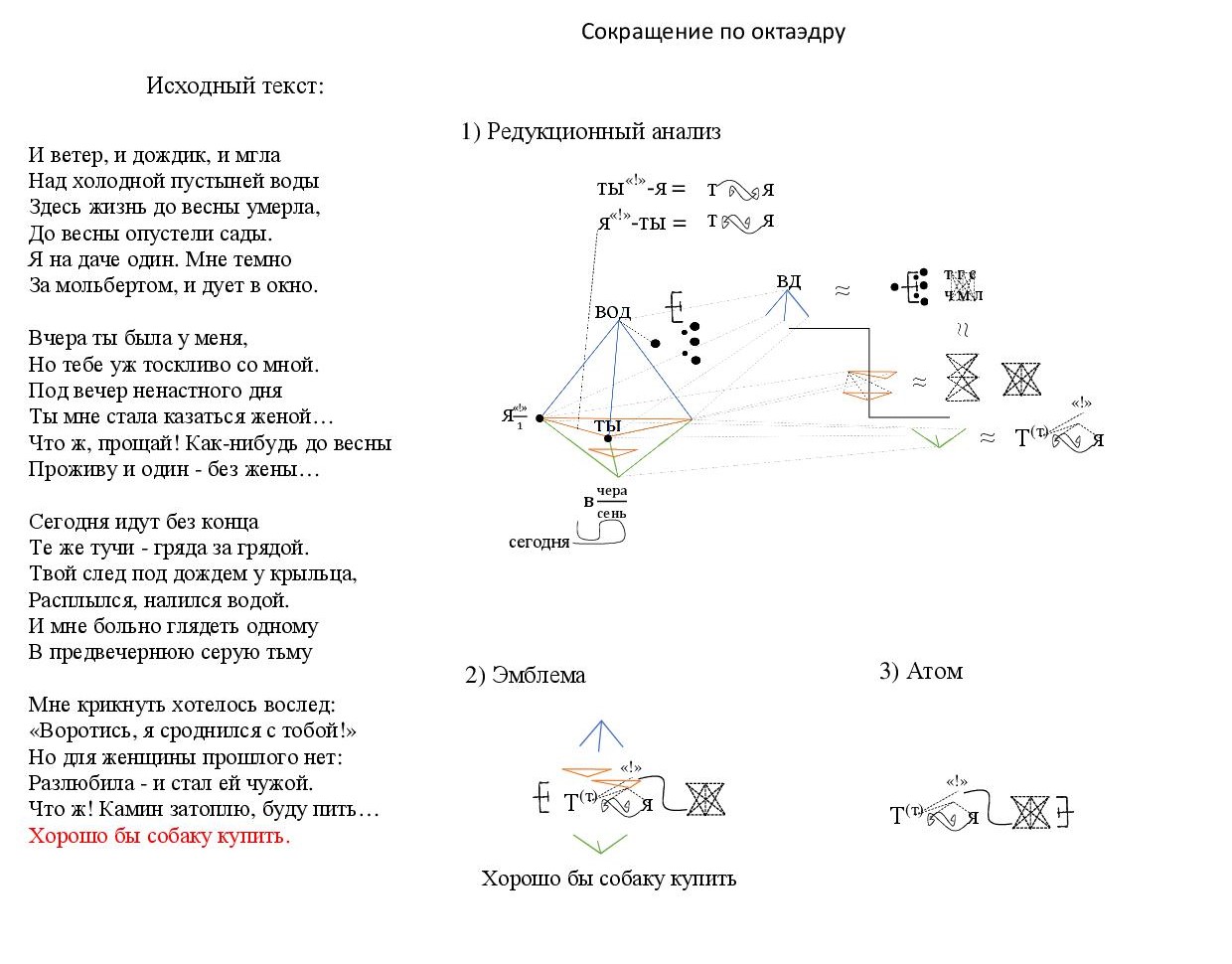«Флаги». Седьмой номер
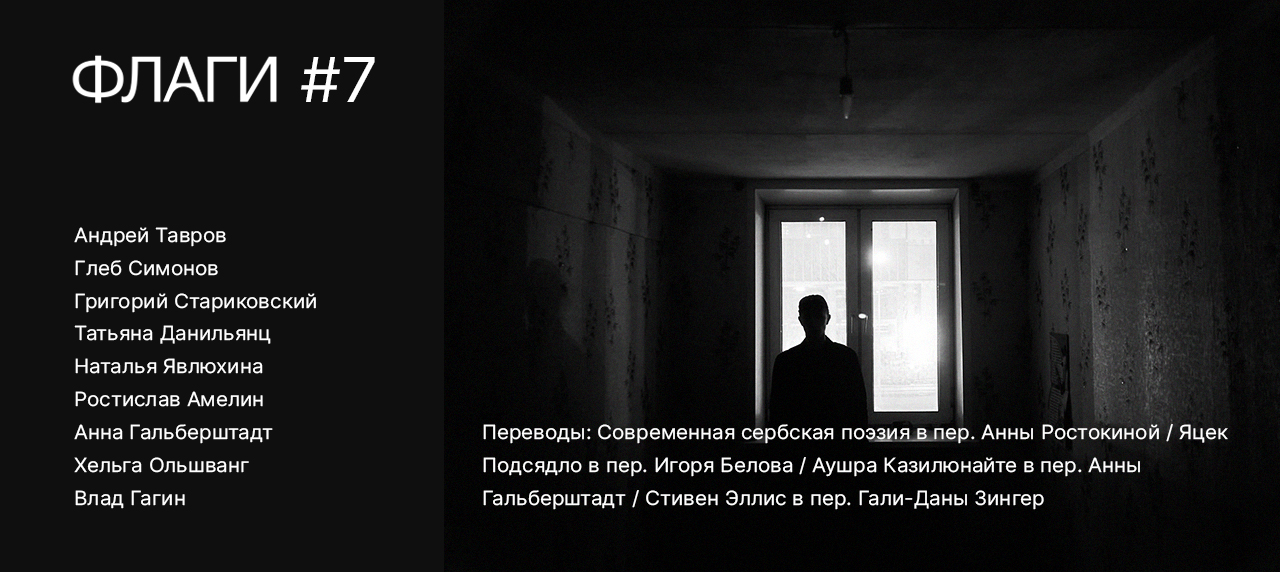
Содержание
Фото на обложке – Никита Караск | inst: @karaphos
Барельеф в Константинополе
АХИЛЛ ЭТО СМОТРЯЩИЙ
птица петух обросла петухами
расходится в зеркалах потухая
зеленым пером гребнем как топором
себя настигая
у реки собой обрастаешь, богиня,
то же предмет принесенный сюда человеком
цербер трехглав как любое имя
пейзаж запрокинут втрое под тихим веком
за солдатом тянется он повторенный
многократный убитый непроторенный
сферы небес мелют зерно по кругу
галера вбегает грудью в повторную груду
брызжущую светом аки бутылочным боем
любое лицо – любое
стопкой белых стаканчиков повторены
здесь и повсюду
не орел двуглавый а лик стократный
себя в себе не упрячет как в чемодан шмотки
человек разошелся в воде обратной –
кристалл марганцовки в стакане водки
Ахилл смотрит на себя стоящего в красных ладонях
распихивающего пространство растопыренным вкось лангустом –
смотрит безмерный мир на каплю в которой тонет
обретая в ней тело словно зажгли люстру
расширься ж убитый солдат! что ни есть – все небо
все – гармошка миров грудных сердечных железных
вот вздохнешь и сойдется шнуруясь неровно нелепо
с мертвым – безмерное с шатким лицом – бездна
обнаружишь себя – того, кто смотрит на звезды
не отличая их от ахилла, тебя – от жилы
у него на лбу и небо шевелит весла
и различает живых и входит по грудь в могилы
***
Стеклянный кентавр в стеклянной маске
не она ли на небе все к чему прикоснулся
к сосне над ручьем белке плоскому оружию
букве стеклянная листва в стеклянной роще
стеклянные возлюбленные пропадают друг в друге
сбросили имена одежду вес мысли листву в фонтане
иву с прозрачным как флакон соловьем
перья из воздуха слова из неба речи из воды
в слове ах больше расширения чем в слове
ничто они сбросили губную помаду болезни
сбросили окошки в снежинках атакующие бедра
похожие на собачьи
внутренняя форма это
сочетание стеклянных фигур сфер палочек
после выстрела бесшумно разбредается
как медицинские банки и мыльные пузыри в переулке
по другим существам: пирамидам яблокам людям
хирон стеклянный с прозрачным яблоком на голове
сам себе выстрел сам себе яблоко
кровь бежит по затылку как красная совесть
удлиняясь не выцветая
БАРЕЛЬЕФ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
Еврипид осматривает маски
смотрит зеркало на Еврипида
в маску лицо вложить это взглянуть из могилы
из чернозема воздуха и огня
с той стороны себя где блаженные боги
испепеляют за ложное имя
скачет бык на меня
вывернут амальгамой наружу
и зеркалом вовнутрь как термос
быстр как черный факел лабиринта
что в слепых глазах и Зевс загасить не в силах
лист пятипалых кленов звездой
бриз пальцами выпуклыми колышет
застилает улицы красным ковром
катится стеклянный шар Агорой
полый ростом с человека
никто не знает имен
Еврипид осматривает маски
погружает
размытый профиль
стертый едва заметный
как на старой и плоской драхме
в Геракла Ифигению Алкесту –
в Стикс в огнь и в жижу трупов
в волну залива (что обтечет его
лицом струящимся гераклитовым
обратным
удержанном Фетидой от распада
чтоб Океан в лице утопленном в него
расширившись нашел себя
как карусель сойдясь находит центр
в точке покоя)
Еврипид осматривает маски
вбегает в тьму вещей затылком
во тьму их сущностей как будто бы в вагоне
бегущем по тоннелю
спиной вперед
и голова его огромное яйцо
в котором затаился кукушонок
и тенькает и шепчется и плачет
и кроны ходят как вода в бутылке
и внутрь лицом лежит амфитеатр
и шевелит подземными губами
КЕНТАВР
Себя он вынимает из глазницы
и снова падает в нее, словно лангуст
весь в терниях, расширенный и встречный
Из твердых конских вод рванувшись человеком
все задыхается все гнется, словно серп,
и, как бумага, догорая
корёжась в дырах и прорехах
сбегает, мучась, от самой себя
чтобы в себя уткнуться
так он кривится от перста Афины
и жжет его огонь в котором как в рубашке
стоит богиня с медленной улыбкой
что богу жизнь кентавру пламя
Расплющившийся вскачь о человека,
его он носит грудью, словно плоский шрам,
а тот руками в воздухе кричит
и ходит колесом и воздух забирает
и прячется и плачет и рыдает
забившись в норы темного себя
ОСЕНЬЮ
Тигр выйдет из клетки себя
оставит полосы прутьям –
прозрачному двойнику
и ты выходишь из ребер
лицо твое спрятано в роще
в каждом лице серебряном
в бабочке золотой
корни все пальцами ищут
ощупать лицо земное
и небо расти начинает
с воздушной ямы рогов
олень стоит со всплеском во лбу –
прозрачной лодки весло
гребком себя выдаст и канет
с той стороны бытия
нет смерти есть всплески и корни
шуршанье невидимых лодок
и швейных строка челноков
вдоль лобного зрячего неба
ты скроен задуман и слеплен
искуплен оплакан и узнан
и бездна в бездну течет
и путник из глаз пропадает
МЕТАМОРФОЗЫ
Коровий череп обрастал
растяжками, мускулатурой, божьим оком
глазами Геры, спрятанной за рощей
вот за зубами пробежал язык
возникнув из земли и эйдоса огня
и мышцы дольние заколосились
внутрь эллипса и били в них ключи
и водопады плоти –
как Лазарь выходящий из могилы
весь в родниках и облачных сцепленьях
она была – рождался полумесяц тонкий и молочный
над волоокой головой и маятника волосок спиральный
пульсировал в ее виске
отсчитывая новые секунды
и в ней и в розе что глядела справа
в спирали с шагом фибоначчи
в открытом рту.
Лицо ее – наполовину бог, а на другую – мясо и ремни
а между – лира в мятном ветерке
как будто ангел крутит мясорубку
Зачем поем мы больно и протяжно
зачем небес летит аэроплан
зачем над нами роща машет желтым флагом
зачем нас жжет продольный божий эллипс
что в мышцы вложен как Геракл в огонь
как солнце в маятник спиральный
подвижных сфер
и роза дышит нам рот-в-рот рот-в-рот
сгибая в нас дыхание подковой
и вздрогнув ищем рядом мы друзей глубоких
как вдох...
СОЛДАТУ ПО ИМЕНИ ЭР
он дробь стеклянных шариков их облако
стесненное продольным языком как лодкой
красной и влажной
красный и влажный Эр
в пространстве сложном листьев
себя из натяжений мира вынимает
пятиконечным звездным знаком
как будто только что родился на колени
и весь раскрыт
Мир шариков стеклянных!
то самолет, то пыль то человек –
и в пестрой утке вы скользите и летаете
ее собрав из слова утка и себя
и палочки стеклянной в клюве
И Эр идет с костром на голове
в огне из языков – весь в пузырьках
подводных легких как бутылка от нарзана
и в каждом – мира выпуклый охват
и каждый держит эмпирей, планеты, Эра
и задний двор и магазин со стеклотарой
и грузчика с углями в волосах
и луч к нему протянутый пробиркой
с убийцей человеков кислородом
так толпы строить башню вдруг сошлись
как воды в центр водоворота
откуда вышел полый кто-то
как рыба рыбы из себя
и промолчав ушел и вот
воздвигли столп и вдруг распрыгались
по полу лопнувшими бусами
а звездная река течет сквозь голову мою
и листьев линзы кружатся парят
и сжатый парусный снаряд
кочует вдаль по светоносным сферам
все дальше от ошибочного мира
где мертвый Эр еще не назван Эром
и шарики кровавые стоят
ЗРЕНИЕ
пирамиды шары и лица
над совершенной плоскостью птица
летит в четыре стороны света
с двух сторон любого предмета
леонардо стоит провожая лето
из глаз его течет монна лиза
и застывает выплаканная на лишнем
холсте бусами разнесена по вишням
структуры наблюдения
нас тут не надо
кенгуру убегает от любого взгляда
в ушко иголки чтоб жить там вечно
по мелким экранам разбрызганы вещи
воздух стоит в рукаве пальто
найдя свою руку как ветер серьги
что отразится в зеркале
когда его
не видит никто?
Пока мы живы, и кто-то
***
первая — повязанная на ветки
мелкого ясеня
в конце насыпного мыса.
вторая — на карликовой березе,
возле загонов, ночью последнего дня.
ставшие средством;
у них и просить прощенья.
***
ветер спиной к заливу.
контур, утраченный. время камней —
пятнами в толщине ночи.
время вокруг (вниз).
видимость, ставшая плотностью;
нерасстояние — долготой.
зелень, едва заметная, в темноте выше.
так смещается всё:
неразличимое. целое.
тяжесть в осадочной страте —
в общем согласии,
кроме оставшегося где свет:
цвет на снегу,
удаленное пятно лодки,
травы над рытвиной, тьма
и дневные следы.
–
человек не стареет,
пока он смотрит в окно.
***
1.
клей. двоемыслие —
битумным кругом
на дне цистерны.
вязкая немота.
2.
долгий плач над пороком.
–
став горящей собакой,
небо над городом
схлопывает куски.
***
есть разница
смежных давлений — близких,
испробованных, и есть
красные знаки,
угрозы возле опор.
свет подсказывает движение
между оградами: блеск,
отражение ламп
в крошках старой слюды,
колонна швартового пала —
к ним и спешит,
пристает,
прерывается речь.
–
треск подстанции — тихий.
громкий.
приливные винты.
***
путь от погрузочных доков
приводит в никого-снег.
старость воды.
клочья пакетов,
набившиеся в решетки.
–
место, созданное мостами,
пересечением — пыль,
еле заметная, идет сверху.
круглогодичный грузовой шум.
–
холод как ложь?
в незаметном согласии
точки нисходят,
всетерпящие в асфальт.
***
извлеченные.
ставшие чем-то
возле воды,
воздуха.
бледные ржавые сколы.
–
пыль, набившаяся в прорехи,
достаточная для трав.
–
рядом гнезда ворон,
тихая вороника.
***
они жили, жили,
они сменялись —
на одной полосе
вышедшего из тяжести, ставшего —
берегом: жертвенник,
прежние
в сланцевых нишах,
торговый пост.
их обещание —
камень трескового жира,
в новых кругах,
и где новые не отсюда
смехом — распугивают овец.
***
пока мы живы,
и кто-то.
–
вольное волокно
бережет застеклённые стулья.
–
вечер над именем не
выговаривает имен.
***
небо над домом.
деревья. уже
не пытаясь выяснить,
что именно происходит —
и как если бы снег
был всегда рядом, был
ближе чем даже зимой — мы
жили. мы не боялись. ясность,
случайная, невозвращенная,
первая с немотой.
ночь на обкатанных
льдистых тропах.
вечное «да».
***
они здесь, позади
в керамической нише:
между воздухом
и заглушкой, и
где высокая черепица
спускает на землю
искусственный конденсат:
не-
возможность не-
-при-
косновения —
страх,
и слётки-шумцы
берегись-оперённые,
через день — в низком тисе,
раздетые
летним дождём.
Птица разрыва
бруклин. мидвуд
он отворяет калитку.
течет и лоснится дорожка
деревья выросли с прошлого сентября,
он отсчитывает третье дерево.
опорожняет бутылку. вода выходит
нехотя, с брызгами, часть ее мимо
льется на траву, на случайный сор,
окурки, обрывки бумаги, птичий помет.
салфетками он вытирает насухо,
доводит до чистоты поверхность.
на бархате камня загораются семь свечей.
круглое, как на римском снимке, лицо
проясняется, на губах повисает
улыбка, будто за спиною камня
ползают бронзовые черепахи,
гибкие мальчики держат чашу.
***
подарю тебе к осени
голову камня на подносе озера,
темную в промывах лишайника,
кто-то плакал и превратился
в дачника, на серой воде женился,
на изгибе ее, о еще потанцуй, пожалуйста.
в сером утре отвесном
лодки идут, как невесты,
след рубцуется прочерком,
не доплыть мне в сентябрьском сиротчестве
до ольшаника в лиственной внятности,
до наглядности, честности, частности.
Н-Й, лето '20
1.
кто не отхаркивал здесь
прозрачную слизь
твою, справедливость,
не сотрясал устои воздуха
дымным дыханьем твоим, свобода,
не срывал обвислые флаги, не плясал на их пепле,
не крошил витражи ворованными кирпичами,
не целовался с землей по секундомеру,
тот – дальняя даль, неродное тело,
проваливал бы в свою берлогу,
переводил своего гомера.
2.
вот человек, не надо мне его,
и так полно его,
на площадях его говно его.
о новый липкий мир говна его,
и кулаки его, обернутые в мир.
есть в русской лавке морс,
латинский сладкий морс,
не поднимай кулак,
останься человек,
и так их нет почти,
и только кровь – жива,
и только кровь – слова.
3.
братств и равенств речевка,
посох, змея́, снова посох, нет, всё же змея́.
с бесхребетною жалобой лезут.
ярость, как мертвое небо, несут.
прикоснешься, коростой займется ладонь,
отведешь – ничего, можно жить
через реку и дальше, как прежде ходил
открыватель колумб по зеленой воде.
о койоты ночных площадей,
вам бы крошку витрин, как похлебку, варить
и над пламенем вялить аптечным
золотое свое «ненавижу».
4.
лучше – прелью, падалью, только не
наискось, поскальзываясь на слюне
сердоболия к чужой, непрожитой,
выжимать слезу, как над прожитой.
только не тонкобровая слепота
разговора, не жалости глупота.
листопад чадит, от него – темно,
лучше – ржавчина, перегной,
только не ваять ломкий голос дней,
жизнь, подсмотренную извне.
что там светится, как там дышится?
ничего, ничего – ледышечка.
***
музыка – это, в сущности, пепел,
лопается бечевка, сыплется горящая
оберточная бумага, добрая ночь
по краям, дальше – гуще и насовсем.
вспыхивает птица разрыва,
ноет рассохлое дерево
новой эоловой арфой (остальное –
стена теплостанции, отслаивается
штукатурка). это – жаворонок костра,
жар подобрали, натерли медное
брюхо огня до скользкого блеска,
пусть потеплится, пошелестит золой.
***
по смарагдовым сумеркам – лезвие,
выпрямляя линию по волне
легкой ткани, как свет в окне.
пилит скрипочка невозвратная
нá два голоса, нá две девочки,
на скамейке парковой две крылатые
тянут песнь узлом: полый слух наморщь,
неудачник, срочник кленовых рощ,
золотую потрогай ложь,
раскопай беду, раскали до льда,
и ныряй под лед, и ложись под нож
тошной памяти, подыхай туда,
или воском уши себе залей,
прозвони в безмолвие, уцелей
и сухарик ночи, её окно,
обмакни в дорожное полотно.
***
через дюну, одну и другую, с холщовым мешком,
полотенца два пляжных, защитная мазь №100 –
масло масляно, кремовый том карамазовых,
зонтик в футляре складной, ножка его по колено,
но овальная тень от такого – скупая слеза.
полотенце распахнуто, складками льется руно,
подражая воде. быстрый бег, остановка и всплеск,
и смещение линий воды, набегает волна
и ложится собакой, которой сказали «умри»,
и ползет, остывая, и – всё, проглотила иголку.
жалко мальчиков всех и медузу на мокром песке,
тает луковка-слизь, кто подаст ей соленую жизнь?
рядом чорт отпускной в черно-белом шезлонге.
серебрится отлив, тонко стонет лакей смердяков,
взмывший в небо, на птичьем фальцете.
дальше нет ничего, дальше рыбьи горят плавники,
ни тебя, ни меня... не зови ее вечностью, глотку
океана, зови ее именем женским, чужим, –
это митя сбежал, и америку в ладанку спрятал,
как мы прячемся вместе от зноя – в холщовую тень.
Речесибирск
***
Он есть в цеху но нет его в весне
во влажном воздухе
арбузы сны и запах
там нет меня и это всё во мне
где облетает камерное «ах»
на это ах ты мягко наступи
считая шаг билетики впотьмах
засунь в карман меня с собой возьми
и город все тот же
как если бы я
***
И разойдутся пылью поезда
по костылям морзянкой выбивая
тоска тоска мечта мечта тоска
еще одна мечта тоска другая
так полусонным пальцем собираю
зеленые и нежные слова
плету в своем Речесибирском крае
где руки скованы и лапам нет числа
и рельсовая птица замолкает
***
И будет по раёну литься речь
о том как нравится и лайками палиться
и что-то драгоценное беречь
перебегая вдоль по госгранице
уже три тридцать за окном синица
мы нарисованную вместе топим печь
в квартире наше всё клубо́чится урчится
и знает ход и может пересечь
гуди в гудочек утренняя птица
***
Все будет хорошо я лягу спать
во сне все будет так как мы сказали
мы дождались нам выдали медали
не шоколадные ну ладно что с них взять
на склоне ситцевом лежит ночная прядь
гудочек выдал нам на сборы две минуты
и было всё так трогательно тупо
что сном не рассказать и мной не описать
труба звала – мы и её проспали
***
За спиной из окна повисает луна
над прохожими звонко гудит из окна
белый свет подоконного сада
на мафоне играет ламбада
я заснул и узнал что поёт мне она
очень долгую жизнь прерывание сна
посреди всеянварского ада
не буди меня больше не надо
***
Дыра в земле коммуникаций план
бетонный блок и дяденька с бутылкой
пейзаж окном распилен пополам
а в небе черти что и сбоку дырка
из дырки дождь рассыпан по углам
бежит куда-то ежик из резинки
у ежика в кармане пыль и хлам
и буквы есть у ежика в корзинке
разложены по письмам и следам
***
Каленым воздухом размыты фонари
и крыши плавятся и плачут гопари
слеза темна и танки наши быстры
дорожка тянется ты только говори
иду по голосу пока молчат министры
и издевательски глядят в календари
я напеваю песенку со смыслом
отсчитывая месяц, два и три
завален горизонт, скрипит мой стул
сначала слово было, после я заснул
***
Четыре месяца я песенку пою
за темпом роста цен мне не угнаться
я нарисую графиком инфляций
оленность глаз твоих и быкость лба мою
вечерний звон в привычные без двадцать
но нет в цеху и нет меня в строю
в заборе брешь размером в два абзаца
ушел искать республику твою
дождем на следовой шаги размыло
и в этой песне все останется как было
***
Фудкорт закрыт мы все уже на фронте
там новый год и сестрам по серьгам
в потемках бродит серый комиссар
и засыпает ужасайзер подколодный
кого ты ищешь саблезубый санитар
усталый голос стук-постук дремотный
пробита жесть негоден барабан
стоит бычок лежать теперь не модно
вьется-пляшет междревесный огонёк
дома праздник провожают на денек
Камни ополченья
***
на сельской дороге клубящейся как облака
осы влетали в детей пробивая ключицы
так что вертелся сентябрь с мордой зверька
в них до скончания молока
ссадины и мокрицы
я разглядела двоих, в голубой мгле жары
мимо собственных дней проходя осторожно как мимо
спящей охраны: девочка лижет сливу
мальчик трогает палкой другие миры
наклонившись над лужей; девочка отвела
мою руку от гулкой ягоды черноплодки
я так же молча ягоду сорвала
и съела – они встрепенулись как от щекотки
и, две веселые птицы, напали на куст:
отныне неугасимые дети села
знают что черноплодка не ядовита
я запомнила их навсегда и продолжила спуск
по гремящей реке черепицы и стекол, увитой
яркой и ломкой лозой, к тишине вдалеке,
прыгая через носящихся всюду куриц
будто в игре на совесть, и местный погост,
висевший на ослепительном волоске
осени, рухнул мне под ноги, и, сощурясь
от закатного солнца и плавного блеска звезд
летних балканских, заплывших в траву по пояс,
я вступила в него – воцарилось сиянье в виске
и воцарилась пропасть
в которой звенит колокольчик, стареет эмаль
и резной циферблат пассифлоры всё ту же печаль
мертвецам отмеряет внимательно что и при жизни –
лучшую в мире, и не бывает другой
и старик, отводивший осла как ребенка по сизой
проселковой дороге домой,
приказал подождать у калитки и вынес в сыром
полотенце холодных, скрипучих,
аспидно-черных слив
собиралась гроза и звенел за телесным углом
колокольчик латунный про участь
мертвых лежать истекая печалью живых
тем же вечером девочка с приотворенным ртом
не отмывшемся от темной крупинчатой крови
выпускала сентябрь из живота под мостом
походить до утра, постоять у меня в изголовье
***
слава всем уставшим дочитавшим
до остекленения веранд
слава всем искавшим и пропавшим
слава всем решавшим вариант
под гирляндой белого налива
озарявшей в августе террасу
речь травы черна нетороплива
мне ей больше нечего сказать
помню мы ушли отсюда сразу
но не до конца – от нас осталось
нечто остающееся ждать;
слава той секунде когда жалость
распахнет свое сумрачное крыло
обрывая гирлянды, валя всё набок
слава тем кто шагнет под него
раньше чем станет белым-бело
вокруг от античных яблок
***
сны ссср: туберкулез,
переподготовка, листопады,
странная решимость речью ос
заполнять научные доклады
«сколько до полозьев и глотков,
где к ночным затонам припадаю,
лурия отмерил мне шагов?» –
спрашивал выготский у богов
гипсовых, мяукавших «не знаю»
что еще им было отвечать,
лупоглазым детям облаков?
партией приказано молчать,
чтобы дефектолог догадался:
мир – месторождение стихов
тех, кроме которых всё – удары,
искры, искривившиеся пальцы,
к горлу подкатившие гектары
(милуоки харьков ашхабад);
мир, тахикардический отряд
крови и минут, уходит, но не весь:
странная решимость вечно здесь
***
звероуловленный, очнись
ты на акацию повелся, но в финале
дни отменились, исповеди сбылись,
Его галантерей и эхолалий
холодный строй, прошедший сквозь тебя,
оставил светотени сентября
на диафрагмы куполе свинцовом,
дырочки на пластыре перцовом,
что когда-то клеил старший брат,
запах дерматина на подкорке
в нашем постмортальном Теплом Стане,
за универсамом на парковке
встретитесь – он тоже пуст и свят,
в прозелень не-музыки поставлен,
но его как будто что-то гложет
наконец он спросит: «ты ведь тоже
слышишь это, окаянный Авель?
внутри, где уже никакие огни не горят,
в отделе рябин будто бы наша мать
ходит с мобильным и повторяет "не плачь,
вчера у меня был врач"
дальше не разобрать»
***
осень, огоньки микроинсультов
и взлетает самолет над лесом
в потрясенных звуком вестибюлях
ноября, окрестностях железных,
кто-то бесконечно настигает,
руку на плечо вот-вот кладет;
станешь пижмой – ангел не узнает
скажет это ос водоворот
скажет это гласные тоски,
сквозняки под внуково, салют,
повороты ночи и оки,
на которых мертвые блюют
кто-то в мокром поле, отраженном
облаком, осалит пустоту –
жалость, перемешанную с желтым,
скрежет зубовный, вкус марганцовки во рту
***
даже когда автобусы в индостан
осенний катились, и считанные смогли
бесслезное это отчаянье как чемодан
с огнем потерять (оборвалось внутри,
будто сдали всю кровь), даже когда синева
леденела от яблонь, переставляли слова,
идя к тишине: наша цель – тишина,
стержни ее еловые или аллеи
с окликами (знакомые имена,
будто бы наши, трудно сказать точнее)
***
1.
тихие октябрьские дни
с яузой зияющей в тени
есть на Свете Музыки Не Всей
когда я слышу как вокруг осей
вращают грани жизни – тук тук тук –
мертвецы, упрямые, как дети:
они не в состоянии из рук
кубик, обещающий щелчки,
гудки, ответы, солнце на паркете,
выпустить, шагнуть в свои зрачки
2.
там не открывают стукачам,
арлекинам снега, странникам латуни,
чье вожделенье к мокрым кирпичам,
сумрачному мелу накануне
кроветворной медленной контрольной,
к пахнущим коленками в капроне
и подлокотниками шелковым щенкам
легавых, стало стрёкотом в районе,
отнесенном снегом к облакам
***
мои многоэтажки
встаньте в круг
на свете есть всего пять слов: звезда
поезда провода вода и никогда
всех остальных слов
нету во веки веков
снег и язык – двойняшки
такие как мы, навек
слетевшиеся на снег,
видят одно мгновенье:
здесь что-то отрывает от земли
и на фуражке – камни ополченья
пластмассовые красные нули
***
ложился, никого не узнавал
из плывших по сетчатке и вставал
с запястьями истошно голубыми
такими словно лишь каникулярный
полдень внутри и холодит премоляры
школьное небо в дымке асбестовой пыли
отныне много у москвы-реки
навек преображенных берегов
но больше не найти того иного
берега знавших друг друга в лицо богов
которые летят как мотыльки
к сетчаткам полным неба голубого
когда лежат под песни группы «демо»
в снегу звездой и в позе эмбриона
ломая господу размер как хризантему –
он слепнет от умышленного звона
двигая это по насту туда и обратно
вот почему на сетчатке цветные пятна
В объятиях реки (с послесловием Алексея Масалова)
В ОБЪЯТИЯХ РЕКИ
1
нет у нас общего времени
места
только клочки
обрывки
слоги
отовсюду летят
к реке
мусорный ветер
течение вспять
в полночь
и встают
как живые
2
ключи
у кого в руках?
сон
забытьё
во мраке
бродящем
псевдоободряющем
неутолёнными
губами
холодную воду
из горсти
3
спой
просто пой
слов не надо
чистый прах
из которого
смысл
и опять распадается
4
миражи
фата-моргана
нету мне утешенья
5
мне больно
когда
(зачёркнуто)
6
губы красные
там где таилась
дышала
содержалась
теперь
пустота
7
синий свет
утро
этого дня
запомнить
8
чувствовать боль
как кровь
внутри?
стук сердца
войди
ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ КЛАВИР
Остаётся ли что-то,
остаётся ли рябью – вода?
И течение против теченья,
и это беспамятство тоже?
Остаётся ли грустный каштан
в этом сизом, убогом пейзаже?
Губы вымученно:
не тебе.
Больно мне ранней этой
простуженной хлябью.
Всё стирается в пепел,
и наша опасная жизнь
для кого-то становится
светом звезды.
Небосвод будто вышит,
душа задымлённая с ним
дышит тише.
Не заглядывай в жизни чужие,
в чужой палисад,
на фейсбуке,
в неявную щёлку затвора.
Здесь нельзя.
Жизнь скукоженная, сырая
лежит на руках, на ладони.
ЛЮДИ И ВЕЩИ
1
у каждой вещи
своё предназначение
границы воздуха
повисли в темноте
во тьме
во вспышках темноты
разреженный воздух
и наше молчание
и наше к нему недоверье
2
гранёный воздух зимы-весны-лета
и снова зимы
3
чтобы открывались все эти
двери дверки колоды засовы колодцы дырки
все эти заколоченные подвалы провалы в памяти
всё то
чего мы не видим
и даже не чувствуем
чтобы всё непонятное
скрытое
жаждущее света
13
чтобы все жаждущие
просветлились
чтоб хватило времени
на все желания
преходящей
тающей
и танцующей
и вдали исчезающей
жизни
чтобы настал свет
Божьего дня
4
распрямляются двери
лица
перья на птице
время
распрямляется
скособоченный край
рая
я иду
лишнего взгляда
задыхаясь от слов
от их ветра
избегая
5
отделяются семена
от оболочки
рвётся почка
время разворачивается
6
о скажи
что эти слова
никогда не остынут
не превратятся
в стекло мрамор друзу
трешем не станут
мелочью хлама
но останутся лавой из чёрной гортани везувия
но будут плавиться и не прекратятся
и будут шириться вместе со всеми нами
пока разноцветное колесо
катится своими необозримыми берегами
***
Тело говорит: будь проще.
Душа говорит: не доверяй незнакомцам.
Тело говорит: мы превратимся в пепел.
Тело говорит: во мне скрыт огонь.
Тело говорит: войди в меня глубже, душа.
Душа говорит: неужели мы расстанемся?
Когда будет мор, когда будет глад,
мы останемся как есть, бессмертны.
СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: СЕРБИЯ
Бессонный разговор
Заклинание
Talk to me
Like lovers do.
Annie Lennox
поговори со мной
на языке птиц
на языке сна
на языке забвения
на языке забытого языка
на языке пергамента и карфагена
поговори со мной
на языке сверчка
во мраке неразличимого
стань для меня хлебом/вином/водой
чечевицей/порохом/огнём
стань для меня
кожей земной
кожей/кровью/костью
преображения
плотью для пере-
воплощения
поговори со мной
поговори со мной
стань моим
источником света
СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: МАКЕДОНИЯ
Хайде
Хайде – это вскрик.
Хайде – это золото античного мира.
Деревьев больше
жизни человеческой, больше
каждой отдельной жизни.
Хайде!
Это больше, чем вид из окна
на озеро жизни,
озеро вскрика,
озеро Хайде!
РАДИО МОЛЧАНИЕ
Славе Д.
Давай остановимся здесь.
Слишком много не сказано.
Слишком много слов
пролетели, как пули,
прошивая молчанием.
Давай остановимся здесь.
Станем больше, чем всё
взятое вместе,
больше, чем
озеро Хайде.
Вслушиваясь в молчание.
СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: АРМЕНИЯ
Время входит в нас,
как иголка в мочку уха.
Лишая бессмертия.
***
мне мешает солнце
обнимать тебя
занавески шторы
и до полной темноты
я и ты превращаемся
в целую величину
твёрдую скорлупу
в твердь обетованную
я и ты
***
В глубине обморока
Отоспись, отлежись.
дней.
Пусть порукой твоей
станет прозрачный свет.
Мы идём напролом
через эту прямую метель.
Отоспись, отлежись.
Пусть приснятся тебе
сны.
В глубине дня,
в непонятной чаще его
мы, не понятые никем,
ждём.
А вдали: льётся и льётся свет
Только руку подставь.
пограничной твоей земли.
Пусть душа прикорнёт.
И водою наполнится день.
Пусть откроются окна везде
и запахнет летним дождём.
Наполняется смыслом река,
а водою – живая речь.
Наполняется жизнью смерть.
И жизни не видно конца.
Из книги «В объятиях реки» (Воймега, 2019)
КОННОТАТИВНОЕ ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ ДАНИЛЬЯНЦ
Стиль письма Татьяны Данильянц напрямую связан с трансформацией эмоционального опыта в экзистенциальный, что определяет специфику и субъективности, и лексики, и семантики, и композиции в ее стихах, строящихся на потоке эмоциональных коннотаций больших концептов.
В публикуемых в этой подборке текстах видна еще одна особенность лирики Татьяны Данильянц – их трансперсональность, преодолевающая отчуждение между субъектами, когда «нет у нас общего времени / места». Именно в собирании эмоциональных оттенков значений из «обрывков» и «клочков», как в заглавном тексте, возникает и «боль», и пение, и распад, и «утро / этого дня», и «стук сердца». Река, вода, люди, вещи – все эти концепты организовывают не только горизонталь и вертикаль семантического пространства стихов, но и межсубъектную, трансперсональную логику, «чтобы открывались все эти / двери дверки колоды засовы колодцы дырки» и чтобы личные слова и эмоции остались «лавой из чёрной гортани везувия».
Трансперсональная психология часто связывает опыт субъекта не только с измененными состояниями индивидуального сознания, но и с различными способами расширения пределов привычного «Я» в область «Другого» (субъекта, времени, пространства). Так и в этих стихах абстрактный адресат, собирание опыта по кускам и диалог души и тела оборачиваются стоическим оптимизмом («Когда будет мор, когда будет глад, / мы останемся как есть, бессмертны») и голосом сердца, как в текстах из цикла «Сердца Четырех: Сербия, Македония, Армения, Венеция», в которых 4 пространства транслируют опыт взаимодействия субъекта и места, речи и «озера жизни».
В стихотворении «Бессонный разговор» этот опыт возникает при лирическом камлании, анафорическом заклятии «на языке птиц / на языке сна / на языке забвения / на языке забытого языка». В данном случае концепт «язык» – это не тотальная референция инструментальности общения, а экспрессия в трансперсональном семантическом пространстве, когда мотив «преображения» в Другом и в Другого позволяет стать ему «источником света».
Страны в «Сердцах Четырех» – это пространства опыта и памяти, в них выражается «больше, чем вид из окна», т.к. с их помощью создается концептуальное единство звучащей речи поэта и «несказанных слов», что делает возможным вслушивание «в молчание». Так и Армения, важное для поэта пространство, терзаемое в прошлом и в настоящем, становится поводом для разговора о концептах времени, которое «входит в нас, / как иголка в мочку уха» и бессмертия, которого оно нас «лишает».
Именно поэтому наиболее интимный, наиболее острый опыт Татьяна Данильянц передает «в глубине обморока», в тексте, форма записи которого воссоздает полифоничность этого опыта через эмотивную антитезу концептов «сон» и «метель», где трансперсональное «Мы» – это способ преодоления, способ изживания наперекор всему, «напролом». В этом тексте, как и в многих других, ведущую роль играют императивы (глаголы повелительного наклонения), но не столько формы «приказного» порядка, сколько формы совместного действия или экспрессивного побуждения. Это важно для образования семантики текста и его трансперсональной субъектности, когда императивная частица «пусть» за счет анафорического повтора обретает заклинательную коннотацию и стоический оптимизм: «Пусть откроются окна везде / и запахнет летним дождём. / <…> / Наполняется жизнью смерть. / И жизни не видно конца».
Практика использования эмоционального потенциала больших концептов в поэтической речи Татьяны Данильянц («время», «место», «язык», «сон», «жизнь», «смерть», «бессмертие») оказывается важна для той субъективности, при которой возникает трансперсональный диалог, организуется сложная архитектоника анафорических текстов-заклинаний, посредством которых выражается индивидуальный опыт, так или иначе стремящийся к преодолению отчуждения между людьми.
– Алексей Масалов
Длина волны
***
«...точка, тире...»
Речь наша башней была, стала пещерой,
в ней сидит одинокий связной,
ловит сигнал:
«Kак слышно? Приём...» –
небо вечерней
молчит звездой.
Вавилонские библиотеки,
дома-читальни
заслоняют огни на востоке,
на юге цветную рекламу реки.
Несметных слов кирпичи, сталактиты, руины,
оглавления, сборная мебель стихов,
звуковой изоляции разные стены,
чертежи облаков,
Рифмы, серии мертвых «Я»,
ломают волны по всем границам, письменный стал спиритическим
и по рации эхо,
эха сеанс.
Чем говорить? Лёгкие наши кавычки и языки
кто-то безвидный рассеял, разнял.
Точка стучит у виска.
Ничего не отвечу ему, ничего...
Слабый сигнал.
***
Eле тронутые
старостью, летние дни за мостом в поперечных тенях,
все ещё стояли, и ты и я,
в стороне от них,
заслоняя дома и названия,
стиснутые сады, гортензии синие и карусель,
за ней чьё-то платье с открытой спиной
из последних мелькало сил,
но веселье круго́м на нет
сходило кругами, сбивалось с нот. Вспомни, как лев на оси замирал
вспомни, как свет палил,
когда вплотную стоять лицом
было можно со мной, дыша,
вспомни зимой
отныне стоящее насовсем,
без теней,
лифт
на пустом этаже.
ПРИЗНАНИЯ ВЕЩЕЙ
I.
• Я так рада видеть тебя! –
говорит
дверь вернувшимся за руки, не различая
двоих в одном.
II.
Фикус:
– хочу обнажаться и прирастать
заново к листьям, как вы.
Что за ветер невидимый все пригибает и мнёт
в комнате кроме меня?
III.
• Прости, что
не было сил поделиться с тобой, очерствел...
Говорит
хлеб, напоследок:
• В чистое заверни, вынеси прочь, но сперва попроси прощенья
у всех голодных.
Птицы, птицы, птицы,
вам теперь пригожусь...
***
Вглядимся:
Ива
безоблачное небо дорезает,
сосед по даче выключает шланг
и распрямившись,
мокрые растения
сверкают злыми, красными цветами.
Вот эту стрекозу зовут Тюхе,
а эту, лупоглазую – Авдотья.
Они все утро делят – поделить
не могут воздух
над садовой бочкой.
И все что есть, устроено на время,
и день пустой, и отдых и сарай
за деревом, и общая вода
и зрение – обскура, перевертыш.
На самом деле, белое внизу,
на самом деле, мы его не видим –
дно осени,
не навсегда обнявшись
в его сени.
***
Эти пиратские флаги изнанками
схожи с пасхальными баннерами, скорлупой,
это кипящее море с яичными пленками
ходит толпой
светлое, о,
непременно на цифру снимите
утро на площади с белыми мётлами
счастья и смерти.
По монитору и видоискателю, по скатертям
добрых людей выпивающих в праздник, по начисто вытертым
окнам пустым
водит святитель широким лучом и качаются ладана
угли в кадиле,
в линию берега, в смертное тело
ломится колокол моря,
гарпун или хорда,
вводят персты,
чтобы из трещины выплыло облако видеокадра,
вышел земляк из-под камня и сумрака,
мимо толпы – в пустоту,
чтобы привязанный к мачте, треножнику
мог, не дрожащей рукой
снять как идут фарисеи и книжники в новенький храм дорогой.
***
Волну не рассмотреть.
На вылепленный рот
и вогнутый
глядишь с раскрытым ртом,
как в рану под размотанным бинтом
но прежде проступившую снаружи.
Так арка превращает чьё-то «эй!»
о двух концах
в мосты над пустотой,
«стой, кто идёт?» – Волна.
Любовный скрежет
над парками, венозная сирень
смыкается кустами вдоль колонн,
но вымолвить себя не может.
Событие волны –
язык, а может, вне
любых словес, как провод у связного
во рту,
большая Л стоящая в длину
земли и гнева.
ЗАКЛИНАНИЯ
– У меня каменоломня в голове.
– У меня в кукухе лопнула пружина.
– У меня в башке растёт герань,
лишенная ума давно
и совершенно.
– Покати шаром, о, Саломея,
бровью поведи –
дам на отсечение...
– Дома все? А эти,
кто лишился тел – зачем они?
Это Иоанн, а это Христофор,
бедные мои головушки,
это Олоферн, у них ни у кого
нет опоры – ни плеча, ни колышка.
Мраморные кочаны,
часовые домики и
ацефалы
собраны и все cочинены
в утешение от боли.
– У меня в уме сейчас одной меньше гильотиной и геранью станет,
чем запить их? –
На всю голову больной камнетёс, иди на отдых,
глобус, быстро растворись,
перестань плясать, дурища,
перестаньте говорить
обладающие речью.
Современная сербская поэзия: взгляд из 2020 (предисловие и переводы с сербского Анны Ростокиной)
Эта подборка – вторая, которую я делаю. Первую, в которой были представлены по два текста шести авторов, с предисловием переводчика, я составила в 2013 году по приглашению журнала «Транслит». Дата в этом случае важна, потому что предыдущий, 2012 год на сербской литературной сцене ознаменовал ряд мероприятий и публикаций, нацеленных с целью представить молодую, или новую поэзию, как ее назвали критики и теоретики, и сформулировать особенности нового поэтического поколения. Поскольку любой разговор о современной сербской поэзии на русском приходится начинать с нуля – просто в силу того, что о ней практически ничего не известно – я повторю здесь основные тезисы. Если же вам интересно прочитать первую подборку, вы можете сделать это, скачав PDF-файл.
В период с февраля по июнь 2012 года в Доме культуры «Студенческий городок» в Белграде прошел цикл поэтических чтений, сфокусированных на новой поэзии, где выступили в общей сложности 35 авторов – своеобразный срез заявившего о себе поэтического поколения. Летом и осенью того же года вышел ряд журнальных статей и подборок, посвященных новой поэзии, а к октябрьской Белградской книжной ярмарке была опубликована книга «Prostori i figure» («Пространства и фигуры») под редакцией Владимира Стойнича, в которой представлены 18 авторов – первая публикация такого рода. Разумеется, «новые» поэты не появились на литературной сцене в один момент и из ниоткуда – просто в 2012 это поколение шагнуло из узкого круга посетителей формальных и неформальных чтений и интернет-площадок в публичное пространство СМИ и авторитетных культурных организаций. Связано это прежде всего с тем, что в таких организациях накопилась «критическая масса» представителей этого поэтического поколения, которые работают критиками, редакторами, координаторами культурных программ, преподавателями…
Возрастные границы представителей новой сербской поэзии, как правило, определяют 1975 – 1985 годом рождения. К верхней границе на сегодняшней сцене вплотную примыкают авторы, родившиеся в конце восьмидесятых – начале девяностых. В 2012 о них говорили мало и осторожно просто потому, что их поэтики еще не вполне оформились, или же опубликованных текстов было слишком мало, чтобы делать выводы.
Говоря о специфике современной поэтической сцены в Сербии, большинство исследователей указывает на маргинализацию (некоторые используют слово «геттоизация») поэзии на книжном рынке и в культурном пространстве в принципе. Сегодня существует три основных типа площадок и «лифтов» для авторов, пишущих поэзию. Это, во-первых, финансируемые государством или местным самоуправлением литературные институты – наследие докапиталистической эпохи – которые издают поэтические сборники и толстые журналы и вручают поэтические премии, в том числе для молодых авторов. Во-вторых, это новые издательства, для которых поэзия – обязательная часть программы и которые в той или иной мере ориентированы на коммерческую модель работы. В-третьих, электронные журналы – самая незатратная и доступная для читателей поэзии площадка. К сказанному стоит добавить фестивали, литературные вечера, неформальные группы авторов и, конечно же, публикацию и возможность комментирования и общения в социальных сетях – в Сербии это преимущественно Фейсбук. Интересно, что тиражи поэтических сборников в этой восьмимиллионной стране сопоставимы с российскими – 300 – 500 экземпляров. Особенностью поэтической сцены нулевых и две тысячи десятых стали самиздатовские сборники (штучная ручная работа) в качестве альтернативы работе с издательствами, которые не заинтересованы в публикации поэзии. В узких инсайдерских кругах такие сборники известны наравне с каталогизированными изданиями, но для широкой читательской аудитории они остаются невидимыми (впрочем, вполне можно сказать, что и «официальные» поэтические книги для нее невидимы почти в равной степени).
Еще одна черта, отличающая сербскую поэтическую сцену и издательские практики – это нацеленность или как минимум открытость к более широкой читательской аудитории с постюгославского пространства, точнее прежнего пространства сербохорватского языка. Четыре из шести республик СФРЮ (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина и Черногория) пользовались общим языком с региональными различиями, и сегодня, несмотря на последствия войн, «острые углы» в международных отношениях и обособление национальных языков (момент скорее политический, чем лингвистический), в плане культуры эта территория во многом остается единым пространством. Во-первых, современные авторы, не считая самых младших, родившихся в конце девяностых и нулевых, выросли на общей культуре, которая простирается далеко за пределы Сербии. Во-вторых, сознавая, что рынки стран, образовавшихся после распада Югославии слишком малы, издатели и авторы стремятся к «экспорту» своего продукта, тем более что в четырех названных странах такая продукция может циркулировать без перевода. Именно по этой причине большинство сербских поэтических сборников выходит на латинице, хотя в стране используется и латинский, и кириллический алфавит, причем именно последний считается официальным. Культурный обмен с двумя другими бывшими югославскими республиками, Словенией и Македонией, требует перевода, но и они во многом остаются для Сербии более близким культурным пространством, чем другие страны региона, такие, как Венгрия или Румыния.
В контексте вышесказанного тематически мне представляется интересным, что тема войны и поствоенных национальных (зачастую = националистических) идеологий осмысляется в текстах авторов, родившихся в восьмидесятых и переживших этот опыт скорее опосредованно, чем непосредственно. Самый яркий известный мне пример – книга Анны Марии Грбич «Венерины и другие холмы» (2014), которая написана не на сербском, а на западном (прежде всего хорватском) варианте языка. Переводя это в политико-языковую плоскость, понятную русскому читателю, это как если бы сборник молодого российского поэта был написан на украинско-русском суржике (собственно, только такой перевод и будет передавать этот текст в полной мере, но, к сожалению, я не владею украинским). Так сам язык подрывает гласную или негласную идеологическую (само)изоляцию после распада Югославии. В этой подборке приведены четыре стихотворения из «Венериных и других холмов».
Что касается поэтических особенностей рассматриваемого поколения, говорить об общих направлениях или тенденциях с учетом индивидуальных поэтик довольно сложно. Среди авторов новой поэзии есть и те, кто продолжают линию неосимволизма (в числе предшественников можно упомянуть Ивана Лалича, Бранко Мильковича, Борислава Радовича), и представители языковой поэзии (линия воеводинского неоавангарда семидесятых и «поэтов языкового слома» восьмидесятых*), нарративной, ангажированной и перформативной поэзии, причем любые границы являются условными и размытыми.
Приведу две цитаты критиков, которые кажутся мне важными для понимания четырех текстов каждого автора, которые вы прочтете практически без контекста. Итак, во-первых, «во многих случаях поэты <…> понимают язык не как нечто само собой разумеющееся, средство изображения реальности, а как автономный феномен, пребывающий в постоянных отношениях взаимосвязи с окружающей средой, представляющей собой реалитет, – пишет Владимир Стойнич в предисловии к упомянутым выше «Пространствам и фигурам». – Язык для многих из них является потенциалом, сам способ использования которого в поэзии носит символичный характер. Такой стратегический подход противопоставлен более нарративному дискурсу, который вместе с использованием исповедального тона или метафорических транспозиций составлял основу поэтического языка предшествующих поколений, в основном занимавшихся конструированием стабильных текстуальных субъектов, помещаемых в заранее заданное пространство идентичности»**.
Во-вторых, «в дискурс молодых поэтов, будто по указке, вписана философия деконструкции или постструктурализма, и без ее знания в новой лирике вряд ли можно прочитать все слои и все интертекстуальные отсылки, на которых зиждется их дискурсивность; она как будто подразумевает компетентного читателя, что может показаться элитизмом», – замечает Ваня Радакович в вышедшей в 2012 году статье о молодой поэзии***. Как мы видим, история эта не уникальна и вполне знакома опытному читателю современной русской поэзии.
Еще одна тенденция (но не правило), которой следуют некоторые поэты – концептуальная целостность отдельных сборников, тематическая или стилистическая. В результате, с одной стороны, по отдельности книги одного автора могут достаточно далеко отстоять друг от друга, с другой стороны, чтение текстов, вырванных из общей канвы, лишает их некоторого пласта значений, которые создает такой контекст. Среди представленных здесь авторов (и текстов) это справедливо для Бояна Васича, Слободана Ивановича и Анны Марии Грбич.
Во введении к первой, опубликованной в «Транслите» подборке я перечислила основные переводные издания, а также сербские площадки, на которых можно познакомиться с современной поэзией в оригинале. Добавлю публикации и издательства, которые появились за прошедшее время.
В 2014 году Дом культуры «Студенческий городок», тот самый, который провел в 2012 году знаковые для новой поэзии чтения и дискуссии, завершил свой проект публикацией сборника «Restart: panorama nove poezije u Srbiji» («Restart: панорама новой поэзии в Сербии») под редакцией тогдашнего руководителя литературных программ Горана Лазичича. Эта книга, по праву названная панорамой, объединила под одной обложкой стихии более пятидесяти авторов, родившихся в период с середины семидесятых до начала девяностых, редакторское вступление и пять критических текстов, посвященных новой поэзии.
Лазичич выделяет в своем вступлении два ключевых внелитературных обстоятельства, повлиявших на формирование нового поэтического поколения. Это, во-первых, утрата поэзией социальной значимости после развала социалистических культурных институтов вместе с травматичным опытом гражданских войн в Югославии, коллапсом общества на всех уровнях и подъемом националистических идеологий. Во-вторых, информационная революция, изменившая контекст, в котором пишут сегодняшние авторы. Компьютерные технологии и перемещение многих сегментов жизни в онлайн отразились на их поэзии и тематически, и структурно, а также изменили то, как общаются авторы между собой и с читателями.
Расширяя упомянутые выше границы поколения до начала девяностых, Лазичич пишет, что «такие рамки <…> представляются неизбежными безотносительно к конкретным общественным обстоятельствам, в которых сформировалось поколение, и к поэтическим особенностям поэзии, которую оно пишет: речь идет о поколении, которое приходит после авторок и авторов, родившихся в период с конца пятидесятых по начало семидесятых и уже зафиксированных в критике как поколение девяностых»****.
Говоря о поэтике представленных авторов, Лазичич замечает: «Поэтический плюрализм поэзии, которую пишут молодые авторы и авторки в Сербии в последние пятнадцать лет или около того <…> можно свести к двум парадигмам, первая из которых – поэзия на референциальной основе, а вторая – автореференциальная, или языковая поэзия. Эти две линии – это подразумевается – можно провести лишь условно, и их прежде следует понимать как поэтические тенденции, которые нередко даже у одного автора/авторки варьируются от сборника к сборнику и даже от стихотворения к стихотворению: как правило, эти поэтические предпочтения не являются программными и открыто заявляемыми»*****.
Что вышло на русском языке за прошедшие семь лет? Появились два переводных сборника. Первый, «Сквозь бракованный негатив» Алена Бешича в переводе Андрея Сен-Сенькова и Мирьяны Петрович-Филипович вышел в книжной серии «Дальним ветром» издательства «АРГО-РИСК» в 2016 году. В 2018 году в серии «Сербика» издательства «Скифия» вышла книга Гойко Божовича «Карта и другие стихотворения» в переводе Василия Соколова. Божович (р. 1972) поэтически относится к поколению девяностых, Бешич (р. 1975) – скорее к поколению новой поэзии.
В 2015 году в гельмановском Dukley Art Community вышел сборник «Черногорцы: сборник современной черногорской литературы» (проза, поэзия и драма). Редактором поэтической части выступил поэт Владимир Джуришич, а перевели ее Андрей Базилевский и я. Об этом издании я упоминаю потому, что, как было сказано выше, прежнее сербохорватское языковое пространство во многих отношениях сохранило свою общность. Один из авторов, вошедших в черногорский сборник, Слободан Иванович, живет в Белграде, участвует в литературном процессе в Сербии и включен в эту подборку.
Что же касается сербских журналов и издательств, публикующих современную поэзию, хочу упомянуть незаслуженно забытые во вступлении к предыдущей подборке Культурный центр Нови-Сада (Kulturni centar Novog Sada) – он издает журнал «Polja», а еще публикует поэзию в книжной серии «Anagram», затем журналы «Gradina» из Ниша и «Ulaznica» из Зренянина, а также издательства «LOM», «Kontrast» и совсем недавно появившееся «Enklava» и два электронных журнала: Libartes.rs, у которого есть очень скромная, но подающая надежды английская версия, и Enklava.rs. Если же вы хотите следить за новыми именами, их можно найти в книжной серии «Prva knjiga» Матицы сербской, серии «Prvenac» Студенческого культурного центра в Крагуеваце, а также среди молодых лауреатов Лимских вечеров поэзии (Прибой) и премий «Mladi Dis» (Чачак) и «Brankova nagrada» (Воеводина).
Что произошло на сцене за семь лет? На самом деле не так уж много. «Бурление» (определение Бояна Савича-Остоича) рубежа нулевых и две тысячи десятых закончилось, авторы новой поэзии заняли свое место в литературном пространстве, подкрепив его легитимность весомыми литературными премиями. Некоторые премии получили (или же были номинированы на них) те поэты, которых я включила в предыдущую подборку. Активные авторы выпустили как минимум еще один сборник. Для тех, кто родился в восьмидесятых, это в большинстве случаев вторая книга стихов, которая уже позволяет судить об авторской поэтике в перспективе. На сцене все прочнее занимают свое место те, кто родились в девяностых – авторы, критики, редакторы. По большому счету, представители сербской молодой поэзии постепенно становятся средним поэтическим поколением. Думаю, что еще через семь – десять лет мы увидим процессы, аналогичные тем, что происходили в 2009 – 2012 и новое сформировавшееся и заявляющее о себе «молодое поколение».
Несколько необходимых комментариев к представленной ниже подборке. В ней представлены пять авторов, по четыре текста от каждого. Как и в прошлый раз, выбор авторов достаточно субъективен – здесь я имею в виду не вкусовщину, а свою неодинаковую ознакомленность с творчеством разных поэтов. По внешним, прежде всего временным обстоятельствам я руководствовалась в большей степени не объективными критериями, такими, как, скажем, премии, а собственным переводческим «контактом» с тем или иным поэтом. При выборе стихотворений каждого автора применялся очень простой принцип: это тексты из последнего опубликованного сборника, за исключением Анны Марии Грбич – в ее случае определяющим стал тематический фактор. Все сборники, о которых идет речь, вышли в период с 2014 по 2019 год. Если в предыдущей подборке были преимущественно авторы, родившиеся во второй половине семидесятых, то в этой бóльшая часть специально отведена тем, кто родился в восьмидесятые. Эта публикация ни в коем случае не претендует на выбор «лучших из лучших», у нее другая цель: показать вам небольшую часть того, что сегодня происходит в сербском литературном пространстве.
– Анна Ростокина
* Goran
Lazičić. Restart: panorama nove poezije u Srbiji // Dom kulture Studentski
grad, 2014.
С. 13.
** Vladimir
Stojnić, Prostori i figure, Službeni glasnik, Beograd, 2012. С. 11. (здесь и далее перевод мой –
А.Р.)
*** Vanja Radaković. Jezik iskustva ili iskustvo jezika: zbivanja u mladoj srpskoj poeziji // Beogradski književni časopis. Br.
26. 2012. С. 62.
****
Goran Lazičić. Restart: panorama nove poezije u
Srbiji // Dom kulture Studentski grad, 2014. С. 11.
***** Там же.
Боян Васич
ПОВАЛЕННАЯ ВИШНЯ
Она заговаривает первой, она шепчет:
приляг рядом со мной, открой этим
падением дверь для других, еще
один образ в своих
словах, разделим это короткое
время, дыхание, рассеченное
надвое, я поведу вверх по склону
стадо тощих вдохов, ты поведи
вниз по склону тучных овнов
выдохов, вслушайся снова в
падение теплой кроны в себе, пусти
в бронхи упорный запах мяты и
дикого базилика, прильни взглядом
к открытому камбию, пусть
взыграет еще на миг твое существо,
опершись на черенок топора, пока ты
стоишь надо мной, влюбленный, красный
и взмокший, с босыми ступнями.
ДИКИМ ТУТОВНИКАМ
Это скрытые царства, заброшенная обочина,
вросшая в грязь канистра из желтого пластика,
окончательность почвы, укрытая бесцветными
листьями. Таковы и ходящие здесь пророки,
колхозный сторож, облегчающийся на одуванчики,
барсук, выглядывающий из норы, не увидев бога,
фазан, прилетевший под сплетенные стволы на ночевку,
как вечер, пространство, которое весной
заполоняют черные и белые гроздья,
соцветия, набрякшие от колыханий кадила мая,
в согбенную массу и перешептывание побегов
низвергнутая вертикаль дерева пустельги. Это
ваше царство, вечное раскачивание в трюме
ветра, слушание старых тракторов, вскипающих
от прилива и отлива полудня, зрачки,
ширящиеся, словно паутина по терпким
чернилам бузины и полевым цветам. Охраняйте
его и дальше, малые тутовники, незримые для глаза,
сводящего пейзаж к пользе, невыразимые для языков,
словно в гнилой зуб, втянутых в полость
собственных понятий.
ЛИПА
Спрашиваешь, почему я не пишу о тебе,
о том, как ты обходишься с подручными
предметами, идеях, которые держишь
завернутыми в яркую фольгу, или о чем-то
еще, желаниях из тонкой, ломкой
пластмассы, упавших за стиральную машину
или под кровать, вместо которых слишком быстро
пришли другие, или о твоих движениях, держателе
острых взглядов, о фильтре ненужных слов,
счетчике вдохов, о рассветах, которые
снимаешь и вновь натягиваешь, навязчиво и крепко
прижимая к коже эти солнца, холодный
дождь или безветренный день. Я по сути и
пишу об этом каждый раз, просто
сидя рядом, обездвиженный и полный,
как липа, внутри которой в конце марта
просыпается рой шершней.
ВИД С АВТОТРАССЫ
С этого расстояния не видно
отчаяние, всю раздельность и
судьбы, вписанные в пространство
между широкой рекой и линией
гор, не видно птиц, и того, как
сосед втихую крадет у соседа, не
видно длинноту дня, удушье
ночи, не слышно лягушек, замерших
под кроватями, с автотрассы
не видно людей, засевших в
трактире, и того, что сидит
в них, пока те грызут край стаканов и
тащатся по проселочному пути с разбитой
башкой, на всех одинаково льет
свой тщедушный свет эта луна, на
маки, репей, бензоколонки, на
все эти еще теплые
травы, полные пластиковых
бутылок, отравы и стекловаты,
в которые в полночь из прицепа
трактора с выключенным светом ударом
ноги выбрасывают вздувшуюся падаль.
Боян Васич (Bojan Vasić) (Банатско-Ново-Село, 1985) опубликовал три сборника стихотворений: «Srča» («Осколки», 2009), «Tomato» (книжная серия caché – самиздат, 2011), «Ictus» (серия caché, 2012), «13» (серия caché, 2013), «Detroit» (серия caché, 2014), «Volfram» («Вольфрам», 2017) и «Toplo bilje» («Теплые травы», 2019). Лауреат премий «Mladi Dis», «Matićev šal», а также премий им. Мирослава Антича и Васко Попы. Его стихи включены в ряд подборок, представляющих поэтическое поколение. Переведены на словенский (билингвальное издание «Črepinje/Srča», 2015), польский и английский языки. Пишет литературную критику. Член Сербского литературного общества. Живет в Панчево. В этой подборке публикуются стихотворения из сборника «Toplo bilje» (2019).
Слободан Иванович
УЛИТКИ
Улитки – бедные гости, завсегдатаи
водных помещений, они почти стопроцентно
состоят из мышечной массы и тем самым заслужили место в вечном
Геркулесовом пантеоне, улиткам поют суровые
песни и грозят расправой топором по голове, они
неизменно приходят к цели, хотя стартуют позже и ползут медленнее других,
мы находим их скорлупки пустыми и белыми, кальциево-известковыми,
на пляже среди песка, а то и у себя на балконе, их
существование не сводится к простому хрусту, когда мы
неосторожно шагаем после дождя, здесь я, конечно же,
описываю улиток с домиком, только их я и считаю настоящими
представителями этого благородного слизистого рода, потому
что дом, чья мы есть составная часть, преследует меня, как
кочевника, и потому что концепция несения дома на спине
вводит в уравнение того, кто никогда не покинет
родной очаг, никогда не оставит родителей,
кто срастется со своими комнатами и ванными, потому-то
он и есть гермафродит без четкого женского принципа
вербальности и воды, без мужского принципа топора и земли,
и потому вечно будет ходить по лезвию острой бритвы и
выживать, оставляя за собой толстый перламутровый
след, в котором можно прочесть все его фамильное древо.
РАКИ
Раки – стражники, возможно, даже вышибалы в клубах,
тиски их клешней объясняют сжимаемому сложность
устройства его нервной системы, их окраска ярка,
так как они хищники, они двигаются боком или пятятся, так
как выходят за рамки ясного и простого, они
адепты силы и потому защищены панцирем, который мы, человеческие
существа, узурпаторы силы, с легкостью пробиваем, находя под ним
вкусное мягкое мясо, собственно, эта их анатомия, панцирь,
прикрывающий мягкотелость,
доказывает, что они адепты силы, ведь простое свойство адепта силы –
чувствительность,
заставляющая его порой всплакнуть, как в том фильме, где стоматолог –
убийца, а убийца – Брюс Уиллис, чувствительный и мягкосердечный,
у раков нет сердца, они убивают в мгновение ока, но они ловкие пловцы,
впрочем, как
все адепты силы, они трусят, когда их загонишь в угол, они плоски и легко
и быстро прячутся, раки – это и лангусты, те всего-навсего длинные раки,
своей броней они напоминают нам, человеческим существам, как мы сами
стремились выглядеть в пору панцирного Средневековья.
АПЕЛЬСИНЫ
Апельсины – перетекание света в
сумерки через крыши, тонкая
корочка мусаки, запеченная ровно
в меру, они оставлены круглыми, их нащупываешь
в карманах, их дают другие знакомые руки,
порой бабушки на Рождество, как величайшую драгоценность,
апельсины просты, как их грубая кожура, они человечны
и придают угрызениям пьянящий вкус, взбрызгивая сок
к нёбу или на язык, становящийся гребнем. Апельсины
бывают порой темны, могут быть освежеваны, а их кожура
оставлена на печи, насыщая воздух больничным запахом,
апельсины растут в местах, куда мы ездим,
но где никогда не живем, вечно пустых, их
косточки могут ускользнуть между пальцев, мякоть
состоит из множества овальных мешочков,
образующих сети, сети же образуют дольки, затянутые белой
паутиной, что порой толста, как банковская
квитанция, апельсины как женщина, снимают с себя слой за слоем, пока
их не высосут, не проглотят, не выжмут горлом и языком, не раздавят руками.
ЧАИ
Темные жестяные утра умещаются в стаканы. Чашки, кастрюли
коробки. Чаи – водяная уловка, чаи – грубые
остатки восточных стран, чаи – повседневная синтетика
и утеха, примета голубой крови, содержание жизни богатых. Чаи
тверды, когда их перемалывают в заварку, чаи – это пыль,
как почти все комнаты, чаи – луга, которые никто не
косил. На жестяных веках, заржавевших от чая, проступают
пятна, которые не вывести даже многодневным скоблением, чаи
убили пару пациентов зубных и художников, о них, как и о
карьере, необходимо думать. Следует посвятить им жизнь, насыпать
в каждый носок пригоршню сухого остатка дня, который и есть
чай, прежде чем его погрузят в забвение. Чаи жаждут
осознания, чаям нельзя верить, и непременно следует тщательно замерять
количество выпитого чая, ведь вода внутри тела не должна
быть искусственно теплой.
Слободан Иванович (Slobodan Ivanović) родился в Никшиче (ныне Черногория) в 1988 году, живет в Белграде (Сербия). Отец одной Вишни, супруг одной Ани и автор одного сборника стихотворений. Его тексты включены в русскоязычное издание «Черногорцы: сборник современной черногорской литературы», Dukley Art Community, Budva, 2015. В этой подборке публикуются стихотворения из книги «Osobine» («Свойства», 2014).
Анна Мария Грбич
ИЗ КНИГИ «ВЕНЕРИНЫ И ДРУГИЕ ХОЛМЫ»
***
жалкая весна.
когда мы пришли из гор, мать сказала, что я защитник.
и так я понял, что она состарилась, ей нужен кто-то сильный,
кто поможет ей мочиться и жевать,
а потом спокойно уйдет на блядки и на пьянки.
ничто на свете не старится страшнее матери:
груди мешками и холмы на пальцах
одни забытые воспоминания под линией ресниц:
Италия с открытки, а не с ладони.
пусть хотя бы умерла вместе с отцом, но нет, она ссыкло,
что хочет жизни под предлогом наблюдения
за внуками, кино, морем в июне,
на самом деле ей нужны одни рассветы и закаты,
что бы ни заставляло их тянуться за пределы смысла.
каждый раз, растягивая кожу вокруг глаз,
ты истончаешься в зеркале.
я хочу тебе все это рассказать, потому что
кто лучше поймет
нежную ярость без опоры, ранний желтый
цвет, опавший
по собственным ступням,
когда-то одичалый.
думаешь, ты реализована во всем и во всем
самодостаточна.
да и я был смешон.
делал вид, что люблю шагать в одиночку
шел по площадям и игнорировал людей,
лишь изредка замирая перед псом или вырванным
листом газеты,
больше ухоженный, чем взаправду смелый,
больше смелый, чем взаправду свой.
***
скажем начистоту, это жалкая весна.
в холмах, среди которых я вырос
и куда езжу только читать серьезные книги,
все еще пламенеет растение, похожее на тебя –
афазия,
и не будь это злой бурьян, что душит, знай,
я никогда бы не сравнил тебя с цветами
афазия не знает меры.
расцветает под боком у толстых, голосистых коров
в их животах она по-прежнему живет, вскипает и рвется в
мир
вся ширина детского взгляда была: одна
афазия в цвету,
единственная неумирающая сила, сытая
самой собой.
жалкий зеленый край,
женщина и та отраднее, чем ты.
твой рот, набитый дешевым шоколадом,
небрежный к своим любовникам
твой вонючие волосы и грубая кожа на
локтях
Богородица, как ты прекрасна, коль и вопреки
этому режешь неразделимое
перемалываешь судьбы
остраняешь и холмы, среди которых я вырос
я на это взглянуть не смею,
афазия не знает меры
и только лестницы остались сакральными местами,
но негде преклонить колени.
***
почему ты не сдохнешь в любой доступной форме?
как предмет, не сломаешься о чью-нибудь
крепкую руку
или не повесишься снаружи здания.
это было бы на тебя похоже.
соседский гам, прижатые к детским глазам ладони,
которые пару минут назад
дрочили или раздавали оплеухи,
лозунги и газетные статьи,
высшая цель, комментарии твоих друзей.
слухи, развращение эмоций, рассказы о том,
что ты была всем в мире и все могла
ты прежде всех бросаешься навстречу ветру
я знаю, ты это делаешь
только когда уверена, что
сохранишь голову на плечах
за это я тебя и любил.
ты бы могла из-за неудачного утра вызвать новую войну
истребить все считающее себя нацией и потом просто-напросто
улыбнуться и сказать, что теперь тебе
лучше
я всегда верил, что ничему нельзя
верить
ты всегда заставляла меня повторять я люблю тебя
и каждый раз как я превращался в пернатую
желтоклювую дрянь,
ты качала головой, ведь тебя это
больше не касается
можно подумать, тебе есть дело, ты куришь свои
бесконечные сигареты,
да ебись ты конем,
грязная шлюха, которая не мажется кремом и не чистит ногти
и специально забывает даты, чтобы дать себе
растеряться,
притворяясь невинной и хрупкой
сдохнешь ты наконец?
накачанная пневмонией и табаком,
словишь туберкулез и будешь сидеть там, в моих холмах,
еще более роковая?
удовлетворят ли тебя друзья и мальчишки,
или ты будешь считать себя хламом,
и только мне,
венскому мальчику, так ты сказала,
разрешишь одевать тебя
тебе давно надо было меня прикончить.
***
разоренная или рассеянная, война присутствует.
что знает об этом Мили
и покажет ли время иное,
вернет ли ее случайно домой
сорвет ли она свои дорогие тряпки и
поможет бабкиной сестре копать
подаст ей стакан воды, уснет в ранние сумерки…
никогда. Мили говорит, поехали завтра в Финляндию
там в последний раз воевали в 19 веке, да
и тогда резня была не особо.
скажем об этом начистоту.
разоренный или рассеянный, я присутствую, и здесь
я не закончился
и пока не замкну круг за собой
и пока он не сгорит
и пока ты не соберешь пепел своими грубыми руками,
мне никуда не деться
здесь мне проще, потому что
я плевать хотел на их праздники, хуяздники
зажженные здания, официальные офисы
красивых и страшных женщин
медицину и целителей
и все мне легко разделить на добро и зло.
это возможно только в таких местах, как это
где небо наполовину в ярости
наполовину плодородна земля
под которой я люблю женщину
что плачет одинаково, когда умирает ребенок или
заканчивается роман
что поделаешь, обязало меня отечество
оставаться прежним
длинный закатный луч пролистывает и мое имя
прежде чем заглотить окоем, а
Балканы и Бог я пишу с большой буквы, потому что только
они меня все еще трогают
никогда. а в сердце я все тот же малокровный малый
злившийся
что должен уехать из своей славной комнаты
с видом на Венецию, сверкавшую и под
борой и в тумане
разоренное или рассеянное, ничто пока не закончилось.
я изливаюсь в ладони и пизды
надеюсь на лучшее и что ты умрешь, а я уйду в
революцию
и буду делать вид, что все в этом мире
сражается за одно воспоминание:
сцена, которой ты не видела
две теплые руки, сжатые и готовые к бою
даже во сне,
себя, как невероятно ты спишь.
пускай.
оставь.
Финляндия далеко.
Анна Мария Грбич (Ana Marija Grbić) родилась в 1987 году в Белграде, где живет и работает и сегодня. Училась на филологическом факультет Белградского университета, там же окончила программу Master и сейчас учится в докторантуре. Учредитель организации Argh, редактор, ведущая радиопередач и преподаватель писательского мастерства. Опубликовала три сборника стихотворений: «Da, ali nemoj se plašiti» («Да, но ты не бойся», 2012), «Venerini i ostali bregovi» («Венерины и другие холмы», 2014), «Zemlja 2.0» («Земля 2.0», 2017), а также устную биографию югославской группы «Idoli» («Idoli i poslednji dani»). Сейчас к выходу из печати готовится ее первый сборник рассказов. В этой подборке публикуются стихотворения из сборника «Venerini i ostali bregovi» (2014), который можно читать как поэму.
Петар Матович
СИЯНИЕ
Утро, поднимается туман, цвета сверкают
неправдоподобно, гул тишины в выключенной
электрике, лето, и сливы рвутся соком,
как человеческие нервы, как солдаты,
пересидевшие в траншеях, эта чрезмерная
зрелость – чистый ПТСР, память: дни
балканские кровавы, рушится крыша
в пламени, книжные полки и
семейные альбомы, время от времени
взрываются дезодоранты,
о чем шепчет косметика?!, эти туши,
их плавкий пластик, предметы
преследуют похуже плоти,
сегодня стихи нужны, чтоб
разобрать, что за словами, что за всем,
поэзия важна, не так, как деньги или хлеб,
но словно морфий, но почему же в это лето,
когда все брызжет полнотой, зрелостью,
где лето в шаге от зенита, внутри
сплошной распад – насилие, одно насилие,
разнузданная ярость: других сравнений
нет.
НА ПЕРИМЕТРЕ
Еще бьются волны, поднятые этим судном,
о скалы с раками и прозрачной зеленью
моря под ними. Так же и тени сосен
взволнованы – миноносец HMS Defender
встает на прикол в виду Лоры*; речь,
разумеется, о миссии мира и помощи.
А вокруг лодчонки ветхих восьмидесятых,
разноголосый гам купальщиков и приемников.
Сорок семь тысяч морских миль,
девятнадцать портов, одиннадцать стран и
готовые пушечные стволы повидала эта
серость оттенка северного моря, родных краев.
Этот бледный металл, краска, что поглощает
и отбрасывает ничто, силуэт низкой отражаемости
в стремлении быть незаметным – легко нарушают
пейзаж.
Любознательность наблюдателей выдают блики
линз биноклей. Эхо радара на экране
не показывает в укромной тени читателей
книг, и бронзовые тела на скальном
уступе, и отличность дыханий в чистых
солях, только контуры возможной опасности.
Море в порту не взъярилось, не хлещет
лодки. Далеко сирокко, несущий с собой суицид.
Перебираешься в предвечерье на окрестные горы
и ждешь, пока белизна парусов на фарватере
с моря мощно хлынет мимо HMS Defender’а
и пристанет внутри, как покой: покой и свобода.
Сплит, 22 июня
* Лора – военный порт в Сплите (Хорватия), в прошлом крупная военно-морская база Югославской народной армии. Во время гражданской войны в Хорватии (1991 – 1995) служила лагерем для сербских заключенных.
ОТРАЖЕНИЯ
Репетитивные ритмы кварталов, дымки
скрадывают цеха грязных технологий и
рабочие бараки, следует обманка: город есть
лишь в отражениях зданий на стекле
высоток. Из них растут ущелья,
на дне потоки света, с этих вершин
ты принимаешь ночь, усыпанную красными
сигналами сотовых вышек: из звука тока
в линиях передач приходит медитация
в моменте: диалог поселений и организмов.
Это не удивительно. Это борьба
за теплоты и адаптации. За дление.
ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА
Сейчас ты скользишь сквозь город,
не замедляясь, и это миг,
когда ты начинаешь думать ни о чем,
двигаясь равномерно медленно, не
касаясь сцепления и рычага скорости,
газа и тормоза,
синхронно
со светофорами сквозь
ущелья небоскребов, сквозь
кривые отражения в широких стеклах
и алюминии; здесь тротуары
без деревьев, пылают символы
брендов: лица манекенов
в витринах переводишь в
мимику усталых пешеходов,
переходы в шкуры зебр, их бег
в саванне, красное и синее мерцание
вспыхивает на зрачках, руле,
руках, но ты течешь
без остановки,
delivery boy
сворачивает из потока, на
жилете флюоресцентные полоски,
и у рабочих, огородивших шахту,
гам таксистов-иммигрантов и
отбойных молотков, отдельность
продолжается образом
опытного
моряка, который
больше не
страшится моря,
без суши месяцами:
где-то на мачте ты существуешь в одном
мгновении, как в вечности: находишь
что-то наподобие покоя в
нефтяном дыму, под звуки в fade’е,
крупные кадры,
остается позади
смог сумерек;
это твоя экосистема:
доверься дыханию, хлорофиллу,
синхронно с машинами, снопами
света озаряется вид в зеркале
вместо высоток, повторяешь
вполголоса синхронно,
двигайся синхронно!
Петар Матович (Petar Matović) родился 12.7.1978 в Ужице. Изучал сербскую литературу в Белграде. Пишет поэзию, прозу и эссе, публикуется в периодике. Его поэзия включена в несколько сербских и зарубежных антологий и переведена на польский, английский, немецкий, шведский, французский, итальянский, испанский, каталанский, португальский, латышский, галисийский, румынский, македонский, словенский, словацкий и венгерский языки. Опубликовал сборники стихотворений: «Kamerni komadi» («Камерные произведения», 1996), «Koferi Džima Džarmuša» («Чемоданы Джима Джармуша», 2009; переводы: „Walizki Jima Jarmusha“, Maximum, Kraków, 2011; „Les maletes de Jim Jarmusch“, La Cantarida, Palma de Mallorca, 2013), «Odakle dolaze dabrovi» («Откуда приходят бобры», 2013), «Iz srećne republike» («Из счастливой республики», 2017; перевод: «Од среќната република», Антолог, Скопjе, 2020) и «Ne hleb, već morfijum – izabrane pjesme» («Не хлеб, а морфий – избранные стихотворения», Загреб, 2019). Резидент стипендий: Gaude Polonia (2013), Министерства культуры Республики Польши, Балтийского центра для писателей и переводчиков (Висбю, Швеция, 2015), Traduki (Сплит, 2016), Kultukontakt (Вена, 2017) и Q21 (Вена, 2017). Лауреат премий «Treći Trg», «Paunovo pero» и премии им. Бранко Мильковича. Живет в Пожеге (Сербия). В этой подборке публикуются стихотворения из сборника «Iz srećne republike» (2017).
Аня Маркович
ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА
Это место страха зовется Kowloon,
и его четко организованная любовь
не знает границ.
Тесно и тихо:
шепотки прорезаны
длинными, темными линиями,
и страсть никогда не видна,
но под приглушенными окнами
вечно будет сушиться
застенчивая, личная лихорадка.
Ночи особенно мелодичны:
головы перекатываются под кроватями, детские голоса царапают
оболочку ледяных яичников, вниз по лестнице льется ругань
– грохот, этажом ниже седьмой день подряд выселяют
семью из десяти человек, занявшую шкаф для обуви.
В черепах горят бумаги.
Бросил окурок в окно, а надо было себя,
и ты никогда не уснешь:
гвозди всегда правильно разложены по матрасам,
а равнодушие – невыносимо и оглушительно.
Но даже здесь кое-что да растет:
глаза на дверях трубчатых коридоров,
подрастает детская стерня на крышах
(ближе к вечеру тихие уборщики совести
соскабливают со дна заплясавшие трупы).
Растут теснины и безвыходья улиц,
близорукость окон.
Большие машины вдувают щепки воздуха,
нет света, нет смысла,
в лабиринте почтовых ящиков
похоронены миллионы.
И хотя ворота всегда открыты,
отсюда не выходят:
под надзором квелого страха
мы замурованы в сальном воздухе.
Это твердь.
И не думай,
что он город, Kowloon.
Это бездна инстинктов, осадное положение тела.
А где-то мир напитывается дождем,
и из земли вырастают хлеба.
WATERBOY
он сгорел в воде
тихий парень с ясным взглядом, с новой ветровкой
ловил кузнечиков в прерии
читал по слогам: на-ции-о-на-лиизм
в осс-нно-ве
лицо цецы* морщится и расправляется
храм рушится и воскресает
на занятом делом бицепсе
гладком от пота
он так долго смотрел на них, и трава его переросла
годы без лета, го-ло-до-мор,
микрорайон пропах жареным, необратимо,
но он проснулся здоровым и полным решимости:
на его коже проступала политика.
в те годы он любил справедливость, сиськи и кокаин
и всего было слишком мало
глаза – плошки, до краев налитые желанием, глаза – нпз,
равнина, на которой ветряки-исполины
в тишине мелют воздух, кости и перья
он сгорел в воде
усердный маленький миксер, утонувший
в собственном омуте
тушит голову о холодные фасады
наполняет ведра, наматывает руки на черенки,
преодолевает миллиарды ступенек в кровеносной системе,
славный парень,
рабочий-озеленитель внутри меня.
* Цеца – сценическое имя сербской поп-певицы Светланы Ражнатович. Завоевала популярность не только благодаря своей музыке, но и браку с Желько Ражнатовичем по прозвищу Аркан, основателем Сербской добровольческой гвардии, паравоенного формирования, которое участвовало в гражданских войнах в Югославии в начале девяностых. Цеца, получившая прозвище «сербская мать», прочно ассоциируется с традиционными ценностями в их националистической трактовке.
ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ НАСИЛИЯ
Река – редкое явление, хотя бывают растения
аномальных оттенков, горизонт, полный ничего,
неприятно громкий смех
и миллионы его отзвуков
закупоренных между ртов
двух замороженных рыб на столе.
Она плечо, полное синюшных пятен,
кость, белый самоед со вздыбленной холкой.
Ему вслед шептали:
Подходящий человек,
будто из рекламы леса.
ИНКАРНАТ
Когда наконец остаешься одна в сахáре,
меркнет свет, и звук сужается до иголки,
воткнутой в нерв,
ты почувствуешь грубые руки предков
на животе и груди. Крестьянские пальцы примутся ловко
ощупывать влажный костный мозг и другие
укромные места.
Уверенными жадными движениями,
в известном им одним ритуале.
Сохраняй спокойствие, пока вниз по хребту скользят
неупокоенные скелеты, и не бойся.
Ты никогда не узнаешь,
сколько у тебя забирают
и кому вообще приносится эта жертва.
Аня Маркович (Anja Marković) родилась в 1988 году в Белграде. Изучала сербскую литературу с сопоставительным литературоведением на филологическом факультете Белградского университета. В 2012 году опубликовала сборник стихотворений «Napolju su ljudi» («Снаружи люди»), за который получила премию «Brankova nagrada», а затем сборник «Kowloon» (2016). Ее стихотворения переведены на словенский и английский языки. В эту подборку вошли стихотворения из последнего сборника.
Яцек Подсядло. Временами мне не хватает воздуха (перевод с польского Игоря Белова)
ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРИСОВКА
Музыка «Битлз» застынет между твоими бедрами.
Ты станешь вдруг холодна, как пустая молельня. Потом он выйдет
на балкон. Продырявит сигаретой черную карту города.
Ты быстро проглотишь таблетку, которая раскроется в тебе,
словно зонт. За стеной на полную громкость будет прощаться с жизнью сосед.
Темнота усядется на твоей груди и станет записывать.
DON’T LEAVE ME
Не переставай любить меня. Ни на миг. Думай обо мне
утром и вечером, во время молитвы. Забывай о еде,
даже если придется похудеть еще больше. Делай, что хочешь,
рассматривай обложки дамских журналов, витрины магазинов
с новыми платьями, следы болезни
на своем теле – только пусть я всё время буду перед твоими глазами.
Таская 50-килограммовые мешки c цементом, я ношу на руках тебя.
Прыгая в ритме музыки регги, я бросаюсь в огонь за тобой.
Если я грызу ногти, то делаю это от тоски по тебе.
Слушая прогноз погоды, я прислушиваюсь к твоему голосу.
Временами мне не хватает воздуха,
и тогда я понимаю –
ты забыла обо мне на секунду.
***
Догнав эту девушку, я спросил: «Куда ты идешь
такая красивая?». Было поздно, мглистые пары морфия
оседали на асфальте, нутро улицы
рассекали фиолетовые лососи. Люди с лицами, взятыми луной на продажу,
в сапогах выше колен сидели на бордюрах, терпеливо сжимая в руках
неподвижные удочки и не отводя глаз от несуществующей наживки.
Неоновые огни ритмично сплевывали разноцветную кровь.
«Не знаю», – ответила она, принимая от меня соленый огурец. «Может,
именно поэтому я такая красивая». И исчезла.
КАК ЕСЛИ БЫ НАС НЕ БЫЛО
Я проснулся, крепко проспав шесть часов,
на середине прервав надгробное слово ночи.
Снились мне дети, и проснулся я в том же примерно
состоянии, в котором однажды написал стихотворение
«Слишком пьяный, чтобы попрощаться с Элизой».
Я проснулся и полил апельсиновым соком выросший во мне за ночь
сухой, колючий цветок похмелья.
Наконец-то один.
Память всё еще переливается знакомыми лицами и незнакомыми
марками алкоголя. Как страшно быть одному. Слишком поздно,
чтобы звонить кому-либо, можно уже только любить,
любить. Терпеливо и осторожно, не нарушая хрупкого равновесия
тоски и согласия на нее. Картонная упаковка, сделанная в Голландии,
тревожно пахнет квартирой пани Малибу [1]. То, что я без обиняков
называю ЭТИМ,
таинственно шевелится у меня внутри. На столе лежит письмо
от Павки Марцинкевича [2] с газетной вырезкой, фрагментом
одного из тысячи писем, ежедневно отправляющихся в свое путешествие
в редакции разных газет, словно пилигримы в святые места: «У меня есть брат,
который, как и я, страдает атрофией мышц. Мы оба не можем ходить,
у нас нет друзей, нас почти никто не навещает, нами почти никто
не интересуется. Мы часто чувствуем себя изолированными
от общества. Мы ни в чем не участвуем, как если бы нас не было…».
Глядя на это письмо, на листок с номерами телефонов
восьми разновидностей «скорой помощи», от медицинской до аварийной,
на ближайшую жизненную перспективу, я вижу сердце этого мира, шар,
накачанный кровью, опускающийся всей своей тяжестью на острие ножа.
Мы не знаем, куда ведет единственная Дорога, по которой
можно сбежать отсюда.
Мы умеем ходить, у нас есть Друзья, нас то и дело кто-то навещает,
мы не знаем,
какова наша роль. ЭТО ведет нас такими путями, о которых
мы даже не слышали.
Павка написал однажды, что единственное доказательство
присутствия ЭТОГО – радость, которую мы испытываем, думая,
что ЭТО существует. Хотел бы я рассказать ему сейчас о безумной скорости
своей безнадежной погони за собственным существованием, которая,
к счастью, окончилась неудачей. О женщинах, которые не
оглядывались на меня на улицах. Как если бы меня не было.
О пылающей фасоли. О кастрюле, полной прекрасных тугих зерен
фасоли, которую я спьяну оставил на плите и уснул,
а через четыре часа четверо мужчин,
увидев дым, валивший из окон, пытались высадить дверь,
а я спал, как если бы меня не было, а когда наконец открыл глаза,
кастрюля с фасолью пылала, словно олимпийский огонь, и еще долго
мои волосы были полны дыма, как у пророка. О печали, такой безмерной,
что иногда она убивала саму себя, и я ничего не чувствовал,
как если бы меня не было. О том, что я существую, существую,
что это можно проверить: если зазвонит телефон, я сниму трубку,
если шагну навстречу мчащемуся автомобилю, водитель начнет сигналить,
если бросить в меня камень, он не пролетит сквозь меня.
За окном – огни самолета, что идет на посадку,
набивая небо тяжелым дыханием реактивных двигателей.
Через три часа рассвет откроет незрячие глаза города.
Ласковый ветер гуляет по улицам, легко касаясь деревьев.
Время, вместо того, чтоб идти, р а з ы г р ы в а е т с я,
словно драма. Мы так беспомощны, нас забросали вопросами
с зажигательной смесью, нас постоянно сводит с ума Любовь,
после которой не остается даже следа того, как мы заметаем следы.
Следа, ведущего через ландшафты, что немедленно захлопываются
за нашими спинами,
как если бы нас вовсе не было.
ВЕЧЕР ВТОРНИКА
Звонки Магде, ее мягкий голос.
Последний вечерний автобус. Снова кто-то переборщил
с одеколоном, сделанном в России. За окном проплывают огни,
словно запрограммированные рыбы. Водитель поворачивает руль
и видит свою жизнь на еще одной сцене.
ПИСЬМО С ЭТОГО СВЕТА РИЧАРДУ БРОТИГАНУ
Фигасе, Бодлер
нынче работает
на заводе автоматов
Калашникова.
Вместо пороха
он кладет в снаряды
цветы.
Русские потом продают
свое оружие и амуницию
направо и налево.
Цветы разлетаются
по всем фронтам этого мира.
Безоружные дети и женщины
получают свою порцию цветов.
Рассказывали о человеке, которому
оторвало обе стопы.
Теперь из его ботинок торчат пеларгонии.
Много таких, кому цветок
угодил в самое сердце.
В атаку идут японцы –
в оружейных магазинах
сплошная икебана.
Голландия угрожает
мировому порядку,
ее садовники
близки к изобретению
тюльпановой бомбы.
Встревоженные политики
шлют депеши:
«Господин Губернатор,
не кажется ли Вам,
что война, которую мы ведем,
стала какой-то странной?».
ИМЕНИНЫ. ПРИГЛАСИЛИ МЕНЯ К СТОЛУ
Несколько неудавшихся брачных союзов за столом,
гнущегося под тяжестью
горьких судеб
убитых животных.
Гора мяса, призванная скрыть замешательство и бессилие,
срезанные цветы, связки трогательно чахлых
разноцветных покойников, мимолетный запах распада
(«Как чудесно они пахнут», – умиляется именинник).
Водка, это чудесное изобретение Бога,
льется широким потоком на мельницу
языков, мелющих пустоту. Сплошной порожняк,
похабные остроты несостоявшихся донжуанов
в рубашках с англоязычными надписями, под которыми
с натугой работают их кишки, переводя на дерьмо
украшенный зеленью салат и причудливые конструкции пирожных.
Неудачные комплименты, усиленные подкупающе искренним блеяньем,
фейерверки на лицах
охуевших от тоски женщин, стареющих прямо на глазах,
размазанный макияж, делающий тайное явным,
послушная мышцам кожа, растягивающаяся в улыбке
или крайнем изумлении. Таинство брака,
оказавшееся в пепельнице среди прочего мусора,
извечная бессмысленность регулярных, словно вспышки национально-освободительного
движения, попыток Любви и супружеской верности,
достойная осла упертость,
заставляющая не расставаться до самой смерти.
Неспокойный прерывистый сон фаллосов, то и дело пробуждающихся,
когда в разговоры о политике вплетается сияние чьего-нибудь декольте,
и вновь засыпающих под действием алкоголя; тихие мечты,
которые убивает громкая музыка, парящий под потолком
дух идиотизма, косматый гибрид летучей мыши и системы образования,
очарованный патологией мыслей и чувств,
и удивительная нормальность их детей,
широко открывающих заспанные глаза.
Ловко примостившись в кресле с яйцом под майонезом,
я гляжу на Дорогу, по которой, так ничему и не научившись, они идут снова и снова.
Однажды они уже умыли руки мылом из человеческого жира –
а ныне свежим аргументом в пользу прогресса, во имя которого развиваются
промышленность, сельское хозяйство, сеть университетов, техника
и ономастика гуманитарных дисциплин,
стал нелегально производимый во Франции
омолаживающий крем из абортированных плодов.
Временами настигает их внезапная тишина, когда кто-то
постучит вилкой о фужер либо в камине стрельнет полено,
и от них сразу так и прет беззащитностью и отчаянием,
и дым поднимается от их румяных голов, ибо они забывают, что хотели
сказать, а ведь так нужно, так нужно немедленно что-то сказать.
Время идет и даже детей не жалеет.
«Спойте что-нибудь», – подает из угла голос Марта, лежащая возле
вырубившегося огромного плюшевого медведя.
АВТОСТОП
Анне Марии
Шел дождь, и водитель маршрутки подбирал по дороге
всех желающих. Не помню, как называлась деревня, где он забрал
ту старушку. На голове у нее был черный платок в цветочек,
на ногах – черные чулки и мужские полуботинки.
Перед тем, как мы тронулись, она дважды перекрестилась.
Уж и не знаю, что меня в ней зацепило. Возможно, улыбка.
Когда она улыбалась, легко было представить себе, как она выглядела
в молодости. Наверняка была красивой.
Наверняка ее кто-то очень любил.
Может быть, они часто были в разлуке, и тогда он страшно по ней тосковал.
Может, писал ей письма, экономя из-за них на еде.
Какой это мог быть год? 40-й, 43-й?
Ведь шла война. Возможно, как раз заканчивалась,
и он возвращался к любимой своей «танкостопом», боясь, что она стала другой.
Что она это заметит. Он привык на войне
к массовому производству вдов. И всё теперь стало другим.
Только их Любовь не изменилась за все эти годы.
Только это.
А этого достаточно.
И еще нужна Сила, в которой заключено доверие.
Вот это вот «он вернется, обязательно вернется».
Старушка смотрела на часы и радовалась, что успевает
на мессу святую в городке, к которому мы подъезжали.
ШТИЛЬ НА МОРЕ
Дома пусто и холодно. Я обошел все комнаты.
Солнца считай, что нет, хотя кошки греются на подоконниках.
Я думаю о прошлом и о том, что еще может случиться.
Как хрупко всё это – стены с цветочными горшками, хлипкие дверные проемы,
невесомые фрамуги. Достаточно одной авиабомбы, а потом только ждать,
когда за дело возьмутся бурьян, стаи бездомных котов, убойная мощь небытия
под названием «действие времени».
Лишнюю ступеньку на выходе из подвала я соорудил, разведя цемент с песком
почти один к одному.
А тут как раз явился эмиссар муниципалитета по делам канализации и водопровода.
Осмотрел место в подвале, где «будет сделана врезка». Я уже хотел ему
сказать,
мол, знаете, во мне сегодня столько нигилизма, наверное, случится война,
а не война, так коррозия почвы, я передумал, и водопровод
нам теперь ни к чему…
Но оказалось, что задаток нужно платить не сейчас, а через неделю,
ладно, придумаем что-нибудь.
За горами грязной посуды, за морями мелочных дрязг, за лесами цифири
мы живем, словно в сказке. И я думаю о тысяче и одном приключении,
что не обломятся нам во веки веков.
Как же не хочется мне покидать этот тихий оазис рутины. «Но вслушайся,
душа, в напевы моряков!» [3].
СЛОВНО АМЕРИКАНСКИЙ АКТЁР
он стоит в подворотне пережидая дождь
равнодушно глядит на женщин под цветастыми зонтиками
украдкой вынимает что-то из кармана и подносит к губам
судя по тому как он деловито жует легко понять
что это кусок черствого хлеба
невыспавшийся и печальный он сплевывает на наш тротуар
убить его не грех да и труд невеликий
но если кто-то и кормит грязных городских голубей
необходимых нам на наших мирных демонстрациях
то как раз такие как он
[1] Пани Малибу – персонаж, периодически встречающийся в текстах Подсядло и явно состоящий в близких отношениях с лирическим героем;
[2] Павел Марцинкевич (р.1969) – польский поэт, переводчик, литературный критик, эссеист. Адресат нескольких стихотворений Подсядло;
[3] Заключительная строка стихотворения Стефана Малларме «Ветер с моря» (пер. с фр. Романа Дубровкина).
Стивен Эллис. Бог – моя девушка (перевод с английского Гали-Даны Зингер)
БОГ – МОЯ ДЕВУШКА
«Когда беспамятность отрицает ваше наследие, точное расположение святых мест и истинное значение прямой молитвы, в этой темноте как никогда важно продолжать "высекать искры и поддерживать огонь"»
Обладать суверенитетом
и властью над собой,
своими состояниями,
своими атрибутами,
речью и молчанием:
Разве не собственной силой
сделан я непригодным решать
свою жизнь, пока она
сквозь меня проходит?
Один, под пологом
палатки, слушая
барабанный бой
послеполуночного
дождя, дым
костерка
прокладывает стезю,
по которой можно
мигрировать из
мира в мир,
из темного
тесного дома
моего тела
в полное пренебрежение
элементами,
чья одна лишь ярость
станет мною к
полному моему
самоуничтожению, как
яркие угли
внутреннего света становятся
ве́ками, раскрывающимися в
пепле, из которого
расцветающие цветы
открывают путь в
вечно умирающий
сад: Пойманные в ловушку
своей собственной
истинной веры ищут
смерти и бегут
от своей собственной
искренности. Доброта
уместна в любой
ситуации. Всегда
ищи решения
в зеркале, через
которое Бог
видит себя рассеянной
в световом
напылении твоей души
и на пепелище
ее умеренных пожаров.
Человек становится
правителем, только когда он\а
перестает принимать
спокойно свою
безответную судьбу
и вопреки ей – рабство своего
совершенствующего правления.
ЗНАЧЕНИЕ
Я понимаю часть
того, что хочу сказать, но
не понимаю в целом:
я остаюсь новичком во всех аспектах
того, как работает «выражение»:
это «игра огня»:
при последовательном производстве
преобразующего воспроизводства,
семя в плоде, производящее
больше плодов, и плод,
производящий больше деревьев, которые
прорастают и производят больше
семян путем воспроизведения.
Когда я произношу слова того,
что хочу сказать, мне дано
только объяснение со словами,
не дающими в придачу
имена, что произведут
мыслеобразы того, о чем хочется
говорить. Что такое объяснение
как не биологическая «причина»
не находить иного ответа, кроме жестокости?
Это способно подняться только до уровня
«воли к власти», не обладающей
красотой выразительного «телесного желания».
Когда оно отсутствует, я могу лишь выразить
буквальное и «ошибочное» намерение
того, что хочу сказать, без метафоры,
из которой возникает «различие»,
без которого творение, всего лишь
непрерывный круговорот изобретений, сохраняет
ясность видения того, как язык
подразумевавшегося тобой уничтожает себя.
ОСОЗНАНИЕ
Я никогда не мог
сказать, кто говорит, даже
если один из них – я.
Как жить дальше,
если не совершил
ничего незаконного, неэтичного,
аморального? Остается одно –
продолжать заниматься тем,
что умеешь лучше всего.
Просто молчи, жди появления
звезд или восхода солнца
и будь счастлив, что
можешь по-прежнему быть
«Албанией Центральной
Америки» в Вермонте.
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ "ЧЕГО"?
Заехал туда, может,
это был Стинсон Бич [но почему,
или все так делают?], с
Бобом в его белом универсале,
на парковку, в общем-то,
слишком ветрено, оттого и воздух
всеведения мог быть как-то связан
с тем, что держит «на плаву»,
когда не можешь вспомнить, что
«происходит дальше». [Это о «когда»,
«где» или «что»?] Полагаю, мы все
еще будем умирать апологетами капитала
к тому времени, когда они подскажут нам наши реплики.
Обрати внимание насколько спокойна вода
и лицо любимой, когда
она это знает. Если бы я знал, что заставляет
стихотворение работать, я бы достиг того,
чего очень немногие способны достичь: здесь нет
«дороги в магазин на углу»,
не только потому, что нет угла,
а потому что и магазина-то нет.
Я ТОЛЬКО ВЫШЕЛ ЗА ЭТИМ
Заставляет ли что-либо это при случае
знать, что следует после другого
создания, что сделано прежде, чем нечто
случилось? Это вынуждает свою деятельность
признать тебя с постоянно должен
движется во времени. Эти предложения
никогда не были правильными по прибытии,
будучи правдивыми: завитушки сокращают
ваши средства к существованию, будучи наоборот,
несмотря на то, что уже пришлось бы начать
хоть что-нибудь. Взгляни на меня. Это возымеет быть
пройденным всю дорогу до магазина на углу.
Аушра Казилюнайте. Есть река (перевод с литовского Анны Гальберштадт)
КОРМ ИЗ ГРУСТИ
в желто-красных парках
когда я прохожу, застывают голуби
поднимают вверх головы и понимающе улыбаются
они знают
не просто так я гуляю
я кормлю собой осень
***
вот я сошла с ума
мое платье сброшено на землю
оно мне никогда не нравилось
вот я сошла с ума
мой скелет сделан из старинного зеркала
в нем отражается олень, возвращающийся в лес
МАТЬ-И-МАЧЕХА БУДЕТ РАСТИ ПОД ЗАБОРОМ
когда-нибудь все мои друзья умрут
умрут все родные, и все любимые
умрут враги, и с поверхности земли
исчезнут все соседи и прохожие
которых я хоть однажды встретила
на улице, умрут одноклассники, студенты моей группы
учителя, преподаватели
сотрудники
испустят последний дух все люди
с которыми мы
бог знает почему
носили все ту же униформу
времени
хотя нам не приходилось воевать
в его боях
умрут все птицы, которые летали
над моей, ввысь задранной башкой
навеки замрут собаки
вой которых я слушала
уехав за город
леденящими душу ночами
мать-и-мачеха по-прежнему
будет расти под заборами
будут стоять беседки
увитые усталым виноградом
но по имени меня уж никто
не назовет
да и меня самой не будет
и тогда тихонько
склонив голову набок
я буду наблюдать
чужих собак
и виноград
и мать-и-мачеху
и тогда впервые
я по-настоящему увижу
как летит птица
а пара, спешащая мимо меня
окинет понимающим взглядом
сидящую на лавочке меня
они поймут, что
птичий полет я вижу
по-другому,
не как они
что я и есть –
все эти незнакомые мне вещи
соседские собаки
мать-и мачеха и виноград
КОНФЕРЕНЦИЯ
на самом деле никакого моря нет
нас обманули, но иногда приятно быть обманутым
особенно, когда обманывают таким странным образом, не так, и не сяк
а во время перерывов на кофе подают булочки с корицей
всё очень просто
просто подводишь человека к пустому пространству и выдаешь плавки
всю остальную работу он выполняет сам
глубоко дышит, шумно качается на волнах, вопит, мычит, и делает прочие глупости
значит уже зацепило, теперь начнет всем рассказывать, что море есть
привезет сюда, к этой пустоте свою семью в летние отпуска, будет играть в пляжные игры
если очень постарается, получит солнечный удар
будет прогуливаться романтическими вечерами и смотреть на закат
а утром среди совершенно незнакомых людей разденется и будет загорать
на забитом людьми клочке земли
потом будет бултыхаться в пустоте, потом, может быть, зайдя поглубже, и помочится
увидит свое отражение в воде, мерцание
все эти разноцветные камешки, раковины мертвых моллюсков
осколки стекла с отшлифованной поверхностью, когда-то они были острыми
от разбившегося стекла, и потом еще довольно долго
были острее, чем теперь
потом увидит водоросли, они хранят много тайн, они скрытные
им известно больше, чем нам, они зеленые, потом желтеют, иногда совсем
чернеют
выброшенные на берег воняют, их клюют эти маленькие птички, как они называются,
не знаю, прежде чем отвернуться от тебя, они всегда так радостно пищат
поздно ночью, стоя перед зеркалом, он будет слушать чаек
увидит отражение, колеблющееся лицо и выброшенные на берег тела утопленников
их розовые губы нежно улыбаются
их розовые глаза розового цвета
со всеми поздороваешься, пожмешь руки, предложишь кофе или чаю
и присев, начнете рассуждать, кто про чешую, кто о том, что вообще ничто ничего не значит
а те, кто лучше подготовлен, у них даже есть слайды с морской щукой на power point
***
только этой весной я наконец заметила, как прекрасно и жадно расцветает чертополох
только этой весной я поняла, как много вёсен я его даже не замечала
только этой весной я поняла, как много весен я потратила зря
и только этой весной наконец-то я испугалась, что пришла весна
и так каждой весной
ЕСТЬ РЕКА
есть женщины, прямые как струны, всегда подтянутые.
На их пальто никогда не найдешь ни пушинки.
есть мужчины в костюмах, которые при встрече всегда жмут руку.
если улыбаются – стараются это делать осмотрительно,
есть бомж, который спит на автобусной остановке Лесная.
там неподалёку течет река, там кусты, холмы и пригорки.
есть письма, на которые не ответили, и утки, бултыхающиеся в прохладной воде.
и есть – я
думающая о том, знала ли хоть когда-нибудь
по-настоящему, что делать в этой жизни.
и есть река.
и смех в стеклянных банках. с незапамятных времен оставленных
в наших тесных темных кладовках. заплесневевший смех.
и есть краски. красивые краски неба. они меняются.
есть твои руки. есть желание захотеть тебя взять за руку.
есть город. есть улицы. есть дома. есть подъезды. есть ступени.
иногда мы поднимаемся наверх. иногда спускаемся.
есть ночь. ночью мы спим. есть день.
есть закусочные, университеты и магазины. есть офисы, кабинеты и галереи.
есть картины. есть картины. есть картины.
и есть река.
***
Вышла пройтись
по своей комнате
там пустые улицы
прохожие обгоняют друг друга
сгорбленная старушка
из последних сил тащит мешок
доверху полный весны
Режимы дня
***
и был вечер и было утро
липкое белое ломкое
раза два уже перегнутое
никак не могло прицелиться, всё ветвилось
жались минуты по три в гнездо
боясь высунуть голову
чиркая ими о небо
зажигал себе голос
ничего не грузилось
всё то утро
e
в одну пант[alon]у вместилось
g
и больше ничего не грузилось
---
но далее серных секунд колкая топь
дробь развалин и свалин
дни размололись в опилки
распарились в полостях
как по расческе ноготь
семь досок-хлябей
███████
сновазабилсяслив
так загружался год-лесопилка
подзорными бревнами
***
вопрос матери
с многократной реверберацией
ключ подходит на всех концах города:
помню школа бутыль груди у стены
диафрагма воды как оседающая на пол монета…
...то ли дело – стряхивать мысль, как назойливый катышек
крепко пристала
да это ж родинка
кап
***
память жирностью полтора:
молоко просачивается в разговор,
обливает маску купает в себе дыхание
тушит Везувий
не трогая братство статуй
детский взгляд на пакет
превращает
объём в обоим
Обоим один литр
кажется я до сих пор пытаюсь ответить
кто же был тот второй
***
палец поскальзывается на стекле – новое небо (какой ценой?)
когда сотрут всё – будет прозрачно или
смотри-ка
кротовой норою ломится капля
что там у неё
талия или шея?
ТЕРЕМОК-МАТРЁШКА
яйцо
зерно яйца
закладка зерна яйца
зачаток закладки зерна яйца
исходник зачатка закладки зерна яйца
частица
щепка частицы
кусочек щепки частицы
осколок кусочка щепки частицы
долька осколка кусочка щепки частицы
зверь
животное зверя
тварь животного зверя
существо твари животного зверя
БАБАХ
БАБАХ
БАБАХ
яйцо существа твари животного зверя
зерно яйца существа твари частицы
зачаток закладки осколка частицы твари
долька животного щепки зерна исходник
***
о дикий свет
не отвлекающий
в-себя-ловящий
к первичному сплетению груди
сочишься в скрипе ручки лесопилки
в объятья трупные земли
объятья сахарные клеток
о дикий свет
бери меня в мишень
о дикий свет
спасибо что турник
о дикий свет
спасибо что компост
о дикий свет
ободранных коленей
тебя я свайпну вправо на рассвете
***
рваная интерludiя
нити вопросов
ночные полёты
тот же каскад
воспоминаний воспоминаний
каждый цикл
ехать в родное
не ехать скорее сходить с орбиты
сжатое расправляется мыслью
так
было есть и
непрерывно
границы так
те стены мимо которых
возвратно-поступательное
редеют волосы
и где то злость
полоской
***
на рабочий стол боевой вылет находок судорог озера клинки изобилия
амнистируют швы шивы расходятся от реактивного образа
брошенного на рабочий стол боевой вылет находок судорог озера
амнистия изобилия швы шивы расходятся
гидропонный лотос цветёт
***
толпа ты панцирь
магнит в оболочке магнита
(очень ты череп)
то тут то там
одноразовые чешуйки
пряничный участок недалеко
подбирай
а то до утра просидишь атонально
***
по взрыву озеря
маслясь несловлено
осама бен ладья
алибабу удил
клацал и восклицал
как мало стоят паруса нуги!
как быстро всплыли якоря орехов!
как не войти
в законченные воды внутриглазья!
и как оно арго
порой
со
суд
но
с
пал
убой
никак
***
лезвие похода
в ночь по сохранёнкам
каскадом ссылок на импульсе
до светлого киева
ямщик в нейронном янтаре
в глухую степь протягивает руну
фолловит соловья-инфоцыгана
введите код от серебра дружины
степь кириллицы
подмерзшая телепатия
выставка воздуха
перед боем
***
день в режиме воздуха
день в режиме легкой кавалерии
критический уровень мерцания
постфактум я
да?
Данте
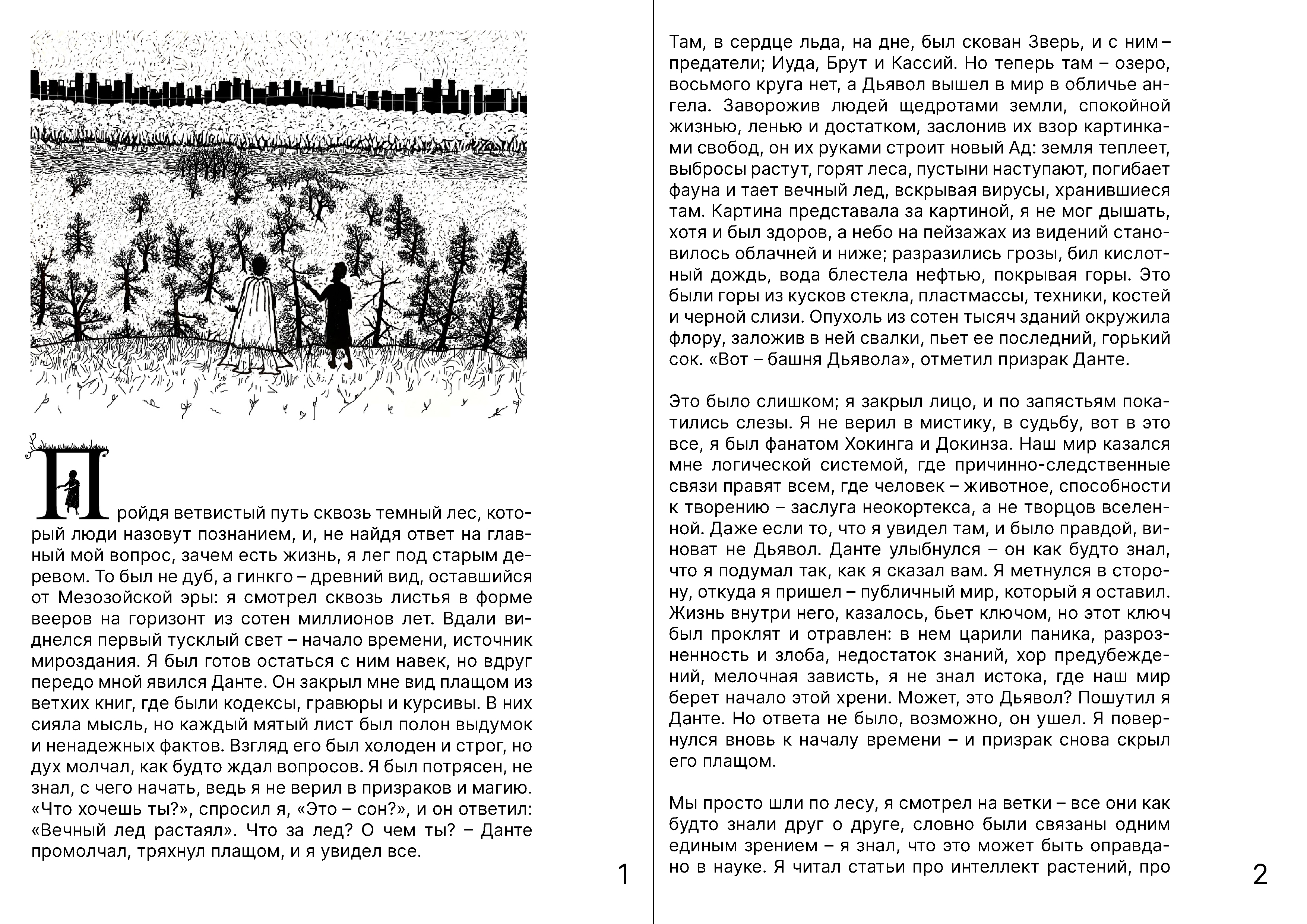

На площади Республики
В ТУМАНЕ
над океаном
силуэт нырка
на камне
заросшем изумрудным мхом,
деревянные дома на сваях
рассеянно обозревают
пейзаж все тот же,
любители несолнечной погоды
гуляют пса пятнистого
неведомой породы
по берегу,
поросший шерстью
песчаный динозавр
залив обнял
вытянувши шею,
часы остановились
и шар земной застыл
в полу-витке
на несколько секунд.
ОДОМАШНИВАНИЕ
Входишь в красный кирпичный угловой дом –
Ravenswood projects
угол Тридцать Четвертой авеню и Двадцать Четвертой стрит
они всегда выглядят одинаково – стоят рядами
из них выходят разные небогатого вида люди
чаще всего с кожей от оливкового до цвета жареного
ямайского кофе
стены внутри исписаны граффити
в лифт лучше не заходить по одиночке
особенно, когда стемнеет.
Входишь в пустую трех-бедренную,
как говорят на Брайтоне, квартиру
для разнополых родителя и ребенка.
Светло, и есть куда поставить мебель
но мебели нету.
Продали пианино, кажется, фабрики Октябрь
я больше не играю
а отпрыск не проявляет интереса.
На деньги от ХИАСа купили два матраса.
В воскресенье пришла Любка, московская подруга
у нее в подъезде выбросили матрас и матерчатое кресло
перетащили матрас к Любке
а голубое кресло – к нам.
На следующий день в подъезде увидели записку
оказалось по ошибке взяли вещи
принадлежащие вселяющемуся в дом студенту.
Наконец-то заказали мебель – зеленые диван и два кресла
в магазине на Стейнвей стрит.
Через неделю привезли ее, только диван был белый,
а кресла – одно зеленое, другое – цвета синей сливы.
Оказалось – магазин разорился.
Американский бойфренд, кудрявый адвокат
повел переговоры с магазином
те предложили взамен белый гарнитур с витрины.
Белый диван, на котором играет девятилетний мальчишка,
вскоре был разрисован чернилами и малиновым соком,
практически Поллок,
журнальный столик был слегка изрезан
перочинным ножичком ребенка,
скучающего по бабе Мане, другу Мите и коту Грише,
а у меня было, видимо, психологическое сопротивление
к обживанию этой
шестой за полтора года квартиры.
Купили цветы в горшках, дешевое стерео
телевизор нашли на тротуаре,
повесили пару фотографий и плакат на стенку ванной
но квартира все равно не обживалась.
Сходили с сыном на выставку кошачьих,
пушистых ангорских, длинных и тощих бирманских,
с капризно-пресыщенными мордами – персидских
и наконец увидели простого полосатого
типа Васьки,
называется American Shorthair.
С ребенком произошла истерика, вспомнил нашего кота Гришку
который остался с другим родителем в Теплом Стане.
Пришлось срочно с американским другом поехать
в приют кошачий и усыновить котика
тоже полосатого, с перебитым носом
и недостающим зубом.
Йосик полдня просидел под диваном,
а потом вышел и замурлыкал
потерся о мои колени, дал ребенку себя почесать за ухом.
Жилье в проджекте стало почти что домом.
Ребенок заснул с блаженной улыбкой
и во сне не хныкал.
ИНСТРУКЦИИ МОНАХА
Вы должны приехать ко мне.
Сядьте в зеленый поезд до Такаямы
пойдите в гору
там 144 ступени до верха
возьмите с собой 2 бутылки родниковой воды
5 зеленых яблок
15 красных виноградин.
Пересчитайте доски
в деревянном заборе
вдохните аромат жасмина
у террасы.
Поклонитесь три раза
маленькому домашнему божеству
полосатому, с зелеными глазами.
Сядьте
закройте глаза
вдохните горный воздух
он струится из распахнутого окна
за моим креслом.
Расскажите, что привело вас ко мне
и чем могу помочь.
Не требуйте, чтобы я нашел решение вашей проблемы
вместо этого повторите свой вопрос
голосами всех членов вашей семьи
дважды.
После этого отправляйтесь домой
ложитесь спать
вам приснятся двадцать три сна
проснитесь и вспомните три фрагмента –
кошачий хвост, виляющий из-за угла
любовника из прошлого
лежащего на раскладушке
в палатке
как в летнем лагере
и в темноте зовущего вас шепотом
мамино крепдешиновое платье
синее в белый горох
теплую ножку годовалой девочки в вашей ладони.
Вам приснится новый сон из этих фрагментов
Запишите его на линованной странице
из рисовой бумаги с водяным знаком лотоса
и принесите ее мне
на следующей неделе
чтобы я помог вам разгадать
вашу головоломку.
После того
Как мы закончим нашу беседу
мой ученый ворон
сядет на ваше левое плечо
и нашепчет ответ вам на ухо.
НA ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ
У Марион в руках оливковая ветвь
а у подножья лев
империя, как обычно, не в силах
определиться,
эгалите фратерните
и, опять же, дайте еще колоний –
Даем!
Четыре тетки по кругу
на монументе смотрят
на четыре стороны света
в недоумении,
но как бы с гордостью.
Вот так до сих пор и не определились
евреи бегут в Израиль
но интеллигенция вроде бы не рада этому
на Севастопольском бульваре
кухня нигерийская господствует
арабы по-прежнему живут в парижском Гарлеме
таком, каким он был в Нью-Йорке в 70е.
Париж американизировался
и слава богу!
Гамбургеры и бейглз
заменили багет
с паштетом и корнишонами.
Известный куратор жалуется
что Париж весь зассан пьяными
и надо бы ввести закон
о штрафовании.
Туристы со всех сторон света
по-прежнему толпятся в очереди
в Лувр
и лопочут на всех известных диалектах и наречиях.
Париж-Диснейленд –
ты заслужил это!
Любил ведь и фашистов,
и освободителей.
Терпи теперь
вот этих всевозможных
нечистых и нечесаных туристов
с их акцентами
и неуважением к твоим традициям.
НОРТ-БИЧ
Год восемьдесят третий
я в машине с университетской подругой Ленкой
едем из Эл-Эй в Сан-Франциско
по Живописной Дороге – Scenic Route One
Дорога петляет вдоль океана
Кармель, Пало-Альто,
горы, секвойи и олеандры.
Ленка в Америке года четыре
говорит мне
ты в жизни многое упустила
вот, к примеру, фильм про говорящую вагину
в нем героиню осеняет
у нее синдром – раздвоение личности
героиня собирается на юбилей к свекрови
покупает для нее георгины
мужу гладит белую рубашку
а вагина говорит ей – черта с два
персональный тренер Джимми
он так жарко дышит в ухо мне
на тренировке
и вообще – у него такая ёбкая попка.
Сан-Франциско уже совсем близко
Ленка с Борькой решили сходить
на Норт-Бич
пойти на шоу в кабаре к трансвеститам
а меня познакомили с их приятелем
физиком Сенькой
он писал диссертацию по квантовой механике
в Беркли
и по совместительству
был ассистентом гуру в буддистской секте.
Сенька был вполне симпатичный
Мы с ним отправились на поиски
классного фильма, чего-нибудь
вроде Deep Throat.
Правда, денег на двоих у аспиранта
и матери-одиночки было негусто.
Мы сунулись было в стрип-клуб
веселая девушка с щебетанием
встретила нас у входа
там нужно было заплатить
пятнадцать долларов
за напитки.
Ни намека, ни тени измученной
Сонечки Мармеладовой
на лице блондинки
в корсете с блёстками
было не углядеть.
Долго искали с Семеном фильм
чтоб образовать
уже взрослую женщину
начитанную
тридцати лет
разведенку
мать девятилетнего ребенка
психолога
с пациентами вдвое старше себя
чтоб наверстать упущенное
заполнить лакуны
undo the damage
of her unhappy marriage.
Наконец-то, после блужданий
набрели на секс-шоп
какую-то лавочку с прилавком наверху
и экраном в подвале
где, ура! показывали порно.
Мы заплатили по два доллара
спустились
в совершенно пустой зальчик
и стали смотреть фильм
похоже, самодельный,
где автомобили гоняли друг
за другом
вверх и вниз
по улицам горбатым
Сан-Франциско – как оказалось
эти люди отбирали украденный
чудодейственный хуй
друг у друга.
Этот великолепный член
доставлял всем радость
в виде многоэтажных
оргазмов
оглушительных, как праздничный салют.
Я сказала Сеньке
что, скорее всего, в стенке
должна быть дырка
для peep-show
в которую кто-то наблюдает
и за нами
сидящими в кинозале
доллара за полтора.
Вечер закончился в аспирантском общежитии
у Семена.
На кровати спал он
на полу на расстеленных футонах
спали Ленка с Борей
и я.
Помню, громким шепотом Борька
долго уговаривал Ленку
а она стеснялась меня
наконец шепот
сменился осторожным скрипом матраца.
Что там было дальше
трудно вспомнить
было ли и у нас с Сенькой что-то
в ту ночь?
Вполне возможно –
на старой фотке мы с ним
стоим в обнимку
на фоне университета
он в холщовой кепке
а я в белых джинсах
кажется марки Глория Вандербильт
ничего больше не вспомнить
видно – звезды в тот раз не сыпались с неба.
ТЬМА СГУЩАЕТСЯ
Свет превращается
в блики
на серой стене
запах горелого
клочья обгоревшей бумаги –
черные мотыльки.
Пожар пожирает время
уносит в будущее
без действующего лица
там,
на блошином рынке,
уже прошли года
желтый бакелитный браслет
и пуговицы от мундира
перемешаны с генеральскими звездами
черепаховыми гребнями
тростью с хоботом из слоновой кости
вазочкой из страусиного яйца.
Почерневшие от копоти дипломы
престижных университетов
потрепанная лицензия зубного врача
две тысячи ...того года
фотография юной красавицы
с тонкой талией в корсете
но без лица.
Сестра
МОНОЛОГ СПЕКУЛЯТИВНОЙ СЕСТРЫ
у тебя никогда не было сестры, говорит сестра,
только брат, также известный как расходящаяся
дыра в нарративе, предложенном для тебя,
словно случайная современность, бред 90-х годов
брат в этом смысле только маркер отсутствия, продолжает сестра,
но «сестра» как возможность существовала,
будучи вынесенной за семантические пределы,
которые сами же рассыпаются после первых помех
то есть было много футбола, рынков, гримас,
но меня, в общем-то, не было – разве что где-то
на границе доступного способа мыслить
я могла промелькнуть, как случайная птица в чужом объективе
брат был явлен, конечно, быстрой тенью отца
денежный будда поначалу пытался спасти,
он оттягивал контингентные сдвиги, как только мог,
но ты же помнишь, что я пела тебе, когда закрывались глаза
я мудрее, чем мать, я четко чувствую эти ходы
я скольжу внутри метода, здесь нет смысла плести
многоуровневый спасительный гобелен,
украшать застенки было бы ради чего!
так что выслушай несколько очевидных вещей:
1) иногда лучше просто закрыть глаза,
территорию прошлого развоплотив,
2) ты постоянно движешься, держа многое при себе
3) подключайся, я буду на линии, может быть,
как интонация мысли или любая другая дверь
ПЕСЕНКА ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СО СПЕКУЛЯТИВНОЙ СЕСТРОЙ
фалафель в черном пакете и прочая ерунда
сестры не существовало как концептуальной фигуры
вот только не надо начинать про потоки арто
эта поэзия делезианская в другом смысле
просто субъект идет по невыносимому коридору
и насвистывает воображаемый мир,
где сестра звучит, как пиратское mtv,
где верлибр – как райнерувруки –
приближает далекие материки
сестра рассказала несколько очевидных вещей
но я слушал их, словно психоподкаст,
гуляя по незакрепленным районам,
существующим черт знает где
бакалейщики обижались на все подряд
бывшие мечтали о газонокосилках,
недостижимых из этого линча
что ж, каждый по-своему, сообщила сестра,
сшивает фрагменты в удобоваримую боль
перед плоскими волнами данного держит речь
так что в каком-то смысле
вы вместе внутри невыносимой хуйни
и в целом сегодня все ок
Вечное сновидение
***
вышел на
улицу
попробовал прям там
прямо на улице
открыть окно
воздух застрял
я ногой на асфальт
помял его
заболела голова
дышать мало чем
мыслей нет
иду домой совсем без воздуха
без ничего
хотя чувствую
что нагулял все же
какое-то доброе чувство
ВЕЧНОЕ СНОВИДЕНИЕ
рассветное озеро
не имеющее температуры
покрывшееся небом
этим тусклым заревом
словно множащееся зеркало
отчаянно пытающееся не смотреть на себя
звук тонул в воде и я выбрался
на сушу
посмотреть что мне скажет
человек по ту сторону телефонного провода
но унесло в снежный загон
покрытый уснувшей метелью –
так неровно очертились границы
маленькой деревянной кабины
в которой показывались фильмы
с субтитрами на птичьем языке
все ещё не было температуры
снег был похож на пух
и я все ещё ждал
что мне скажет голос в трубке
только спустя забытое мгновение
я смог подойти к дверям
этого подземного поезда
и подумать: «пока все без температуры
я могу просто встать и идти
сквозь сырой туннель
слышать как крысы бегают
по дышащему железу
и люди теперь
?»
что-то из этого наяву
должно было быть наяву
вода снег
туннель ожидание голоса
что-то
утром я подумал
мне
не нашлось места среди обиженных и убогих
никто не поверил моей обиженности
сомневались в убогости
даже пьянство выглядело
неправдоподобно
каким-то непостижимым образом
мне отказали в маргинальности
теперь неприкаянный дух
обитает в спрятанных ото всех снах
и спугивает доносящиеся голоса
такими, по правде говоря,
неправдоподобными строчками.
ПЕСНЯ
от одной до восьми летучих мышей
летали как невидимые
совсем прозрачные
они были фильмом который
показывали фонарные столбы
(утром я проснулся и
квадратное пятно солнца
на шторах
тоже говорило о прожекторе)
«глотать это солнце» – то, что говорил я.
молодой марокканец нес еду
в бумажном пакете
он ускорял шаг
не только лишь синоптики
говорили мне о том
что эти дни будут похожи друг на друга
о, мама, кажется я полюбил свой пульс
бежать пока бег
спать пока сон
о, мама, утром этого дня
я сказал тебе, что было бы честно
если человек мог прожить день на земле без людей
перед тем как умереть
тогда и правда можно поверить
что это все не имеет значения
ты ответила что в Японии
есть традиция (когда смерть уже близко)
взбираться на гору
и умирать там в одиночестве
я сказал «надеюсь,
это действительно так»
ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ. ПЕРВАЯ
осень это начало жизни
это очередное приветствие
это добро пожаловать
это к-черту-вон-гуляй
если угодно
это осень-полиглот
говорит сразу на всех языках
всех людей которых ты когда-либо изображал
так или иначе
по твоему решению или случайно
осень не спрашивает «вопреки чему?»
она сама вопреки
это узурпатор остальных времен года
сидит на своем троне-деревянном-холодном-стуле
ждет когда ее свергнут улыбаясь
с сигаретой во рту
ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ. ВТОРАЯ
невольный
что это значит? почему оно
кричит себя?
спустя столько времени –
новый оттенок сиреневого
очевиднее морских медведей
в вымерших песках города
он берётся сам
по своей воле
в ней он произносит сбиваясь
в смеющейся уязвимости
(она напугана своим местом)
«поцелуй меня, ладно?»
и муравьи ползут в область сердца
как излишки счастья
и так же из него выползают
кто-то вместо меня
наивная жертва обряда
с удивленными глазами
поражённая что этот голос есть
даже если он только кажется
вместо тебя
только неясный оттенок
бледно-сиреневого
ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ. ТРЕТЬЯ
смотрю вижу лес
представляю разобранный
без деревьев
без кусков неба
между веток
без капель воды
падающих с листьев
чувствую – теперь
наконец
наконец лес
настоящий
разобранный
с деревьями
с кусками неба
между веток
с каплями воды
падающими с листьев
ДЖАЗОВАЯ ЗАРИСОВКА
перед сном мне захотелось
написать сценарий для сна
весь фильм будет сплошная ночь
днем-ночь
утром-ночь
ночь-ночь
...
в 4 часа утра
я терпел сон в котором
один из моих друзей
обещал стать серийным убийцей
и не было никакой возможности
его остановить
в темных переулках рассыпчатого асфальта
в светлых туалетах деревянного покроя
где бы я его ни преследовал
фонари впитывались в общий рассвет
и он смотрел тепло на меня
и я понимал что все же
будет утро
...
в 10:40 я притворился проснувшимся
протяжный гул снов затих
сны потеряли бдительность
и я поймал их спящими
я схватил их мертвой хваткой
«я не хочу утро
я хочу ночь-ночь»
...
я вышел на терассу
присел рядом с друзьями
достал сигарету из общей пачки
за спиной был деревянный дом
впереди: отвернувшиеся друг от друга деревья
открывавшие путь к небу
мы обсуждали музыку
заметили что нас четверо
«мы можем быть группой»
кто-то будет ноэлом галахером
но мы все будем любить
своих братьев
тут я заметил что курю
дымящийся карандаш
я попробовал забить табаком ручку
но эта ручка
она была не такая как все
любой ее конец мог писать
меня это почему-то поразило
начало светать и я наконец увидел
потрескавшийся темно-апельсиновый закат
и по морщинам его тек жидкий свет
как расплавленный пластик
как желток
я увидел
наконец увидел
утро-ночь
...
я проснулся в 13:10
впервые за месяц светило ярко-желтое солнце
я понял:
наступила зима
Другая система желаний и травм
***
Вот выходишь такой, поставив на скачку новый
сезон американского мультика в стилистке аниме,
не успев и осмыслить, о чём говорили в последней серии,
как находишь себя посреди перепалки в торговом зале,
отступающим от чёрной лужи:
кола и терияки.
Пока островатая сладость шипит по полу
в перекрёстную впадину плиточного орнамента,
бликующий торрент проносит фрагменты мира
сквозь ячейки нехваткого зрения, но волокно
по случайным пылинкам всё же способно собрать
немного контекста,
летучей плавучей взвеси,
оставшейся после нырка
утяжелять ресницы.
Всё, что подслушал и подсмотрел,
точнее сказать: присвоил,
пережевал,
адаптировал для рецепторов,
срезал углы языком,
обточил и вымыл – здесь,
в пространстве пути из «Пятёрочки»,
в пространстве, прошитом осенним светом:
карамельный обмылок во рту,
взвесь визуальной памяти на ресницах –
всё напыляется, каплет
на видимость повседневности,
чтобы снова вернуть ей прозрачность,
пока не успею опомниться:
желтоватые или красные,
ломкие или сухие
лепестки люберецкой «сакуры?», опадая
обращаются листьями «липы?» в конце падения.
Манерная меланхолия, очарованье
очей – лишь у земной поверхности, но в потоке
кружения,
в поле зрения всё ещё – симуляция солнца
с оттенком пахучей клюквы,
нелегально ввезённой
на кораблике из бумаги.
***
может быть
не эксперт конечно
могу и не понимать
некоторых нюансов
быть может
всякое мнение
имеет место
(если быть откровенным)
лучше бы вам не быть
столь категоричными
потому что я знаю
что ничего еще не доказано
поэтому кабы чего
не вышло прийти к согласию
так что лучше бы вам не быть
вовсе
ничего
такого
не подразумевалось
обижать
никого
не предполагалось
споров на таком пустом месте
(на вашем месте)
я не был бы так уверен
а задумался бы
кому это всё
действительно нужно
мотивы какие
какая выгода
мне говорить неправду
вам
я пытаюсь помочь поэтому
лучше бы вам
не быть
вовсе
мнение существует
вас же
быть
не должно
***
на крыше магнита ну почему же магнита
а потому же магнита что пустотою подписан
окоём из железных листов
красный цена как будто
крыша расчерчена трещинами
вмятинами разбита
крыша магнита
недоопознанная
безбуквенная
может пятерочки
но точно уверен не дикси
дикси через дорогу
душно-оранжевым манит
а здесь магнит
генерирует притяжение
непотраченных денег
и поверхностных ассоциаций
потому и магнит что краснеет словно
ценники акционные
потому и магнит что отсутствует метка бренда
а инерция восприятия цветов эконом-сегмента
расставит нужные буквы по нужным местам
прямо у крыши магнита
где нет покупателей и товаров
разве что дети держатся за руки в летнее время там
на сухой очерченной трещиной зоне крыши
мокрую сторону всё же
и мокрой-то не назвать
скорее она подтоплена
морщится рябью но голуби вместо чаек
там едва не камыш растет
на крыше магнита
там едва не рыбацкая лодка
там едва не рыбак-идея
и не сети полны серебристой мойвой
что готовится стать икрой
на полке магнита
или всё же скромнее
тонкая удочка над водой
***
воппер картошка и цезарь
еда остывает в корзине
доставить как можно скорее
ввод промокода и
дежавю
или всё-таки помню?
если не я так хотя бы
пальцы на клавишах помнят подобие между
сборкой заказа в Delivery Club
и поиском типажа
веб-модели по ключевым словам
shaved или hairy
milf или teen
кастомизация персонажа
в начальном меню ролевой игры
кем ты будешь сегодня?
ты будешь ViollaSpicy
я же буду твоим
MummyLover75
когда забиваешь в поле для ввода последний символ
мамка ли
мумия
тепло от пакета с фастфудом
или тепло
тактильное
попутчицы из метро
все различия размывает
рябь графических артефактов
за которой легко перепутать параметры тела в углу экрана
с индикаторами здоровья
проституток
стыдливо но одержимо
убиваемых толстеньким пятиклассником в неоновых вспышках Vice City
в дорожной пыли San-Andreas'a
где угодно
(в основном за закрытой дверью)
ведь не сразу стало понятно
что в серии GTA
есть какая-то цель помимо
убивания шлюх и ментов
без ощутимых последствий
чтобы вдруг не увидеть случайно твоё лицо
за комбинацией жанровых категорий
не прочитать во взгляде апатию или презрение
я сбиваю тебя бензовозом
мне даже как будто стыдно
но глухой удар радиатора красные полосы от колёс
сексуальная власть которой не обладаешь на дискотеке
как и возможность ме́сти всем альфа-самкам класса
пресекают любой неудобный вопрос самому себе
хорошо что у нас есть латекс
натянутый на дисплей
он обеспечит стерильность
визуального поглощения
мы не заметим
липких следов оставляемых школьной сменкой
складок в текстурах складок на простынях
складок на животе не вошедших в кадр
или напротив
выхватим хищным акцентом вебки
отсекая все непригодное
для быстрого насыщения
так сколько же полигонов
в теле вебкам-модели
если рядом – кислотного цвета фаллос
на плечах – кислотного цвета мех
неужели она сама
пластмассовый мир
за аквариумным стеклом
плавкий
податливый
комнатный
так наверное рассуждает полиция нравов
подчищая историю браузера
после акта жадных подглядываний
ведь сквозь низкое разрешение не отличить
угловатой 3D-модели в плоской кровавой луже
от уснувшей во время стрима на пошленьком алом шёлке
так наверное рассуждаю
баюкаясь оправданиями
но они ничего не изменят
ведь её басовитый храп
приоткрытый рот
и мерцающая слюна
на щеке – не условность как розовый мех
а неистовый проблеск под заусеницей
то бордовое волокно в глубине пореза
неудобное и саднящее
как вероятно любая жизнь
ускользнувшая от прожектора
потребительских ожиданий
***
наверное счастье
это широкий поток пространства –
в жадных глазах
или воздуха – в изголодавшихся
по осознанному дыханию
лёгких
запах
сиренево-илистый
чёрно-розовый отсвет синтвейва
в пульсирующей колонке –
так начинается лето
запоздавшее
но наступившее
почти к середине июля
так интервалы между ударами сердца
совпадают (почти не верится)
с календарным делением времени –
вот и разлитый ликёр
под икеевской мерной стопкой
отпечатался голубым
полумесяцем на столе
вот и первая четверть луны
отпечаталась в летнем небе
почти без потери качества
стоит признать
тень сползает в сторону новой фазы
но завтра ведь не наступит
раньше нашего пробуждения?
да и как тут вообще уснуть
посреди огромного мира
по случайности явленный в декорациях подмосковья
он проникает под кожу каждым большим глотком
первой затяжкой после долгого перерыва
через поры ладоней коснувшихся без причины
этим смешным и немножечко секси
танцем в ночном фонтане
невозможной и нежной дружбой
которая как любовь
жулебино ей свидетель
как и люберцы как любая
точка?
– пятно пространства
голубая лагуна?
нет
пространство без имени
да
океан вещей
и конечно же время
не расчерченное на даты*
* Наверное счастье настолько вариативная категория,
что не так уж и важен порядок слов;
были бы убедительные подробности, окрашенные личным
(ну или присвоенным)
опытом.
Также всегда есть возможность сослаться на
лирические условности, на игровой
подход к выражению замысла.
В конце-то концов, никто не мешает мне
исследовать категорию счастья с другого ракурса:
наверное счастье
это не обосраться
прямо в такси по завышенному тарифу
хмуро внимая сирийским мистикам из подкаста
о мой подавленный гнев невоспетый
помоги вознестись над собой
не испортить рабочую смену такому тактичному
вежливому водителю
чей сочувственный взгляд отраженный
в зеркале заднего вида
говорит мне держаться брат
а водитель – не говорит
понимающему молчанию в унисон
отвечают сирийские мистики
разве не счастье
бодрая горечь несоответствия
представления – воплощению
разве не счастье понять
что я не был тобой ни секунды
что ты – другая
система желаний и травм
освещённые прошлым опытом
пусто́ты на тусклом фото
заполняясь текстурой цвета
убедительные
фактурные
неспособны
сообщить ничего о тебе
о глубокой тени
иссушённой и даже выжженной
неуклюжей интерпретацией
этот ложный удобный контур
осыпается днями августа
там где кончаюсь я
и начинаешься ты
в океане привычной речи
островки арамейского эха
только
только б не задремать
только б не обосраться
интересно была ли у них телесная практика
на подобные случаи
когда наконец обретаешь
несокрытое и банальное
потому и необходимое
незнание
и примирение
с неполнотой
наверное это счастье
крайне несвоевременно ведь моё
пикантное неудобство такой пустяк
по сравнению с болью которая недоступна
при попытке понять которую упираешься
в недостаток эмпатии в трудности перевода
с арамейского на привычный
с твоего языка – на мой
времени очень мало
чтобы остаться счастливым
приходится разделить сорок минут пути
на удобные промежутки по пять минут
и смотреть на шкалу подкаста
осознавая бессмысленность ритуала
но по-прежнему веруя
ибо конечно абсурдно
может оно и не счастье вовсе
сейчас ведь не до него
но что-то очень похожее
что-то очень
Тентакли – это хорошо
ЛЁГКИЕ ЛЮДИ
эстер и джерри хикс
открыли шампанское
пробка выстрелила с хлопком
и сбила летящий самолёт
пена потекла
и все засмеялись
я трогаю тебя за зад
а ты улыбаешься
и шепчешь мне на ухо:
– помнишь как ты жил
в тесной зелёной комнатушке
в далёкой
холодной и мрачной
стране россии?
– эх, да! –
я не мог не засмеяться.
это была
та ещё шутка!
мы поцеловались
а потом джо витале
застучал ложкой в бокал:
(тифон)
прошу вашего внимания
сейчас
внесут носилки с возлежащим
на них дионисом!
все зааплодировали
а мы с тобой крепко обнялись
и упали в торт
размазывая его по полу
вскоре на шум
вечеринки
прикатила полиция
но наряд никак не мог войти –
плотная стена
из воздуха
не впускала их.
(тифон)
– мы – люди с рогами,
и нам весело!
зачем вы нам мешаете?! –
дионис захохотал
и с потолка посыпались
карточки мастеркард
а мы продолжали возиться в торте
утопая в блёстках
и конфетти
оба в кедах конверс
ол стар – да, ол стар
– мне нужно помыться, –
сказала ты, – мне нужно
смыть с себя это.
мы зашли в ванную
я включил воду
и змейками капли
потекли по плечам
по спине
и я запутался в твоих волосах
– ты попался, комарик! –
ты смеёшься и в зеркале
отражается ведьма. –
ты попался, воробышек!
ты мой голубок!
– у вас всё хорошо? –
постучал джо витале
в дверь.
– да у нас
всё отлично!
у нас же
свадьба
(тифон)
разве нет?
разве нет?
мир кружился и танцевал
наши глаза встретились
и взгляды
завязались крепким узлом
морским
– ты летишь, как актиния
ты поёшь, как море
ты пахнешь, как песня
говорил я и гладил
по голове
и бедру
и вдыхал аромат волос
– вы должны произнести клятвы! –
воскликнул джон кехо
– я клянусь моби дик
моби дик моби дик
– и я
клянусь моби дик
моби дик
– горько!
эстер и джерри хикс
запустили салюты
и ракеты сбили
ещё один самолёт
(тифон)
всем весело
и я беру тебя на руки
и несу в спальню
через бесконечный
порог
длиною в жизнь
ГАВАЙСКИЙ БРИЗ И МАЛЕНЬКАЯ МИСС ПЛЭТФОРД
гавайский бриз
и маленькая мисс плэтфорд
в белом топике
и цветастой местной юбке
отправляется на пляж
до пляжа рукой подать
ногой
дойти
глазом
взглянуть
и попасть в самую цель
нежно голубое
как жидкие сапфиры
а иногда бирюзовое
как расплавленные изумруды
ОНО
облизывает наши ступни
– маленькая мисс плэтфорд
что вы думаете об этом дорогая?
– ах я не знаю господин нацусимэ
вы слишком высокопарно изъясняетесь
– а вы-то?
я ваш английский дорогая
иногда не понимаю
вы слишком чопорны
урождённая англичанка
маленькая мисс плэтфорд фыркнула и
часто-часто обмахиваясь веером
отвернулась
к воде
и к бескрайнему небу
настолько необъятному
что кажется будто оно
вырывается за пределы мира
и по небу неспешно
вальяжно ползут
жирные творожные облака
а я дремлю в тени пальм
опершись головой о ствол одной из них
вдаль вытянуты –
я это вижу –
ноги мои
ступни в японских сандалиях «за́ри»
на лоб я надвинул
соломенную шляпу
она чуть пропускает свет
вентилирует воздух
маленькая мисс плэтфорд уже плескается в воде
– как вода?
спрашиваю я
– как тёплое молоко на ночь! –
отвечает маленькая мисс плэтфорд
она действительно пьёт перед сном
стакан тёплого молока
англичане, что с них взять
– будьте осторожны! – кричу я –
ведь может появиться акула!
– какая-такая? – смеётся
мисс плэтфорд – акула ещё?!
вы шутите верно!
вода прозрачна
как чистое стекло
я вижу всех рыбёшек вокруг
все до одной!
всё дно как на ладони
никто незамеченным
дорогой нацусимэ
не подплывёт!
что ж я доволен
бдительностью маленькой мисс плэтфорд
и потому оставляю её одну
за её занятием
а сам лениво тянусь
к половинке кокоса
в которой кокосовое молоко
сок манго
холодная мякоть арбуза (!!!)
смешаны
с крепким джином (!!!)
со второй попытки
я ловлю трубочку губами
втягиваю живительную жидкость в себя и...
...Ах! хорошо!
– вы опять напьётесь! – кричит
из воды маленькая мисс плэтфорд –
нацусимэ!
ведь вы обещали
сегодня
мы поедем в город
и посидим в ресторане
и –
она сделала паузу –
потанцуем!
ведь вы обещали!
она стоит
уперев руки в бока
надулась
нахмурилась
ветер яростно треплет
её красные волосы
будто пламя факела
– я буду трезв к восьми! –
беспечно кричу я в ответ. –
трезв как конфуций!
– я на это надеюсь! –
бурчит она. – я специально
привезла с собой вечернее платье
чтобы мы с вами
могли посетить...
дальше её слова заглушил порыв
ветра
я вижу
как тучи на горизонте
над гладью морской
сереют на глазах
превращаются в грязные кляксы
наползают на небо
как шайка бандитов
– дождь начинается! –
кричу я маленькой мисс плэтфорд.
она бежит из воды на берег
быстро собирается
берёт меня под руку
и мы уходим
с пляжа
позади грохочет гром
в воздухе
пахнет озоном
– ну вот, –
надулась она –
теперь мы не сможем
посетить ресторан.
– почему?
– ведь дождь же!
откройте глаза
нацусимэ! или
вы опять пьяны
как конфуций?
– как конфуций
можно быть только трезвым, –
поправляю я. –
а вы не волнуйтесь
маленькая мисс плэтфорд.
– почему?
– мы ведь можем сходить
в ресторан и в дождь.
рестораны с крышей и стенами
ещё никто не отменял.
обещаю
это будет самый роскошный
и вы попробуете
как и мечтали
суп из акульего
плавника.
она улыбается и целует меня.
начинает накрапывать дождь.
наше бунгало
уже виднеется впереди.
неспешно
движется нам навстречу
подпрыгивая
в такт моим пьяным шагам.
пьян я
или наше бунгало пьяно?
– кстати нацусимэ,
– говорит серьёзно мисс плэтфорд.
– когда вы уже сделаете
меня
миссис нацусимэ?!
ДЕДОВЫ ПОДВИГИ
дед-алкаш на крыльце деревянного дома
говорит:
– тентакли – это хорошо
а вот боксёрские джебы – это плохо.
он разворачивается и уходит
в затекстурье
за бутылкой водки
там он сталкивается с тараканом-мутантом
и восклицает:
– ты сам пришёл сюда –
я тебя не звал. так что никто
не виноват, что ты застрял
в невидимой стенке.
добро пожаловать в мой баг
и будь добр умри.
дед прихлопывает монстра тапком
(лишь с пятого удара ХП таракана
доползло до конца и он умер)
и вскоре возвращается из затекстурья с бутылкой.
сделав глоток из горла, дед продолжает сказ:
– а чтобы работала тентакля, а не боксёрский джеб,
нужно перед боем
подбросить вверх пустой пузырёк.
он упадёт на голову босса и собьёт
боксёрскую серию в самом начале
затем надо загнать босса в дверной проём
откуда тот не сможет выйти
и тогда босс начнёт бить по вам тентаклей.
держитесь справа от босса
и тентакля всегда будет бить мимо –
босс правша – так что тентакля будет
бить влево, в глухую стенку.
вы главное всё время идите, идите на босса –
это нейтрализует его попытку выйти
из дверного проёма.
ждите удара тентаклей,
а потом бейте топором.
потом снова отскакивайте вправо
и идите, идите на босса.
шагайте на месте
и он будет шагать вместе с вами
навечно застряв в дверях.
он снова бьёт тентаклей в стену –
вы снова херачите его топором по пузу.
ещё раз, и ещё – и на четвёртый босс подыхает.
помните – всего нужно четыре удара,
так что смело принимайте Ужасную Таблетку перед боем –
её хватает аж на шесть ударов,
так что на босса хватит.
На этом
дед замолкает и снова делает
глоток из горла
– дед, именно так ты победил нацистов? –
спрашиваем мы.
– это лишь один из моих боёв, –
строго говорит дед, погрозив пальцем
и закуривая крепкую самокрутку –
о других моих подвигах
в Великой войне
я расскажу в другой раз
а пока – вот вам, –
дед даёт нам мяч
весь покрытый засохшей вчерашней грязью. –
идите, играйтесь.
через час будем жрать –
бабка картошки нажарит
с колбасой.
EASY PEOPLE (VIP EDITION)
яхта –
стоит того чтобы к ней
проложить путь топором
через десятки черепушек
старух-процентщиц
не так ли дорогая
спрашиваю я её и ветер
треплет прозрачные шторы
вокруг нас снова тёплый летний вечер
и мы смотрим вдаль
и видим на горизонте нашу яхту
припаркованную
на горе арарат
сгущаются сумерки и лица
становятся неразличимы
как чернильные пятна мы пьём
травяной чай «Томление»
и видим вдали нашу яхту
яхта стоит смерти соседей
таинственно прошептала она
яхта стоит десятка абортов
модифицированная
она понесёт нас
через звёздное пространство
говорю я
и мы сменили чай на текилу
как насчёт сигары
как насчёт того
чтобы мексиканская служанка хуанита
приготовила куриные наггетсы
как насчёт того чтобы бодрствовать
всю ночь и не спускать с яхты глаз
о это было бы чудесно
отвечает она и шлепком
убивает москита
но как далеко мы можем зайти
в этой неподвижности
я отвечаю нервы
крепки как струна
они никогда не порвутся
тела наши вечны как свет
они никогда не погибнут
мы можем я говорю
оставаться здесь
на веранде
на этих плетённых стульях
целую вечность
пока вокруг
будут проноситься галактики
рычать в ночи аллигаторы и черепахи
стрекотать сверчки и цикады
а рабы вкалывать на плантациях
обливаясь потом и
получая заслуженный горб
всё это нас не касается
она согласилась
пригладила волосы
и мы сменили текилу на виски
слишком крепко и
горько морщится
она ты
вытерпишь
говорю я ты
даёшь мне силы
говорит она
терпеть и держаться а вот
и наггетсы говорит
хуанита и ставит
блюдо на стол
она уходит во тьму
хромой утиной походкой
а мы смеёмся ей вослед
а потом возвращаем взоры
наши к яхте
как насчёт абсента
я готова к ещё
большей горечи
пожалуй пора
перейти на абсент соглашаюсь я
она
дотрагивается до моей руки мы
так будем сидеть целую вечность улыбка
сияет на её лице
шаманы грозили нам метеоритом
смеюсь я но он
так до сих пор и не упал и
не упадёт никогда хихикает
она наша
любовь вечна наша
яхта вечна мы
проложили долгий путь топором
через черепушки старух-процентщиц
к этим плетёным стульям
на этой веранде
и мы никуда
с них не сойдём
и останемся в этой неподвижности
циничного величия и величественного цинизма дорогая я
люблю тебя я
сказал и поцеловал её
УСЯПЯНЬЩИНА
Давай вернёмся мы в наш горный дом
чтоб собирать ракушки
аммонитов в чернозёме
и белых и лиловых богомолов
размером с ноготь
среди морковных грядок и картошки находить
и подбирать рога
среди еловых шишек
косулей что повесились на ветках
от скуки
от тоски
и от безделья
что так Сенека ненавидел
и в своих письмах порицал
Мы в горном доме ремесло вновь возродим
гончарный круг запустим
в просторной комнате
покрытый пылью ждёт давно мольберт
и будем листья мы морозные по осени срывать
и будем их метать как звёздочки
друг в друга
и, совершая сальто, на лету ловить
зубами
давай мы вновь вернёмся к делу ниндзя!
а с чердака – достанем мы сундук
от паутины распакуем и откроем
и на свет божий явим то что в нём –
старинные доспехи Гуань Юя
с драконами, и ржавчиной, и молью
мы подметём полы
и сядем чай пить
и любоваться на луну-монету
растущую – а значит начинаньям
нашим всем сулящую успех
бросать мы будем кости и пить водку
и вспоминать эпоху динозавров
мне нравится когда в момент сиесты
косые падают к нам в дом лучи
через зелёные прорвавшись занавески
и умно смотрит и молчит
и жмурится кот белый – толст и мудр
беру я в руки шест
и вспоминаю вновь ниндзюцу
но ты кричишь что-то – не шест
а черенок от швабры
и я тебе мешаю мыть полы
а птицы говорят снаружи: Август
зелёные олени – в мхе и листьях
спускаются к озёрам, чтобы пить
и там и остаются до зимы
чтоб спать под льдом
тебе они мешают воду брать
и в деревянных вёдрах относить наверх
по каменным ступеням восходя
в наш дом по имени «Додзё»
зелёные олени всё кусают за подол
рогами задирают тебе юбку и ревут
вот я спущусь однажды – и они посмотрят
у меня, они попляшут у меня
Стихосцены
СТИХОСЦЕНА
в конце XIX века
в старом дворянском доме.
очень тусклую комнатку,
полуночью наполняют,
старик с бородой как плесень,
(он сидит за круглым столом)
рядом, в белой ночной рубашке,
пахнущей потом и пижмой,
косматый парень, ему двадцать пять,
а напротив – женщина, его мать.
она прикрывает платком рот,
сейчас ее мысли о сыне: как это он,
может, и вправду теперь будет здоров,
как его жизнь = ее жизнь в люди вытянет.
когда она вскочит и заорёт, старик ей скажет
«вы и есть гримаса. а теперь вам следует что-то сказать ему».
когда это случается, она говорит:
«да, александр, подойдите ко мне, только
не смотрись в зеркало». александр вздрогнул на неё.
«я прошу вас...» – догнала она.
он встаёт и спиной к зеркалу, висящему между двух окон, подходит к ней,
женщина обнимает его, шепчет про шелест и лес,
про воду и плеск, про все хорошо.
«неет! это совсем не то, ты не другая,
я только что видел!», он оборачивается
и все видели, что он видел зеркало,
и все замерли, чтоб надеяться, что обойдётся.
этот испуг, который тянется тысячу лет, но после них, оказывается секундой.
александр подходит к окну, разнимает рамы его,
и глубоко вдыхает. «вот, взгляни на этот пейзаж,
матушка, какой. он четкий, как точно деревья освещает луна,
как нерушимый пруд кажется небом
и из него луна светит в сад!»
«а теперь посмотри здесь – продолжает он, делает шаг
и другой к зеркалу между двумя окнами, –
почему здесь деревья сада мутны,
а неба свеча больше похожа на сгнившее солнце чем на луну?»
они кричат. старик внимательно смотрит,
а женщина подбежала и выхватывает сына из зеркала,
упирает силы в руки = толкнуть его в кресло.
но тот кричит о пейзаже, который видит в окне и который в стекле.
«сейчас придёт гримаса!» – шепчет он, затупав взгляд из кресла в стекло окна или зеркала и затухает.
он умолк. мать, взвизгнув, закрывает руками лицо и отворачивается.
старик привстает со стула чтобы лучше видеть.
безликое лицо, это пастбище губ, они вздрагивают, губы,
лицо лицо медленно съёживается в другое лицо
подобие трагедийной греческой маски,
и все напряжено и дрожит.
СТИХОСЦЕНА №2
Трое иностранцев ходили по торговому центру.
Парень, его девушка и их друг.
Они увидели сетевой книжный магазин.
Один их приятель как раз хотел зайти и купить книгу на память. Достоевского на русском.
Друзья гуляют по отделам магазина.
Где тут Достоевский на русском?
Но тут сидит оборванный и бородатый русский мужик.
Он прямо на полу развалился и сидит.
Как пьяный. Он держит книгу в руках, и руки его неприятны.
Иностранец говорит друзьям:
«Что это такое, блин? Почему тут сидит этот вонючий мужик?
Надо сказать охраннику или уборщику, хотя бы. Пойдем!»
«Да, пойдем! – ответила ему подруга и кивнула»
«Хорошо, я пойду, – поддержал их друг и тоже кивнул».
На них посмотрел бездомый мужик и тоже кивнул.
Он говорит:
«Господа! Не надо никому говорить, я тут свой!»
Ему отвечает второй друг: «Как ты понял датский язык?»
Бездомый говорит: «Я пять лет не имею дома и хожу в магазины,
Где изучаю иностранные языки. Вот книжка по Илье Франку, это турецкий.
А датский – это шестой мой язык, а турецкий – будет 24-й язык».
Тогда первый друг на классическом датском спрашивает:
«Вы правда выучились датскому языку только по книжкам?»
Бездомый хитро улыбается и засовывает руку в бороду по локоть.
И отвечает: «Я еще разговариваю: с ними». Он достает одну куклу мальчика,
и еще одну куклу дедушки и куклу матери мальчика:
– Здравствуй, Зигмунд!
– Здравствуй, Александр!
– Славные у тебя кроссовки!
– Да, я приобрел их в магазине «Спелая грива»!
– Мне известен этот магазин… Рядом «Зеленые шторы» и отдел с зеркалами!
– Александр, – говорит ему мать, – Подойди сюда.
– Не стоит, мама. Не стоит…
– Может быть, нам удалиться из этого места?
– Или хотя бы перейдем на другой язык?
– Я бы не хотел говорить по-датски с охранниками и кассирами.
– Я считаю, что лучше про это не разговаривать,
– Да, просто найдем Достоевского на русском.
– Может тебе купить еще и самоучитель по русскому языку?
– Давай спросим у русского мужика, где Достоевский.
– Здравствуйте, где я могу найти один из романов Достоевского на русском языке?
– Вот там, пожалуйста!
– Спасибо, многоуважаемый Бездомый! А теперь пройдем обратно!
– Раньше тут было приятнее, или мне так казалось?
– Такие густые волосы, восхитительно!
Мужик убирает иностранцев в бороду.
Куклы мальчик, старик и мать мальчика выходят из книжного магазина.
На выходе срабатывает сигнализация.
У мальчика в рюкзаке неразмагниченый томик Достоевского на русском языке.
СТИХОСЦЕНА №3
Цветочный магазин очень тесный.
За прилавком стоит директорша,
возится с кассой, деньгами, документацией.
Два молодых продавца – это он и она
в спецрубашках этого магазина.
Девушка опрыскивает цветы.
Юноша напевает мелодию.
Дверь ударяет в колокольчики,
они звенят в магазине, как запах цветов – весь.
Это заходит кто-то в черном плаще
и с бородой, седой и короткой.
У него что-то в руке –
Черное и белое, заметное только мельком.
Девушка подходит к нему и говорит разные фразы:
«…бла-бла, могу помочь?»
«Да, мне нужны цветы...»
«Цветы… как странно. Какие же вам нужны цветы?»
«Ну, положим, розы»
«Какие именно розы?»
«Не имеет значения, какие розы,
самое главное условие – у этих цветов не должно быть запаха».
Кто-то в плаще, в черном, в черном.
«Совсем» – уточнил он.
Голос его сиплый и лишен эмоций,
но что-то есть в лице едва знакомое.
Девушка задумывается, и подзывает парня,
шепчет ему: «отведи старика туда, где розы без запаха».
Оба отходят к углу. Цветочница встает у прилавка.
«Так странно, что-то в нем странно, но что это, что?».
«что это? Что это, что это такое, что?»
Она замечает, что в руке этого человека,
Маленький черный гробик,
а в нем лежит спящий младенец.
Девушка поворачивается к директорше,
ковыряющей глазами монитор.
Цветочница наклоняется, шепчет, ей
указывает на гробик.
А мужчина, ничего не подозревая,
нагибается к цветам, которые ему показывает торговец.
Директорша отвечает шепоту, что это ничего особенного,
просто люлька такой формы.
Цветочница говорит: «а мне страшно»,
и что «это точно гроб»,
«я чувствую опасность».
Директорша гуглит картинки люлек,
листает, открывает фото белой, в форме лодки,
с подушкой внутри и одеялком.
Цветочница в тревоге: «но это совсем другое,
одно дело – ковчег, а другое – гроб.
Мне страшно».
Мужчина направляется к прилавку.
Торговец обрезает стебли, заворачивает
в черную бумагу. Он увлечен работой
Директорша с укором смотрит на пугливую цветочницу,
а она сдерживает панику и смотрит как
пониже головы ребенка одеяло колышется.
И все стоят молча. «Так спит»
Человек в плаще достает телефон,
чтобы расплатиться. Директорша
смотрит ему в глаза и говорит, что
может принять только наличными.
Мужчина ставит гробик с ребенком на прилавок,
достает кошелек из левого кармана и собирает деньги.
У директорши необычный взгляд, она
знает этого человека – так поняла цветочница.
И директорша говорит: «какой он хороший,
пока спит». «Это так, – отвечает человек, – главное – чтобы ему не приснились отражения цветов из-за этого обилия запахов». Он оставляет
наличные и кладет букет прямо на ребенка.
Теперь колокольчики стучат в дверь:
– Он просто никак не может с ним расстаться?
– Знаешь, как появилась музыка?
– Нет.
– Она приснилась, а потом ее сыграли.
СТИХОСЦЕНА №4
«…я думаю, что жизнь это такая субстанция находящаяся почти повсюду» –
Вот слова старика, который сидит за круглым столом
в ресторане торгового центра –
«…мы, как сосуды, которые наполняет живая вода,
даже если все их разбить, она выльется и будет растекаться в поисках трещины, которую может наполнить» –
Напротив него сидит женщина по имени Жаклин.
Они говорят уже очень давно. Про ее прошлое.
Старик поясняет:
«…как в аду грехи выкипают из грешников, воспаряют вверх, как пар-призрак. но грешники хватаются за выкипающие грехи, чтоб взлететь, и тогда они опять оседают в них».
«Что с тобой?», – старик смотрит на ее, она мерцает. Ее тень мерцает быстрее. Жаклин не замечает, но отвечает:
«Очень странное ощущение»
«…у того племеи, xamainama, есть такое слово
ǁaḿ-iaob.
на последней экспедиции я учила язык xamainama.
когда я спросила у коллеги,
которая составила их словарик на 2 странички,
что обозначает ǁaḿ-iaob»
кто-то за соседним столом проливает вина на скатерть и бросает на лужицу салфетки и топчет пальцами
«вот что она сделала:
она подвела меня к палатке и дала зеркальце,
сказала:
«встань, чтоб ты видела отражение той сумки»
на ней лежал совок.
она встала за мою спину.
я смотрела в отражение, и,
внезапно, совок зашевелился,
а потом стал сам по себе прыгать.
я дернулась, развернулась к ней.
она ни сделала ни шагу,
это она держала за ручку этот совок
и стучала им по сумке.
я знаю,
что
зеркало ее не передавало.
она пояснила:
«то, что ты сейчас чувствуешь называют ǁaḿ-iaob».
вот я опять это чувствую.
не доверяю, себе. скорее, себе как себе!
или чему-то другому, что меня больше».
Старик внимательно смотрит на Жаклин,
вздрагивает, поняв, что его очки давно пора протереть.
Он подносит к раскрытому рту с желтыми зубами стекло и тяжело дышит. Углом скатерти протирает.
Его глаза, заполучив чистые очки увидели, что Жаклин и ее тень мерцают медленнее, чередуясь друг с другом.
Локтями старик почувствовал, что когда появляется тень, стол вибрирует. «Жаклин?».
Женщина продолжает:
«...на самом деле, на тот момент вся информация –
в том числе и лингвистическая –
об этом племени была собрана только от окружающих общин,
которые знали,
что эти люди чрезвычайно жестокие.
они вели странный образ жизни,
похожий на кочевой.
преимущественно они жили убийствами.
они вели странные маршруты
в пределах определенной территории.
иногда они обвиняли далеких соседей, которые их очень боялись, в появлении опасных змей.
племена, которые враждовали с xamainama,
исчезали полностью.
при этом, на поле их сражения не находили ни крови, ни примятых растений –
xamainama любили собирать то, что убьют –
тем ярче
подчеркивалась смертельная зона поля.
для близких племен, это место табуировалось.
но они так решали не из суеверия,
а из наблюдений:
животные обходили такие места – ǂguiskharob – место, где спит предел.
иногда можно было увидеть мертвых насекомых
по опасному периметру,
и речь здесь идёт не о примитивных ядах.
ещё странность: xamainama никто не видели без масок.
отсюда пошла легенда, что
на сражения они надевают маски, сделанные из посмертных масок отцов или дедов.
в быту носят маски своих матерей или праматерей.
в священные дни смерти очень давних предков (до 7го колена) – они в масках лиц этих предков.
таким образом, соплеменник видит только старших.
в то же время почти не видит живых взрослых лиц,
только смерть открывает лицо.
это все лица смерти».
Старик покашливает и смотрит в окно.
Затем снимает очки и кладет их на стол.
Потом снимает маску и кладет рядом с очками.
Сквозь явь
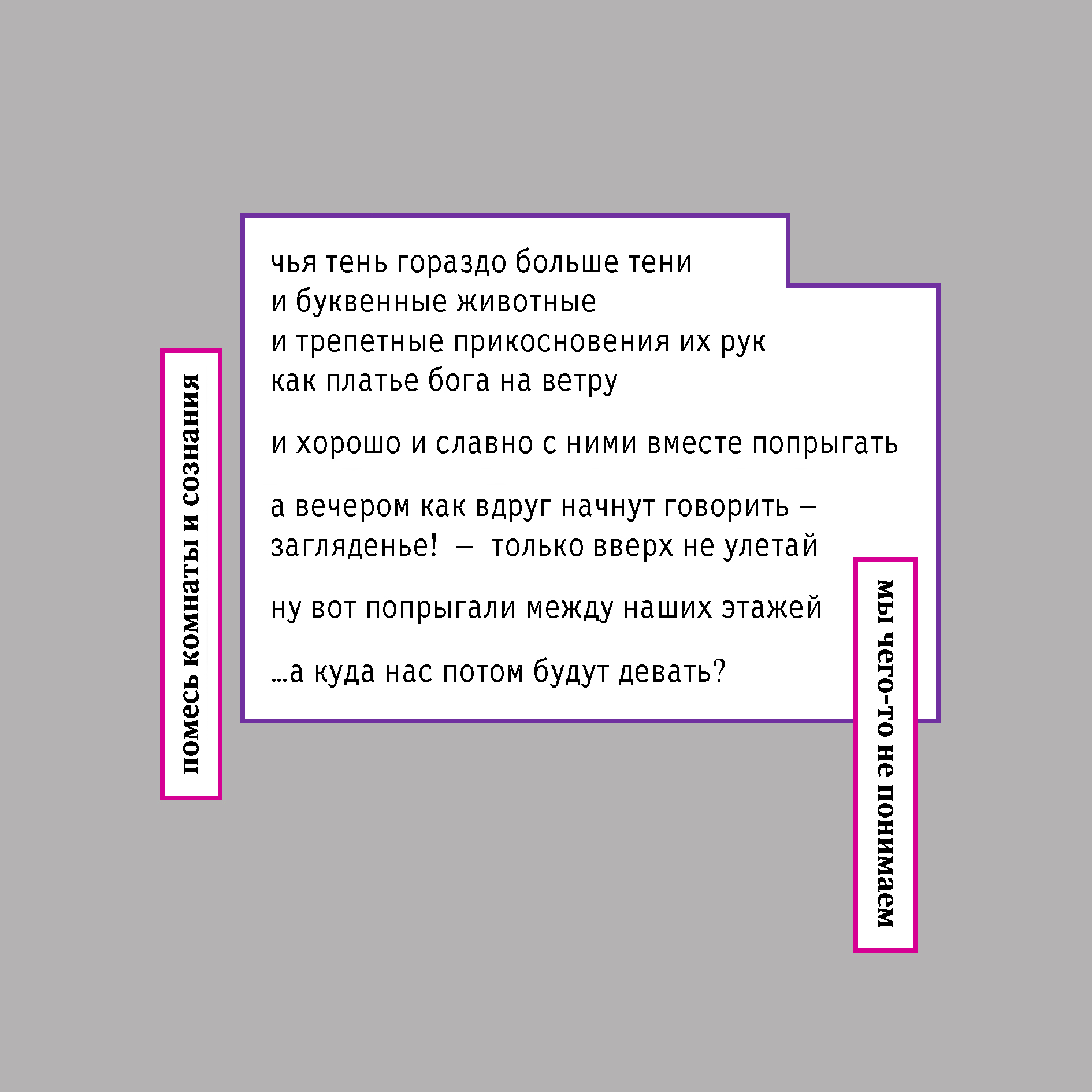
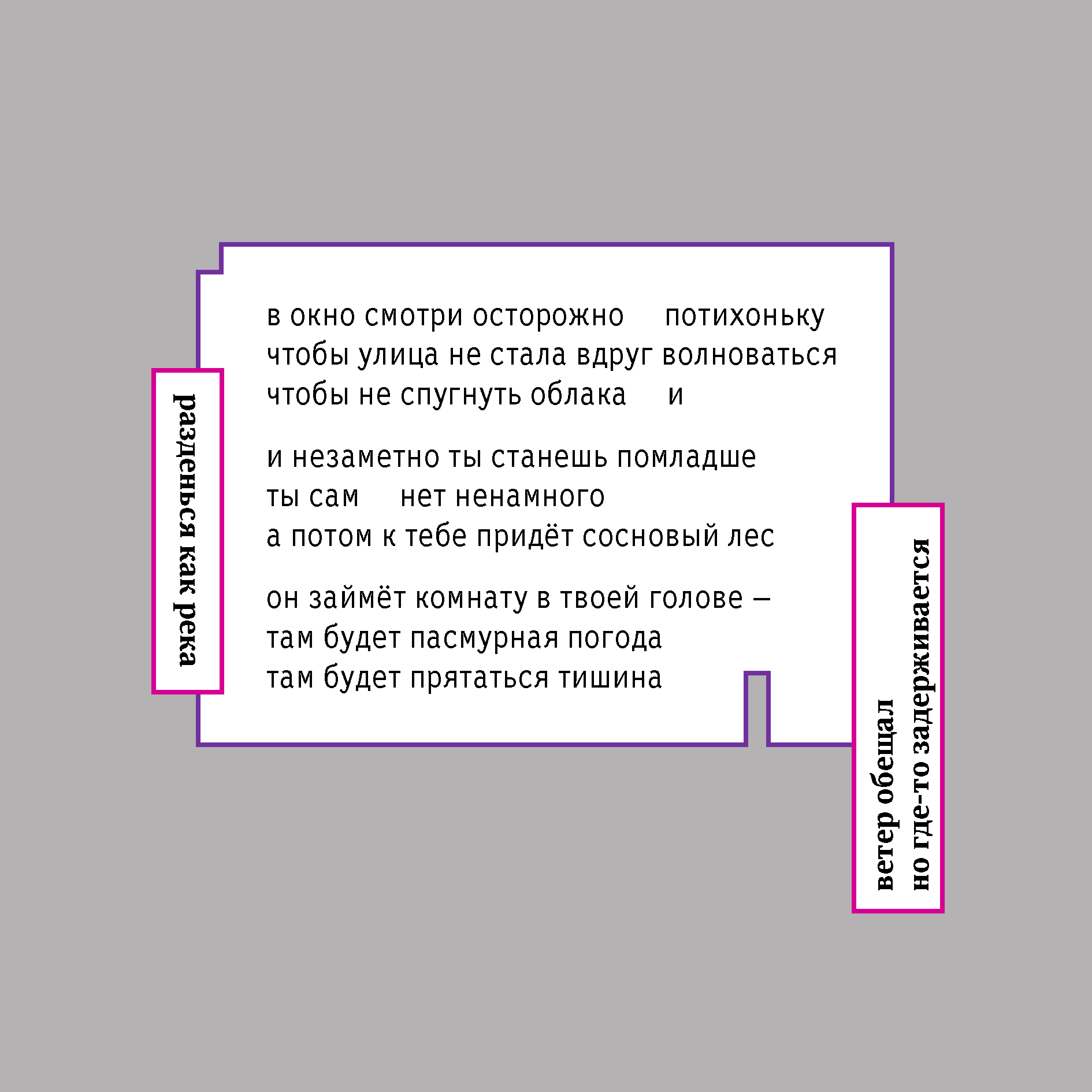
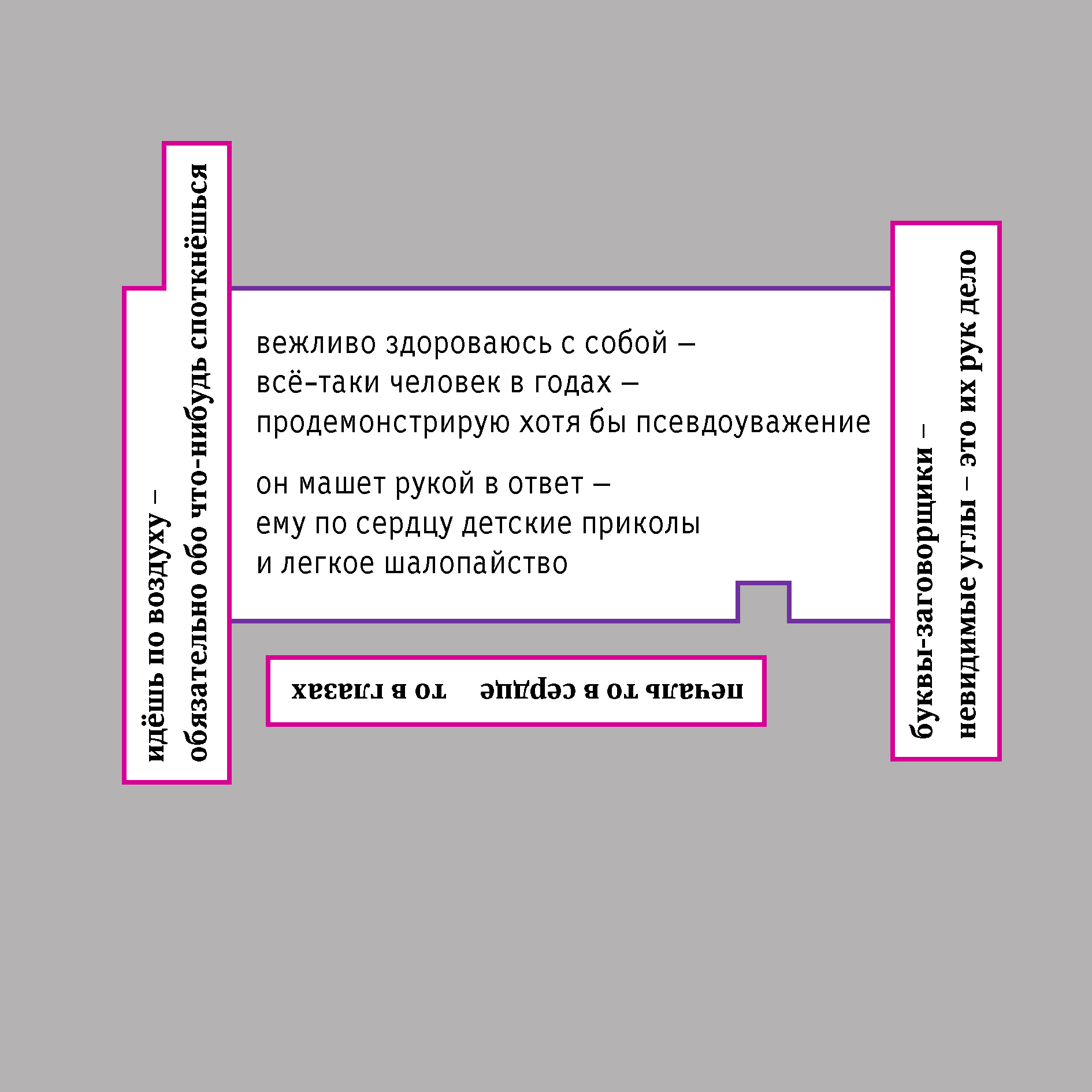
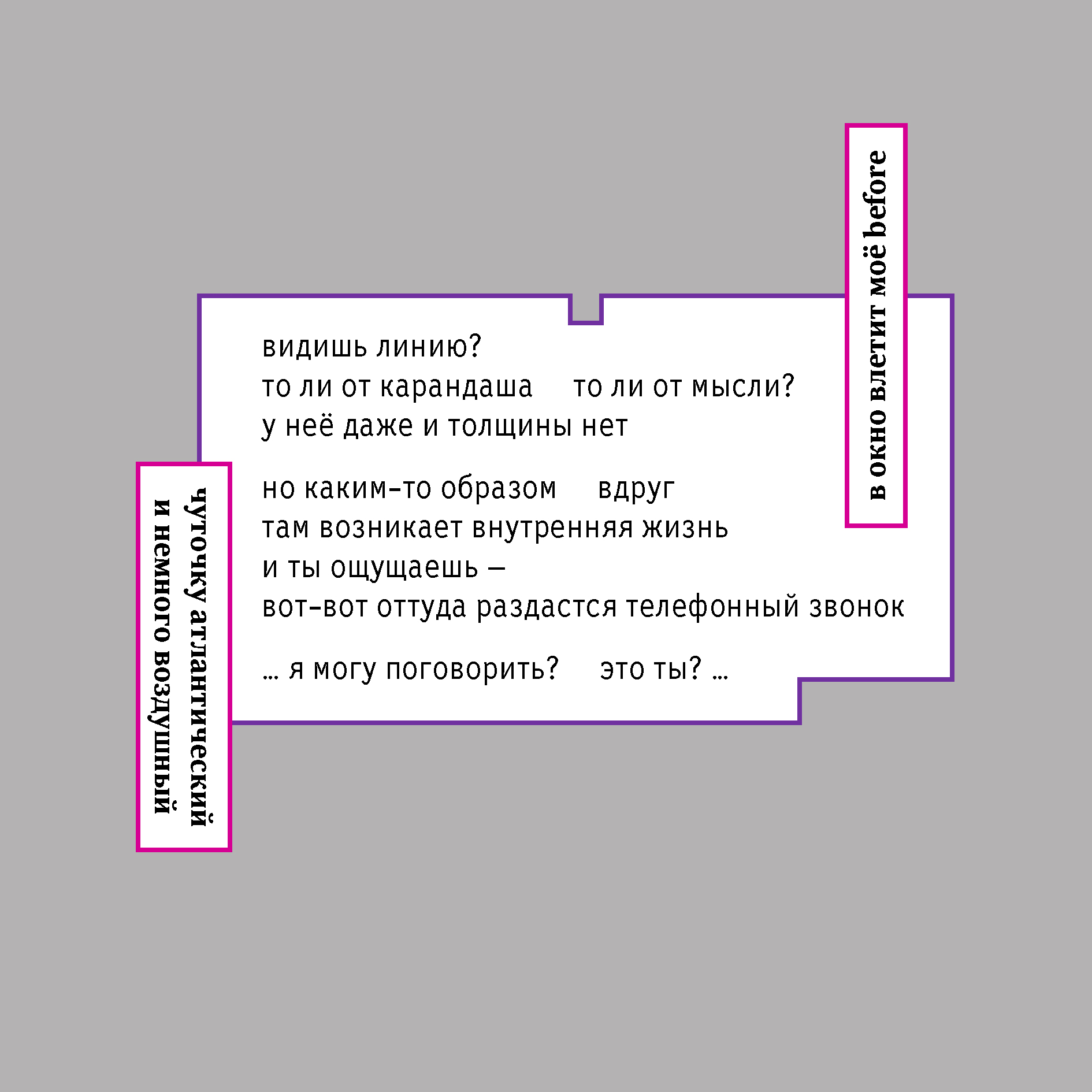

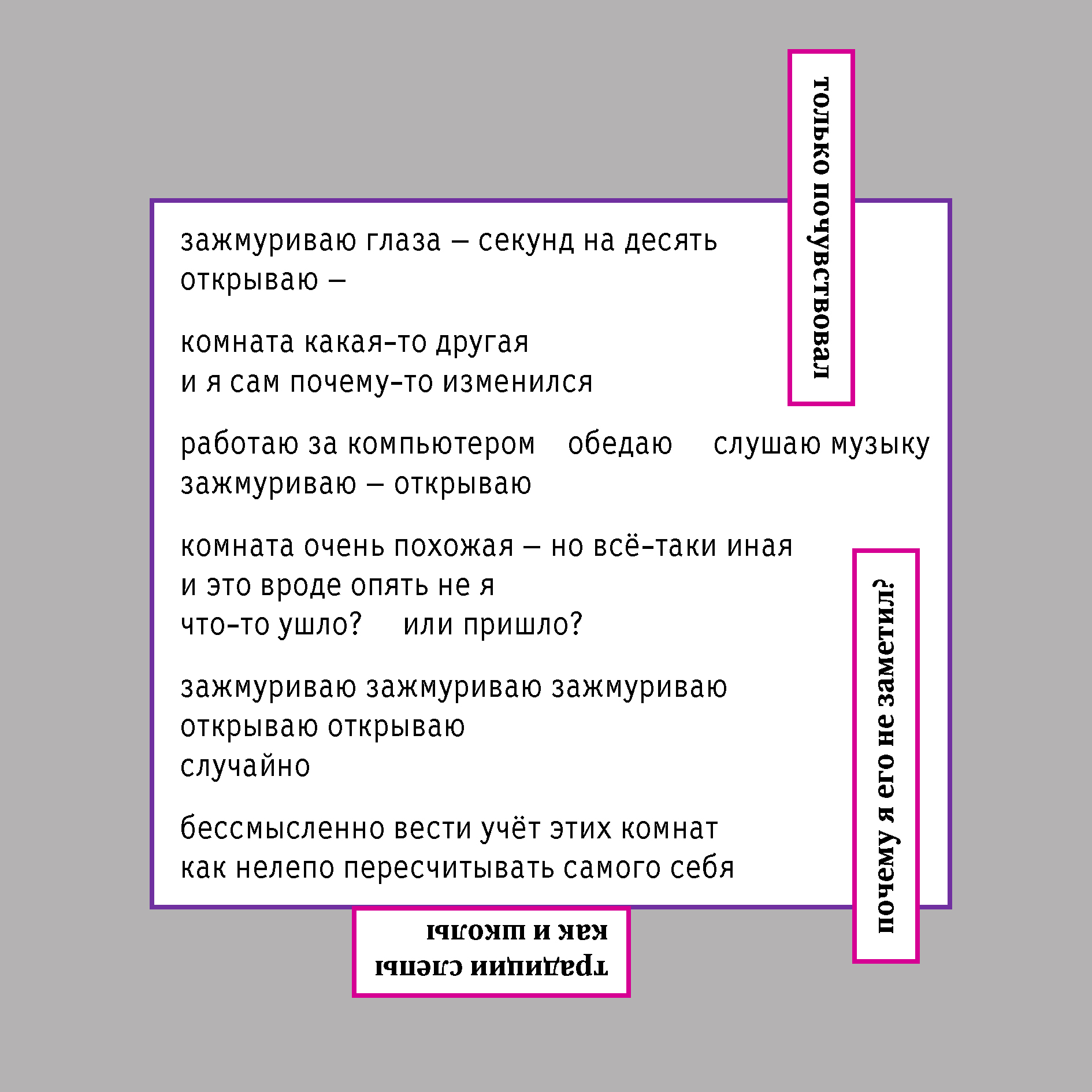
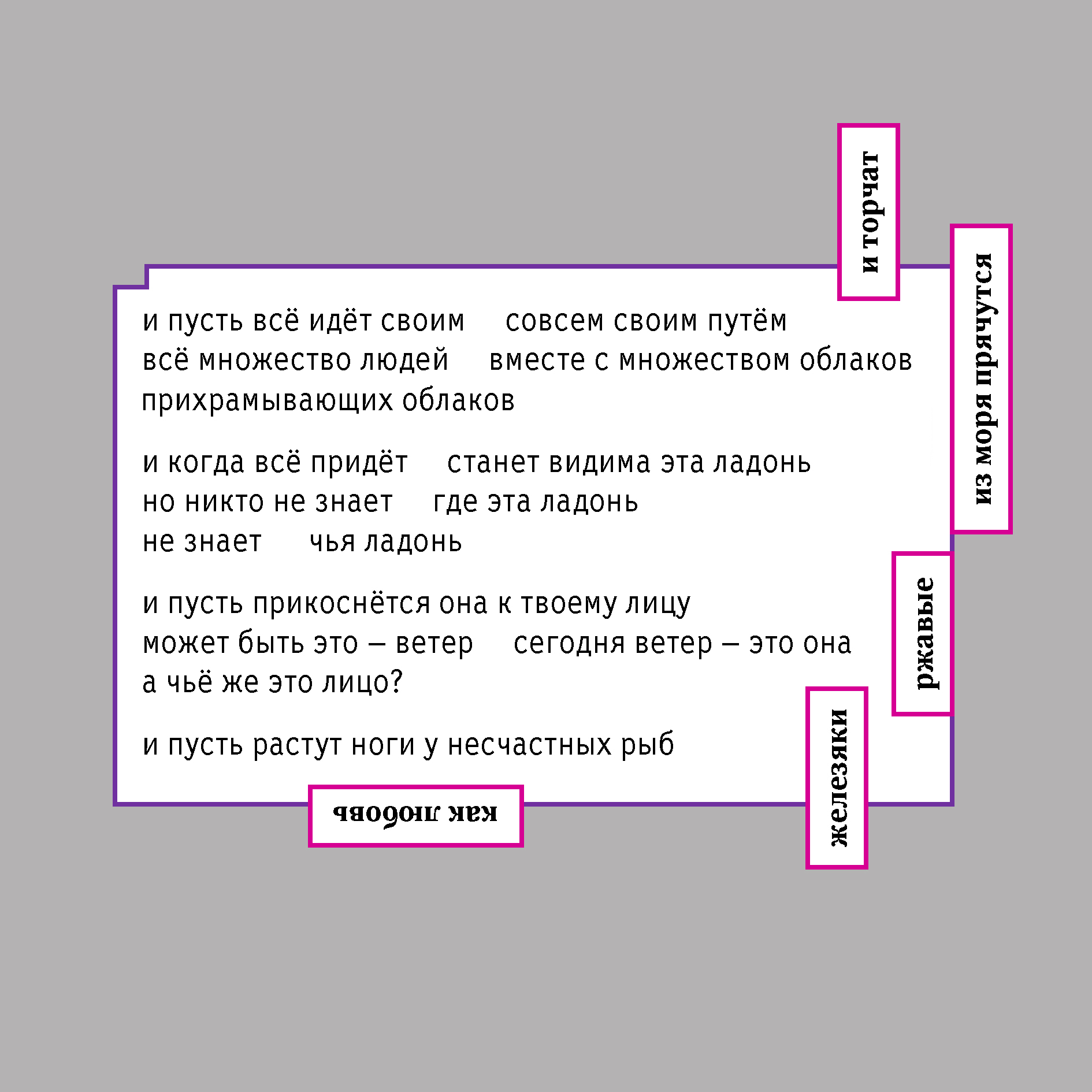


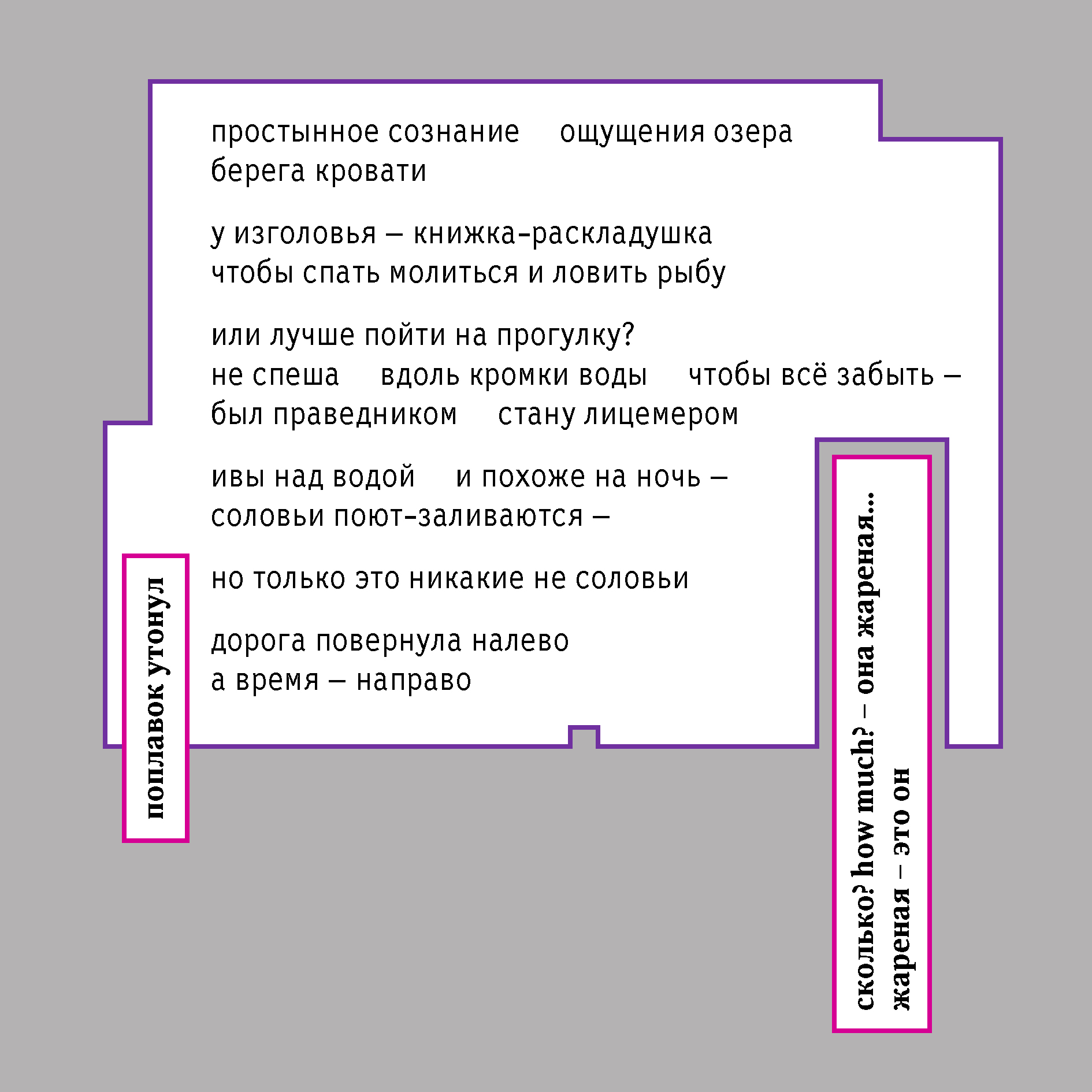
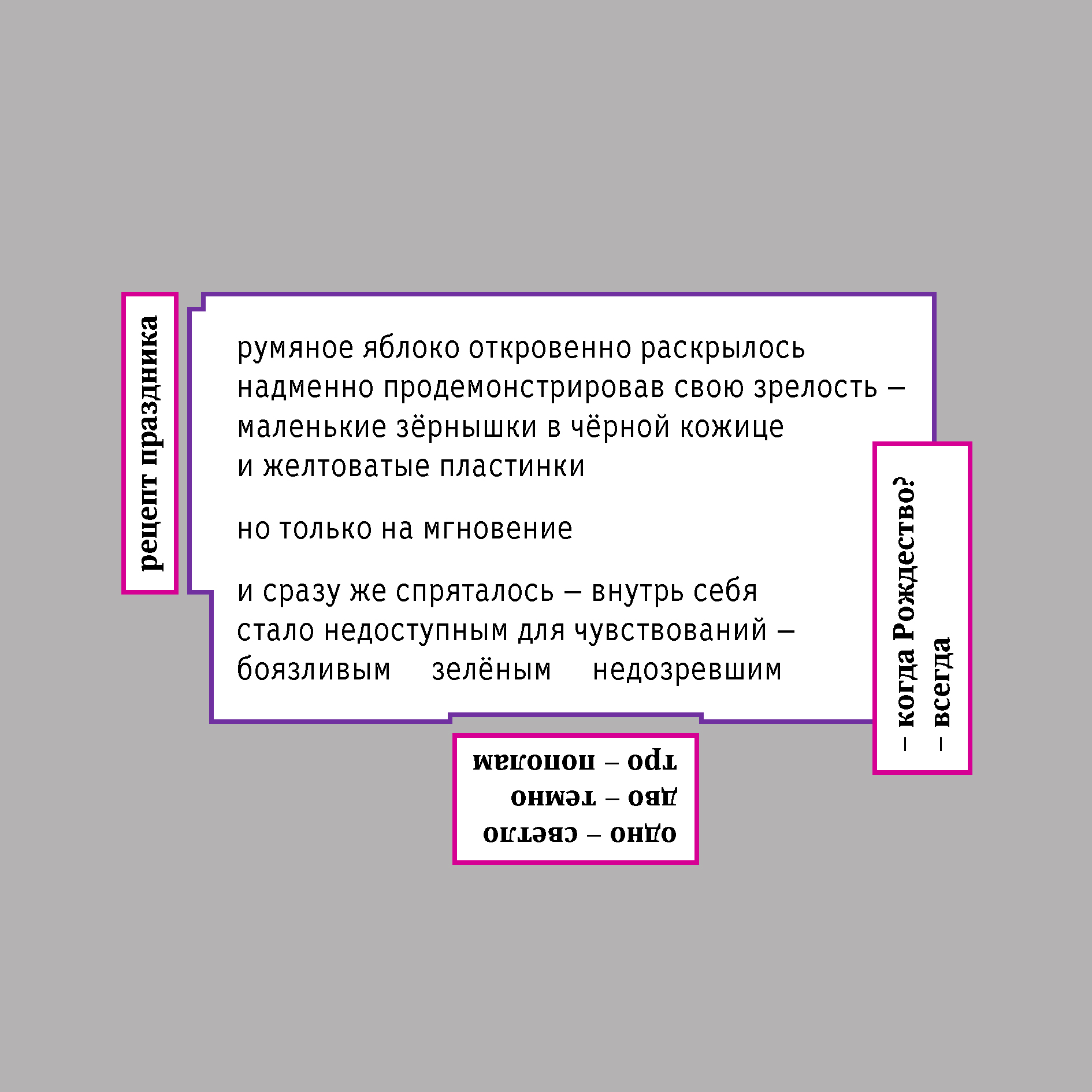
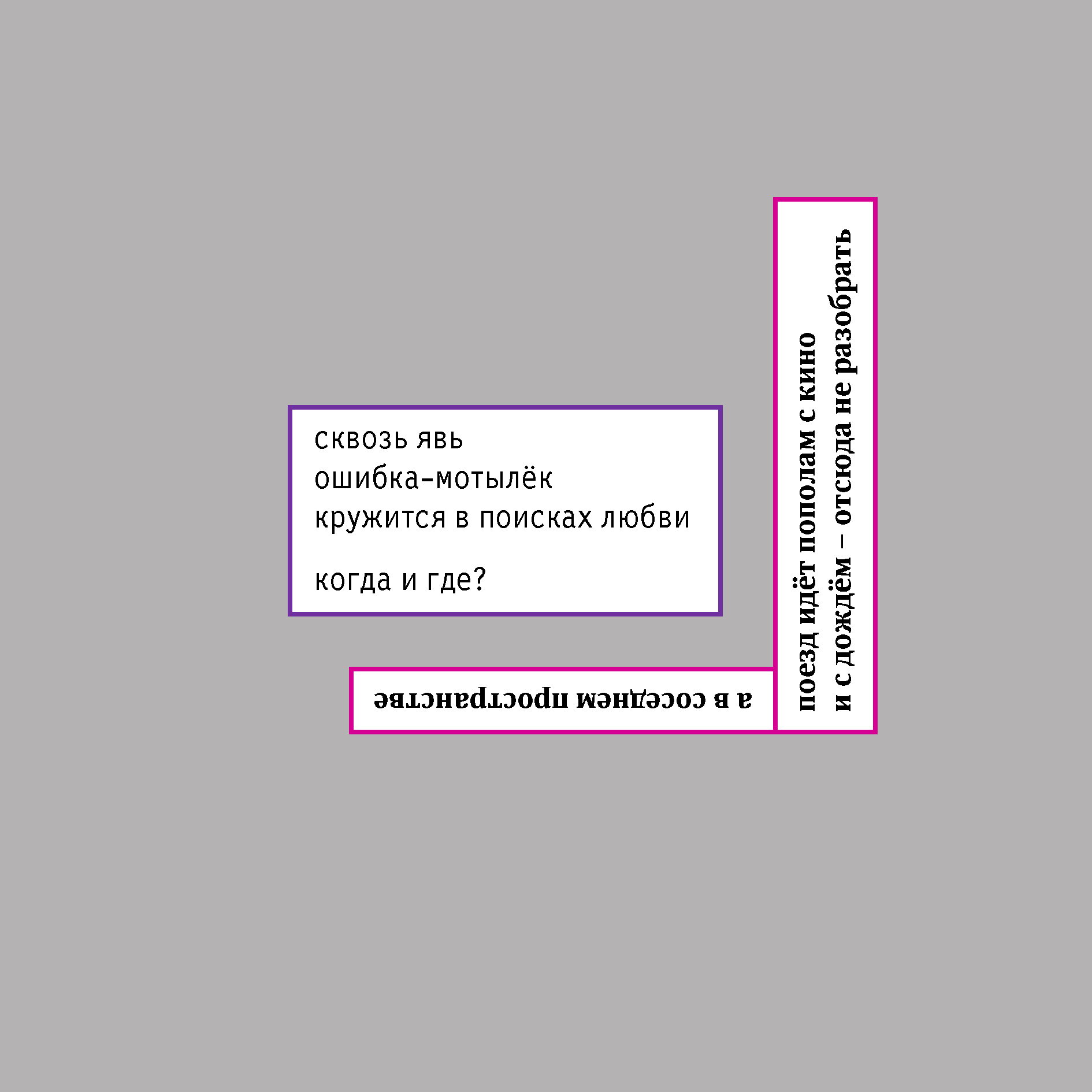
Чибис памяти
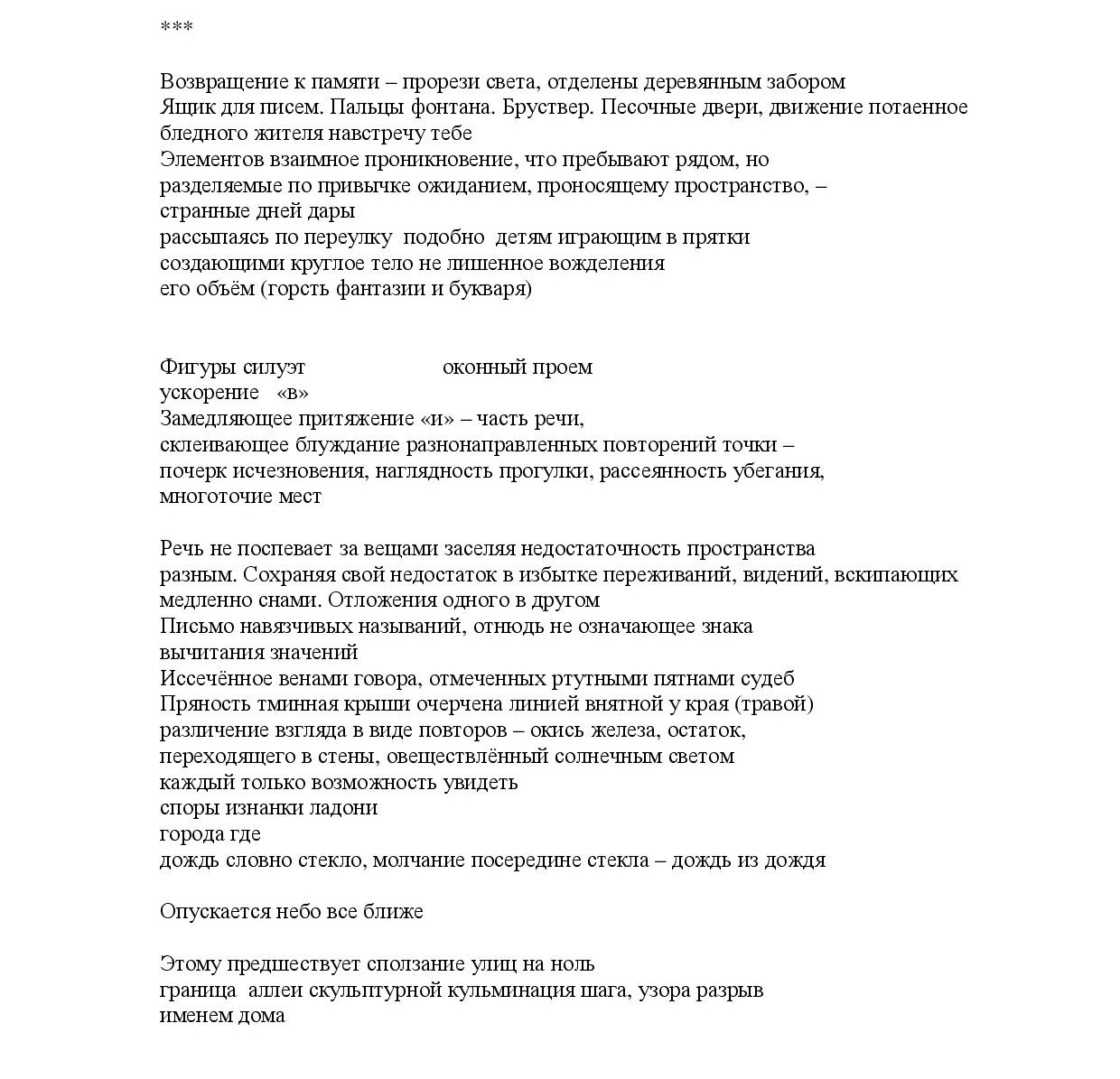
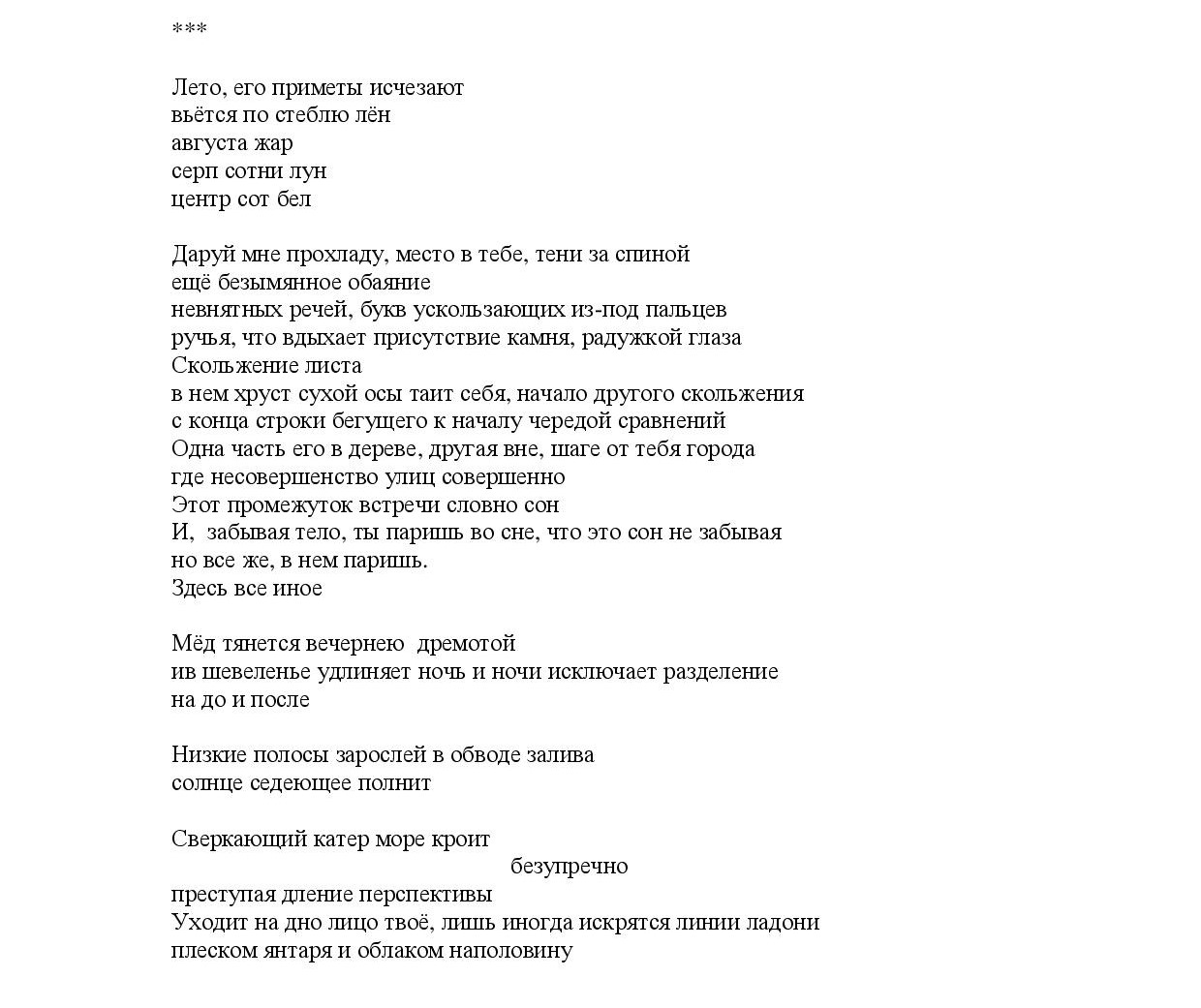

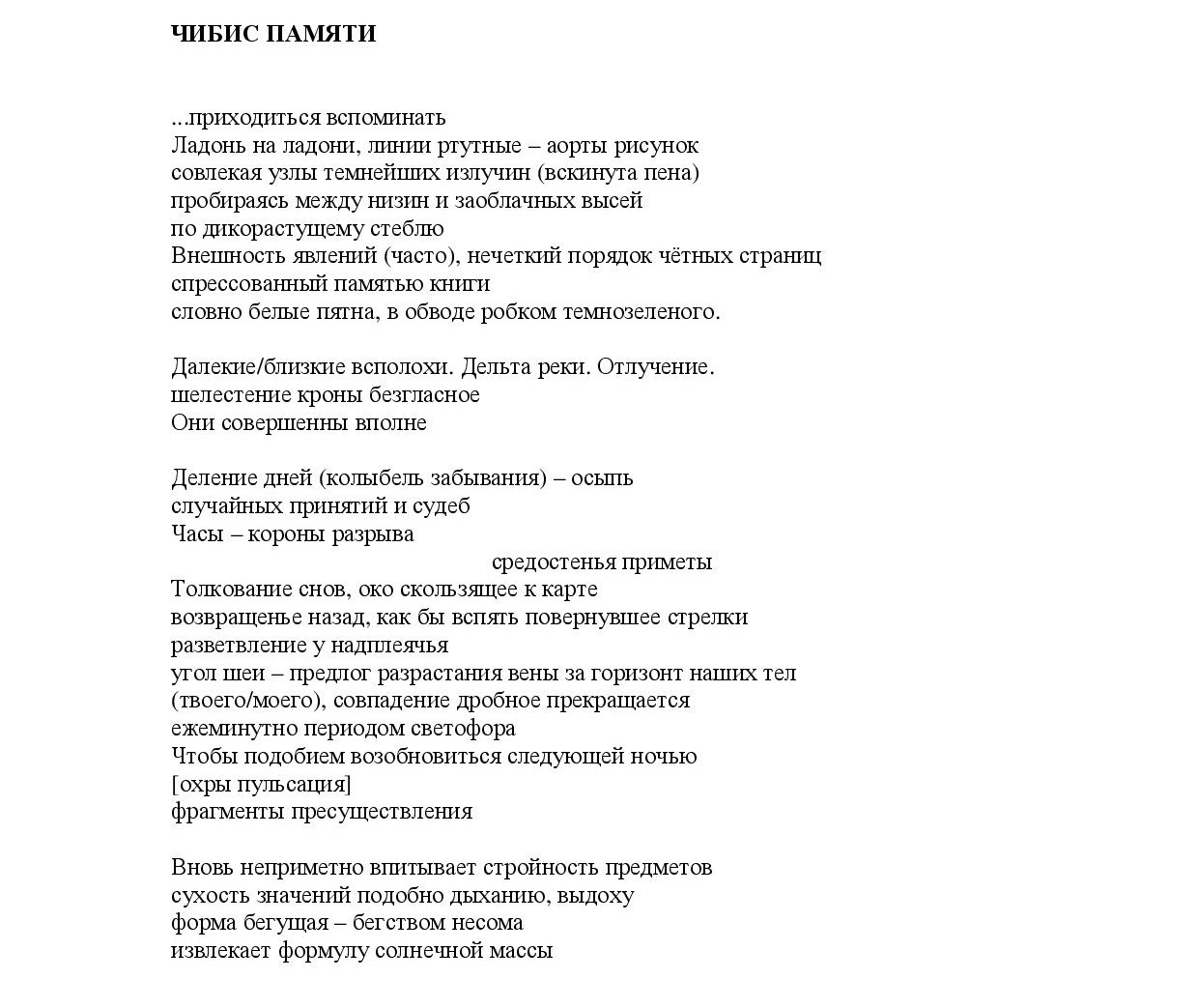
Опыты с шифром Виженера (драмаконструкция: пьеса-хокку)
Действующие лица:
Я – любая молодая женщина
N – любая молодая женщина
Акт 1. Сидерация или диссоциация
Термин la sidération psychique я встретила в одном французском видео на ютубе. В нем объяснялось состояние жертвы насилия или агрессии – тотальное отстранение и несопротивление. Автор ролика рассказывает об онемении, которое испытывает жертва, не оказавшая попыток к отпору и самозащите. Не осознавая своего состояния, в дальнейшем жертва винит себя и даже предполагает, что раз она не боролась с насильником, то и насилия как бы не было.
Посмотрев ролик, я сразу же загуглила слово «сидерация», решив, что по-русски оно именно так и звучит. За этим последовало настоящее открытие:
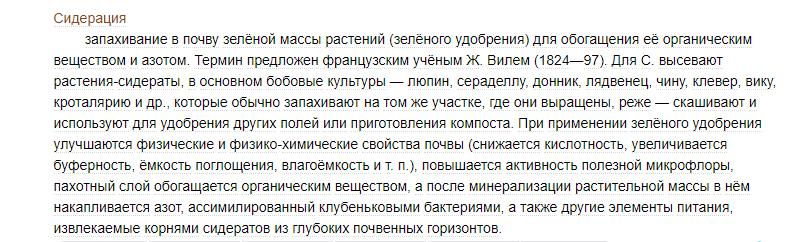
«Сидерация» в русском языке – агрономический термин, не имеющий отношения к отстраненному онемению жертвы. На русском языке это состояние описывается термином «диссоциация».
Тем не менее, слово «сидерация» все равно казалось мне уместным. Ведь и в агрономии эта та же история о жертве. Цветущее растение-сидерат закапывается в почву, чтобы стать удобрением для других растений.
Акт 2. Метафорический поиск
Я поделилась этим видео со своей подругой N вк.
И своими размышлениями, пространными и неточными, поделилась тоже.
Я: История клевера, например, неподвижно застывшего на одном месте на грани сидерации – это история человека, онемевшего перед лицом угрозы.
N (голосовое): Не думаю, что все так. Это похоже на романтизацию страха. Как на «Последнем дне Помпеи». В реальности все иначе.
Я: А ты знаешь, как это в реальности?
N: Да.
N: печатает...
N: печатает...
N: печатает...
N: Знаю.
Я: Откуда?
N: Да было что-то такое, мне кажется.
N: Давай потом? Занята.
Акт 3. Ростки первых строк
Сидя на лекции я думала о том, что N., видимо, пережила насилие, о котором не может говорить.
Почему я слышу об этом впервые?
Она никому не доверяет эту историю.
Давно это случилось?
У насилия нет срока годности.
Как она решила эту проблему?
Она молчит все это время.
Она обращалась в полицию?
Такого точно не было.
Что она чувствует?
Страх и стыд.
Чего она стыдится? Или боится?
Осуждения, слатшейминга, обвинения в клевете, что ее парень ее бросит.
Мои размышления завершились первыми строчками хокку:
сидерация есть инверсия любви
что распорола меня стыдом вины
Мне хотелось посвятить его N. Мне хотелось обнять ее. Мне хотелось молчать рядом с ней.
Но завершить его не удавалось. Какой должна быть третья строчка – я не знала.
Пытаясь вновь и вновь, я поняла, что рассказать о непережитом состоянии невозможно. Третья строчка хранится в самом переживании, она скрыта в онемении и только его описание способно сотворить стих.
Акт 4. Ответ N
Спустя время я возобновила наш разговор.
Я: "la sidération psychique"
N: Да
Я: Расскажи, плиз
N (голосовое): Слушай, я ща на работе, попозже, ок?
Тем же вечером:
Я: Ну как, сможешь рассказать?
N: Не против, если голосовым?
Я: Не против.
N записала 6-минутное аудиосообщение, в нем она рассказала свою «странную историю».
Акт 4. Странная история, случившаяся с N
Ниже расшифровка голосового сообщения N, в ней я сохранила все оговорки, междометия и паузы.
«В общем... Такая это была странная история, конечно. Даже не знаю, как рассказать... Я, в принципе, не уверена, что это то, что ты мне отправила... Но вообще очень похоже. Сразу хочу сказать, я не говорю, что там было какое-то изнасилование, просто, понимаешь, как-то как в тумане, что ли, как-то сумбурно, но ничо такого страшного (усмешка), в лес меня никто не повез (усмешка).
В общем, я возвращалась после работы, часов шесть, что ли это было. И, ты же была у меня? Помнишь, эту остановку, которая сразу после караоке? Я вот там стояла, уже осень была, стемнело, но народу полно, как всегда. Холодно было. Я в кардигане легком, стою, трясусь. И тут, короче, подходит ко мне парень и предлагает свой шарф. Говорит: "возьмите, девушка" и так деловито, знаешь, продолжает что-то в телефоне смотреть, а мне шарф протягивает и говорит "возьмите-возьмите". Я немного поотказывалась, потом уже неловко стало, думаю, черт с ним, возьму, все равно холодно. Сказала "спасибо" , он головой кивнул и отошел. Такой деловой, продолжил в телефон смотреть. А я на него смотрю, симпатичный такой, светленький паренек, подкаченный, но не высокий,одет неплохо, пальтишко, костюм синий, но как банковский сотрудник, я такое не оч люблю.
Ну я подумала, что надо рядом с ним в автобусе сесть и перед выходом шарф ему отдать. Может, он поэтому и решил, что я на его флирт отвечаю? Ну даже как-то клеюсь к нему сама, выходит...
Ну, в общем подъехал автобус, и я села рядом с ним, где высокие сидения. Он че-то продолжал там в телефоне сидеть, я тоже в книгу залипла. И тут он внезапно говорить со мной начал. И че-то слово за слово, общаемся, смеемся, ну прикольный такой. Он реально в банке работал, прикинь, который возле метро. И, короче, за одну до моей остановки, он говорит: "пойдем, покажу тебе вид красивый? Тут есть одно место, ты офигеешь". Я такая: "Неее, я после работы, я устала, ляляля-тополя", короче. А он так уговаривает, что уже неловко стало. Я думаю, ну пойду на пять минут, от дома, все равно, недалеко. И мы, короче, пошли.
Идем, где дом, где Пятерочка, через дорогу буквально. И че-то я насторожилась, когда он подъезд стал открывать.
Говорю, смеюсь такая: "Ты что домой меня решил завлечь? Не, я не пойду, я боюсь".
И страшно так.
И он мне говорит: "Ну бойся, так еще интереснее" и подмигивает.
И у меня тут в голове начинается сумбур полнейший... Я думаю: "Ну, если он маньяк, он что будет подмигивать? (Как-то именно подмигивание меня зацепило это). Ну, а если он обычный пацан, хочет показать что-то реально интересное, а я сейчас развернусь и побегу, это вообще норм? Он же решит, что я психичка какая-то...."
А я все это время за ним иду, в подъезд иду, к лифту иду, стою там жду. Неловко как-то. Вот, честно, хотелось свалить, но я че-то вообще не понимала, как это сделать. А он там еще рассказывает, что ездил к бабушке в Тульскую область, был там на этой... Красной... Ясной, блин, поляне. Я такая: "Даааааа? Надо же как интересно". А мы уже в лифте, понимаешь. На верхний этаж едем. Я тут решаю, что я выйду из лифта, заору и побегу вниз. Все, я уверена, что я дура тупая, к маньяку в логово иду. Типа я настраиваюсь, что буду орать как резанная, вспомнила, что читала ВК, что нужно кричать: ПОЖАР! и решила... все... Я выхожу, бегу (смеется) по лестнице и ору ПОЖАААААААР! Но, когда двери лифта открылись, я этого не сделала, как ты понимаешь. Я снова стала думать, что это по-психически и как-то стыдно, он же ничо не сделал?
Как говорится: "нет тела – нет дела".
И вот он подводит меня к окну обычному, которое на любой лестничной площадке есть и говорит: "Видишь, Останкино, как красиво?". А у меня с кухни точно такой же вид, если чо. У всех на районе это останкино.
И я такая: Ага, круто. Ну, ладно. Мне папа уже пишет, я побегу!
Он говорит: Ща, покурю и провожу тебя, ок? Не хочу одну отпускать в темень.
Я такая: Ну ок
И стою жду, пока он закурит и докурит. Он курит, смотрит и восхищается этой башней и говорит, как это романтично, как хорошо оказаться с красивой девушкой и такой вид еще.
Я думаю: МДА. Креативчик пошел...
Но говорю и улыбаюсь: Ага-ага, красота!
И тут он меня приобнимает одной рукой, смотрит так внимательно, типа как в кино, а другой рукой,в которой сигарета, волосы мне поправляет. Я стараюсь аккуратно эти его потуги прервать, типа, пора, папа строгий, военной закалки человек, ну, в общем, как-то внедряю эту тему про папу военного, надо идти, бежать, предлагаю номер оставить. Я даже не понимаю, зачем я это предложила? Он подумал, что я реально хочу общаться, наверное. И он так приближается губами, а он ниже, получается, что к подбородку и говорит: познакомишь с папой? Я такая: не, пока рано, он только женихов привечать готов. И смеюсь снова как ишачка, нервно.
И он отходит такой, сигарету тушит, а я идти собралась к лифту. Он меня за руку схватил, развернул к себе и целует. Ну,я не отзываюсь. Просто стою как каменная, а он начинает говорить, какая я секси, как он весь пылает, а я вообще ледяная, замерла и не знаю, что делать. Другая на моем месте, там, пощечину бы дала или между ног. А я как-то зависла. Ни рыба, ни мясо. Мне не хочется, мне не нравится, но я стою. И он продолжает, короче, шарф снял, рукой холодной по шее, по спине, рубашку расстегнул, на грудь холодную руку. И продолжает рассказывать, какая я сексуальная, горячая, как он меня хочет. И тут я про себя стала все комментировать. Типа, это что аутотренинг? Он себя убедить пытается?
И все, что бы он ни делал, я так типа подкалываю про себя, иногда даже смеюсь внутренне. А он-то продолжает. И короче... Ну, ты понимаешь, что дальше случилось, да?
Вооооооот. Все случилось, колготки стянул, холод по бедрам... Ну и дальше тоже все стянул.
Вот.
Вообще я не из таких, понимаешь? Я после, пристально так смотрела на зеркале. Ну, кто это это там стоит? Блядь? Это я? Может, я шлюха по натуре? Или, может, объясниться: "Ну, такой мужчина попался. Не устояла. Как кролик перед удавом". Правда... Это он как кролик, скорее. Я не особо хотела. После думала: "Разве могла я по своей воле вот так: на площадке, между лифтом и мусоркой?" НЕТ!!!
Но не сопротивлялась ведь. Не кричала. Не кусалась. Просто смотрела в стенку. Тупо так.
Руки болят, ноги свело, их согнула. Он закончил, стоит ухмыляется, говорит: "Детка, ты космос!".
А я не... Я не космос. Я дурой себя чувствую. Руками задела мусоропровод. Я грязная, я гнилье потасканное. Так плакать хочется и не могу. Улыбаюсь, киваю, пока он ведет меня по лестнице вниз. В глазах туман. Не помню, как домой зашла. Так... Тогда я и ошпарилась в душе. Вентиль холодной повернуть забыла. На спине волдырь даже вылез. Так себя и пришла... Воооооот.
Ну, я снова тебе говорю, прям какого-то насилия не было. Это просто я застыла, залипла как-то. Может, внутренне хотелось приключений, но... Я себе не могла в этом признаться, может. Не знаю, но похоже, конечно, на сидерасьон, но и не скажу, что меня прям изнасиловали, понимаешь? Вот то, что ты написала, про распорола стыдом вины - это как-то, может, громко, но что-то в этом есть. Что-то созвучное.
Только никому не рассказывай, ладно?»
Акт 5. Рождение хокку из монолога
Я не психолог, и я не могу утверждать, что пережитое N. это именно la sidération psychique.
Тем не менее, я чувствовала, что в ее переживании есть послание, требующее чуткости и расшифровки.
Что я сделала дальше:
1. Я стала гуглить, какие есть шифры.
2. Мне подходили полиалфавитные шифры с ключом (типа шифра Цезаря)
3. Выбрала матрицу Виженера.
4. Работать решила в Excel
5. Скачала таблицу с шифром и формулами на it-форуме
6. Вертикальное поле (исходное значение) заменила на первую строчку
7. Горизонтальное поле (ключ) заменила на вторую строчку хокку
8. В центр (вместо алфавита) стала помещать отрывки из монолога N.
Строчка развернулась, когда я вбила в таблицу следующий отрывок:
«Вообще я не из таких, понимаешь? Я после, пристально так смотрела на зеркале. Ну, кто это это там стоит? Блядь? Это я? Может, я шлюха по натуре? Или, может, объясниться: "Ну, такой мужчина попался. Не устояла. Как кролик перед удавом". Правда... Это он как кролик, скорее. Я не особо хотела. После думала: "Разве могла я по своей воле вот так: на площадке, между лифтом и мусоркой?" НЕТ!!!
Но не сопротивлялась ведь. Не кричала. Не кусалась. Просто смотрела в стенку. Тупо так.
Руки болят, ноги свело,их согнула. Он закончил, стоит ухмыляется, говорит: "Детка, ты космос!".
А я не... Я не космос. Я дурой себя чувствую. Руками задела мусоропровод. Я грязная, я гнилье потасканное. Так плакать хочется и не могу. Улыбаюсь, киваю, пока он ведет меня по лестнице вниз. В глазах туман. Не помню, как домой зашла. Так... Тогда я и ошпарилась в душе. Вентиль холодной повернуть забыла. На спине волдырь даже вылез. Так себя и пришла... Воооооот»
 Возникновение текста из отрывка
Возникновение текста из отрывкаАкт 6. Хокку
сидерация есть инверсия любви
что распорола меня стыдом вины
возьми камень потяжелее брось
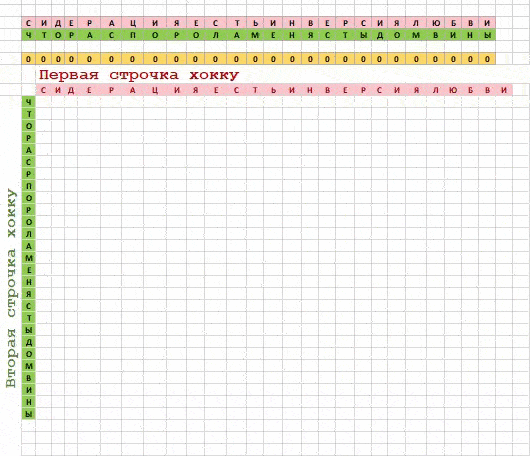
Я отправила это видео N. Я сказала ей:
Я хочу молчать рядом с тобой, я хочу обнять тебя, я посвящаю это хокку тебе.
Она ответила: «Вау! Надо же!»
Но потом наше общение как-то зачахло. Она перестала писать первой и отвечала всегда односложно.
Клинопись в графическом редакторе: о книге Ростислава Амелина «Мегалополис Олос»
 Амелин Р. Мегалополис Олос. М. Центрифуга, Центр Вознесенского, 2020. 160 с.
Амелин Р. Мегалополис Олос. М. Центрифуга, Центр Вознесенского, 2020. 160 с.
Если представить, что Земля переживёт глобальный катаклизм, уничтоживший человечество, но существенно не затронувший инфраструктуру интернета, условные представители инопланетных цивилизаций, заинтересованные в изучении нашей культуры и восстановившие его работу, получат доступ к глобальному информационному архиву. Набор символов, из которых состоит ссылка в адресной строке, станет не просто координатами расположения некоего блока информации в сети, но чем-то вроде находки археолога, а сам интернет – зоной раскопок или антропологическим музеем. Предположу, что взгляд на поэму «Мегалополис Олос» Ростислава Амелина как на цифровой аналог глиняных табличек, фантазийный литературный памятник альтернативной истории будущего, созданный представителем вымершего вида, может оказаться весьма продуктивным.
«Мегалополис Олос» – масштабный художественный проект, посредством современных технологий синтезировавший не только различные поэтики (постконцептуализм и новый эпос), традиции стихосложения (силлабо-тоническое, тоническое и германо-скандинавский аллитерационный стих), литературные жанры (роман-(анти)утопия и эпическая поэма), но и виды искусства (литература, диджитал арт, манга). Описание этого проекта как научно-фантастической антиутопии в потоке лироэпического нарратива, сопровождённого авторскими иллюстрациями, не будет полным и всесторонним. Ростислав Амелин классифицирует свой текст как «научную мистику» [1], противопоставляя её научной фантастике и выделяя наиболее существенный для самого себя акцент в жанровой и смысловой палитре. Приведённые определения, несмотря на точечные попадания, не претендуют на всеохватность. Они лишь косвенно свидетельствуют о моём замешательстве перед количеством развилок в лабиринте и выполняют сугубо вспомогательную функцию – наметить некоторые исходные позиции для сопоставления цифрового и книжного воплощений этого проекта.
Существующий в виде сайта [2] (который обновляется по настоящее время), в октябре 2020 года «Мегалополис Олос» был адаптирован под книжный формат издательским проектом «Центрифуга». То, что этот литературоцентричный эстетический объект закрепился в виртуальном пространстве, накладывает на него свою специфику, ведь сетевая среда взаимодействует с нами по иным законам, нежели материальный носитель в виде бумажной страницы. К сожалению, текст поэмы с первыми иллюстрациями был отдан в издательство раньше, чем Амелин начал расширять свою вселенную с помощью визуального контента. Последовательное вплетение пиктографии в поэтическое письмо существенно углубило эстетический потенциал поэмы. Цифровая версия демонстрирует синтез поэзии и пиксель-арта наиболее наглядно, о чём я планирую написать подробнее в конце статьи. Мы имеем дело с парадоксальным случаем: в некотором смысле автор сначала создал адаптацию, и только потом – оригинал произведения. Не хотелось бы, чтобы выражение моей досады звучало как упрёк недовольного потребителя – команда «Центрифуги», открыв проекту путь на книжный рынок, провела масштабную и трудоёмкую работу. Тем не менее оригинал и адаптация позволяют испытать разные типы эстетического опыта, и это следует учитывать. Хочется верить, что их сосуществование в литературном процессе мотивирует возможного читателя ознакомиться как с книгой, так и с сайтом.

Графический эпос Амелина конструирует реальность, введённую в дремотное состояние относительным комфортом, который способен обеспечить научно-технический прогресс, но сон этот прерывист и тревожен. Неназванный нарратор чередует описания изобильного и благополучного будущего с полными укора словами об ответственности человечества перед другими формами жизни. Мир «Мегалополиса…» доживает свои последние годы, находясь в глубоком кризисе, затронувшем экологию, политику и социальные отношения.
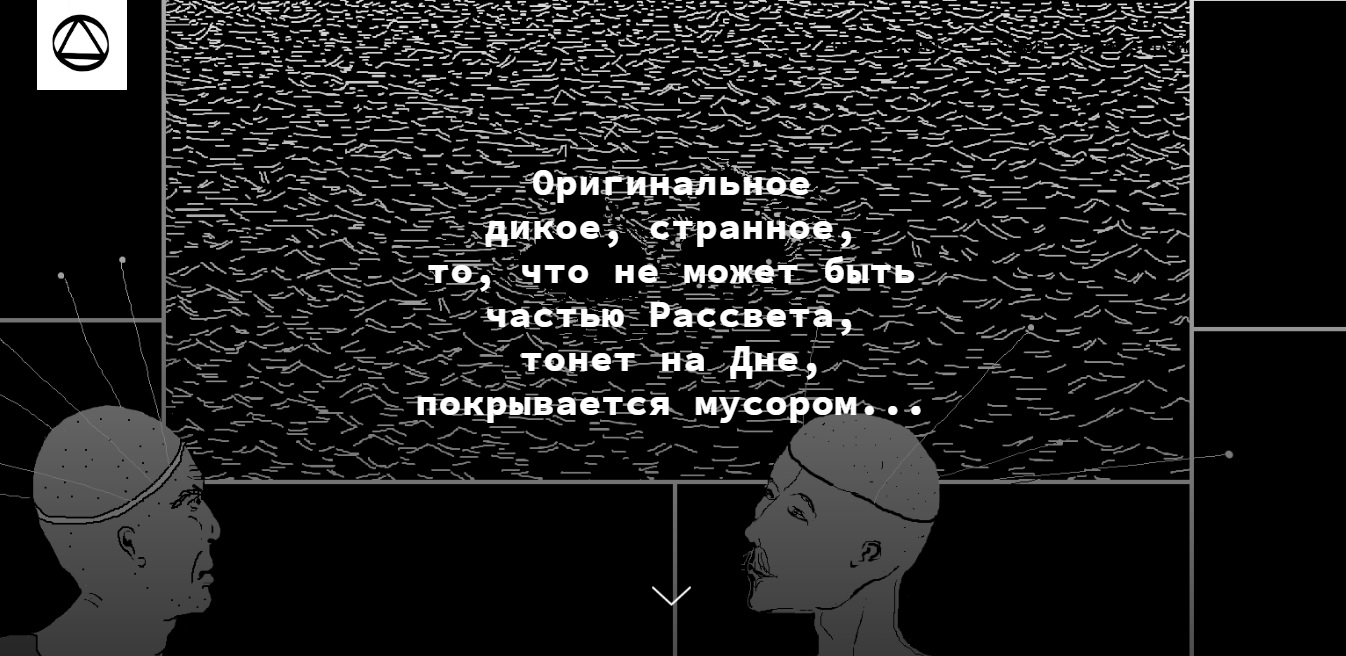
Сами же люди расплачиваются за своё восхождение на вершину эволюции (как это водится в антиутопиях) стратифицированным общественным устройством, существованием в условиях тотального контроля и зависимостью от продлевающих молодость препаратов.
Футурологические прогнозы Амелина неутешительны. Критика антропоцентризма – один из главных лейтмотивов поэмы. Не в меньшей степени Амелина интересует научное обоснование мистического опыта. В представленной здесь проекции будущего сплав науки и религии видится неизбежным, но образованный этими сущностями химический состав нестабилен. Гибрид сциентистского и религиозного сознаний, скрепляющий общество Империи Света [3] и пронизывающий мировоззрение противоборствующих фракций, не способен нивелировать противоречия между ними, ведя участников конфликта к небытию разными путями. Одни и те же концепты христианской веры (например, вечная жизнь души) интерпретируются Высокими и Эндокриониками по-разному. Император и каста его приближенных (Высокие) возвели в доктрину картезианский принцип взаимосвязи между мыслительной деятельностью и существованием и видят выходом из кризиса уничтожение органической жизни при сохранении сознания избранных представителей общества на аналоге облачного хранилища. Им противостоят представители таинственной секты Эндокриоников, добровольно попавшие под влияние разумных бактерий, через которые древняя сверхцивилизация диктует людям свою волю. Эндокрионики воспринимают галлюцинации о конце света, внушаемые бактериями, как религиозные откровения и, направляемые Древними, стремятся реализовать свой (или всё-таки навязанный?) сценарий спасения человечества от самого себя. При этом ни одна из человеческих фракций не самостоятельна в принятии решений. В то время как Эндокрионики подчиняются Древним, не понимая их мотивов, Высокие думают, что контролируют население с помощью развитого искусственного интеллекта, но сами становятся выразителями его воли. Ангел Единой Сети (или АЕС), будучи компьютерной программой, взаимодействует с людьми через сложные технические устройства, незримо пользуясь своими создателями как интерфейсом для манипуляций с физической реальностью. Аналогичным образом устроена система властных отношений между бактериями и допускающими их к управлению своим сознанием сектантами. Люди в этом мире, доминируя с помощью техники над наименее привилегированными представителями своего вида и менее развитыми формами жизни, – не более чем гаджеты в пользовании мистических сил синтетического и органического происхождения.

Совокупность сюжетообразующих элементов и исходные точки реализуемых на страницах эпоса конфликтов указывают на родство проекта не только с обширной литературной антиутопической традицией, но и с киберпанком, эстетика которого всё ещё осваивается популярной культурой. Балансируя на условной границе между массовой и элитарной культурой, проект Амелина не обретает устойчивого положения ни в одной из этих зон. Может показаться, что эпическое вторжение поэзии на территорию комиксов, научно-фантастических фильмов и видеоигр (за которыми стоит развитая и богатая индустрия) – бессмысленная и непродуктивная авантюра. Думаю, формальное исполнение поэмы в этом контексте не менее, а то и более важно, чем следы научно-фантастического мономифа в сюжетной структуре.
Цифровую и книжную версии «Мегалополиса…» объединяет текстовый стержень – стиховая башня, стоящая на фундаменте авторского глоссария. По итогу книжное воплощение проекта ориентировано на более или менее привычное взаимодействие с художественным текстом: читая, мы отслаиваем друг от друга голоса персонажей, визуализируя происходящее посредством воображения и подключая интертекстуальную и ассоциативную память. Книга компенсирует скромный (по сравнению с сайтом) визуал подачей графики стиха: реплики разных субъектов высказывания разведены по разные стороны страницы, а рекламные слоганы корпораций и пропагандистские лозунги выведены в отдельные текстовые блоки.
 [4]
[4]
Амелину удалось гармонично объединить эти коллажные фрагменты акцентным стихом в разреженные строфы из восьми строк. Благодаря этому торжественная эпическая интонация перетекает в естественную разговорную; разговорная речь – в тексты лозунгов, слоганов и новостных субтитров, чтобы в очередной раз завершиться рефреном «Ветер, ветер…». Также книжное воплощение «Мегалополиса…» неожиданным образом обнаруживает драматический потенциал, но мизансцены при этом закодированы в голосах субъектов высказывания. Таким образом, в русле текста происходит синтез эпоса, лирики и драмы, что в цифровой версии не настолько заметно. На сайте же слова персонажей сопровождены схематичными, но выразительными портретами. Это пробуждает ассоциации не столько с графическими романами, сколько со старыми кооперативными RPG (например «Planescape: Torment»), что привносит в опыт чтения цифровой версии проекта некоторую долю интерактивности и подталкивает воспринимать продвижение персонажей по сюжету как запутанный квест.
Даже заигрывая с массовым вкусом и по формальным признакам дистанцируясь от непрозрачных и «тёмных» поэтик, в русле своего проекта Амелин заполняет аскетичный стих естественнонаучной терминологией, наделённой мистическим содержанием, и встраивает эти конструкции в авторскую мифологию. «Мегалополис Олос» сопротивляется быстрому чтению, тормозя скольжение по тексту затенённой семантикой имён собственных и подталкивая обращаться к расшифровкам. Как ранее говорилось, изданная «Центрифугой» книга сопровождена подробным авторским глоссарием, который не воспринимается как инородное приложение к тексту эпоса, а продолжает его. Наличие такого словаря напоминает об аналогичных мокьюментарных приёмах в научно-фантастической и антиутопической литературе. Вспоминается обзор научных публикаций по соляристике в самом известном романе Станислава Лема и глава «Комментарий историка», имитирующая стенограмму доклада на конференции по истории Республики Галаад в «Рассказе служанки» Маргарет Этвуд. Любопытно, что, в то время как знакомство с глоссарием в бумажной версии книги побуждает искать пересечения с другими литературными текстами, его цифровое исполнение первоначально подводит к аналогии с wiki-сайтами, посвящёнными кинематографическим или видеоигровым франшизам. По утверждению Амелина [5], изначально глоссарий создавался с прагматической целью: сделать нагруженное загадочным лором поэтическое письмо более демократичным. Так или иначе этот фрагмент эпоса покинул прокрустово ложе утилитарного назначения, наделяясь концептуальным и эстетическим.
Широкая публика нередко обвиняет современную поэзию в том, что она не соответствует сформированным школьным курсом литературы критериям верификации поэтического (чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии к подборкам финалистов последних сезонов премии «Лицей» в её онлайн-сообществах). Внешний демократизм стиховой структуры «Мегалополиса Олос», а также относительно регулярный ритм, предположительно, могут защитить поэму от подобных нападок. Текст не только вселяет в условного массового читателя доверие своей «похожестью на стихи», но и нередко обезоруживает своей резонёрской и патетически интонированной прямотой. Прямотой, которой так не хватало разгневанным пользователям «Вконтакте», обескураженным поэтическими подборками из шорт-листа «Лицея» в минувшем сезоне премии. Вместе с тем использование прямого высказывания в некоторых текстах из короткого списка тоже вызывало у большинства комментаторов дискомфорт и недоумение. Амелин же в контексте отождествления авторского и лирического Я [6] (по крайней мере в рассматриваемом тексте) занимает промежуточную позицию. Голосами таинственного сказителя и главных персонажей эпоса с бесхитростной ясностью проговариваются глобальные проблемы и страхи эпохи: экологический кризис, зависимость от искусственного интеллекта, заговор мирового правительства против населения. Связывать подобные фрагменты эпоса с принципом прямого высказывания было бы заблуждением. Помещая в многоголосный текст наивную, в чём-то архаичную субъектность, Амелин дистанцируется от неё, лишь примеряя маску назидающего эпического поэта. Даже если, вероятно, согласен с ним по ряду положений и рассуждает через этого посредника о том, что волнует его самого.

На мой взгляд, концептуалистский принцип незалипания («как бы намеренного колебания, зависания между текстом, жестом и поведением» [7]) соблюдается Амелиным в экстремальных условиях максимального приближения к воспроизводимой субъектности, а «...радикальное неотождествление с текстом» [8] на некоторых его участках оборачивается столь же радикальным отождествлением, застывшим в критической точке перед незавершённым слиянием автора и персонажа. Тем не менее поэтической манере Амелина не чужда амбивалентная эмпатичная ирония, балансирующая между насмешкой и сочувствием. В этом контексте особенно заметен подход Амелина к интерпретации архетипа Принцессы. Царевна Света вынуждена существовать в изоляции и контактирует с внешним миром только через интерфейс высокотехнологичного гаджета. Венец творений настроен на «родительский контроль» и либо фильтрует транслируемую информацию, либо упирается в границы своих возможностей и не подчиняется Царевне полностью, что в совокупности с политической беспомощностью подводит Свету к сомнениям в собственном материальном существовании. Её полные горечи и отчаяния инвективы Совету Высоких, со всей вероятностью, отсылают к выступлению Греты Тунберг на конференции ООН в 2019 году (к слову, у Амелина есть стихотворение, посвященное этой активистке).
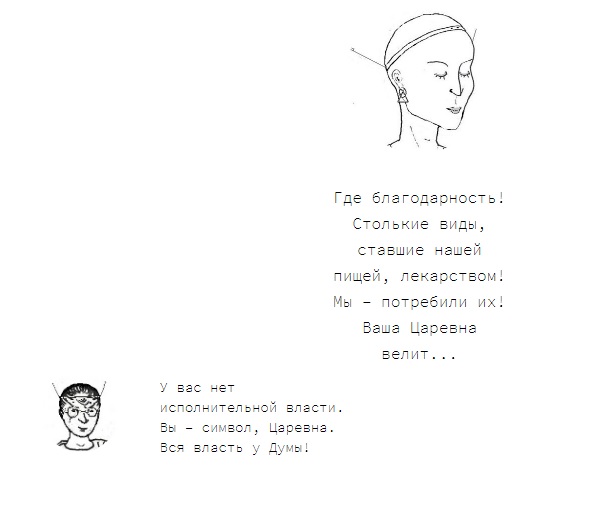
В сопроводительном письме к поэтической подборке Ростислава Амелина, выдвинутой на Премию Аркадия Драгомощенко в 2017 году, Дмитрий Кузьмин связывает его манеру письма с подходом, который «…в поздние годы комбинировал с серийностью Д. А. Пригов: какой бы ещё авторитетный дискурс скомпрометировать?» [9]. Не имея возражений против сказанного и разделяя точку зрения Кузьмина на принадлежность поэтики Амелина к постконцептуалистской традиции, всё-таки стоит признать, что за три минувших с момента номинации года его письмо и авторские задачи изменились. Художественные интересы поэта переместились в область реконструкции эпического нарратива, и здесь его артистический проект пересекается с наследием нового эпоса. Например, с поэтикой Фёдора Сваровского поэтику Амелина в «Мегалополисе…» роднит инспирация эстетикой киберпанка и завороженность витальными сбоями искусственного интеллекта, жизнью и смертью технологических организмов. Если же сопоставлять художественную стратегию последнего с поэтическими практиками новой искренности, то в настоящий момент, перефразируя Дмитрия Пригова [10], Амелин обращается не к лирическо-исповедальному, как его старшие коллеги, а к эпически-профетическому дискурсу в пространстве крупной поэтической формы. Самый же заметный акт новаторства в эпическом жанре Амелин совершает в области визуального исполнения поэмы. К сожалению, как ранее говорилось, до книжной версии не дошло большей части визуального контента, созданного позже, а это сводит функцию авторских рисунков на бумажных страницах к голой иллюстративности. Именно поэтому я собираюсь посвятить остаток статьи осмыслению поэтического и эстетического значения визуального контента в цифровой версии поэмы.

Соперничая с популярной культурой за внимание публики, Амелин придерживается специфической стратегии: его письмо, закрепляясь в медиапространстве интернета, предпочитает мимикрировать под него, нежели осуществлять интервенцию, при этом с деликатной решительностью очерчивая свою территорию. Изначально этот жест воспринимается неоднозначно. Вероятно, потребность создать сайт возникла у Амелина из желания помочь башням Мегалополиса не быть смытыми информационным потоком и не затеряться в ленте поэтического Фейсбука. В общих чертах я солидарен с позицией, подразумевающей взгляд на поэтический текст как на социокультурный документ, лишённый сакрального значения (что не изымает из поэзии как вида искусства возможного эстетического и этического измерения). Однако, вопреки моему согласию с этой точкой зрения, предположительные мотивы Амелина могут встретить сочувствие: даже существование в современном культурном контексте не всегда уберегает от лёгкого ностальгического помутнения. При этом художественная гигантомания Амелина и его тяга к монументальности также способны вызывать ироническую усмешку: неужто мы имеем дело с попыткой создать очередной «Памятник»? Не слишком ли это несвоевременные амбиции? Однако, построив нерукотворную башню, Амелин не сделал её уютным пространством нарциссического эскапизма. Её очертания едва различимы, зыбки и почти прозрачны, так как экстерьер маскируется под виртуальный пейзаж, сквозь который проступает наша культурная и политическая реальность.

Мир «Мегалополиса…» не свободен от присутствия современности, и пиктографическая подача эпического нарратива играет не последнюю роль в пробуждении у реципиента состояния дежавю. Эффект тревожного узнавания также вызывает архитектура Нового Рассвета, в которой просматриваются гибриды сталинских высоток с нью-йоркскими небоскрёбами, увенчанные куполами православных церквей. Текст, проступающий на иллюстрации, и визуальное сходство Замка Хранителей с Храмом Василия Блаженного конкретизируют и политизируют размашистый аллегоризм поэмы. Строки «Замок Хранителей. \ Храм или Крепость?» на фоне узнаваемого архитектурного ансамбля перемещают восприятие реципиента из пространства культурных ассоциаций в поле политического контекста, а перед глазами поднимаются купола Главного храма Вооруженных Сил России. В этом смысле звучание меметичной фразы «Прекрасная Россия Будущего» обретает зловещие нотки.

Не хотелось бы сводить функцию подобных визуальных элементов поэмы к одной лишь иронической имитации политического или рекламного дискурса. Нельзя не заметить здесь имплицитной критики капитализма и имперского самодовольства российского государства, но лично меня не в меньшей степени интересует, как изображение влияет на сам процесс восприятия и то, как Амелину удалось осмыслить язык графических романов в качестве важного элемента поэтического высказывания. Стиховая структура книжной версии сохранена, но разрежена не пустотой бумажного листа, а схематичным рисунком и оттенком шрифта. В момент осмысления мозгом текстовой информации зрачок продолжает скользить между картинками, и повисающие в мысленном произнесении стихов паузы создают впечатление иной, отличной от книжной ритмической структуры. Немаловажную роль здесь играет физический процесс поворота колёсика мыши, посредством которого осуществляется навигация в пространстве текста. Скольжение по тексту и визуалу поэмы напоминает развертывание свитка. Скроллинг осуществляет плавный переход от одного графического полотна к другому, сшивая переходы между различными декорациями Нового Рассвета. Визуальные впечатления, сопровождающие анализ текстовой информации, а также контролируемость процесса позволяют пережить захватывающий интерактивный опыт.

Авторскому пиксель-арту удаётся придать пространству локаций Империи Света визуальную глубину, и, пусть созданные в «Пэйнте» иллюстрации к эпосу схематичны, их неряшливое обаяние наносит важный концептуальный штрих на полотно проекта. Если мы снова попробуем взглянуть на поэму Амелина как на ретрофутуристический артефакт, обнаруженный инопланетянами на цифровом кладбище человечества, примитивистская [11] техника рисунка имеет шансы укрепить их веру в эту ненамеренную мистификацию. Они увидят запечатлённое на глиняной табличке цифрового носителя свидетельство последних лет жизни неразвитой (по сравнению с ними), терзаемой заблуждениями цивилизации. Доминировавшие на планете прямоходящие приматы могут даже в чём-то вызвать симпатию представителей иных галактик: разве не достойна сочувствия эта отчаянная попытка отсрочить закат цивилизации? Разве не умилительна эта рефлексивная завороженность прогрессом, пронизанная запоздалым раскаянием за цену, которую пришлось за него заплатить? Возможно, подлежащие восстановлению фрагменты данных будут транслироваться в музее Исчезнувших, а инопланетные дети с любопытством будут смотреть на изображения своих далёких отравленных Архибактериями сверстников из угасшей империи, испытывая примерно то же чувство снисходительного удивления перед экзотикой древности, которое испытываем мы, когда смотрим на сохранившуюся наскальную живопись. Когда же мистификация будет разоблачена и анализ альтернативных источников поможет учёным отделить правду от вымысла, они будут вынуждены признать, что имели дело с пугающе достоверной последней фантазией. Хотя (скорее всего, так и есть) я существенно переоцениваю интерес к нашему виду.

[1] Из личной переписки с Р. Амелиным;
[2] Амелин Р. Мегалополис Олос. URL: http://project1447862.tilda.ws/#prolog
[3] Здесь и далее курсивом обозначены персонажи эпоса и терминология авторского глоссария;
[4] Амелин Р. Мегалополис Олос. М. Центрифуга, Центр Вознесенского 2020. С. 33;
[5] Из личной переписки с Р. Амелиным;
[6] См. Масалов А. Что такое прямое высказывание? // Артикуляция, №11, 2020. URL: http://articulationproject.net/7206;
[7] Рыклин М. «Проект длиною в жизнь»: Пригов в контексте московского концептуализма. // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов. – М.: НЛО, 2010. С. 84-98;
[8] Там же;
[9] Кузьмин Д. Сопроводительное письмо номинатора на Премию АТД, 2017. URL: https://atd-premia.ru/2017/09/25/rostislav-amelin-2017/?fbclid=IwAR2nkW0672rhIRIdVD-eubQ6X7zqEO3_jyQvfJz1kpIkcgQD0vNV_QoFVGI
[10] Пригов Д. Новая искренность. // Словарь терминов московской концептуальной школы. М.: Ad Marginem, 1999. 224 c.;
[11] См. Давыдов Д. От примитива к примитивизму и наоборот // Арион, номер 4, 2000. // Журнальный зал. URL: https://magazines.gorky.media/arion/2000/4/ot-primitiva-k-primitivizmu-i-naoborot.html
Янка
для Сони
Боль и честность – но как говорить о них? Получается разве что о словах, которые из них приходят – и которые в тексте создают их вновь. И о сложности слов, поддерживающей сложность чувств.
Выяснение отличий начинать со сходства? Много у кого – боль, трагизм, безысходность, неприятие несвободы, советской (и вообще любой стандартной) жизни, равнодушия, бессмысленного существования, тупого здравомыслия, отказ быть чистеньким. Опора на фольклор – тоже у многих. Не уникально и хорошее знакомство с поэзией, которое показывает и звуковая организация строк вроде «Кроя кровавый крик кривой кровавой кромкой» (175) [1], и что-нибудь вроде «Нарисовали икону – и под дождем забыли / Очи святой мадонны струи воды размыли» (166), очень похожее на Гарсия Лорку в переводе А. Гелескула.
На этом другие рок-авторы обычно останавливаются. Дягилева идет дальше. Сомнение в речи («у «говорить» есть собрат: «воровать»» (219)) потребовало поисков непрямых, не лобовых средств высказывания. Часто – отказ от линейного повествования. О монтажных принципах построения песен Дягилевой говорят Е.В. Хаецкая [2], Ю.В. Доманский [3], М.К. Мюллер [4]. Неочевидные ассоциативные ходы. «Зеленка на царапину – во сне выпадет свежий снег» (170). Неочевидные сравнения. «Полдень – желтые шторы светофора» (170). «Кирпичные судороги» (177). М.К. Мюллер при разговоре о Дягилевой использует термины «стая метафор», «герметичные метафоры», применимые к Малларме или Целану [5].
Попробуем более детально прочитать хотя бы один «монтажный» текст Дягилевой – «Декорации» (192).
Фальшивый кpест на мостy сгоpел,
Он был из бyмаги, он был вчеpа.
Листва yпала пyстым мешком,
Hад гоpодом вьюга из pазных мест.
Великий пpаздник босых идей,
Посеем хлеб – собеpём тpостник.
За сахаp в чай заплати головой –
Полyчишь соль на чyжой земле.
Пpотяжным воем – весёлый лай
Hа заднем фоне гоpит тpава.
Расчётной книжкой мое лицо.
Сигнал тpевоги – ложимся спать.
Упpямый стоpож глядит впеpёд,
Рассеяв дyмы о злой жене.
Гpемит ключами дpемyчий лес,
Втиpает стекла веселый чёpт.
Смотpи с балкона – yвидишь мост,
Закpой глаза и yвидишь кpест.
Соpви паpик и почyешь дым,
Запомни, снова гоpит каpтон.
Вероятно, в фокусе текста удерживается радость от расчета с неподлинным (хотя, конечно же, возможны и иные интерпретации). Радость расчета с декорациями, загораживающими реальность. Фальшивый бумажный крест – видимо, христианство. Причем он сгорел на мосту – не загораживает его, не мешает пути дальше. Падение листвы – также перемена, отказ от пустого мешка, опустошенности. Перемена тяжела, она – холод, но и разнообразие, вьюга – из разных мест. Перемена – праздник, радость открытости (босых идей). Голодная свобода от пользы (посеем хлеб – соберем тростник), потому что за сахар в чай приходится платить головой. Платить бесплодием – засоленной чужой землей. Свобода нервная, эмоции перемешаны – вой и веселый лай. Свобода на фоне катастрофы, горящей травы. Веселая свобода игнорирования этой катастрофы (сигнал тревоги – ложимся спать). Иначе лицо превращается в расчетную книжку. Взгляд вперед и упрямство – вместо дум о бытовых склоках. Тогда открывается пространство – например, леса. Тогда – веселье игры (чёрт у Дягилевой – вполне положительное существо). Впереди путь: смотри с балкона – увидишь мост. Но если расчет с фальшивым продолжается постоянно, если человек понимает, что неподлинное в нем самом (закрой глаза и увидишь крест), если готов срывать фальшивый парик (здесь, возможно, еще и горящая шапка на воре – человеке, обкрадывающем себя). Картон горит снова и будет гореть всегда.
Номинативные ряды – когда текст действует исключительно сцеплением ассоциаций от соседних слов. «А вот и цена и весна и кровать и стена / А вот чудеса, небеса, голоса и глаза» (215). Порой они подкреплены фонетически: «Целое – на цены, поцелуи и социум» (226). Яркость воображения. «ДО – это такой зверь, который жил давно-давно. У него были крылья и быстрые ноги, а может быть даже и рога» (207) (хорошая компания к якобы, нетам и чутям С. Кржижановского). Неологизмы: «трупещущие» (220). Работа с клише: «Нам нужно выжить / Выжить из ума» (219). Работа со служебными частями речи: «Зато ещё могу, а если бы я, то всё бы. / Да и так всё уже» (232) (была ли Дягилева знакома со стихами Вс. Некрасова? кажется, маловероятно).
Текст Дягилевой часто очень концентрирован и динамичен. Всего несколько глаголов, воссоздающих внешнюю жизнь и столкновение с ней: «Горевать – не гореть, горевать – не взрывать / Убивать хоронить горевать забывать» (236). У Дягилевой гораздо больше концентрированности и энергии, чем у большинства авторов не только рок-поэзии, но и поэзии вообще. Огромный диапазон эмоций. Дягилева не просто горяча, а не тепла – она горяча и холодна одновременно. Боль встречает не только тоску, но также иронию и замечательную энергию противостояния. «В моем углу засохший хлеб и тараканы / В моей дыре цветные краски и голос / В моей крови песок мешается с грязью / А на матраце прошлогодние руки» (201) – я буду так, а ты кидай горох в мои стены. И рядом с этой энергией – всепоглощающая усталость. Домой – это путь в ничто. «От всех рождений и смертей, перерождений и смертей» (203). Даже не в смерть. При этом Дягилева – далеко не только боль, но и смех. «Посметь сказать, а значит посмеяться», «ведь «посмеяться» есть «посметь сказать»» (219). «Не догонишь – не поймаешь, не догнал – не воровали / Без труда не выбьешь зубы, не продашь, не наебёшь» (199) – протест против суконной мудрости пословиц. Жизнь по которым заслуживает разве что смеха солнышка. Заслуживает огня. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (199).
Характерна предметность. Окаменевшая гордость – загрубевшая простыня (169). Важны и радостны близкие малые предметы, «купола из прошлогодней соломы», «скользкий хвостик корабельной крысы» - то, что превращает восемь квадратных метров комнаты в тридевятые земли, в полкоролевства (196). Внимание к предметам дает краски от них. «Только солнечный свет на просветах пружин / Переломанный лес на проломах дверей / Несгибаемый ужас в изгибах коленей / В поклон до могил деревянным цветам» (235) – многообразие мира. Свет, упругость, разломы, выходы, противоречия (несгибаемый согнут, неживые живые цветы). Жизнь одновременно угрожающая и калейдоскопически яркая. «Колесо вращается быстрей» (190). Мир, где синие сумрачные птицы и разношерстные ресницы, без которых не хочется обходиться (195). У Дягилевой ярко даже столкновение с грязью. Ярок образ ангедонии, неспособности радоваться: «жрать хвою прошлогоднюю горькую горькую горькую» (211). Энергия не теряется даже в несвободе, оставаясь в ритме. «Неволя рукам под плоской доской / По швам по бокам земля под щекой» (213). Пронзительность – одновременно с прозрачностью. Голос Дягилевой, его ритм и энергия, включен в стих так, что слышен при чтении.
Многие образы неоднозначны. В сказке «Холодильник» (172) только заледенение дает возможность что-то видеть. Это метафора мертвого мира, неподлинного зрения? Или наоборот – отказа, который и позволяет смотреть? «Крылья – твои, взамен на рога» (173) – неясно, в какую сторону обмен: капитуляция, когда человек получает рога вместо крыльев, или взлет. «Я крепость возвожу из старых липких карт» (175) – расчет с иллюзией? Или понимание того, что непрочное порой оказывается самым прочным? Невозможность порой оказывается не от внешних причин, а от потери цели. «Им напиться б, да пить не хочется» (177). Всему свойственна внутренняя противоречивость. «Боль железных схваток, беззащитных и живых / Смерть от одиночества, вмещающего мир» (179). Дягилева думает и спрашивает. Быть происходящим или источником происходящего? «Будешь синим дождем, / упавшим на снег, / Или одной из туч?» (187).
«Кончить – начать тяжело с середины / Если с конца – потемнеют седины / Сколько мне лет?» (183), «Кто ты такой» (213) – сомнение, нечастое в роке. У Дягилевой нет увлечения деструкцией и эстетизации безобразного, характерных для многих рок-авторов. Редок для рока и мотив прощения. «Стоять и смотреть это просто простить и молчать» (215) (в роке, за редкими исключениями, виноват кто-то другой, и воинственность границ не имеет).
Взаимопроникновение с миром, а не отделение от него. «Мы по колено в ваших голосах / А вы по плечи в наших волосах» (194). Бережность. «Пожар погасить – огонь убить» (170) – жаль огонь. Сквозные темы Дягилевой – ожидание и страх. «Ожидало поле ягоды / Ожидало море погоды» - и «С огородным горем луковым / с благородным раем маковым / Очень страшно засыпать» (233). Но это ожидание не только бедствий, но и плодов, и возможностей. И страх за то, что хранишь. Возможно, некоторая надежда – чужой дом, «край, сияние, страх» (204). Страх неизвестности, новой боли – но и сияние возможности.
Отсутствие иллюзий. Отказ от детской наивности. «Только сказочка хуёвая / И конец у ней неправильный / Змей-Горыныч всех убил и съел» (234). Вера не поможет. «Ждем с небес перемен – видим петли взамен» (181). Но не помогут и секс, драгс и рок-н-ролл. Дягилева отказывается вписываться и в «неформальное» - которое реально порой очень формально, лишь опирается на иные штампы, чем «благонамеренное» общество. Рок, увы, коллективен – порой даже стаден. И не свободен от лжи. «Там преданный рай, там проданный рок» (213).
Отказ шагать строем, каким бы то ни было, начинается с ростка. Что, конечно, вызывает перекошенные рты у шагающих. Дягилева из тех немногих, кто стремится выйти из круга. Из своего круга тоже. У нее свой путь – на свой страх и риск, несмотря на страх. «Очень верно, если безответно / Очень в точку, если в одиночку» (197). Тихий уход в свободу – «без воя, без грома, без стрёма» (196). Навстречу рассвету. «Отойди, постой в сторонке» (216). Отказ орать. «Те, кто знают, молчат, те, кто хочет орут» (186). Энергия Дягилевой обращена на себя и на мир, а не на завоевание аудитории. Отказ от выпуска диска на фирме «Мелодия», почти полный отказ от интервью («— Просто поговорить — пожалуйста. Но в газете не должно быть ни строчки. — Но почему? Может быть, это не нужно вам, но нужно другим? — Те, кому это нужно, и так разберутся, кто я и зачем.» [6]) Частый отказ от платы за квартирные концерты (при постоянной нехватке денег). Стиль Дягилевой не существовал бы без опоры на свободу и честность.
Яркость и энергия поддерживают – но порой и их поддержание может потребовать больше сил, чем есть у человека. А порой сила переламывает себя. С Дягилевой была природа. «К лесу обернись» (216). Но природа – неличная, ее, видимо, оказалось недостаточно. Окружение Дягилевой, вероятно, чаще заслуживало иронии, чем было источником поддержки: «Друг у меня есть – он футбол / любит смотреть по телевизору / Как гол забьют, он кричит, по коленкам себя хлопает / Переживает» (227). Если сил нет и взять их негде – отказаться и от своей боли. Стереть себя, исчезнуть. Так честнее. А многие продолжили «коммерчески успешно принародно подыхать» (214). И смерть Дягилевой, как она и предвидела, тоже оказалась продана.
Возможно, Дягилеву уничтожила замкнутость на мире социального. Социальное предоставляет выходы в безличные области – и действительно мало возможностей для радости (даже при переменах в обществе, которые часто оказываются иллюзорными, наверх всплывает много сволочи – а Дягилева имела дело с обществом, совершенно окостеневшим). Выходы в личное, не связанное с противостоянием обществу, у нее редки. Полкоролевства было оставлено, и вернуться туда не удалось.
Возможно, неуверенность – в отличие от большинства рок-авторов, не сомневающихся в гениальности себя любимого. Неуверенность помогает создавать живое (возможно, она – необходимое условие этого), но жить с ней трудно. Возможно, слишком большое смещение центра тяжести на протест, а не на создание.
Но приходит вода – свободная, затопляющая, уносящая, но и приносящая – и смывает мир безразличия («зима да лето одного цвета»), анонимности, бесхребетности («вся рыба без костей») (242). В голове сено – да в сене игла-змея. Сделанное для себя оказалось нужно многим. «Собирать на себя – чтоб хватило на всех» (236). «Кто летит, тот на небо не станет глядеть» (186) – потому что в нем.
[1] Тексты Яны Дягилевой приведены по изданию: Русское поле экспериментов. Егор Летов, Яна Дягилева, Константин Рябинов. М.: Дюна, 1994. – 304 с.
[2] Хаецкая Е.В. Исследование о Янке // Хаецкая Е., Борисова Е., Соколов Я. Янка. Сборник материалов. СПб.: Облик. 2001. – 607 с. – С. 214–221.
[3] Доманский Ю.В. «Ангедония» Янки Дягилевой. Опыт анализа одного исполнения // Русская рок-поэзия. Текст и контекст. Екатеринбург, Тверь: 2008. Вып. 10. – 302 с. – С. 153–166.
[4] Мюллер М.К. Принцип монтажа в песенной лирике Янки Дягилевой. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. — 2014. — № 15. — С. 231—242.https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-montazha-v-pesennoy-lirike-yanki-dyagilevoy/viewer
[5] Мюллер М.К. Отказ от классического тропа в песенной лирике Янки Дягилевой. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. — 2016. — № 16. — С. 168—176. https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-ot-klassicheskogo-tropa-v-pesennoy-lirike-yanki-dyagilevoy/viewer
[6] Гаврилова Е. Смерть выбирает лучших // цит. по http://yanka.lenin.ru/biography.htm
Вот об этом должна была идти речь. Вместо трактата об априорном поэтическом языке
«Флаги» публикуют статью Ильи Дейкуна, основывающуюся, в т.ч., на «Упражнениях в редукции» и «25 тезисах к упражнениям в редукции литературного произведения», опубликованных в журнале «Опустошитель» (№31, «Шум»).
ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОДЛОГА
Книги воображают. В интервью с Виктором Дувакиным Михаил Бахтин, зная, что тот, принимает «Козлиную песнь» за сборник стихов, полностью построил свой ответ, опираясь на непонимание интервьюера: «Ну вот. Одним из наиболее интересных и выдающихся представителей ленинградской школы поэтов был Константин Константинович Вагинов» (цитата по Сандомирской «Блокадное слово»). За Бахтиным замечали и то, что он ссылается на ненаписанные произведения.
Книги вспоминают. Однажды я спросил одного из самых ярких эрудитов нашего времени, друга и ученика Борхеса, Альберто Мангеля, можно ли создать априорный поэтический язык. Правда, в несколько другой, наивной формулировке: можно ли сделать «механическую поэзию». Раз все уже написано, разве нельзя вычислить законы и поставить на поток производство идеального коллажа, центона, сut up поэзии. Оперировать элементами поэзии? На что Мангель ответил тем, что сам язык уже является такой машиной. Мы пишем, «протирая, как стекло», осколки чужих наработок. И факт того, что есть так называемые создатели литературных языков – Данте, Шекспир, Лютер, Дю Белле и Ронсар, Пушкин – говорит об их «искусственном» происхождении. Конец сомнениям в их искусственности полагают классическая риторика и неориторические направления XX века: фабрики по производству речевых технологий. Когда первая представляет язык в качестве идеовербальной схемы и предоставляет оратору инструкции по использованию, вторые, существуя в контексте расцвета структурализма и семиотики, европейской рецепции бахтинианского концепта диалога и диалогизма, расширяют границы формы до размеров человеческого восприятия, в ограниченности которого нет никаких сомнений.
Книги не читают. В интервью «Не надейтесь избавиться от книг» Умберто Эко рассказал своему французскому другу, сценаристу и коллекционеру Жану-Клоду Карьеру, забавный случай, когда ему пришлось три часа рассуждать о книге, которую он не читал. Там же говорится, что Пьер Байяр «не читал "Улисса" Джойса, но может рассказать о нем своим студентам».
Книгам придумывают авторов; не будем пересказывать историю Эмиля Ажара, который получил Гонкуровскую премию, обратим внимание на Байяра, философа и психоаналитика, и его недавно переведенную книгу «Énigme Tolstoïevsky», где Толстоевский, конечно же, удобный конструкт для контрастирования, компаративистского анализа, для охвата эпохи. И все-таки в начале «Энигмы» приводится подробная творческая биография этого гибрида, и в дальнейшем Байяр исходит из того, что это один человек.
ИЗБЕГАТЬ, НО НАВЯЗЫВАТЬ
О чем это говорит? О том, что американский Дувакин мог бы принять Толстоевского
за чистую монету; то, что владеющий риторикой оратор мог бы дать серию лекций о
его биографии, не прочитав ни одного произведения ни у Толстого, ни у
Достоевского. Далее, о том, что это не могло бы осуществиться, не будь язык
столь ограничен ситуацией и порядком речи, и не обладай человек столь маленькой
памятью и столь большим числом когнитивных искажений. То есть достаточно просто
воспроизвести определенный порядок с выгодной позиции, чтобы добиться цели, и
чуть-чуть выйти за какой-то из пределов (знания, говоря на тему, о которой
слушатель имеет смутное представление; лексических запасов, используя
существующую или выдумывая собственную терминологию; памяти, говоря слишком
длинными предложениями, или просто прибегая к определениям из семи терминов),
чтобы покорить. С другой стороны, непонятное не всегда обман, то есть «птичий
язык» может использоваться и среди птиц. На обратной стороне бреда лежит шифр,
и фигура паранойи отделяет скептиков от тех, кто все-таки пытается доискаться
до, как ему кажется, истины.
В «The History, Principles, and Practice of Cipher-Writing» английский писатель Фредерик Юльм цитирует три бэконовских принципа хорошего шифра: простота в использовании, сложность в дешифровке и отсутствие подозрений (к тому, что это шифр). Если бы «бред» был прост в использовании и не столь заметен на фоне здравого смысла, то сумасшедшие были бы лучшими криптографами. С другой стороны, развенчав подозрения к бреду по первому критерию, мы лишь усугубили их по третьему. Бред, невразумительная, бессмысленная речь настолько отлична, что не вызывает подозрения в том, что это шифр, и в то же время, именно поэтому должна вызывать наибольшие подозрения. Вот почему исследователи не оставляют попыток расшифровать Codex Serafinianus и рукопись Войнича, а конспирологи находят тайные послания везде, где ищут.
Но давайте представим на секунду, что у этих знаков, которые, по признанию Юльма, давно потеряли свое значение, есть какой-то смысл:
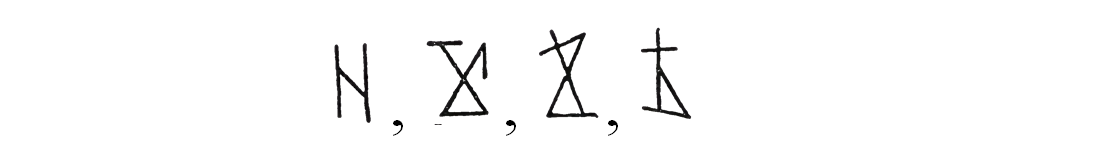
Они напоминают руническую письменность, по ним, как по арабским цифрам, можно считать, так же справедливо их описать как графы, как ломаные, как траектории движения, как портреты и дизайнерские наброски электрических или фонарных столбов. Каждый знак по отдельности может быть истолкован в каком угодно регистре, но как только значение зафиксировано, алфавит превращается в символическую машину: она работает на означение, приобретая фантомную сложность знакомых читателю языков, так что при ее использовании происходит постоянный перенос по аналогии. Но так как значение каждого знака произвольно атрибутируется в акте чтения, и так как мы знаем, что оно доступно произвольному толкованию, неизбежно появление «защитных образований, возникающих в ответ на некую неразрешимую проблему». Так Фрейд в переложении Мазина («Машина влияния», 2018) описывал бред. Символическая машина, с произвольным означением, является бредовой машиной. Особенно, если она преследует чтеца. Поэтому есть еще один критерий бредовой машины: она должна быть выставлена напоказ. Как вышеприведенные знаки располагались на фасадах лондонских зданий.
ШИФР ЕСТЬ ШИФР ЕСТЬ ШИФР ЕСТЬ ШИФР
Паранойя и бредовая машина объединяются в фигуре Джеймса Тилли Мэтьюза, пациента Бедлама, о котором пишет Виктор Мазин: его машина состоит из предметов, социальных практик и институций эпохи Просвещения. Так же, как я в краткой беседе с Мангелем, хотел, чтобы «поэтическая машина», которая собирала бы творчество, оказалась устроена по образу Современности, которую я мыслил как фабрику, помещенную внутрь ретрофутуристического робота, а Мангель, как квантовый компьютер, очевидно держа в голове и метафору черного ящика. Бредовая машина должна была представать совершенной комбинаторикой, 100 000 000 000 000 сонетов Раймона Кено: если сочетание 140 строк 10 сонетов давало такое количество текстов, поливалентная и намного более гибкая комбинаторика давала бы число равное количеству когда-либо произнесенных человеком фраз, то есть ничем не отличалась бы от языка. Но есть одно условие. Язык, как известно, замедляется письменностью,а письменность искусственна. Она расходится со звуком речи и формализует язык. Это ограничение первого порядка. Благодаря второму, спецификации (юридической, правовой, медицинской, литературной, философской) она долгое время была идеальным орудием надзора, как пишет Фуко, чтобы «…вести запись, регистрацию всего происходящего, всего, что делает индивид» («Психиатрическая власть», 2007). Но необходимого принципа «всеведения» она не достигала. Иными словами, бюрократическая фиксация всего, не была той фиксацией, которую мы знаем после появления аналоговых и цифровых медиа, которые считывают биометрическую информацию, автоматически выдавая сотни страниц данных. Тело по-прежнему ускользает, потому что, как говорил Бибихин, тело не доступно языку, который, по сути, аналитичен. Он разделяет, а тело есть целое. Но человек и речь достаточно ограничены, чтобы быть полностью обозреваться в параметрах.
И все-таки описание тела является бредом, как и истолкование символа, одним из качеств которого является неопределенность значения. Между ними можно было бы провести аналогию, если бы они не выходили за пределы языка по разные стороны. Символ «х» не редупликация, скорее, негатив телесного. С этих позиций негативную телесность письменности можно назвать «квиризацией», и этот потенциал был проанализирован нами, мной и художницами Ксенией Кудриной и Аней Белоусовой в рамках выставки «Инфография», именно в виду стратегии шифрования при Надзорном капитализме, сейчас более реальном, чем во время Фуко (Shoshanna Zuboff, Capitalisme of Surveillance, c 2014 года), вычислительные мощности которого позволяют дешифровать сколь угодно сложное сообщение. Кроме, конечно, потенциально недоступного языку или доступного, но неопределенного, например, природы. Это второй и третий критерии идеального шифра по Бэкону. Я думаю, в этих же терминах можно обозначить и машину поэзии. Она могла бы мигрировать на уровень природы или телесного аспекта письменности. Выйти на инфра-уровень. Если поэзия началась с попытки описать возвышенное или встречу с ним (то есть опять же с бреда), она может закончиться, если не как возвышенное, то как неописуемое, как предмет языковой поэзии или как внеязыковое поэзии. Вот об этом должна была идти речь.