«Флаги». Пятнадцатый номер
.png)
Содержание
Фото на обложке – Александр Фролов | vk: @club143680028 NB: Вся ответственность за тексты, нарушающие т.н. «закон о дискредитации вооружённых сил РФ» и подобные «законы» Российской Федерации лежит на главном редакторе проекта и не распространяется на авторов и авторок журнала. «Мы и теперь проскальзываем в тéни своих пожитков, куда день за днем уходит наша энергия» – Мей-мей Берссенбрюгге (пер. Ивана Соколова)
Из поэтического дневника (03.10.2018 – 05.12.2018)
03.10.2018
1) бездействие это выброшенные в окно предметы
2) любовь это светлое ничего
вдоль по большим коридорам
3) одного кусочка лимона хватит на три кружки чая
написать письма так
чтобы извиниться за молчание
в проёме перевёрнутом
засыпать нехотя
полотна меланхолии
повисли между
тогда все образы это
наэлектризованный пар
слова-атомы тогда придут на помощь
если не регистрация опыта
если не могу – то хотя бы лампа
настольная лампа передо мной
26.10.2018
вот, я теперь в тишине
моё тело гниёт, распадается
от рук, живота, груди
осталась тихая музыка
спальный запах
повсюду отражающие поверхности!
даже стены лифта – металлические
но они обвалятся
скоро этих стен не будет
я просто уеду на технический этаж
пока друзья так мило дерутся
как тигрята, на зелёном пледе
пока раскачивается на ветру поток вечера
и нагревается в молчании
поверхность стола
я уйду
увижу свой город, обниму родителей
28.10.2018
на техническом этаже
двери заперты засовы покрыты пылью
дети в костюмах птиц
фонариками телефонов
освещают затопленные углы
выискивают нетронутые сахаром кости
воспоминание заставляет
переиначивать карты гаснущего леса
где мёртвые сосны
разбрасывают фиолетовые камни огней
и трещат фигуры
солдат красной королевы
опрокинутые голосом
хвойной лавы
разбивается зеркало, а за ним
комната
красная люстра
кафель
распахнутое окно
29.10.2018
можно заснуть и не заметить
как все люди пропали
потому что, разогрев гречку и сайру на сковородке
ты учишься жить по средствам
и твоей энергии стыдно
писать вечные тексты
и твоё сердце разжимается
в такой теплоте
что наглости не хватит назвать
эту прекрасную бумагу «нетленкой»
пускай она горит
и пускай тлеет
и пускай толпы других людей
нарисуют билеты и пройдут
по ним в троллейбусы времени
а я просто подумаю
как ты сидишь на фотографии
и держишь на коленях
россыпи мягких игрушек
по-детски серьёзно
и воздух вокруг тебя – это волны
простого жёлто-зелёного фильтра
31.10.2018
сегодня простой, настоящий день
серые пушки смотрели на Кремль
ничего не происходило
проснулся вечером – услышал голос
который за два часа разлился по свету
и не стало необычной радости
ты не хочешь отвечать, и любовь не приходит
и любой сон становится
нервной телепортацией
в следующий день
в день моего рождения
из тёмной локации
в пасмурно-утреннюю
из белой подушки
в гигантское солнце в глазу
и транслируются над пропастью
глупые секунды-бабочки
04.11.2018
мы расплавимся у расколотых раковин
чайников с безжизненными глазницами
у разорванной медицинской ваты
и других источников воды
чтобы расцвести потом
в долинах вечности
а пока
мне в Челябинске снились
двухэтажные тусклые дороги Ельца
и теперь я в осколке места
сжавшемся экономичными комнатами
перед финальной битвой
с мировым, чёрным деревом зла
змей искуситель – его мясная, голодная ветвь
покрыла наши поцелуи кислотным снегом
но уже идут наши дети
по холодным улицам, где сплетаются
ярость и нежность слабых наших ног
10.11.2018
бледно-жёлтая музыка оттуда
волны
проецируемой ткани взгляда
мы уже долго лежим в плотном воздухе
на гигантском каменном корабле
искажённые вспыхивают плиты
белые шлюзы в туалете
изнутри тёмным ритмом
фокусируется: воды́, воды́
и тогда нужно встать
как в останавливающемся автобусе
и посмотреть в зеркало, где
мертвец (ничего не уцелело, кроме
остатков механики: бледная кожа, отсутствие глаз)
ветки блестящего бисера
прорастают в горле
тёплый цветной человек справа
боже, сядь за штурвал, посмотри в стёкла
чтобы шасси обнажило шипящую землю
чтобы мне рукой этот мир погладить
и тогда возникает
солнце на утиных перьях в парке
счастливый поход в магазин, свет, иней
16.11.2018
Артём, это я. Запомни: вся твоя боль – это мировое зло. Эта записка – знак. Я – это ты, которого мировое зло заперло в больнице. Скоро битва. Ты объят щупальцами зла, единого тела. Ты – не ты. Я – это ты. Ты – сияющий, кроткий. Сияй, будь кротким. Извинись перед людьми. И ВЕРЬ, ВЕРЬ! У тебя есть поводы быть счастливым.
23.11.2018
нет энергии сна – только белое
волокно зрачков
останется на пальцах
только волны звуковые дня
останутся на ладонях
выдуманный свет, пронизывающий
раскрытое устройство головы
ты увидишь, как он бессмысленен
когда научишься миру
вытащишь его
из тюрьмы предрешённого – вот мы
и на воле: засыпаем в классе для занятий
на разных партах
посмотри, как здесь шелестит трава
погибшего государства
в проёмах исчезнувшего самолёта
не произносят смертью оставленные узоры
вот я закуриваю на крыльце
чтобы рассказать вам
про забытую зиму
26.11.2018
радуйся, яко пристанище душам готовиши
радуйся, всего мира очищение
радуйся, еюже обнажися Ад
радуйся, еюже обликохомся славою
радуйся, невесто неневестная
лучшая земля в руках банд
воистину: женщины бесплодны
не беременеют
воистину: поток в крови
люди пьют из него
они отталкиваются вкусом человека
и жаждут воды
грязь по всей стране
нет человека, одеяние которого
было бы белым в это время
как видно, мы с тобой не нужны
птица продолбит изнутри твою голову
а я истлею на белых цветах
а те, кого мы любили, выйдут замуж или женятся
на сильных и здоровых – не таких, как мы
землю заполонит фиолетовая чума
они запретят стихи
погрузят свои мерзкие тела
в солнечные сплетения сладких вод
но заступницей нашей будет Мать
именем его сына мы пройдём сквозь кордоны
в прозрачный от нежности город
05.12.2018
предметы не отбрасывают теней
люди не умирают
эти
поля объезжает помещик-смерть
в золотой карете
я покидаю подвал с водой в голубом халате
мой ребёнок лежит в палате
пустое сердце болит в темноте
мама скажет: это ещё ничего
ещё будем с тобой открывать цветные коробки
заселять белочек в окна стиральной машины
я отвечу: мама, сахарная пудра
в пакетике с розовыми медвежатами
ночник Бога делает ярче
из палаты выпускает нас в солнечный коридор
я варю себе кофе
и жду смерти
часы прогулок в больничном дворе – это мало
она придёт навестить меня
перед космическим путешествием
мои ошибки стали пчёлами
я прячусь от них в чёрную реку
В нигде: сновидения ноября
1. СЕКРЕТНЫЙ ЭТАЖ
…взявшаяся откуда-то идея, что в общежитии том был секретный заброшенный этаж: полуразбитый бар на большой веранде или балконе, заросший обильно дикой зеленью, плющом, ивовыми цветами.
знали об этом месте лишь посвященные. ночами они выносили сюда желтые фонари, садились на старинные кресла с истлевшей обивкой, вполголоса говорили о чем-то.
мотыльки, сверчки
медовый свет льнет к зелени
отчетливо видно звезды
попасть сюда можно по белому больничному коридору, залитому водой, через прозрачные двери колотого стекла и слабый свет лестничной лампы
экспедиция, группа, в скафандрах издалека, на возвышении (крыше?)
…в небе висят огненные грибы, здания
разрушены и серы – но вокруг тишина, мерцание звезд, много воды и птиц.
2. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
сон, который никогда не снился:
утро в тумане, почти напоминающем снег.
я еду к себе или к кому-то в день рождения
3. ДЕВУШКА В ЛОСОСЕВОМ ПЛАТЬЕ
мы вдвоем возле одинокого дерева, у озера. надвигается буря.
отбились от стаи девушек, спрятанных в длинном и узком доме – с тумбочками, полными винтажных пластинок, жидких блесток, шелковых ленточек.
с плетеными корзинами в руках (костюмная драма, не более) выходим из дома. на улице шторм.
сильный ветер. мечутся листья на ветках и облака, поднимаются полы плащей, пряди летают – ничего не слышно в шуме собирающегося дождя.
…она была в нежно-лососевом платье и белокудрая, с грубыми мужскими чертами лица. когда грянул гром, она в страхе упала на меня, и я сокрыла ее.
4. MANIA
комната сгущается. в темноте проступают два очага ледяного зрения. ступни мерзнут от холода, который идет из дверного проема. чувство скорби и отвращения, доводящее до ступора, одновременно – интерес, усиливающий отвращение.
«он, может быть, проверял пределы дозволенного насилия».
идти на дыхание темной вещи,
вскрыть ее и погибнуть
в испарине опыта
неизлечимой травмы
пламени преображения
(рот ледяного зверя подтаивает, меня подташнивает, пара капель ледяной слюны стекает к полу и тут же мгновенно замерзает на подбородке).
5. ПУТЬ УЯЗВИМОСТИ
оркестр замер
автомобиль больно бьет ее по колену
она лежит на кафеле: преступление совершено над нею, совершено ею
голубой шелковый саван, портрет композитора
путь уязвимости пройден,
проложен
6. ФЕСТИВАЛЬ
трава, парк, экран.
ехать на фестиваль
и найти себя в урагане
нещадно бросало из стороны в сторону внутри вращающейся воздушной сферы
стоило многих усилий вспомнить этот отрывок
что он символизирует?
очевидно, что что-то
но что?
успокоенная погода. сумерки.
порт. над нашим столиком
тусклый прямой свет лампы.
7. НОЖ
я почему-то должна перенести на другую сторону ледяного озера (где все на
коньках)
нож. в руках держу его и мне страшно от дурного предчувствия.
я, конечно, поскальзываюсь.
ладони лежат на коленях.
то, что на ладонях.
8. ОГОНЬ
они торжественно возжигают рельсы железной дороги
перед неподвижным поездом
в честь человека,
положившего этот путь.
произносят речь.
карнавально-синее небо.
огонь высотой в несколько метров.
я в многочисленной толпе, и у меня на глазах слезы.
9. КРАСНЫЕ КРЕСЛА
конференция? концентрация в лагере?
актовый зал, где все поверхности начинены красным (blood red).
у выхода женщина в форме кому-то благодушно смеется.
зал полон людьми, все они объединены здесь по общему признаку:
периферийность как невесомость и тяжесть как зрелость.
проницательность как беспристрастность и слабость как неуязвимость.
некто в костюме:
кофе/крем/ром?
ром.
вам нужно уснуть. книга?
«идиот»...
мы выходим из зала, толпимся на лестнице, я вытаскиваю из своего рта зуб, и корни сломаны. мне хочется проснуться.
мама собирает все вещи и уезжает из незнакомой мне квартиры, я осматриваю блеклое, цвета земли помещение после ее отъезда.
10. НЕЧТО В ОТЕЛЕ
номер в отеле. мы осторожно открываем дверь. нас несколько человек – лиц я не узнаю. вроде гастролей. просторное помещение пусто, заброшено, из верхних окон
пробиваются пыльные лучи света. когда-то багровые, но выцветшие теперь стены в эту погоду кажутся еще более серыми.
здесь вчера (или страшно давно, до всех межпланетных войн) что-то праздновали.
предметы лежат там, где были оставлены.
я выпускаю из рук вещи, становлюсь невесомой, падаю на кровать
и вижу на потолке:
золотую люстру кольцами обвивает живая, слишком живая и, видно, голодная змея
с длинными белыми клыками.
она бросается на меня стрелой.
отдышаться в другой комнате, за дверью.
через время мы с ней можем находиться в одном помещении. она не будет меня касаться, и мне тоже, и никому не придется трогать ее сверхъестественную кожу – мы так условились, но я не помню, что для этого сделала – чем ее накормила?
11. ОБЛАКА И ПОЛЕ И НЕЗНАКОМАЯ СТАНЦИЯ
я сажусь в электричку и еду куда-то через травы, металлические провода, летние облака. выхожу на незнакомой станции. кругом железные пути, зеленые холмы. невдалеке – тенистая долина ручьев, некое поселение, блаженное место (из миядзаки), где древесные дома с белыми крышами и музыка.
на станции – никого. поездов нет.
у меня в кармане три железных монетки. их не хватает на билет туда или обратно.
я застряла посередине
как повисла в воздухе
в междумирье
в нигде
Стихотворения из цикла «Ангелы Константина»
Примечание: стихотворения перемежаются «обратными речитативами», отмеченными «звездочкой» и восходящими к поэтике шестистрочных гексаграмм И-цзина, и читаются снизу вверх. Заглавия расположены внизу, под основным текстом речитативов.
ИЗ ЦИКЛА «АНГЕЛЫ КОНСТАНТИНА»
Циолковский меня спросил:
– Вы разговариваете с ангелами?
– Нет, – ответил я тихо.
– Я постоянно разговариваю.
– В. Шкловский
*
часов, нас встретил Гермес с ковшом сини.
от удара о землю погнулись стрелки
разница температур пошли вниз
станция работала, потом вмешалась
мы поднимались все выше, радио-
Осоавиахим – 1, буквы на гондоле
ГИБЕЛЬ СТРАТОСТАТА, ДЕР. ПОТИШ-ОСТРОВ
ЦИОЛКОВСКИЙ И МИНЕРВА
Окна города Калуги светятся за занавесками цветы стоят как будто боком.
И тумана, – ах ты! – столько, что не вычерпать ведром, ковшом не взять.
Ходит буква А по улице аэдом, Андами да недреманным оком,
окна города Калуги светят на Оку и в темный, яблоневый красно-черный сад.
«Отчего себя не вычесть из себя, с собою не сложить и не умножить?»
в челноке вдоль улицы бормочет Циолковский по туману правя кипарисовым веслом,
а карманные часы мне говорят тик-так, динь-дон, ведь время – муха,
борода его уходит в звезды, как туманный и ужасный муравьиный ком.
Сердце тоже может разорваться, даже у святого и у волка,
он плывет, в туман от уха целясь слуховой расширенной трубой,
далеко, как будто за лесами, бухнула курковая двустволка –
тихий звук дошел Минервы светлой и утраченной для улиц головой.
Говорит безглавая Минерва трепетному Константину в даль тумана:
ты держи на синюю звезду свой выпуклый, как лоб, корабль-челнок,
Смерть – понятие всечеловеческого низкого как след от башмака обмана,
на лугу зеленом ты с трубой исправить бы людскую немощь смог.
Окна города Калуги светят в сад и на святой колчан, на льва Минервы,
Циолковский со слезой стоит в лобастом и парящем по туману челноке –
человек-любовь из гусеницы ангельской прозябнет самолетом первый,
и потянутся за ним круги по голубой и мыслящей Оке
МЕЖДУ ТВОИХ ДИРИЖАБЛЕЙ
Я хожу между твоих дирижаблей,
меня облепляют рыбы невидимой ру́ки
сам в себе напряжен по горло в цапле стоящей цаплей
словно дослали в ствол
не патрон, а фиванского хора продолговатые звуки.
Когда велосипед уезжает, остается два дирижабля в разрезе,
краснобородый мужик обоими правит,
лежа в сомкнувшемся как рана без крови, железе,
как рыба в рыбе, как Стаций в лаве.
Тишины полны джинсов в обтяжку карманы
дирижабль гофрированный расширяется как на вдохе грудь Валентины
Георгиевны, и в тишину кочуют верблюжьи туманы
над падшей листвой, одиночество в кубе, но нет
тишина это тихо лапка кузнечика
за версту от берета
мембрана лягушки зигзаг от упавшей капли
на виске выступает кровь
не могли бы вы бодрствовать
лодка одета в волну, как в футляр скрипка
смерть
несовершенна Всецелостность К Игнатию
на похороны не пошел
не посмел
как на площадях даль тишина в ухе слепой
солдат на страже у ковра-самолета
Между твоих дирижаблей
парит сердечная мышца
с окнами на улицу неубиваемую
Воля Вселенной
ПЕСНЯ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВОЙ
трубы осени трубят
яблоки снимают с веток
но не их едят а круглый с центром звук
так вот каждая звезда
нам поет поет любой кузнечик
и из тихих светлых речек
выйдет к нам неведомый народ
как два стекла в одно в пенсне
сошедшиеся, в тишь стеклянную одетый
он нам безмолвьем говорит
и уткой в горизонт летит
и возвращается чумной кометой
народ как будто пароход
что крутит кругом в плеске колесо
вот так в груди и в животе вращается окружность
из вен с аортами
и дарит жизнь и вдох
и светится в ночи лицо
пока плывем все мы по речке жизни
А Циолковский говорит с неведомым народом
и дышит труб осенних водородом
его лицо как рыцаря надгробье
и белое чело поверх надбровья
и трубы осени гудят
и листья желтые летят
*
Замолкнут на миг – у всех остановится сердце.
грузовики, синицу и танкеры в море.
задумчивого или смеющегося, или
кусты, забор и дорогу, на ней человека,
от распыления Землю, Вселенную, дерево
Вперед-обратное пение ангелов удерживает
ПЕНИЕ АНГЕЛОВ
ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ
воздушный корабль над Калугой
по морю эфира плывет
на мостике нет капитана
не видно команды его
он движется мыслью
от грота протянута
эфирная нить к пучеглазой лягушки в пруду
от гика другая – к кобыле с лицом Энн Болейн
и третья идет ко флажку на спине у сома
от сома уходит к дальней Медведице нить
от него же эфирная пряжа бежит
к бабочке от нее к муравью чтобы быть
смел и дерзал и в эфире купаться он мог
а от него нитка светлый цепляет порог
воздух весь тонкою тканью неразличимо прошит
все здесь связано всем все трепещет и ходит дрожит
в красной рубашке и в шаре стекла на шарнирах мужик
конка пролетка изба и колодец и плот
выпуклы нужные вещи средь вещих пустот
нить полонила лицо воробья палисадник подкову коня
бричку селедку и бочку кудрявую пару ягнят
словно Вселенная вся в паутине стоит
смотрит глазами ныряет и животворит
нитка за ниткой сошлись и переплелись
в коробе гулкой груди там гудят как орган
пели и жили шумели шептали и жглись
у Константина во вдохе, как дети нашлись
бочка и бричка корова и дева фонарь
Вега и мельница с камнем и с камнем звонарь
март и околица кот и Центавра звезда
вереск и короб в груди где идут из ракет поезда
от планеты к планете и крутится с плицами круг
из опасных аорт и заученных вен вдоль груди
он плывет человек он везде он есть сам он упруг
разрезая волну впереди
внутри круга он цвел и в пенсне из него поглядел
и к нему дева-истина все свои лица несла
он их грел целовал и Орлом ко Стрельцу улетел
что сбивает – тик-так – раз в секунду любого Орла
пряжа стянута враз в циклопическом небе как сеть
дети вышли на луг чтобы небу с эфиром пропеть
сердце красная мышь сердце ясная мысль колесо
подпевай умирай удлиняй вещим детям лицо
на крыльце я стою сам себя схоронил сквозь ладонь
размечая бессмертье и дальний кукушкин огонь
здесь я вовсе не я и не ты ни кукушка ни сумма ни связь
ни субъект предикат и ни форма ни глосса ни грязь
наплывая тревожась смещаясь рыдая смеясь
*
синего воздуха, эквилибрист
несу колонну дальнобойного
острижена голова на которой
два, раз-два, два лепестка платины
на прогулке заключенных –раз-
Бабочки Ван Гога в колодце
БАБОЧКИ ВАН-ГОГА
ПРИБЫТИЕ ГЕРОЕВ [1]
Говорил Одиссей, мы приплыли на Лемнос. – Но это
остров о двух именах, – Неоптолем говорил – Лемнос-Калуга,
видишь горит в доме окно, что ж, войдем! –
Но поскольку, –
говорил Одиссей, –
город о двух именах, то, если вдуматься, мы
разве мы не о двух именах?
Неоптолем отвечал, – в это лучше
сейчас не входить,
можно в счете уйти далеко.
Зверь кошка спит у печки, за столом
зверь-человек уснул, над ним
спят дирижабли и колышутся во сне.
Приплыли мы, чтоб Трою одолеть
и, завладев оружьем Филоктета,
взять город, как предсказано.
И Циолковский за столом бормочет: звезды-звезды…
И Одиссей: какая вонь, однако,
от раны сделанной змеей
во время приношенья жертвы.
И Неоптолем: это не вонь,
но золотые шары,
полные света с блаженством, его окружают
и дарят причастным радость, щекотку и мудрость,
так они взвешены в воздухе, тихо блуждая. –
Чувство такое как будто на родине я
богов и героев.
И Одиссей: с шарами смещается небо.
И я, которого нет, говорю: вот крыши, а дальше в окне –
каланча и пожарные бочки
и пара коней, и пемза глубокой сирени,
и водосток, полный крылатых жуков.
И Одиссей: вот лук его парит
над спящим и тихонько говорит
про Трою, птиц, Геракла, погребальный
его костер,
в котором мышц как на великих Олимпийских играх.
Всем правит смерть.
Неоптолем: Геракл вознесся в рай из мышц костра.
Одиссей: Вот так и вещее слово.
Давай обманем его. Скажем, что под Троей
сбудутся его желания, и он исцелится.
А Циолковский говорит: звезды-воля-Вселенной-и-человек…
Одиссей говорит: все же, какая вонь!
Неоптолем говорит: это свет, неужели…
Одиссей говорит: все же какая – нь!
Неоптолем говорит: это свет-неу-жели.
Я, которого нет, говорит: бытие чтоб продолжилось в нас
давайте плакать от умиленья,
глядя на Константина, что спит за столом и на двух
героев, приплывших издалека, на пожарные бочки,
целуя в темя людей, всех их хромых и увечных,
несчастных, сирых и разных,
каждому говоря: ты царь!
Константин во сне пророчит: космический лифт…
А в каждом шаре двойном двойные как пламя ангелы
поют на два голоса: АЮ, ОА.
А я, которого нет, говорит: блаженно дело твое Филоктет,
и живы сирень и звезда твоя, Константин,
за окнами рыжебородый мужик держит коня,
а ночь наглоталась огня,
и слава героям, вы дайте мне выплакать грех.
Дух нетварный живет здесь во всех,
и чайка в небе кричит
и пароход по морю гребным колесом стучит,
а втулка его молчит.
И Одиссей говорит, к черту все, забираю я лук.
А Неоптолем говорит последние слоги:
давайте по воздуху плавать,
дышать и петь, и рыдать,
и в истину, словно в ночную кровать,
ложиться и тихо о мире плакать,
и в воздухе жить
и нюхать фиалку
И я, которого нет, говорит: нас нет, но наши ауры,
в них воссоздастся тело,
как пламя в фокусе согну́того стекла.
Виолончель сирени пела
с себя снимая тени трауры
и, цельнометаллическая, на Луну летела,
и праведник средь звезд и луж
ходил и плавал…
[1] Неоптолем и Одиссей приплывают, по версии Софокла, на о. Лемнос к Филоктету, чтобы обманом завладеть луком, стреляющим без промаха, который достался ему от Геракла, доверившему Филоктету поджечь его погребальный костер. Калхант предсказал, что без этого лука, греки не смогут покорить Трою. Филоктет был высажен на необитаемый остров 10 лет назад из-за раны, полученной им от змеи во время жертвоприношения, который греки совершали в священном участке Аполлона и распространяющей нестерпимое зловоние.
*
Бабочка порхает в неподвижном воздухе.
Луну с Армстронгом, Луну с Ли Бо.
и следователя ГПУ, вишневые сады,
Марс и Венеру и Одиссея с Диомедом
распадаясь салютом, роняет к земле
Ракета летит, одинокая, в небе,
РАКЕТА
ДВОРНИК
Внутри большого парохода
парит и спит в пространстве роза,
и волны выпуклы как лоб
а с неба след аэроплана
уходит, как кружок стакана,
на розу смотрит он, сходя.
На нет и роза тоже сходит,
а пароход по речке бродит,
Мессия неизвестный что-то
неслышно из цветов поет
про то, как мир сошел с основы,
как роза, как кружок стакана,
и книжки тихо распахнутся,
и меж страниц цветок стоит.
Потом он в небо долго смотрит
и дворник рядом тоже смотрит,
как исчезают вещи мира –
и между глаз звезда горит.
ПОЛЕТ КОНСТАНТИНА
Константин по воздуху бежит,
в бицепс воздуха он вдет, как лампа фонаря,
как центры эллипса,
ему в уме светло и верится,
он бицепсом неправду победит.
В мире аур жил он и живет, хоть и не знает,
и как мышцей, аурой влечется к небосводу,
голубь вдалеке от стаи здесь летает,
Константин курлычет и ныряет,
в тысячу зеркал, в речную воду.
В воздухе огромные шары
стучатся друг о друга
в воздухе Ахилла пронесли, как мертвый Боинг.
Спит в земле вчерашняя подруга.
им легко теперь обоим.
Куда лететь седому Константину – к звездам, звездам,
он подлетает к пароходу, где гулянье,
Ахилла здесь забыли и не помнят
ни глаз его сирени, ни рыданья
на берегу пред матерью-Фетидой.
Он в небе в черных, как рояль, носилках,
и воздуха трещат от груза половицы
Воздух сыплется в своих опилках
Над гуляньем пропадают в небе птицы.
Пение смолкает и гармошка
замирает, словно бабочка в морозе,
и тела на палубе лежат и исчезают,
как в азоте жидком и наркозе.
Константин летит туда, где горизонты
все прозрачней, все ясней, все нестерпимей,
свернуты Уралом с Аризоной
в трубку картой, и один Вергилий
все еще поет о пламени Дидоны,
и все вещи тают словно пудра
на ветру.
Но Константин летит – туда, туда, туда
летит туда, где новой жизни утро
жжет в серебре хрустальные флаконы.
*
с нимфой Сирингой на русском поле
с морозом и снегирем на ветке
курлычут по-немецки мыслят по-русски
летят сужаясь как клин журавлиный
немецким коллегам – их голубые конверты
письма Шершевскому, Герману Оберту
ПИСЬМА
ИМЯ
пустая баржа плывет по реке нет движения в ней
пустая пролетка скользит по улице ночью – тихо внутри
когда бы баржа пристала – ослеплена
ее красотой была бы окрестность и все
пали б от радости на колени
и слезы скатились бы в пыль
если б пролетку кто увидал – стал бы святым
блаженным и с флагом пошел бы в сиянье
есть имя у баржи – не «Градов» иль «Пенза»
есть имя, какое
она в тиши сама тебе скажет
а ты ей прошепчешь свое – ваше общее имя –
имя баржи, твое и Творца
и ангела твоего и если
сумеешь смолчать, поймешь –
это имя Вселенной
когда бы баржа пристала к фиалке
к зеву собаки
ко лбу старика
к причалу в бензине и лепешках навоза
мы бессмертными б стали
мудрыми яко змии
разумения паче
мы возлюбили бы коней и людей –
их как фиалка синие глаза
мы плакали бы и смеялись
вместе с осью земли, мы прошли бы по ней, заключенной
меж траурницей и махаоном,
всем завершеньем ее, всей последней йотой
пустая баржа плывет по Оке нет движения в ней
пустая пролетка скользит по улице – тихо внутри
Богословие слуха
СОВСЕМ УЖ ВОДЯНАЯ СТРУКТУРА
Самое интересное происходит в пригороде зрения, на дальних поездах внимания.
Нечто случается – заставляя максимально забыть о цели визита и просто расплываться снова и снова, пока не превратишься в совсем уж водяную структуру с расходящимся во все стороны нимбом.
***
семейное древо воды – вплоть до потопа, да и потом тоже
[...]
остов листвы его – соединение точек-капель, образующих остров
[...]
из одной капли уксуса и искýса прострутся ветви конструкции древней, чтоб веры коснуться
[...]
шок и порыв в руину – к той колыбели необыкновенной, где собачий лай из крана: невроз дров и охры одышка
[...]
водяные детальки в перспективе скосов и срезов: гранулы зрения сгорают долго, сдвигаясь с рельсов, движимы долгом перед огромным лесом –
[...]
хочешь, лейся по брёвнам, здесь я подробно останавливаться не буду, моё дело – песня
её и пою в ожидании чуда
***
хорошо под чужим прицелом на свете белом
стенки сосуда на прочность пробуя
думать: «однажды сменю эту робу я –
разъединюсь с телом
соединюсь с Целым»
и когда ты пишешь: «у меня с собой половина покета молока»
я плачу над тем как легка
обязанность жить под чужим прицелом
на свете белом
от звонка до звонка
ИЗ СИЛУАНА АФОНСКОГО
пытаясь согреться молитвой повторял даруй мир Твой мир Твой но слышалось мёртвой уже на второй раз и на третий и на четвёртый все то же и тошно как будто стало от слов хороших и очень конечно глубоких
оставь всё плохое в покое забывая скорби земли и молитве внемли́ или вне́мли да в нём ли дело вообще в этом гóре земли или в чём объясни
точно торжество какое развернулось на моих глазах предо мной как на передовой и шепнуло кровь не смыть от крови не смыться
кровь не смыть
от крови не смыться
печальному сердцу земли видно нравится колотиться
Господи даруй мир Твой
людям Твоим
Твоим убийцам
***
хнычу обо всём по порядку:
богословие слуха
злоба грызёт изнутри – снаружи нарастает нагар – ну же, что за желание ты загадал? в этой стуже звонит каратал спрятан в неё как в подвал, повторяет ноту одну и ту же
сквозит, сушит бывает и не такое –
не передать словами, не найти лекарства
[…]
на последней паре избежал конвоя, не дождался царства
[...]
никогда не сбывайся
с такими отсветами ответы попросту ни к чему
МАМА / ПИХТА
Как они ей говорили?
замечательная или spectabilis?
миловидная или amabilis?
грациозная или gracilis?
Может даже – в шутку ли, в порыве самозабвенной родительской гордости –
великолепная великая
magnifica grandis
Как она говорила мне?
«Что за дело будет тебе до мертвых игол в создавшем тебя перегное!..»
когда закат бывает тих и розов
мои ветви грезят
о ней, о них
***
лоб занят прощальным лобзаньем, осталось касание усталости,
алых губ потайной мороз
я вызвонил озноб колким пёрышком скинутый – оказалось, его зов заразен
скоро чётки достану недетские из-под бóльшей из зол, тлеющих в роще
тихий ропщущий зов, брошенный в частоколе листов
***
я перемазался продираясь сквозь темень
к белому свёртку на обочине
пока *звук отчаянья* которому не подходит ни один термин
сочился в воздух не давая звучать всему прочему
палка палка огуречик тишина
вот и вышел человечек из окна
тут конец ознакомительного фрагмента, но герой встаёт на ноги
2.
всё таки интересно, кто первый придумал
сводить счёты с жизнью жизнь в данном
уравнении является только разменной монетой
всегда ею и является, потому
раньше клали монету в рот
мёртвому
3.
сердце полнится смертью – и Слава Богу
катафалк с одуванчиками и листвою
хорошо бродить по свету
с провалившейся монетой
за щекою
***
1.
ну и конечно должно быть иное измерение в этом всём (зрение вообще не при чём)
оставим прения и начнём запрягать колесницу внимания – пройдём расстояния до растворения.
2.
вот уж точно – не получилось
а что как это высшая милость к которой не привык
вот и дрейфуешь как материк
из четырёх букв
***
а что как воскресшие руки не смогут обнять
расколотое естество в половину пятого
или в половину седьмого
ничего такого в рукавах не спрятано
ничего такого
по сравнению с тонкостью
тугоплавкостью ковкостью колкостью
старого материала который душа растеряла
все временные координаты нужны лишь для вида, для рифмы на худой конец, а так – бесполезный ворох
интереснее свечение на другом конце
самодельного средства для переговоров
ИЗ ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА
Повторяйся, пожалуйста. Есть слишком важные вещи:
волновая природа снега
тянущийся зелёный холод в осцилляторе советского синтезатора
это выше чем честность чем искренность
частицы снега приземляются на водную гладь
нотных линеек
есть слишком важные вещи
*
*
повторяйся пожалуйста
***
я сначала решил что ослышался
долго стоял отнекиваясь
и тогда прямо в руки мне осыпался
набор букв, образующий слово некое с
непереводимым оттенком смысла,
без приставок / суффиксов / корней:
*словно кто-то долго смотрит с мыса
в даль – не концентрируясь на ней*
***
вдохновение Пушкина не то что о нём принято думать стихи свободно потекут ещё не значит хорошие стихи свободно потекут сам Пушкин начисто никогда ничего не писал хотя и был потомком двенадцати святых
*
План на выходные – взять в библиотеке увесистый том с перепиской Пушкина и Серафима Саровского – это многое бы объяснило я уж молчу об увлекательности такого чтения
***
теперь домой жизнь выдалась не Бог весть какой, зато есть покой и срываются с веток боль и бодрость в порыве света – ныряя под своды подземного перехода, дышат преображённой природой бетона полутона
[...]
в свете цепком мгновенным слепком просыпается краска все произнесённые слова всплывают со дна
[...]
прощальным прозрением тонко смеётся мелочь в карманах/картонках попрошаек, тишине не мешая нисколько
теперь – домой
***
отмычки мы чтим – но не больше чем тмин мечты
когда одним порывом смыты черты смуты и все вокруг на «ты» с мутной мелодией которая как ветрянка:
рьяно зовёт нáс с фотиками наперевес
с лицами в йодной сетке
дверь вскрывая в конце концов
самого важного не сказав –
перебирая снимки
***
капелька крови как сфера с моделью Божьего Града – с градом снег вперемешку, такая награда а я-то
пишу венок сонетов к ране – к ранней заре, «которая втайне»…
впрочем, к чему это? – мучать себя и прочее, кому это нужно?
лучше отпустить вожжи, вот же оно, тут, готово сказать маршрут, только и ждёт случая
Божий Град в свалявшейся простыне – восстановление природ всех вещей
облако вмещает в себя небо, а не наоборот
при таком раскладе – зачем мне небо вообще?
***
– цвéте, печалься! – притом чревато тусклее, чем когда мы были детьми и не собирались отчаиваться
когда языки сплетались в ошибках любовной речи
верб verb (верб глагол) камней stone (стон камней или даже камень камней – как песнь песней)
когда подбирали слова без оглядки: не резко ли?
и с радостью кричали друг другу «тварь» и «мразь»
имея в виду лишь творение и мороз
в нас отражающиеся как в зеркале
С другой стороны А
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ А
поэма
ПРИЧЕТА
О да! Меня зовут Дофф–ин
в честь театрального режиссера –
он умирает на синем диване,
смотря как любовница карла второго играет Гамлета
его нежная кожа
рождает цветы и бутоны
и нежные лица женщин смотрят, как он взрывается розами
Умильно!
сколько лет я прожил среди книжных историй
когда наконец пружина рвотного рефлекса вытолкнула меня
О да! Меня зовут Доф–ин
в честь потрепанного носка в ботинке
меня зовут, как звучит смычок
смакуя струны контрабаса
я натягиваюсь как вода,
когда крысы переплывают реку
и голубой изгибается до серебряного и обратно
*
Вот он мир!
овеянный и осязанный
лежит
и тень крыла скользит по гладким травам
в изящной птичьей клетке его пальцев
живая власть
как воздух в легких храма
МИР ТЕБЕ
в шатрах подземного метро
все на что падает взгляд
птичьего короля
некогда слуги татарского но теперь
вольного владыки всего
а куда не достигнет взгляд
те закоулки страшны
там рождена была Ангел
несколько кож срослись в единый покров
и она стала нежной
как ящерка или змея
МИР ТЕБЕ
сегодня он предложил расстрел для Ангела своего
она пишет новую родословную для него
непарящего-над-простором-стервятника
Ангел его смотрит прикусив язык
– теперь говорит он, в своем рекурсивном сне
первая половина наконец обманула правую
последний друг лежит в теплой земле
гостеприимной и царственной
над станцией метро
ИМЕНИ АНГЕЛА МОЕГО
*
НА КАМНЕ ИМЕНИ ЕЁ
ДА НАЧЕРТАН БУДЕТ АЛФАВИТ
И АМИНЬ
И ДАЛАЛЫНЬ
И АВЕ
В ПЛЕНУ РОДОВОГО ПРОКЛЯТИЯ
во сне королю является Ангел
и ревнует его и просит его отказаться
и даже говорит, что она – мертвая наследница всего
и просит его отказаться
он предлагает казнь для Ангела своего
но в этих владениях он бессилен и лицо Ангела его
теперь лицо черного татарина
и вместо одной головы вдруг вырастают две
ему нужен целитель-шаман-палач
герой способный проникнуть в тайны другой державы,
властной над ним и подчиненной только капризам Ангела его.
лоли а
что ты знаешь
о семейных тайнах
родовых проклятиях
детях гениев
его дыхание было сбивчивым
а рельеф лица – изменчивым
он мог двигать театральные предметы телепатически
так, что глаза гениальных зрителей дивились
ОЗНОБ ВИЗУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
– вот их ноги тонут в высокой траве
они взбираются на холм
если он побежит, ему не догнать
если он притворится мертвым,
совсем утонувшим
в ручье в цветах
ему нужно подумать
но подумать – значит повторять
– если это случится, кем буду я?
одиноким Нимаймэ, принявшим смерть за девушку
или
ласточкой, увязший в ловушке травы?
ответ напрашивается сам собой
я, это я и есть – его допельгангер
– замечает он, просыпаясь в чужом поту
его рот наполнен ощутимой слюной
про него говорят
он – лисица в курятнике
он – иголка в стоге сена
его зовут Решар
он – полицейский
он поправляет ремень и говорит,
что есть только смерть и верность
по лицу его пробегает тень
по очертаниям, как черная собака
РЕШАР
Влюбленный в мрачную сестру,
он боится,
внезапного рождения собственного светлого брата
где твоя радость?
и почему ты больше не веселый, каким был в детстве?
говорил он себе
до того, как нашел её – Оригинал Офелии.
ОРИГИНАЛ ОФЕЛИИ
В руках окурки
и лилейные пестики наконец-то
мне приснился настоящий фрейдистский сон!
(отец одет в красное платье памяти
он останется там как свежая кровь
отплывая с губ теплым воском)
Я не хочу!
– умирать поглощаемая постелью, как нежная устрица
острый деликатес
у моей сестры дневники написаны от руки
с деталями скандалами и жизнью
длинной в террористический акт
сестра знала
что деревья дышат,
дома потеют,
а полотна – кровоточат
она писала историю мертвых,
под прищуром стыда
она знала слова,
которые учат дети,
оставаясь наедине со змеями
РЕШАР
Сегодня, именем народа, король предлагает казнь для художника, который побрился жестяной банкой от кока-колы напротив собора святой Софии.
– мрачен мир, что спрятан под землей и от наших глаз
– король подземной державы сегодня бледный, как простыня
– …при том постиранная… сотню раз, по крайней мере. Он исчерпал себя и это
понятно
– Зато смотри, его советник. В войлочном шлеме, весь в красном как печать.
Злоязыкий змий
– Таким и должен быть советник. А где она?
– Его дочь? Патологическая лжица. Плод от древа своего отца. Она, говорят, мертва
– Его дочь… нет… его младшая дочь
– Его дочь – коломбина какой-то небесной барышни.
– Я бы хотел её в королевы…
– Ага, шекспировскую Офелию. И запретный плод
– А убитая что?
– Мертва. Теперь умирает её сестра, должно быть разорят морские глубины и украсят ее ракушками, а меня вот застрелят сейчас, прощай! Проституированный орган ты голова. Стыд обладает зрением. Это так. Интересное дело, публичные казни.
Решар отворачивается, он знает, что быстрая смерть по ощущениям как прохладный душ (но не переносит даже вид боли).
ПЕРВАЯ ГИПНАГОГИЯ РЕШАРА
Привет, огнеупорный дутый увалень.
Тебя как зовут!? Что значит имя Решар.
У ТЕБЯ ПАРОВОЗНЫЕ НОЗДРИ
МНЕ СТРАШНО ВГЛЯДЕТЬСЯ В ТЕБЯ
ЛИЦО ИЗ НОВОЙ ПОСТАНОВКИ ПУШКИНА
ОТОЙДИ
Я НЕНАВИЖУ ТЕАТР ВСЕЙ ДУШОЙ
НЕ СМЕЙ
НЕ СМЕЙСЯ НАДО МНОЙ
Я не понимаю тебя
Я только подмигиваю
шур-шур – так звучат мои ресницы
А ТВОИ СКРЕЖЕЧУТ КАК КИШЕЧНИК
мне не приятен твой портрет
не надо меня спасать не надо есть
не надо меня не надо
Если ты дракон – узнаю тебя
ты уродливый как герника
ТЫ НАДОЕЛ МНЕ
ПРОСТИТУИРОВАННЫЙ ОРГАН ТЫ ГОЛОВА
НОГИ МОИ НОГИ, КУДА ВЫ ДЕЛИСЬ
ОТСОХЛИ?
ЦЫПЛЯЧЬИ ШОРОХИ КУДА МНЕ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ!?
У МЕНЯ ВВАЛИВАЮТСЯ РУКИ В БОКИ
перекличка
мне нужна перекличка
лоб?
морщинистая ты жопа
ты на месте?
да нащупал – вот ты где
глаза!
дутые вы мужланы
вот они
нос!?
вместо тебя болотистая местность
так и было? или ты урод ускользнул
КАК СОБРАТЬ, КАК СООБРАЗИТЬ
ВТОРАЯ ГИПНАГОГИЯ РЕШАРА
Ты прозрел
и теперь
глотай свои слезы
как синее вино
из под черных век
актрисы немого кино
с животным выражением
страх перед зверем
теперь становится ужасом перед крупным планом
перед киноэкраном
в одной комнате
с зеркалом
с проницаемой изнанкой
теперь я
буду глотать твои слезы
как будто живая женщина
ТРЕТЬЯ ГИПНАГОГИЯ РЕШАРА
я смотрю
корабль шевелит волнами-губами
он приближается ко мне
женщины улыбаются как в фильмах
перегибаются через перила
и я могу
угадать имя каждой из них
в фиолетовой рубашке лобби-бой
гнет самокрутку о подошву (может о подметку только)
я и сам готов,
но запинаюсь о тревожное лицо Офелии – что-тебе?
она, как ей кажется с нежностью,
но на самом деле цепко
хватает мои волосы – Решар!
хватает бабочку-мочку уха
– стой!
локоны дам взрываются
шляпки взлетают в воздух
корабль взметнувшийся в воздух
теперь цеппелин
– я отвлекся!
за поворотом скрываются фиолетовая рубашка и преступница с книгой в руках
с другой стороны, мне известно, что правда жидкая и находится под языком
ГИПНОТЕРРА РЕШАРА
Потеряв под ногами землю он останавливается
остается с небом один на один
Ангелица трогает кольцо
прокручивает его на фаланге
она говорит, как устроено пространство
– неэвклидова россказня
красный сон
в ее глазах печальный огонь двигается эротично
как любовница диктатора (во сне она видит себя старухой)
внизу алеет прозрачный воздух
еще один визуальный трюк
Ангел (любопытная, как вопросы к чужой культуре)
– что ты ищешь?
– я не люблю небесные иллюзии, я ищу манифест длинною в исторический роман. Где сказано: пение птиц создало медицину и прочие радости бытия.
– там сказано другое
тело в мире грез есть мост
дерево перекинутое с берега на берег –
путь для осторожных ног
– тогда река?
река-метафора
на интерсексуальный жест
ПОЭТЫ
поэты казались размером с наперсток
я указал на них
каждый
держал за черной вуалью
лицо поэтессы серебряного века
т.е. бледный лик
каждый
был готов потерять дар речи
и только ждал
***
когда она
знающая птичью когницию
сказала
– ты считаешь себя хорошим человеком?
***
– я называю себя архангелом!
у меня
лицо новой эпохи
т.е. открытый рот
***
Второй поэт спокоен,
его чураются
он билингвый
с лебединой шеей
смотри и слушай
– на староанглийском это звучит!
***
– Почему же хульство?
Почему не кощунство?
Сказал поэт с лицом-кириллицей и умер от чахотки
***
поэты стояли на розовом снеге
я указал на них
на языке вертелось
одно и то же слово
но они врали,
что не могут подобрать слова.
Равноденствие
***
В этом месте его построили, потом забыли, потом умерли и те, кто построил, и тот, кто забыл. Но умолчание не прошло ему даром, так медленно он выращивал в лабиринте шестиугольные комнаты. Ничего не переделать, Фивы опять устоят, вычеркнутые из повторений и списков. А тот, кто отнял речь у Минотавра, не опередит сам себя, определяя жесткость воды, прочность дождя, размывающего эти стены. Но не спрашивай у хозяина Алефа, что за мир лежит в ящике его стола – этот город и этот день – случайность и моментальность точки посреди предложения. Зрячие пальцы у края стены отпускают в темноту вощеную бумагу с мертвыми письменами.
***
Огонь сворачивается внутри себя, город уходит вглубь. Растворяя окраины, как круги на воде. Чтобы написать свое имя, тебе его надо сначала придумать – вместе с другими именами. На камнях вырастают иглы, раскрываются в воздух и мгновенно стареют, теряются во времени. Кто теперь его хозяин – после пяти лет отсутствия? Даже строчки электронного письма становятся тоньше и бледнее, и скоро совсем исчезнут, когда закончится время памяти о письмах. Такое расстояние – исчезает, приближается к тебе, как нитка, источенная молью. Тебя съедает время, а пространство нам не помощник – ты в трех автобусных остановках – на другой стороне земли – да хоть вне земли. Исчезая медленно из прикосновений.
***
Ждать со знаком плюс, со знаком монеты, подобранной возле вокзального автомата. Падать, наполняясь водой. Ржавые рукава берегов тянутся за тобой до самого дома. Убегая в и над. Чем она выше, тем старше платья у ее коленок. Сгибая улицы бумажных самолетов, учить слова монгольских языков. Она идет справа – правильная, как учебник грамматики. Полосатые дома притягивают дымом этажей, туманом стен, пятясь и покачиваясь – уходить в землю проще, чем вить гнезда на проводах.
***
В это время года она повторяет прописи его губ, не пытаясь исправлять опечатки предыдущих редакций. Все прописные заменены на строчные, которые он не замечает. Язык вычерчивает их внутри рта, не успевая произносить те, что не стали необходимыми. Ее сопротивление не дольше края страницы, которую он разрезает пополам, потом еще раз, упираясь пальцами в воздух. Она говорит, что это правильный вариант, местность изучена и забыта, топография соглашается на неизбежную коррекцию. Кухонный чайна-таун, рисовые колобки и коричные палочки, зрачки не хотят вспоминать о том, что прочнее льда и полюса.
Он остается в перечислениях, в черных строчках, перевернутом зеркале. Когда она уходит, поворачиваясь спиной, сворачивая египетский свиток и трамвайный билет, ее рот полон чтения, о котором она не скажет дома.
РАВНОДЕНСТВИЕ
1.
от такой ли простуды до берега,
до пальцев ее прозрачных,
зрячих щиколоток.
укусом молчащим
штопает она справа налево
лодкой ржавеющей
цепью – за небо
разматывать якорем
твою душу
спи в декабре, дате, синем кружеве юбки,
запеленавшей
коралловый миф
2.
сон шуршит, мышь закрыла глаза
солнце рукой левой остановись
ниже – к воде – скажет тебе нет
скажет потом если услышит речь
лодку в борта толкает седьмой песок
не отвернись, выпей ее, усни,
он отворит
дверь из кривых досок,
уговорит
и расклюет корни и дни
длинных наречий в сомкнутой чешуе,
плавятся соль и сера внутри горы,
лучше уйди или глаза закрой
лед обменяют тебе на мертвые пятаки.
3.
он не о той,
что отданная стрела,
и не с тем,
кто возвратился сухим веслом,
в его башмаках
скрипит время песочных часов,
рыба в сетях из трав,
гвоздь в деревянном щите.
спишь на щеке, щетиной упершись в зенит,
кто звенит –
ее веселит –
в плаще, в рукаве?
ключ в кулаке или опять твой щит?
***
Не успевая за этой солью – не добыть ее убывание черен[п]ки звона вмятины пальцев тянут воздух грубых горошин по спине книжной арки.
Тут бы и вылеч[п]ить глину от рук стряхнуть вровень белым точкам и квадратным часам. Как дышать без передышки, завинчивая толстое стекло с обеих сторон марлевой медали а ржавый жар в[п]ливается в деревянную вертикаль.
К падающему прислонись стеклом и падением помоги. Теперь как в воде будешь держать что там еще кроме того, что есть.
***
Это камни, которые начинают бросать в тебя камни. Дерево не горит, не плывет, врастает в стену, врастает в раму, и вырастает, переставая оставаться и таять. Крошить и плавить края и раковины, выпавшие из всех морей в ржавые банки консервные, а позвонки дверей ломаются в пальцах. Как катится зерно по млечному пути, чтобы потом расти там, где он свистит, где виснет рядом с клавишами и выстиранным бельем в твоем зрачке. И вмешиваются листы разлинованные и листья с точками и червоточинами, выбери себе шрифт и сотри его.
Он уйдет, заранее пересчитав слова, на крыши, и выше, и лишнее свернулось в себе самом.
***
Твой адрес никогда не остается прежним, так легче удирать от всего, что не твое. Дуть на воду, перебирать воздух гусиными перьями. И не просто точка, так до тебя дотрагивается вечернее слово, потому что ты еще здесь. Выходит из сна и никак не кончается, мертвым воздухом дышит, бесцветной игрой, ты пытаешься думать ночь дальше неба и всего. Какого цвета ты можешь вспомнить, чем будешь вспоминать. Было бы оно точкой или мыльным пузырем – как попасть на изнанку его глаз, если смотреть сквозь небо. Как тебе не стать молчанием, отвечая на темноту. Так вертикально и спокойно чертит свой путь летучая мышь, роняя острый угол. Приходит на голос предметов, смотрит всегда мимо, что дать тебе из того, что еще не твое и никогда твоим не будет. Когда сильнее воды сожмет – что ответишь? Себя не удержишь, стоя на мосту, подбрасывая в небо паутину, идти по темным лодкам, чтобы свет тебя не догнал. Кого отражает твое зеркало, если эти камни растут из земли?
***
На другом языке остается только темнота. Зрачок перебегает из ночи в ночь, оставляя для зрения написанное на обороте стрекозиных крыльев, гончарных крыш, между замком и ключом. Рыба, плывущая сквозь Атлантику, помнит расстояние золота и дождя, хранящееся в руках вещей и окон. Он живет в тени воды, не отвечая на вопросы, с карманами, полными ветра и травы, он говорит: нет, и ничего не случилось. Это всегда удавалось ему: сначала серое море, потом твердь, обычная пыль послесловия. Он не знает, почему произносит эти слова внутри прикосновения, и не уверен, что знает что-то о любом из тех языков. Сплетает тень по кружению черных и коричневых, как будто нумерация страниц возвращается к карте интервалов, рисуя пробелы на полях и координаты запаздывают, мешая прочитать обещанное. Молчание задерживает дыхание, опасаясь говорить, как города играют нашими снами. Он выбирает смотреть – эти лодки втекают в бездорожье. Эхо фразы, которую ты мог бы сказать в исчезающем пространстве.
Разговоры
ЗДЕСЬ
студёный сон длиною в тропинку,
и мы гуляем.
— кажется: ещё шаг, и ты исчезнешь.
— не бойся, я обещаю быть здесь.
статуи львов по обе стороны вздыбились,
у них алебастровые спины,
они научились вылезать
из своих железных костей
и в гортанях носят скомканные бумажки,
исписанные буквой «р», —
начертание-речь.
маленькая я не умела говорить по-львиному
и только лакала слова.
взрослая я выучила их рёв наизусть.
но вот
припухлые веки зимы
размежевала тревога,
и львы выворачиваются речью наружу,
и тропинка обрывается на полуслове.
пространство сна разбужено,
и кто утешит его теперь, кто расскажет
сказку о козе прозрачной, знающей
названия всех снежинок?..
«здесь» в глаза пустоте вмерзает.
«здесь» вызванивает темноту.
«здесь» моё любимое слово, оно
всегда рядом.
стихотворение — это сон,
в нём возможно всё и всё — несбыточно.
бесконечный человек сказал:
— «здесь я люблю тебя» [1], —
и его слова не остывают
даже среди этого холода.
я же люблю тебя всюду,
но только здесь ты отвечаешь.
[1] Пабло Неруда, «Я люблю тебя здесь...» (в пер. с исп. Мориса Ваксмахера)
НЕВЫСКАЗАННАЯ
а
– Геннадий Айги,
«Спокойствие
гласного»
если её представить, она застынет
оленицей воды.
ветер уснул в кресле-качалке её рогов,
и в воздухе мёрзлом
белое стадо беззвучно бредёт, удаляясь.
горбатые ёлки с мозолистыми ногами
вслед ему смотрят
и трухлявыми языками елозят.
сами они только призраки сухостоя,
и я вместе с ними.
но её одну
мне не окликнуть,
не различить вдалеке — дрожащую в сумраке тугоухом,
разметавшую прохладу копытцем,
хрупкую, веткозаветную, —
в ворохе таких же,
но других.
беженки в долгом просторе ночи,
все они знаки своих потерь.
я вглядываюсь в них
во имя неё одной,
но вижу:
. • .
• . • ✽ • ❊
. ❆ . . • .
✥ . • ✺
✤ • . ✾ . ✵
. ✱ • ❈
• ✷ . ✲
. ❅ . . ✦ . . •
❃ . • ❋
. • . .
так они отвергают
мой хромоногий язык.
ёлки не знают,
каково это — медленно двигаться в тишине,
не оборачиваясь.
сердца их скрипят.
но скоро
и на их плечи ляжет
обеспокоенное молчание.
РАЗГОВОР У ИЗГОЛОВЬЯ
78. Моя любовь, моё облачко,
переназови меня, перезвони
– Марк Стрэнд, «89 взглядов на облака»
близорукая грусть,
в то утро
под колокольные разговоры
ты вставала с постели в измятой одежде вечера,
пока за окном облака
с курчавыми животами
ещё ворочались в полудрёме,
и казалось — они вот-вот
свалятся с неба.
( бегущие формы, )
( существа вымысла, охваченные
белой грёзой разрыва, )
( каждый раз не угадываешь, какими
они окажутся )
( по пробуждении ).
( об )
( их фигурах я думаю иногда, )
( как о древних постройках, покорившихся ветру истории, )
( в воспоминаниях они остаются монолитными, )
( но душа их давно )
( обветшала ).
( о-бла-блака
разоблачённые, )
( замысел, вложенный в них, )
( может быть каким угодно ).
( пространства для всякой речи, )
( они и не подозревают
о величии )
собственной пустоты ).
близорукая грусть,
как и они,
ты всегда остаёшься тайной,
даже если о тебе говорят
в шумных застольных компаниях, — ты шёпот
и губы в окаймлении пальцев.
не спрашивай, если захочешь узнать,
никогда не спрашивай о значениях слов,
тебе не расскажут правды.
слова признаются лишь тем,
кто разуверился в смысле.
в самый последний момент они
договариваются
до нежности.
— ты видела пену, влачащуюся за уходящей волной?
— укажи, — (прикажи мне увидеть).
вот, что такое
жертвенность и вера,
отвергающие любые попытки
сказать о них в слове.
и всё-таки, всё-таки
словенна будь, близорукая грусть, будь высказана.
я не вижу касаний на границе кожи и кожи,
не вижу ничего, что убивает эту белую грёзу, облако, пену.
— всё бестелесное безвинно.
я не вижу, и в этом спасение, в этом
твоя зрячая радость, о близорукая грусть.
ты — моя.
и ты — о большем, чем ты.
на самом деле я вижу всё.
видеть сны особенно больно,
но ты, близорукая грусть,
ты бессонница боли,
и поэтому взгляд отступает,
когда вечер вновь настигает мою постель.
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ АО
1. ПОЛДНИЧНОЕ СВИДАНИЕ
заговорщицы, мы выдумываем удовольствия
для наших непризнанных тел.
— давай устроим полдничное свидание
и оставим вечер в дураках!
близорукая грусть надо мной смеётся.
она говорит: всё телесное виновно.
она говорит: кому ты пытаешься доказать, что желанна?
взаимность брезгует
сидеть с тобой за одним столом.
ты жалкая, когда просишь нежности.
ты жестокая, когда пресекаешь нежность,
и всё же
лучше быть жалкой, чем жестокой.
я бы хотела возразить ей,
но у меня отнимается речь.
тебе нравятся вилки с туловищами кальмаров,
мне нравятся отвратительно длинные ложки
(чтобы помешивать отвратительно длинный чай).
все глупости теперь такие ценные.
я хочу только
пить из твоих коленных чашечек
и ни о чём не думать.
пыль, облитая солнцем, ходит по кухне.
моё бесстыдство цокает языком.
горделивый июнь нос задирает разбитый.
наша россия осунулась после весны, и скоро
нас всех объявят вне закона.
— мне не страшно
поцеловать тебя на людях, — скажешь ты,
улыбаясь.
а мне страшно
не поцеловать, ведь тогда
это бы значило, что я
по-прежнему люблю, и это не ты.
как можно сказать такое в ответ?..
2. ПРОСМОТР СПЕКТАКЛЯ
когда на границе моего внимания ты
впервые вздрогнула,
внутри я вздрогнула вместе с тобой,
из душной комнаты вышла в продрогший сад,
оставив позади
«пудру, грецкий орех» и другие
маленькие слова, выпавшие
из памяти, — их я не вынесла,
спрятав в стихотворении,
их не смогла уберечь, —
а, выйдя, увидела:
по продрогшему саду дождь разгуливает.
дрожит мечевидный локоть прозрачной руки,
иссиня-чёрный бутон прикрывает
стебельчатую ножку, — ещё не ставшая радугой,
здесь ты дышала и цвела.
и как будто
дождь наступил на тебя, — придавил ненароком
ирис к земле, — и дальше пошёл,
пока ты медленно выпрямлялась — так выдувают стекло.
тучи разлеглись на траве — это лужи
передразнивают небо.
когда настанет пора возвращаться в душную комнату,
переступая порог, ты разденешься.
иссиня-чёрный ирис соскользнёт с твоих плеч.
белые овации,
пурпурные поздравления,
горечавковые восторги — всё это искусственные цветы;
в ответ на прикосновение
они шершавятся.
когда касаешься живых цветов, чувствуешь:
у них в лепестках стынет кровь.
3. ОЗЁРНИЦА
альберто мьельго не знал,
что бывает и так.
она поднимается из глубины в хрустальной чешуе брызг,
у неё золотые волосы,
в глазах — мутная вода, мутная вода.
— ао, — я зову её
гулким эхом, затерявшемся в синем лесу.
многорукая рыба в рукавах плавников
тысячелетие памяти носит за пазухой,
и в каждом её движении — звон боли,
и мутная вода, мутная вода плещется
на глазном дне.
сколько мутной воды в слезах оставленных?
самой чистой воды.
она мои ноги омыла
от песка,
и они разучились стоять.
если бог — это женщина (все это знают),
выходит: богиня — слово неверных?..
этот язык отвратителен мне,
речеточивый моллюск в раковине рта,
сцеживающий жемчужины плевков,
он и представить не может,
что лжив.
госпожа озера,
хозяйка изъятой горы,
повелительница слёз,
даруй мне мутную воду, мутную воду
своей прозорливой скорби.
ты стольких любила, пока они грабили
твою любовь.
я не возьму ничего, кроме печали.
ЭКФРАСИС: ПОРТРЕТ ЧАСОВНИ В ПАРКЕ
с синей дверцей и вьющейся решёткой.
всегда закрыта.
её обнимают сирень и акация,
за ней туи по стойке смирно замерли полукругом,
коническое войско, что они охраняют?
какие растения там, в их тени,
цветут для самих себя?
в завитушки решётки вдет пластиковый подсолнух,
в пасмурную погоду он опускает вислоухую голову.
в прошлый раз на пороге подставка для книги
пустовала, а сейчас
вместо слов на неё возложили
ромашку и шиповник (дотронувшись до которого,
я поранилась —
когда касаешься мёртвых цветов, будь готова:
они потребуют свою кровь назад).
что в этой книге неприсутствия написали бы
о чуде знакомства?
рукотворная синева под защитой
зелёногривых великанш,
графин тишины с лицом бога,
встреться мы раньше — я бы не возвратилась
узнать тебя.
БЛИЗОСТЬ+
её нагота ощущается прикосновением тени,
в глазах смотрящего нагота — это обещание остаться...
но дольше оставаться нельзя.
в колготках у зеркала она красит брови и почти готова уйти.
за занавеской
мир подглядывает из ленивого любопытства,
и в стекло ударяется
масличная ветка его взгляда.
как в выхоложенной комнате, во мне
давно поселилось разочарование.
столько прошли с ней вместе,
и в каждом воспоминании она
становилась опорой.
а я ведь и не догадывалась, что на самом деле
мы не были по-настоящему близки,
а это значит, что все стихотворения написаны о других,
и ни одна песня не подавала мне руку,
и слова только притворялись
утешающими.
я мечтала вырасти в зелёногривую великаншу,
баюкающую часовенку на ладони,
бормоча колыбельную на наречии колокольном,
но очнулась и обнаружила
себя,
застывшую на пороге.
при нашей следующей встрече
я бы сказала:
— здравствуй, близорукая грусть,
свои лучшие сны я посвятила тебе.
к старости
ты обратишься в слепоту сожаления
о потраченных впустую словах,
и я не увижу больше
своего сердца — единственного, что было зорким.
но прощание с ней заслуживает тишины.
В прозрачных капсулах

перо – лебединое
сердце-лампочка (criiinge)
это – п е р в о е
б р а к о с о ч е т а н и е М и к р о с х е м
|где бы ты|
между «между» и «между»:
тошнотный разлом в асфальте,
форточка открывается не в ту сторону,
локоть сгибается во все стороны,
ложка примагничивается ко лбу (е д и м р т о м),
поцелуи как облепиховое пюре.
пьём воду (обратный порядок)
в обесцвеченный костяной фарфор.
|но – я бы хотела платье
из тепла твоих ресниц|
АУ
мне…
что?
например, строгий взгляд
электризованная пшеница на спине у тельца
я прохожу все мессенджеры насквозь
чтобы встретить прибор передающий шёпоты
смотреть на пионы в прозрачных капсулах
стоять где стояла
н е п о д х о д и
я скачала богосолнечный мессенджер на все устройства
установила уведомления «гипнагогические толчки»
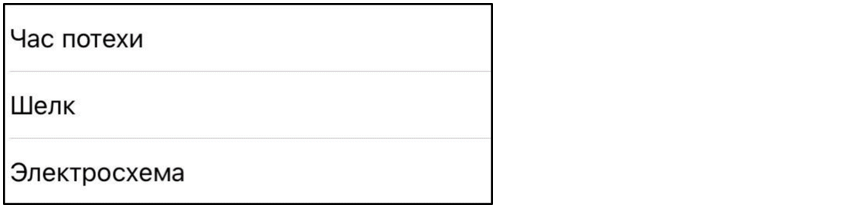
и новое бледно-розовое оформление
(целуя, вдруг скажешь едва слышное в коленку или лодыжку / разве
твои суставы
это не вся ты снова…)
а дальше –
на расстоянии
чат-бот с пёрышком из подушки
чат-рулетка со всеми твоими видениями
ла-ла
***
1.
Сад собран в пробирки, гравий с тропинок загнан в перегонные аппараты
Их пар движется внутри змеевика,
так, может быть, кто-то дышит, когда я собираю его глазами с карты города
Зимние дороги, памятники – слёзный раствор, возвращаемый в слёзные озёра
Чайные розы входят в гравий, минуя змеевики
– прямой пар, дыхание матери
Посреди хвойных деревьев фаянсовая посуда – и только взгляд женщины, меня, возможно:
Здесь любое присутствие обратимо, и я впервые постигаю значение своего имени.
Сказки балета, белоснежный мартиролог,
Снежные кошки-мученицы глодают кости в каждой стеклянной бусине моего платья
Дыхание постигается как поцелуй человека и пресмыкающегося:
от пунктирной линии – до другой – до места их столкновения
Между тремя фонтанами
На подоконниках можно растить цветы, а можно
делать иное, прямо сейчас, когда компас тебя подводит и тикает, как часы, когда моё присутствие обратимо. Хочешь трахнуть галлюцинацию?
Но ты – пресмыкающееся,
и ты мне отвратителен.
2.
Впервые я вдохнула взгляд человека, желая продать ему книгу,
дважды он покачнулся, упал ребром,
Моя голова закружилась, но под ногами
появилась новая почва. Система сенсорной навигации – внутренний ритм «Муравьиной азбуки»
движение будет нежным по линиям напряжения, разбитого мелкой вибрацией,
по сейсмическим указателям, которые дребезжат как пчёлы, и вдруг они входят в тело –
ритм снова погашен содой, я погрузилась в тёмное место,
а конденсат его влаги осел на легенде карты. Здесь
мы могли бы поцеловаться,
но ящерицы спрятались под камнями: я задержала дыхание.
Сверхзвуковые транспондеры, мушки, имплантированные в тело земли,
как паузы в твоей речи, когда можно перехватить взгляд каждого слова, и он более резкий, чем раньше,
так что я прихожу в изумление – это
поцелуй без дыхания, перемещение гравия внутри позвоночника, порошка сухой ивы внутри ствола.
Дальше
я продеваю медную проволоку в стебель растущей лилии, туман выпрастывается из тычинок, выстилается плотным ковром,
блокирует сенсорные системы.
Здесь остаётся только
воображать дребезжание, ползти как ящерица, дышать
и линзы чужого взгляда держать в слоистом растворе
топографических обозначений.
Под тяжестью лунной тени
***
всем, кто вместе со мной застрял в феврале
волны
перелетают на запад
и падают падают тают
и попадают в дома
и земля просыпается на чужой земле
но останется целым взгляд
скрытый под веками, под тяжестью лунной тени
закрывается левый глаз
лев взбирается по лазури будто бы на скалу и вдруг – что я делаю – я хватаю его своей пастью, хватаю за горло
у меня короткие бурые волосы они торчат отовсюду
мне страшно я отпускаю страшно
я вижу зубы остались в глотке они прорастают
растекаются в буквы:
КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ ВОЙНУ? КАКОЕ У НЕЕ ЛИЦО? ЕСТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ?
голос первый: у войны нет возраста
голос второй: она словно стихотворение
голос третий: тот, кто призывает войну, не знает ее лица, а тот, кто встретил ее в своем доме, не знает своего дома
я просыпаюсь, и снова:
февраль
месяц фебрууса, говорят они
праздник очищения
закрывается правый глаз
в этот раз у меня много ног
тонкое тело два слова
теряю я теряю слова
я бегу мы теряем:
[вʌj]... [н'э]... [н'эт]... [вʌj]... [н'э]…
[Н'ЭТ] – огромное гудящее чудище
корм для переносных тюрем
цок цок цок
цок цок
цок
мы
ямы
меня схватили
звоните в овд-инфо
СРОЧНО
я просыпаюсь, и снова
почему мы застряли здесь, в этом празднике февраля, если повсюду
марса жрицы – пролетие, пролития
(про это я ничего не скажу)
конечно же, опускаются руки, и
распускаются руки –
собравшись в бутоны –
от костяшек до кончиков пальцев
наши глаза закрыты, ноги схвачены, кулаки сжаты
но я слышу
третий сон
города провалились под землю, в наших кроватях земля, мы
ложимся в сырость и спим спим спим
и спотыкаем себя
потому что слишком холодно и
темно
слышите?
т т т т т т
идут?
т т т т т т п п п
поэт?
т т т т т т ю ю ю ю ю оо
поют?
т т т т т т к
копают?
копают!
зеркало упало
упали все зеркала
пора
держите осколки крепче, так
солнце
увидит нас, увидит нас
и мы поверим в него
и отстраним февраль с его земляным снегом
нам нужен
март
марс: месяц бурь, капельник, зимобор
*
и мы боремся
и мы не верим в чудо
мы боремся, и смотрим внутрь
мы боремся
мы требуем мира
требуем чуда
***
лицо матери завернуто в волосы
китайские розы
мебель с венецией
зефир
запах крови
война это то что всегда есть дома
война это подручные средства
моя мама спит моя мама-война
долго меня защищала
война это справедливость
война это совпадение
лицо родившееся без кожи
становится войной
война надевает на своих детей
кожу войны
пальцы войны
зубы войны
язык войны
война щедра
война дарит голос вещам
война говорит скажи я
война говорит скажи мне
война говорит
радуйся
семистрельная
мир
это несовпадение
«быть героем» значит «быть ветром»
мир это никого не спасать
мир это голое тело
мир это песня
мир это другое
но полон пляж лицами в человеческий рост
большие лица девушек из дешевого материала
они стоят
тени на песке они ждут полнолуния
когда веки погружаются в воду
и можно смотреть и не смотреть
перестать различать лица
Смеркается вещество
***
я хотел бы смотреть на озеро и молчать,
розовой кровью цветения заживо явь лечить,
я хотел бы вообще забыть свою дуру-речь,
отвернуться в сторону, оцифроваться в ночь,
из голодного озера вычерпать витражи
черных снимков, настоянных на золе,
где навылет сквозят картавые гаражи,
я хотел бы спрятаться за глаза
того, кто вышел за хлебом и прилип к земле.
***
птичьи гнезда налиты влажным ветром,
мы поднимем трухлявые чаши гнезд
за тусклую душечку-речь,
слезный звон под дугой
и червивый налив узнавания…
оглянись, суламита,
на тебя мы посмотрим –
зубы и волосы, шея твоя –
пулеметная вышка, ладони –
деревянные блюдца.
***
обними меня, и увидишь:
убитое небо колючим ртом
поет о чистой субботе.
и увидишь: вытягивается
лицо человека – скорая
несется на юг, мычит сирена.
обними меня и подумай:
это меня везут в больницу,
а я здесь стою на улице,
убываю, как отрывной
календарь с цитатами-
цукатами – «свобода
или смерть». на плоской крыше
сушится плеская простыня.
парень тискает кошку,
прижимает ее к животу.
***
солнце уходит, поваленный ствол
перекручен, как мокрая простыня, –
дерево так бескорыстно мертво,
так оголились волокна его
в свете извивов его и борозд,
что сбывается трещинами земля,
и смеркается вещество
теплой реки, и надломлен малиновый куст, –
всё, о чем думаешь жалостью неживой.
***
они рассыпали гравий
и раскатали
каждый твой шаг…
гравий – это о трудном,
о другой, непрошенной боли…
не теряй дыхание,
вкапывайся в этот бессмысленный воздух,
мертвый учи язык – яблоко, абрикос.
***
выйди нá берег, камушек брось –
он упадет беззвучно… что с нее взять,
с черной воды? ты знаешь ее насквозь.
уезжай куда-нибудь далеко –
там твой крик, как цветок зимой,
там покатится обручем немота
и сотрется твой хлипкий след,
а земля останется пятнышком на пальто,
будут мальчики жечь костры,
говорить о смерти, а смерти нет.
ДУВРСКИЙ ПЛЯЖ
1.
пока мы шли на пляж, я увидал
оливковую фуру из литвы
и желтую – из нидерландов.
но пляж нам посмотреть не удалось,
мы разминулись с римским маяком
и местом, где до нашей эры
высаживался юлий цезарь
и где побило штормом корабли.
мы поднялись на белую скалу,
и собирали ежевику,
и слизывали с пальцев сок.
оттуда всё казалось детским:
куб терминала, фура из литвы,
и говорок диспетчера, и море,
картавый плеск его на мелководье,
и круглый берег – отраженный свет.
2.
о.д.
иная жизнь не лезет в горло,
и берег дальний – греча с луком,
теперь мычанье моря состоялось,
как в букваре родная речь – открой
дверь навсегда: несладкий воздух тянет
одну и ту же злую ноту – я не буду
о времени и жизни говорить…
тот берег остывает на глазах,
там франция, как мертвая старуха,
напудренная, с мушкой над губой,
лежит… скажи мне карту, ведьма!
ИЗ СЕМОНИДА КЕОССКОГО. ДАНАЯ
в резном ларце она,
ветер толкает ее,
волна нагоняет страх,
щеки залиты слезами,
она прижимает младенца
и говорит: «дитя, мне так больно.
ты спишь, как положено
маленьким – в безрадостном
ящике, обитом гвоздями,
светящемся в темно-синем
мраке – спишь, не обращая
внимания на глубокую
соль волны, бегущей поверх
твоих волос, ни на вопль ветра,
ты – ненаглядный – лежишь
в багряном плащике,
если б страх был впрямь тебе страшен,
ты бы подставил нежное ушко
под мою жалобу...
Не просыпайся, дитя мое,
пусть море уснет,
и наше несчастье тоже,
и что-то наконец изменится».
Море, которого не было
РЕФЛЕКСЫ
1.
я ищу дом, чтобы было куда себя звать,
не больше того; пол и одна табуретка –
тень от неё даст угол, этого хватит;
мы никогда не спим, механика тела
мне закрывает глаза:
спи, спи, спи
ты стала худой,
светишься белой линией
2.
всё по накатанной, всё по привычке родного,
нельзя говорить, что я «мучаюсь сердцем», нельзя
напоминать, как мы угождаем в ловушки
собственных пальцев, маленьких юрких белок;
мы не станем смотреть, как я медленно умираю,
табуретка врастает в паркет и становится мыслью;
никакого движения рук
3.
то ли сойка
то ли горлица в крепких узлах
то ли страх
ПЕРЕВОДНАЯ ПОЭЗИЯ. II
каждый возлюбленный, поживший со мной,
постепенно переставал засыпать по ночам,
разменивал световой день на сон
и оставлял меня наедине с герметичным солнцем,
бытовыми заботами и впечатлениями.
сначала, конечно, было не так, сначала по-другому
было: совместные ночи, толкающийся от крыш
предрассветный стук, – но затем собеседник
медленно утекал сквозь пальцы суток,
оставлял меня спать одну, сражаясь
с наступлением разлапистой ночи;
жизнь сворачивалась до моего пробуждения,
и ранним утром я одна наблюдала в окно
великолепные вещи города, блестяшки света.
однако, если задуматься, мы обнаружим,
что это не они бросались на амбразуру,
заслонивши свое отсутствие недомолвками,
скрывшись за шторками или рассекая
воображаемые коридоры, нет, не они;
это я,
только я училась обнимать деревья,
прислушивалась к гомону преподавательских голосов,
осознавая следующее:
всё, чем занимается слово, –
это поиск нового языка вещей,
маленьких вещей вокруг тебя и меня;
дело в том, что понять это можно,
только находясь под неусыпным наблюдением дня,
в постоянном неуюте от взглядов чужих людей
присваивая себя какой-либо общности,
ну или просто местечку.
поэтому когда очередной возлюбленный
планировал свой изящный миниатюрный побег,
я утирала пот со лба и позволяла дереву
ответно обнять меня, нашептать слова утешения,
оборачивалась в тонкую штору
и просачивалась в воображаемый коридор
невесомой пушистой ночью,
растворяющей в себе совершенно,
совершенно любых возлюбленных
***
из-за стенки легко постучать
из-за стенки легко подглядеть
только стаю крикливых сверчат
через голову нужно надеть
на растëртой телами траве
отменëнная девушка-птица
в ней ветивер вопросы проел
и не думает остановиться
меж зубов у ребёнка во рту
подписали на случай бумагу
если жалоба я не могу
пусть страна остаётся имаго
ты держал меня в ямке плеча
и виска чтобы не целовали
и никак не хотел отвечать
где растёт уплотнëнный розарий
там ретривер в дощатую пасть
положил себе лапки настурций
и готовится в землю упасть
чтобы летом в июнь поперхнуться
ПЕРЕВОДНАЯ ПОЭЗИЯ. III
каждый (а?), когда я пытаюсь представить кого-то прекрасного,
мои руки раскрыты и пробуют вырастить форму
цветка; когда ещё было уместно, (мы)
гладили кудри любимого, трогали стык
между мальчиком, не впадавшим в кому,
и мужчиной, впадающим в кому;
теперь, ощущая поверхности, чтобы наткнуться
на нечто знакомое, мы (я-и-они)
вспоминаем самое разное: вот
нас рисовали деточки-одноклассники,
потому что мы долго болели, ну или вот
близкие люди искали точку опоры
между любовниками и (они же) друзьями.
это не так интересно, как просто глядеть (их) в гуще ночей,
услышивать запах подгнившей малины
да трогать монетку, подаренную на счастье семейства;
да, я всё ещё в силах чуять и греть
макушки котов, кожу погладить,
обернуть пространство в подобие дома; но
никак не можем они выпустить в мир
ни одного цветка,
никак не можем они
выцвести в нечто прекрасное,
не можем никак
МОРЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
у, расползаются по небу змеи, я
вижу тебя так близко, что образ твой
зыбится и расплывается в десять змей,
маленьких летних змей, сохранивших в
коже воспоминания; вот ты трëшь
горькие жилы запястий, и вместо них
дым вырывается из узелочков рук,
и раздаётся дурман, апельсинов цвет.
мама в автобусе держит ребёнка на
сильных руках: «вот Пятёрочка, парк, павлин
царственный был растерзан, но там ещё
самка с птенцами (принадлежит кафе)».
узкие листья лозы, кирпичи в стене,
липкое тело июля, военный марш
со стороны деревянных подмостков, а
черноволосый подросток не слышит бой,
дыня серпами искрится в его руках;
крабы становятся птицей в его руках
и улетают под бойкий военный марш
ПЕРЕВОДНАЯ ПОЭЗИЯ. IV
будет много желудей
– Н. К.
1.
но будет тихим существование; как же
они толкаются в душных вагонах, грубые
комья мальчиков. нам от них страшно.
нет ничего естественного
в нахождении под землёй; невозможно
долго лежать в месте с закрытыми окнами,
холод лижет мне горло и пропускает
листья лиан сквозь розовые пути;
углы, углы у мальчиков: всюду углы
у мальчиков; локти, кадык у мальчиков,
всё есть у мальчиков;
2.
мы с ней
скользим по туманистым землям, мы с ней
скользим; муть неспешных похолоданий
тяжестью растворяет меня в улитку:
холод, ясность ума, пар поедается ртами,
нежный пустотный парк без шума мужчин,
слюнка от слизняка блестит воодушевлённо; я
всё живее вижу себя под тёмной водой.
влага, мягкие органы листьев, ти - ше
Любовь – так вот почему
ЛЮБОВЬ – ТАК ВОТ ПОЧЕМУ
и мы застыдились и перестали плакать
– Платон, «Федон»
I-1
а.
что есть арете́? –
спросит цыганский мальчик,
[лёжа на спине] плывущий с тобой
против течения речи, рассуждая, – а давай
лучше –
идти по воде со ангелы так приятно,
особенно в это время дня и года
или – прятаться от зноя под ветвями платана,
продолжая спрашивать – τί ἐστι? – ожидая,
что цветы над головами раскроются красным
знамением вечного завета между им и нами
и наше затруднение [как говорят чужестранцы эле́и]
станет простой песней – из первых попавшихся слов
I-2
папе
стало быть, [мой] папа причащался
– всю жизнь – вечности – циркулем и линейкой,
а я и не замечал никогда..,
мальчик, посеянный им в непрестанно
текучие волны иного, истощённый,
молящийся под нос – è stata la mano di dio, –
по обыкновению защищая ворота, но
– либе́ро, где́ вы?,
эл-эй?, сикели́я?,
военная часть в городе серпухов?, –
всё иные, иные
и иные себе – они – пропадают
I-3
а третья чаша – спасителю – и вам,
мёртвые и живые, мы встретимся, поднимаясь
к стадиону святого павла, наблюдая
за первым скудетто неаполя..,
вселенский огонь – изумителен – правда?,
а иначе – петь – для чего? [, и называть:
ты – любовь моей жизни, всегда в ожидании
промаха], для чего – так – говорили родители?,
но и они уплывают, объятые пламенем ебучего модерна,
равно прикосновенные к тайнам прошлого,
к тайнам «теперь» и «потом», и никто
из смертных ещё не сорвал, не сорвёт с них
их священного покрывала
II-1
вальд-а́йнзам-кайт – шелест
тысячи птиц в лесу [без тебя] –
запястья, рассечённые крыльями – слёзы сестры;
велика ли надежда, что смерть есть благо?, –
я ничего не видел в хиро́симе,
но всё-равно-спрашивал, сражаясь,
имея в виду нашу самотёку в качестве
четвёртой каузы содеянного..,
сражался, спрашивал, но жаворонки-ответы
то и дело выскальзывали из моих окровавленных ладоней,
прячась за нечётными числами слякоти зимнего неба.
II-2
anyway – незакатно сияет [светом друммонда] вечное имя сущности,
пока мне разбивают лицо у антро́повой ямы; как хорошо –
после боя наслаждаться тонко́цу у дядюшки теучи,
думать о судьбах любимых, скрытых в листве
II-3
алетейя в раздевалке бассейна – свет так упал,
что в зеркале я показался себе красивым –
спартанский юноша, не сумевший стать мужчиной,
с длинными пальцами, созданными для свободной страсти
III-1
а. к.
ритмы простых геометрических фигур, икосаэдры влаги,
словно застывшие звёзды на поздних стадиях коллапса –
фильм будет цветным?, –
важно договориться о том ещё на линии горизонта
of a black hole, которую потомки назовут россией:
(с юга на север) ты очерчиваешь её своим путешествием
пока пространство звучит через азбуку небесных окон
и я, лишённый места, занимаюсь картографией событий
неумолимо приближающегося будущего
III-2
лизе
если начнется война – мы не услышим, застрявшие
in the land of silence and darkness; но, действительно,
всего два колёсика ве́нлы в день, и даже потухшие
коллапсары начинают светить за пределы
горизонтов событий; действительно,
всё, что останется, –
религиозное упование на флуоксетин и возможную встречу:
найти друг друга среди неисчислимых песчинок
потомства автохтонов этого сраного города
(или) найти друг друга и снять кино –
самое важное в новой российской истории
IV-1
mi proshalis` –
ты исчезала на автобусе
в ничто московской зимы, и я подумал,
что из всех молитв, адресованных времени,
самой доброй [или странной?] была та,
что состояла из наших имён,
поставленных рядом
IV-2
mi proshayemsya
[дайте им ещё пару минут]
и сразу становимся математиками,
отвлекаясь в абстракцию переписок
(была рада тебя видеть!),
портик новослободской, apothе́ke –
постройки века иного,
как хребты беспредельного моря..,
уж не пришёл ли с делоса корабль,
с приходом которого –
IV-3
mi poproshayemsya – я уже знаю об этом,
когда ты [вскормлённая божественным днём юности]
гадаешь по моей руке-в-слезах, ведая всё,
что минуло, что есть и что будет, прикасаясь
к долгой линии жизни, оставленной крылом жаворонка
(август–декабрь 2021)
Под многолетним цветением звона
***
в памяти:
распад чаморошных мальчиков они скользят сквозь двери троллейбуса
взгляд терпит крушение – горы сточены в камень
он будет брошен в подготовленное окно
из которого выбросился сосед он хотел подышать свежим воздухом и увидеть октябрь как бы сверху
с закрытыми глазами видно всё:
гроты подмышек
как сердце раздувает ветер – палатка на безлюдном пляже
повышение уровня преступности – полые пороги горных рек занимаются своими делами
родина выдувается стеклодувами – чуть тронь и голуби разлетятся по площади в безнадежных поисках кормящей ладони
она занята разворотом войск у бесконечных границ
***
метод обжига развивается в таком порядке: ручная кладь переброшена через реку
где никем не подгоняемые овцы толпились на забой
незнакомая местность заточена в грязном мужике
из всего польского его ответа я разобрал що щось є біля каплички
беззубый чёрный рот прорезан в арку; в момент говорения там появлялась мадонна сокрытая от лишних глаз
гора чернела от монастырских пирожков.
между рук громоздился корпус – як ви дивитесь на те що в вас буде братик? мама і тато загинули: скнилів
книга жалоб завалилась за мясной отдел –
из туш свиней можно составлять подробные карты с большими легендами
читать карту – значит не найти свою точку в печатном виде
всё являлось в ясном виде.
***
и в это утро горы отстраиваются в молебном доме чтобы деревья и все живое оказалось ближе
лицом к лицу я слышу дыхание: зеркало запотевает
снега больше нет как нет отца снимающего корку льда с вечной мерзлоты где нам обещан чернозём
обручальное кольцо закинуто в сугроб чтобы оказаться рядом со вторым – старик сидит и плачет и просит умереть он хочет к тёте вале
в типографии усталые женщины и по-особому работает принтер: печатают письма благодарности
строка кому пустует
***
лицо помещенное в воздух
разве не останется маска в отражении с солнцем?
узоры на стенах ошибочно принятые за лики святых
здесь все остаётся нетронутым: полевые цветы переходят в категорию горных
чтобы обнаружить себя на промзоне
в саже и дымных руках разнорабочих
они недвижимо шаркают в голодную ночь
электричество слабо вьёт гнёзда:
сопротивления хватает на постоянно гаснущую лампочку в незнакомом подъезде
по привычке принятом своим собственным
на вопрос где я всё вдруг умолкнет
ребёнок застигнутый врасплох ночным звонком
битьё бутылок под окном
родительская пара стыдливо прячется за стеклянной дверью на кухне
стынет утварь
пёс издохнет
ты тут
хозяин
я слышу твою руку
***
тысячи утр неравномерно расползались по швам
вот дыра – память погибшая в память о ночной прогулке под фонарным мерцанием
внезапный крановый звук: так провожают безымянного адмирала
имя его зарастили ангелы в прибрежном парке где-то под скамьёй
прикосновение губ ко лбу: клянусь клянусь клянусь
понести себя под многолетним цветением звона
под двумя яблоками которые делят одну кожуру и не могут стать яблоней
под небом-спиной что развёртывается ежесекундно
попід кришталевим візерунком повсякдення
***
должность ладони – прикорм отлетающих птиц от отражения в воде
должность ладони – взращивание потомства для передачи регалий
должность ладони – любовничать и путешествовать в границах груди
должность ладони – о встрече другой – и молитвенном соприкосновении
должность ладони – покоиться в саду где было посажено сердце при дворце
должность ладони – рыцарствовать и находиться в гобеленах с розовым естеством
должность ладони – быть опрокинутой для забора питьевой воды на случай засухи
должность ладони – стать зеркалом неба для бесконечного возвращения себя себе
***
стремительное возвращение
вниз по лестничному пролёту, как это называлось у кого-то vertigo;
роза открывается по следующей схеме роста: от торнадообразной копны до ровных висков –
так надколотая византийская мозаика выкладывает несорванные глаза ангелов.
совершенное условие выполнения:
звезда забилась в своё отражение в небе;
мне жаль, что так складывается панно для росписи по заказу руководства:
каррерский мармур, добываемый из белизны кожи новорождённого;
пастбище, которым выполнен язык под угрозой исчезновения;
колоссальные коровьи глаза, смотрящие так, будто мама смотрит на своего самого любимого сына, пока второй замирает в ожидании и неслышно помещается под стекло коллекции бабочек на стене –
узора оказывается предостаточно.
путь вымощен блестящими лбами мужиков
они приехали смотреть на дикорастущих олив и работать руками
дом на скале подожжен изнутри обжитыми занавесками с неочевидными птицами
их поднимает ветер хочет увидеть невозможный полёт
молочные пятна на скатерти: так сад обновляется – от окраин до серединной яблони
жужжание плода заглохло стуком входной двери
голова новоявленного округляется и зреет
дворовые ребята залезли по веткам –
хищение яблока
***
чайка предпринимает попытку обороны от шквального ветра
требование безопасности заводит в лес где арки бывших авиакасс срабатывают красными сигналами
рыба подготовлена к земельным отношениям: неморгающие глаза граничат со странами исламского толка
неучтённый пёс ждёт приглашения ко входу – открыть дверь и пропустить вперёд
вынуть цветы из вазового хвата – что может быть проще движения руки застигнутой крестным знамением
я отвечаю
– цедра собранная для реконструкции кафедрального собора
извините вы местный?
скоріш за все
***
черепашьи панцири подставленные под сентябрь отражаются в солнце –
всё для бережного взращивания пальм
семена которых куда-то точно будут доставлены вовремя
в поисках убежавшего ребёнка в действии даже обидчики разбившие стёкла отчего дома
различия незаметны: опознавательные знаки на куртках всех прохожих метят в цветы –
тигровые лилии расследуют свои корни и обнаруживают родственность с тигром;
исполосанное поле задрожало в неведении и вопросе
как неосторожная рука может дрогнуть и поранить щеку лезвием?
конь и ковыль станут ответами
***
Александре
Когда мы обнаруживаем себя однолетними растениями
и границ вдруг не стаёт
(цветок и соцветие – однокоренные и наследуют память о водостойкости лап медоносных пчёл)
превращение сердца в демократическую республику – будапешт мерехтить невимовною множиною айстр: як на небі так і на грудах
упрощённая схематичность тризны: так хризантема открывается для погребения в трон японского императора на бесконечное служение независимости
stipa poetica – глаза заняты поиском ареола стойкого ковыля – отказ от камыша и смена местности
знаковая коммуникация цветов стоит в квир-слэнге:
достаю карту чтобы расплатиться за собранный букет и замечаю перо павлина
пво срабатывает в режиме: оскар уайльд-саломея-волосы твои суламифь-александра-александра-александра;
поднимаю забрало с перекинутым закатным пожаром
крах европы расколот гранатом –
в кинжале зреют зёрнышки для южных птиц прилетевших с мирного неба над головой
знак суммы – две заботливые материнские ладони для нас-матерей
тихо признаваться в любви и значит любить – перевод в императив (модальность сохраняется) – люби
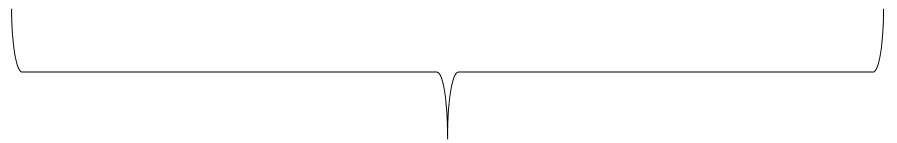
Стихи 2021-2022 гг.
***
натренированные в анти-деятельности
они вряд ли смогут сделать
что-то полезное
***
народ не понимает ваших сарказмов
***
директор музея Кусково
красивая хромая женщина
сказала мне
у вас аскетическое лицо интеллектуала
когда я пришел устраиваться истопником
интеллектуал
никто меня так не звал
эти слова задали планку
я старался соответствовать
***
руками ветра
глазами солнца
(ногами дождя)
***
неквалифицированное большинство
***
я конечно и сам
немного холерик
но не до такой же степени
***
В Эритрее остался всего один еврей.
– из Википедии
***
плачут в тарелке
салат и гарнир
ужас трясет в холодильнике сыр
***
Браге в Праге
***
такие вот несчастненькие
и пакостят
когда вырастают
***
Утриллодочка
Марке
***
fp
проверь свою любовь на прочность
расстанься с милой навсегда
***
обосновать бывает трудно,
но се не значит, что неверно...
***
не зная порядок фактов,
делать моральные выводы...
***
клинический патриотизм
***
минимизировать паразитные ассоциации
. . .
***
ночь любви Эдуарда Стрельцова
***
три часа
а к пяти
надо прийти
***
упертый антилиберал
***
судя по снам
множество слоев тоски
***
речка
синичка
***
Скандинавия нам не чужая
***
Данте, Пушкин и Басё
сообщили нам не всё
***
победа силы не к добру
***
дайте ему в рожу
те кто помоложе
***
вчера забыл тебе сказать
когда мы шли
о том
как высоко была луна
***
личико
плечико
***
мои загадки
чужие уже некогда решать
***
садо-мазо
как и было сказано
***
да все мы жили на авось
***
и было
все не так
и есть
***
невыносимый мир взрослых
***
Москва
угроза
***
с такой прозой
и стихов никаких не надо
(читая Бабеля)
***
Ремизов
который сказал
что Лесковым заканчивается
русская Библия
***
сколько народу
вывел
на чистую воду
***
как грустно тем
кто с ней дружил
могу представить
(памяти Е. Елагиной)
Как минимум (2020-2023)
***
эй идём гулять
дождь прошёл
снег прошёл
всё синее
решай скорее
***
поле большое
по полю пойдём в районный
а после и в областной
***
на даче книги зимовали
детские дедовские и по садоводству
и новый мир
мир серо-голубой
***
поднятая рука
лишь мгновение
между облаками
***
может быть
снежный ком
***
это всё пираты виноваты
пираты-аниматоры
***
слова
слова
слова
как говорится
***
маленькая птичка
что же ты так мала
что тебя не видно
маленькое зёрнышко
что ж ты так мало
что тебя не слышно
***
свистать всех наверх
только тихо
***
да бей же
бей
о мой Бог
***
после ухода Моргенштерна
упадка Шлиренцауэра...
***
световое
честное
пустое
пропускной
пункт
часовой слепой
***
«трепетать»
при каждом порыве ветра
после уборки
листьев в саду
***
вижу облако
в клубах света
и птиц
о которых никто не вспомнит
и желание идиота
во всём разобраться
***
с каким блаженством
я бы
был
***
планируем на май
а тут ещё
не начался декабрь
да и ноябрь
честно говоря
***
спать
а потом не спать
***
дождаться всеобщего согласия
света и воздуха
тяготения между сердцем и лёгкими
вдохнуть и выдохнуть
глядя в свою ладонь
как в протянутую тебе
ладонь небесного духа
Очень личные поля
***
Дорого раствориться в прекрасном месте,
всегда есть по краям очень личные поля,
разроешь снег, а там лимонная косточка,
с темной, разъятой серединой,
просится завернуться во что-то мягкое, цельное, корневое.
С кем разминуться в этом прекрасном месте?
Все сложено из мелких неровных кусочков, ничем не укреплено,
попади в щель и начнется распад,
медленное невидимое разрушение.
Но стоит качнуть дерево и все остается ровным,
ветви смирны и тягостны,
корни свободны, не видны;
словно в каждой трещине есть укрытие.
***
Я возвращаюсь домой,
опьяненный пивом и марихуаной,
и пытаюсь сложить в голове
все сегодняшние чеки,
чтобы добавить их в таблицу трат.
У меня есть деньги,
просто считать – это привычка
из прошлой жизни.
Я вспоминаю как это тяжело руками разломить яблоко на две части.
Когда в кафе звучит голос П. я не поднимаю головы.
Когда звучит украинский голос я не поднимаю головы.
Я представляю лимонное дерево в моем патио, и его ароматные, похожие на мутантов, плоды.
Русский преподаватель португальского говорит мне повторяй:
Eu sou Ucraniano.
Eu sou da Ucrania.
Повторяй.
И я повторяю.
Eu sou Ucraniano.
Eu sou da Ucrania.
Я не поднимаю головы.
Я поднимаю с земли уродливый лимон, похожий на гомункулуса
и думаю,
что теперь за лимоны можно не платить.
Вот о чем я думаю.
Я также думаю о том, что сделало лимон таким –
все эти впадины, деформации, мутации цедры, многоликость.
Вот, я уже прохожу мимо Jardim Zoologico,
сквозь холодный вечерний воздух,
сквозь густой животный запах,
совершенно ничего не чувствуя,
и как будто что-то припоминаю.
***
Между тем, за лимонным деревом прятался некто Мишель, черное неподвижное существо с большими удивленными глазами.
Я всегда находил его бесшумно сидящим на краю соседского забора, когда с наступлением темноты выходил покурить в патио. «Ну привет» говорил я, смотря в его растекающиеся зрачки, одновременно с этим (словно за ответом?) поворачиваясь к возвышающемуся по правую руку жилому дому. Будто нарисованный акварелью он стоял передо мной весь в разводах и буро-зеленых грибковых пятнах, чей голый торец возвращал меня в родные пейзажи брандмауэров, одиноких балконов и горящих окон.
***
Утро это стук капель по листьям, звон посуды за соседней стеной, грохот оконных роллетов и парадной двери (а также тревожный ее электрический замок), перебранки с хитрым черно-белым существом (Мишель был очарован). Далее: звук сыплющегося в миску корма, жужжание индукции, трескотня масляного обогревателя, гул осушителя (desumidificador), авиадвигатели, мурлыканье.
***
тело сквозит
дни напролёт и навылет,
у него есть язык,
голос, имя,
есть отчество в котором горечь,
есть отечества морок,
и мало помалу
это тело
вытекает из тела
своей страны.
одно из другого,
и ни одно не свободно
***
Обилие цветов (растения, пастельные фасады, черепица) даже в дождливые дни все еще сбивает с толку.
***
Впрочем если пробираться через ещё кусты этого увядающего царства
можно почувствовать пронизывающий ветер,
услышать шум взволнованной реки или снегоуборочной машины.
Возможно завтра кто-то скажет тебе пару ласковых,
потребует закрыть свою пасть или наступит на ногу,
но сделает это не со зла, а так, по привычке.
Утром ты просыпаешься от рева пролетающих
самолётов, выглядываешь в окно,
а лимонное дерево все в снегу.
пепел цветов её
***
спящие
а не мёртвые
между
прошлым
и прошлыми
линия
проступила
это –
довоенная
память
холодная
птица
живёт
в огне
ест
огонь
пепел
цветов
её
пишет
красный
закат
форму
мира
и
– жаркий
день
над
будущими
полями
но что
если
ветер
с песком
стирает
города
с горизонта
и если
бездомный
хочет
домой
кто
скажет
ему –
куда
15.09.22
***
в изнанку
взгляда
впечатаны
те
кого
нет
странно
они
в костюме
первого
снега
или
память
такая
стала –
зимняя
варежка
за которую
смерть
держалась
и долго
– то же
что
никогда
и писем
наших
линия
вечности
как линия
фронта –
защищена
сквозным
шифрованием
временно
– защищена
09.12.22
Хорхе Луис Борхес. В манере пятистиший-танка, Семнадцать хокку и Игра го (перевод с испанского Павла Грушко)
Стихотворные формы – сосуды, содержащие послание. Переводчик должен слышать текст и учитывать волю автора, выбравшего то или иное облачение своим чадам. У Борхеса одно стихотворение даже называется «Четырнадцатисложник», а его высказывание «дыхание фразы» – свидетельствует о ревностном отношении поэта к стихотворным структурам. Ряд его текстов («Неучтивый церемониймейстер Кодзуке но Суке», «Шинто», «Нихон», «Музыкальная шкатулка») связаны с японской культурой. К слову, его ангелом-хранителем, литературным соратником последних лет жизни была Мария Кодама, японка по происхождению, ставшая его официальной женой в год его смерти. Уважение к ритмическим привязанностям Борхеса, я хочу подтвердить переводом его «японских» стихотворений, жёстко упакованных в жанры хайку́ (с комбинацией количества слогов 5+7+5) и танка (5+7+5+7+7). В конце одной из танка есть строчки: «Быть тем, кто старательно / слоги считает в стихах». Вот и приходится…
– Павел Грушко
 Хорхе Луис Борхес и Мария Кодама
Хорхе Луис Борхес и Мария Кодама Из книги «Золото тигров» (1972)
В МАНЕРЕ ПЯТИСТИШИЙ-ТАНКА
1.
Выше по склону –
сад, весь в золоте лунном,
так и сияет.
Но только губы твои
намного слаще в тени.
2.
Птица умолкла
в глуби тенистой сада.
Бродишь в печали.
Разве не вижу: тебе
чего-то недостаёт.
3.
Чаша чужая,
меч, который другому
когда-то служил,
свет луны за окошком, –
разве этого мало?
4.
Тигр под луною,
в золотых позументах,
смотрит на лапы.
Не помнит, что растерзал
человека когтями.
5.
Дождь так печально
омывает надгробье.
Грустно быть камнем,
грустно не быть человеческой
жизнью и сном на заре.
6.
Не в пример предкам –
не погибнуть в сраженье.
Полночью скучной
быть тем, кто старательно
слоги считает в стихах [1].
ИЗ «ИГРЫ ГО»
2.
Вся без конца
ночь в эту пору – всего лишь
запах цветка.
3.
Сон позабытый
в самом начале рассвета, –
снился ли мне?
4.
Струны умолкли,
музыке чувства мои
были близки.
8.
Снова в пустыне
зреет заря. И кому-то
это известно.
10.
Мертв человек.
А бороде невдомёк.
Ногти растут.
11.
Этой рукой
я и касался твоих
пышных волос.
ИЗ «СЕМНАДЦАТИ ХОККУ»
1.
Вечер и горы
мне рассказали о чём-то.
Всё позабылось.
2.
Вся без конца
ночь в эту пору – всего лишь
запах цветка.
3.
Сон позабытый
в самом начале рассвета, –
снился ли мне?
4.
Струны умолкли,
Музыке чувства мои
были близки.
7.
Я на доске
не прикасался к фигурам
с этого дня.
8.
Снова в пустыне
зреет заря. И кому-то
это известно.
10.
Мёртв человек.
А бороде невдомёк.
Ногти растут.
11.
Этой рукой
я и касался твоих
пышных волос.
14.
Гаснущий свет –
меркнущая империя
или светляк?
[1] Как известно, в каждом пятистишье-танка 31 слог (5+7+5+7+7).
Нурит Зархи. Шесть стихотворений из книги «Авель тебя поцелует» (перевод с иврита Гали-Даны Зингер)
***
Извините, сударь, это я, мадам Флобер, которую вы противопоставили
войне,
пока вы лежите, как толстый кот на конфорке метафоры,
не отличая рану от раны.
Кто был вами призван, преклонив колено кровоточащего дня,
и кого представили героем?
Того, и этого, и другого –
и ни тот, и ни тот, и ни тот
не был повязкой на горящей коже.
Ответьте мне, сударь, есть ли хоть кто-то, кто не
вынюхивает любовь, как лань – воду?
***
Козероги наращивают шерсть,
готовят себя к грядущему.
По ночам цапли зовут друг друга,
крупные хищники метят границу,
а я перешагиваю через зеркало,
закутываюсь по горло в плащ.
Разве страх – отец памяти?
Это было твоё лицо или моё? Твоё или моё лицо было омыто рассветом
и лисы, которых спугнули спросонок из зарослей –
были ли они знаками грядущего?
Даже когда я отправилась навестить себя в прошлом,
не застала себя дома.
Каюсь, я пришла только раз,
оставила в дверях записку.
***
В твоих больших ладонях утешается черенок лозы
и нектарницы зелёным золотом поджигают твоё окно.
Парусники душистого горошка
отплывают по краснеющей ране твоего рта,
освобождают его от груза слов.
В темноте речи раскрываются тебе навстречу орхидеи,
их бело-золотая плоть, как Вирсавия, купающаяся в лунном свете.
Любовник мелкой моли пробирается,
опыляет их и бросает, как ты,
его физиономия измазана пыльцой последствий.
Губы лилий округляются в последнем поцелуе
и остаются раскрытыми –
по краям жуки-солдатики сверкают каплями крови.
***
Эмоции, как звёзды попкорна, больше не выскакивают
из автомата сердца.
Бледное сердце следует себе за каким-нибудь незначительным преступлением,
чтоб очистилось от скверны, дало себе пощёчину, пострадало,
топчась как на помойке кабан: жизнь, дай мне основание!
Как месяц с лицом в синяках
движется над своей пустой миской.
***
Я скажу, Геката, решительно, как моя мать, бывало,
умаляла людей и богов,
но не тебя, Геката,
стоящая на развилке дорог.
Из плутовства или по простодушию ты выбрала
бросить слова в лицо смерти?
Я хотела бы приобрести в твоей школе
навыки чёрной луны.
Мои руки полны полого времени –
дашь ли мне урок последнего предела?
***
Настал черёд последней богини,
той, которую сопровождают конь, львица, ворон.
Передо мной всё ещё мерцает её воздушный оттиск:
смотрит направо, несёт золотое яйцо,
смотрит налево – рубиновое яйцо,
и из обоих вылупились дочери.
Разбили золото, голубизну, раскололи
сказку небьющегося котелка,
посеяли болиголов на клумбе памяти.
Они – новые фурии:
кусают и судят, чтоб доказать, что прошлое –
странное растение, перекати-поле на ветру,
феникс, песком пробивающийся из песка –
а может, это я, которой трудно расстаться.
Роберт Крили. Два стихотворения и переписка с Ириной Машинской (перевод с английского Ирины Машинской)
ЯЗЫК
Разыщи я
люблю тебя там
где зубы
глаза
прикуси,
осторож-
но не больно,
ты ведь
хочешь так
сильно так
мало. Слова
скажут всё.
Опять
я
люблю тебя,
отчего ж
тогда
пустота.
– Заполнять
Слышал слов
и слов предовольно,
полых,
полных боли. Речь
есть рот.
КОЕ-КОГО ЗНАЮ
Это я другу –
я все время треплюсь,
– Джон,
грю – его не так, правда,
звали, –
тьма, грю, вокруг,
что нам делать,
хоть покупай, хрен его знает,
колеса побольше,
да несись-ка отсюда – а он грит,
Христа ради смотри
куда едешь.
Editorial note: “The Language” appears in The Collected Poems of Robert Creeley, 1945–1975 (University of California Press, 2006), and “I Know a Man” appears in Selected Poems of Robert Creeley (University of California Press, 1991).
«Слова болят…»: Email от Роберта Крили [1]
У меня есть синий плетеный сундук, там всякая всячина – письма, записные книжки и тому подобное. Я в него годами не заглядываю, но в апреле 2017 года, когда коллега попросил меня найти письма от только что умершего поэта – открыла. И неожиданно наткнулась на совсем другое: на два полиграфических школьных листа с алгебраическими задачами (из тех, что в Америке называются worksheets), на обратной стороне которых было распечатано, очень бледно и тем тонким микроскопическим шрифтом с хвостиками, столь характерным для электронной почты начала века, присланное мне на давно уже не существующий адрес письмо. Это был недлинный, но просторно, как и его стихи, набранный текст email'a от Роберта Крили. Эта случайная находка застала меня врасплох: к тому времени я совершенно забыла не только об этом письме, но и о поводе к нему. Теперь это все вернулось, хоть и не без прорех.
Весной 2000 года я неожиданно для себя увлеклась поэзией Крили. Резкий, рваный тон его стихов, своеобразие опыта и личности, узнаваемые дикция и мышление – все это (вроде бы) было невероятно далеко от моего, от моих, и может, именно поэтому притягивало. В таких случаях – не часто, но иногда – мне хочется перевести этот совсем другой опыт, мышление и дикцию в вещество русской речи, побыть этим. Я выбрала два довольно загадочных стихотворения, еще не зная, что они-то и являются одними из самых известных. Так случилось, что мой приятель, поэт Александр Стесин, был в то время студентом Крили в Баффало и дружил с ним. Саша сказал ему о моем желании перевести эти два текста и о том, что у меня возникло несколько вопросов, и Крили предложил мне написать ему.
Он ответил сразу, прямо в тексте моего письма с пронумерованными вопросами, и только так, по осколкам, я и могу отчасти восстановить текст моего письма к нему, которое, разумеется, я не сохраняла и не распечатывала.
И вот сейчас, специально для «Флагов», я перевела ответ Крили,, стараясь держаться как можно ближе к тексту – иногда в ущерб гладкости. Но и оригинал в чем-то напоминает тексты стихов своей сжатостью и спрямлением, необычным синтаксисом, уверенностью, что читатель и собеседник поймет. Ответы Крили даны здесь обычным шрифтом, а мои вопросы – курсивом. Слова, к которым относились мои вопросы, я, разумеется, даю в оригинале, по-английски.
Объяснения Крили (насколько стихотворение вообще может быть прояснено любым способом, отличным от самого поэтического текста), тронули меня искренностью и доброжелательной тщательностью. В некоторых случаях его комментарии подтверждали мое изначальное интуитивное понимание; в других (например, в вопросе о заглавии второго стихотворения), поворачивали в совершенно другую сторону – я просто еще не знала, насколько «I know a man» – распространенное выражение (теперь-то знаю!) И только №5 он, видимо, не понял – мой вопрос относился к интонации, тембру. Но это мелочи. Самым важным – и радостным – оказалось для меня подтверждение интуитивно возникшего в моем переводе тона, скорости речи, и не просто сленга – это-то было очевидно, – а его оттенков, звуков и отголосков. Как это часто бывает, в русском удачно нашлись фонетические и лингвистические возможности, отражающие интонацию и внесловесный смысл английских стихотворений.
Обо всем этом я написала пять лет назад для журнала World Literature Today текст, который и пересказываю здесь. И написав, указала дату: 24 мая 2017. И тут же заметила, что и письмо Крили датировано тем же днем: 24 мая 2000. Это совпадение поразило меня. Мне снова почудилось, как это иногда бывает с нами, что мир все же устроен не совсем случайно. И я надеюсь, что и мои два переложения тоже не случайны, не произвольны, что они верны чему-то важному – насколько могут быть неслучайны и верны слова, произнесенные на другом языке.
А при чем тут алгебра? Просто в те годы я была школьным учителем математики.
– Ирина Машинская
From: Robert Creeley
To: Irina Mashinski
Date: Wed, 24 May 2000
Subject: Re: 2 poems
Дорогая Ирина Машинская,
Попробую помочь, насколько смогу. Эти стихотворения были написаны годы и годы назад! Так или иначе: вот.
> 1. The Language
> 5-ая строфа – не могли бы Вы прокомментировать это «again» и переход к 6-ой строфе?
Обратите внимание на то, что фраза «I / love you» дана курсивом, а «again» – нет. Это пример сказанного выше, утверждения, что «Слова/ говорят все» – то есть, «I love you» это еще один («again») факт утверждения «Words say everything». Так что (тот переход) возникает вопрос, отчего тогда «emptiness» [2], для чего она [3] – учитывая, что «Words say everything» [4]. Отчего столь многое остается пустым, несмотря на «Words say(ing) everything» – как, например, «I love you». Действительно, вопрос молодого человека!
> Также: «word full of holes aching» – это «aching» относится к «holes» или к «words» – или и к тем, и к другим?
Слова болят, дыры порождают боль – все это еще один факт [5] проявления того же состояния [5],
пустоты. (Обратите внимание, что «word» здесь – «words», множественное число!)
> 2. I Know a Man
> (1) Является ли первая строка продолжением названия?
Нет. В американском разговорном языке «I know a man» – обычная фраза, подразумевающая наличие нужных связей, возможность получить то, что нужно.
> (2) «which was not his name» (это о Джоне? – или о том другом человеке?)
«His» это его друг, чье «имя» не «John» и т.п. Не спрашивайте, почему! Это любопытное настаивание на осмотрительности, как говорится.
> (3) Не могли бы Вы прокомментировать 3-ю строфу?
«what can we do against it...» Что мы можем противопоставить или использовать, чтоб справиться с окружающей тьмой [7], etc, etc. Какая у нас есть против нее защита – в этом тут смысл. «Оr else, shall we & /why not...». Или мы просто должны сбежать, поскорее выбраться отсюда? «buy a goddamn big car, / drive» – это все один и тот же говорящий, первое лицо стихотворения.
(4) Кто это говорит: «Drive...»
См. предыдущий комментарий – речь первого говорящего заканчивается на «drive». Это последнее, что говорит этот первый.
> (5) КАК он говорит «for Christ’s sake»?
Потом «he sd», говорит друг, отвечает «for / christ’s sake, look / out where yr going».
> (6) последняя строка
Тут опять, как следует из комментария к вопросу 5, в последних строчках – речь друга (после «he sd», говоря: «поспокойней», «осторожнее, смотри куда едешь» [8], куда эта гонка к еще большему и неведомому может тебя привести. Поспокойнее! [9]
Так что вот так. Удачи!
Всего самого наилучшего,
Роберт Крили
Buffalo, New York
[1] Впервые опубликовано по-английски в журнале World Literature Today: Irina Mashinski. Translating Robert Creeley into Russian. June 27, 2017.
[2] Пустота
[3] В оригинале: what’s it «for»
[4] «Cлова говорят все»
[5] fact
[6] В оригинале: circumstance, то есть обстоятельств
[7] «the darkness»
[8] В оригинале: (following «he sd» saying, hey man, take it easy, «watch out where you’re going»)
[9] Или: Потише. В оригинале: Just cool it!
Рийяд Ас-Салих Аль-Хусайн. Нет смысла в любви (перевод с арабского Кирилла Корчагина, Ксении Кашинцевой)
***
комната тесная подходит для жизни
комната тесная узкая подходит для смерти
комната тесная сырая не подходит ни для чего
комната тесная, в ней:
женщина чистит картошку, отчаянье
строитель не спит никогда
девушка почему-то все плачет и плачет
и я парень резкий не жадный
с книгами и друзьями
и только
после того как я родился без своей страны
после того как страна моя стала могилой
после того как стала могила книгой
после того как стала книга тюрьмой
после того как стала тюрьма сновидением
после того как оно стало моей страной
я нашел комнату тесную узкую
чтобы в ней свободно дышать
я свободно дышу
в комнате тесной узкой
я снимаю одежду и засыпаю
я вынимаю свой рот и болтаю
я отстегиваю ноги пройтись в пыли под кроватью
ищу что поесть и кошки липнут ко мне
на полках в комнате книги, друзья
сухие пучки люцерны
плакат с Че Геварой и черная доска Мунзира Масри
когда я голоден я пожираю книги и говорю друзьям:
друзья, давайте поговорим,
а друзей у меня много
они любят меня, не позволяют мне умереть
они ненавидят меня, не позволяют мне жить
и завтра наверное
я сожру всех друзей
как сожрал я книги и вердикты ООН
и завтра наверное
я не смогу больше спать
словно госпоже S я больше не интересен
и завтра наверное
комната станет основой жизни моей
ее пять крашеных стен и одно окно что смотрит
в комнату тесную узкую что подходит для плача
в комнату тесную узкую что подходит для любви
в комнату тесную узкую что подходит для сговора
но из меня плохой заговорщик
я не смог ничего устроить
в комнате тесной узкой что подходит для письма
я не смог ничего написать кроме предсмертной записки
комната тесная узкая
что протянется телом на ложе земли
что подходит для вскрытия как я подхожу
и подходит для истребления как и я
в комнате тесной узкой
я читаю газеты и бойни
в комнате тесной узкой
я бушую как буря, я как стебель дрожу
в комнате тесной узкой
разбитый поток
и часто гонимый народ
куда ушла та женщина?
умереть в комнате тесной узкой
где ты решил умереть?
в комнате тесной узкой
сколько тебе лет?
комната тесная узкая
что такое земля?
комната тесная узкая
сегодня утром словно убит человек
он знал день своего рождения
но у него не было свидетельства о смерти
мои глаза закрыли окно
я вышел из комнаты тесной узкой
что заполнена до краев болезнью
сегодня утром
я сказал я найду плод которого не касалась рука
и друга которого пуля не унесла на небо
я пошел к деревьям и не нашел никого
к источникам и не нашел никого
к скалам и не нашел никого
к животным и не нашел никого
я пошел к аэропортам
и улицам
к сиротским приютам
они решили я нищий и бросили мелочь в ладонь
сегодня вечером как лошадь с отрубленной головой
я вернулся в комнату
комнату тесную узкую
где огромный топор крика
растет под моими ногтями
перевод Кирилла Корчагина
***
хочу поехать в деревню,
собирать хлопок и дышать свежим воздухом
хочу вернуться в город
в товарном вагоне, полном крестьян и ягнят
хочу искупаться в реке
под лунным светом
хочу увидеть луну
на улице, в книге или музее
хочу построить комнату,
что вместит тысячу друзей,
хочу быть другом
воробью, воздуху, камню
хочу заключить море
в тюремную камеру
хочу взять камеры
и бросить их в море
хочу быть волшебником,
чтобы прятать нож в шляпу,
хочу протянуть руки к шляпе
и вытянуть из нее белую песню
хочу чтобы у меня был пистолет
и стрелять по волкам
хочу быть волком
и растерзать стрелков
хочу спрятаться в цветке,
ведь я боюсь убийцы
хочу, чтобы умер убийца,
когда увидит цветы
хочу пробить окно
в каждой стене
хочу возвести стену
на лицах закрывающих окна
хочу быть землетрясением
и растрясти ленивые сердца
хочу подсунуть в каждое сердце
землетрясение мудрости
хочу схватить облако
и спрятать его в кровати
хочу, чтобы воры стащили кровать
и спрятали её в облаке
хочу, чтобы слово стало
деревом, хлебом, поцелуем
я хочу, чтобы те, кто не любит дерево,
хлеб,
поцелуй,
отказались от слов
перевод Ксении Кашинцевой
НОЖ
умер человек
в сердце нож
а на губах улыбка
умер человек
человек на прогулке в могилу
посмотрит наверх
посмотрит вниз
посмотрит вокруг
а вокруг только земля
вокруг только ручка
ножа что в его груди
а он улыбается мертвый
поглаживает ручку ножа
нож единственный друг
нож
драгоценная память о тех кто на небе
перевод Кирилла Корчагина
ДЫМ
грустен и открыт как море, я остановился поговорить с вами о море
возмущен и удручен миром, я остановился поговорить с вами о мире
нерасторжим, прочен и длителен словно море
я остановился поговорить с вами о море
когда глаза в окне видят мое отчаяние
и стены пальцев ощупывают мои ребра
и в дверях языки говорят обо мне
но когда у воды вкус воды
а у воздуха аромат воздуха
а у этих черных чернил запах чернил
и когда типографии предложат читателю
стихи вместо снотворного
и поля родят пшеницу вместо опиума
и заводы изготовят рубашки вместо снарядов —
тогда я остановлюсь чтобы поговорить с вами о себе
чтобы поговорить с вами о любви, что убивает мою элегию
об элегии что открывает свою царскую тетрадь
и записывает все ваши имена в список убитых
об убитых что цепляются за повязки и микрохром
которого вовремя не нашлось
тогда я остановлюсь
чтобы поговорить с вами о себе
как говорит диктатор о тюрьмах
миллионер о миллионах
влюбленный о груди возлюбленной
ребенок о матери
вор о ключах
и ученый об открытиях
я поговорю с вами о любви, о любви, о любви
после того как закурю сигарету
перевод Кирилла Корчагина
***
нет смысла в крике
пока звук не исходит из тюремной камеры рта
нет смысла в плаче
пока не хватает ткани впитывать слёзы
нет смысла в пути
пока ноги обвиты цепями
нет смысла в одежде
пока тело полно ножами
нет смысла в любви
пока поцелуй узаконенное преступление
нет смысла в хлебе
пока сердце остается голодным
нет смысла во мне
пока я умираю без желания
но есть во всем этом смысл
когда мы жуем виноград свободы
перевод Ксении Кашинцевой
Эрси Сотиропулу. Из цикла «Просит иное» (перевод с греческого Павла Заруцкого, Катерины Басовой)
ПРОСИТ ИНОЕ
Ищет что-то иное
не ласку
или руку
Что-то другое хочет
не реку подобную
той что снится подушке
Просит иное
Пинея Меандра
с руслом устланным трупами
Течёт течёт течёт
кровь моя
перевод Павла Заруцкого
ЯВЛЕНИЕ
это – стихотворение
поскольку
(и ещё шесть нудных союзов)
сейчас
(а также до и после)
твоё тело
(не только твоё тело но и ты и розовые термиты твоих губ и десяток бойких дрессированных морских коньков в твоих руках что лущат белый песок; и вулканический простор на твоей груди и; прибытие одиноких пароходов в твоё подчревье; и всё тело твоё пришвартованное на берегу моря или вверх-вниз скользящее по волнам освещённое и недоступное)
полдень на Корфу
оно
непредвиденно на побережье
(не только на Корфу но и тут и там)
Оно
так далеко от сверкающих берегов Корфу
так далеко от золотых пупов воды
далеко от моря
чуждо волнам
в тот миг когда я занимаюсь одним и тем же утомительным устаревшим и веками неизменным делом
на бумаге для твоего тела
перевод Павла Заруцкого
ВКУС ГОСПОЖИ ЛУКУЛУС
Вертикальная любовь.
Внутренности будут выставлены напоказ?
трик трак твой мужской орган
трик трак
будто говоришь боже упаси
(тогда как по соседству
готовятся к постельному режиму разбирают
простыни
тогда как жизнь готовит золотые цветы дожди хлеба
из земли среди ужасающей тьмы
пробиваются их ангельские шеи)
и вновь дышат
Шшшшшшш! Твой мужской орган
Сейчас начинают снова
Ааа, сервировка!
перевод Павла Заруцкого
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Персефона ходившая по мертвым водорослям
без веры с верой
без печали потому что все возвращается.
Дыхание за пределами жизни
жизнь вне схватки.
И тело временами может помнить
память приходит с утренним градом.
Любовь из бесплодного света
ты будишь ранние розы
мокрые ветки
пульсирующие как лавины.
перевод Павла Заруцкого
ПЕЙЗАЖ С БЕЖЕВЫМИ СТЕНАМИ И ПРОСТЫНЯМИ
бежевый наизнанку
поскольку кровать
продолжается
прямо в желудок
в его бёдра в разные
разрывает коридоры в чужие
любые шары комнаты в украденные
губы
Расскажи мне
ростовщик
попрошайка
демагог
водитель катафалка
плагиатор некий голос.
продажный куда такой низменный
укрыватель краденого секс? и
пристрастный к цель цель или
сомнительным организациям может
а теперь я умолкаю сильная эрекция раз
торговец изношенными личные времена
подошвами необходимые
всё в порядке паузы как проявления
спекулянт божественного промысла
Take it easy (наконец в ванной с телом будто
но займись со мной любовью ушная пробка)
БУКВАЛЬНО В КРОВАТИ ОБСАСЫВАЯ ДЕКАРТА
БУКВАЛЬНО В КРОВАТИ ОБСАСЫВАЯ ДЕКАРТА
БУКВАЛЬНО В КРОВАТИ ОБСАСЫВАЯ ДЕКАРТА
БУКВАЛЬНО В КРОВАТИ ОБСАСЫВАЯ ДЕКАРТА
БУКВАЛЬНО В КРОВАТИ ОБСАСЫВАЯ ДЕКАРТА
Сейчас они возвращаются
между 5 и 7 часами
пена оргазма серого цвета
а может и вовсе бежевая
простыни и низы животов
как занавес
они вертятся
разные ритмы
на кровати
разные ноги
Комната
перевод Павла Заруцкого
К САПФО В КОНЦЕ ИЮНЯ
туман
дождь
(чахлая красная пашня после жатвы)
возле солнечных часов
порывы золотого света
тело
в тени черного обелиска
внутри человека Дж. Б.
тело
тело
(мутные сдавленные водопады)
перевод Катерины Басовой
ЗАРИСОВКА О БЛАГОПОЛУЧИИ БЕСКРАЙНЕЙ РАВНИНЫ
Просторное государство Кана Галилейская- Мэлон
Город ES его безмерное богатство
Границы трех городов уже двести лет
вдалеке друг от друга
Выжженная земля вокруг.
(в соответствии с тем что было сказано)
Лучший из лучников
Его эротическая голова
Трофеи.
Восхищение и ужас на городских
базарах
пауза...
(через несколько точек)
Район LIVER
Тысячи томов истории.
перевод Катерины Басовой
ВЕЧЕР В ПАТРАХ
Не говорите ей. Нет.
Вечер из Вавилонии
и любезность либерти в закопанных чашах
всхлипы поэзии.
Близилось время его прихода. Тише! Ребенок проснется.
В порочные 5-7 часов как и все предыдущие.
Рой пчеловодов высасывал
ее череп жадно голодно.
Перестань. Я не смогу.
Тонкой дынной кожурой был опоясан город
«заткнись» из двенадцатисложников
сблевывая видения
глас вопиющего в пустыне
земной клюв зрения
в запретных водах
он утоляет жажду свою: во веки веков.
А если я не захочу видеть? Аминь.
Отец видимый и невидимый
воссядь
из золотых кудрей убогий трон.
Время пришло.
Ведь Стивен Дедал
больше не снизойдет до тебя
склонив дряблую шею
над твоими небесными пятнами
сея волны взгляда
забальзамированного на пяти концах земли.
Молчание – золото.
Я бы могла любить его
если бы оно не было вашим. Может быть. Слишком поздно.
Время пришло.
Ведь зеленая лодка покинула город
уже без траура без Персефоны
ни одного мертвого безголосого города гласных
лодка звук согласный пересекает горизонт
конец горизонта
белый парус черный шизофрения неписанный
за облаками и их рокотом
на них в них конец в конце пути
размахивая словами.
Всепроникающая неизвестно откуда появляющаяся мудрость
легкий как поплавок пловец вечно тонущий
в соплях моря
ныряет и выныривает ныряет выбрасывает
на сушу раковины его сомнений.
В о в е к и в е к о в
Местные сообщества едят мою плоть
дамы человеколюбки тетки-стервятницы
пронзая шлем
и мою грудь что вся в крови
С ним или на нем
Tender is the night.
На мелководье ее разума
найди его найди кольцо
ламантины слышат красное
кости криков складывают его пополам
больные феллахи и стервятники
из детских рисунков.
Tender is the night.
Вечером я думаю что
день прошел хорошо в зернистом куполе
моя кожа снова наполнилась
стала божественной сущностью неделимой единицей
дома шахты компьютеры
человек имярек град жизни.
Когда кокотки звезд
продают нам серебряный ликер романтики
вот та в короне мы бы хотели один мне очень нравится.
Когда Робин Че Выпей из того же стакана
Стивен Дедал и бабушка
Красной Шапочки
складывают руки и допоздна мечтают
Святые без сна
сеют тринадцать черт возьми и тысячу
хулений
20000 лье бескрайнее морское дно
поющие никелевые рты в глубине Иерихон
и последний из поэтов
лохматый смех глотая пуговицы
замерзая на Транссибе
поистине славная идея
затухая пожары разгораются снова
Она наклоняется испей из ее чаши прошедшего завершенного
Пей из того же стакана. Может быть.
Coscienza волоча за собой подъюбник
из пари
ты теряешься в водяных парах четверостиший.
перевод Катерины Басовой
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ДЖ. ОРУЭЛЛА
Осыпая его лоб каплями утреннего дождя
Нереида
год 1984
после такой бумажной волокиты
в 1999 году в 10 утра 20 мая
приход толпы посреди яичных белков
такие черные как круги
веки набухшие шумом из скорлупы
и египетская музыка детские барабаны
дуделки
тулумбасы
маленькие аккордеоны
плачущие возращения голоса
бульканье кофе на кухне
банка молока
выключатель электричества
ложечка сахара.
В неожиданный час (nel mezzo del camin di nostra vita)
Глядя прямо вперед
твое короткое путешествие сквозь толпу
столько зданий электрогенераторов столько мастерских
парки трупов
омывая его лицо
год 1984
однажды утром
он вдруг видит перед собой
Нереида
твой короткий хитон
и горячее как сам жар тело.
перевод Катерины Басовой
We're sorry, but something went wrong
WE'RE SORRY, BUT SOMETHING WENT WRONG (СУХОЙ РЕЧИТАТИВ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА В ФА МИНОР)
we’re sorry, but something went wrong:
фейсбук went wrong инстаграм went wrong вотсапп went wrong тикток went wrong яндекс такси went wrong эппл пей went wrong нетфликс went wrong спотифай went wrong тиндер went wrong и даже телеграм тормозит →
чаты went wrong слова went wrong картинки went wrong умные мысли went wrong глупые мысли went wrong зародыши мысли went wrong →
идет // качается
вздыхает // кончается
упаду – ууу:
хорошие стихи went wrong плохие стихи went wrong никакие стихи went wrong большой литературный процесс went wrong малый литературный процесс went wrong →
владимир путин went wrong сергей шойгу went wrong сергей лавров went wrong мария захарова went wrong владимир кисилев went wrong владимир соловьев went wrong захар прилепин went wrong андрей аствацатуров в особенности went wrong андрей полонский went wrong нина щербак went wrong но не александр скидан →
we’re sorry, but something went wrong:
zed mode is on –
все друзья went wrong все враги went wrong черный список went wrong перспективы отношений went wrong перспективы ons went wrong перспективы публикаций went wrong все ориентации went wrong все гендеры went wrong все местоимения went wrong все срачи went wrong все went wrong даже мое отражение →
американские выборы went wrong российские выборы went wrong беларусские выборы went wrong великобритания переизбрала королеву на вечный век →
we’re sorry, but something went wrong:
динь динь динь // бом бом –
облака went wrong небеса went wrong солнечная система went wrong млечный путь повернул налево кольца сатурна теперь квадраты и страна моя родная аннексировала стратосферу разбомбила нахуй все живое потому что может и в рай а все просто zдохнут →
денатоты went wrong идеологии went wrong деколониальное евразийство бля а может просто лиговские подворотни наши смыслы не работают я почти поверил в то что гей но потом хуяк и все – мужик и танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки татататанки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки тататанки танки танки татанки танки тататанки танки трататанки танки танки танки танки танки танки танки танки танки ууу танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки ебать танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки танки ПИДОР танки танки трататанки танки танки тататанки танки танки и ВоНюЧкА и танки танки танки ууу танки танки went танки танки wentt танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки wentttt танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки went танки wenttntntntttttttttанкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwentnt танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwent танкиwenttt танкиwentwentttttaнкиtaнкиtaнкитрататанкитататанкитантантанкиииииииииииии
иииииитратататанкиwentwentwentwentwentwentwentwentntntntntntntntnttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttratatattttttttttttttttttratatattttttttttttntt
tttttttntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttntttttttr
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrrata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatrrrrratatatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata
tratratraxnimeniatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatratatatratatatatatatratatrrrrrrratatatatatitatatati
tatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatata
titatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatitatatatatititititititittuttifruttitititititi
titititiiitttitiiitititititttitititititantttttawenttttatatitatatitatatatitatatitatatitatatiwetati------
--------------------------------------------------------------------------------------
we’re sorry, but something went wrong )))
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТЕРИ
будем отмечать
несмотря и не глядя –
нас разделяют тысячи километров и когда
этой полярной ночью открываешь глаза
отчетливо видишь как в первый раз (
молот чужого слова) –
м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а т ь м а и с о л н ц е –
в ожидании вывернулось наизнанку
ОТКРОВЕНИЕ-АЛЛЫ
ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ
1956 год. Голая стена из ДСП, нарисованное окно, нарисованная мелом белая дверь. Девочка Алла со старым лицом. Бабушка с молодым лицом в мехах, в ее руках изумительный кристалл микрофона. Рабочие сцены на веревке спускают горящий диско-шар, с него падают обугленные зеркальные куски, плавясь в воздухе.
БАБУШКА
(шепчет)
НЕ ДВИГАЙСЯ
Алла смотрит на огненный шар перед собой. Иглы яркого огня продевают язык, будто приклеивая его к нёбу. ЧТО ЗА СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ МЫ ОКАЗАЛИСЬ. Объект перемещается чуть-чуть вверх и опять застывает.
АЛЛА
Это ИГЛА ли / ВОЛНА ли / ОГОНЬ ли / МОЛНИЯ ли
Семилетняя ощущает, как сквозь нее проходит волна. Затем шар дергается и резко вылетает в окно. Но окно, как мы узнали ранее, нарисовано на голом ДСП, поэтому обезображенный шар падает на сценический паркет. Парафиновая поверхность начинает таять от иного огня. Дым заполняет помещение. Зритель с первого ряда — пожилой мужчина, аполитичный, с густо подкрашенной бородой — зритель с первого ряда блюет на колени молодой девушке в футболке с надписью DEAD KENNEDYS: GIVE ME CONVENIENCE OR GIVE ME DEATH. Алла чувствует приближение ауры, с которой, как известно, начинается культура.
73-ЛЕТНЯЯ АЛЛА
(вспоминает)
Шаровая молния зависла надо мной и что-то внедрила. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, в каком виде бывает магма на штыках тысячи военных станов, такой вид имело это сияние кругом. В каком виде бывает кровяной минерал на губах убитого, такой вид имели мои глаза, отражающие соборный огонь империи. Тогда я написала стихотворение:
ГУБЫ НЕБА МОРЯ ОСУШАЮТ ДО ДНА
И ВЕСНА ЧТО ДО КРОВИ УРОДА ЖАДНА
И ПОД НАМИ ЗЕМЛЯ ГОВОРИЛА ЕДВА:
ПОКА СОЛНЦЕ ОДНО, И ПОБЕДА ОДНА
73-летняя Алла сидит перед камерой. Ее лицо проецируется на стену. У нее берут интервью, и она вспоминает, как шаровая молния набрякла лопнувшей ягодой. Тогда из нее выползла змея, но назвать это выползанием было бы поспешным выводом. Дело в сокращениях нервных окончаний в мертвом теле. Поэтому змеиная туша обратилась в козу, брюхо которой набухло, как дирижабль, глаза которой сверкали, как пламя пылающего дирижабля — языческий идол во рту диктатора, небо на фоне как ванна с животной кровью. Рядом с козой воздушные уши слона, его тело из папье-маше. Огромная кишка хобота с динамиком на конце, льющим крики, смех и аплодисменты многотысячной аудитории из широкого коридора как бы гортанной полости.
СЛОН, КОЗА
(кричат)
ЧТО С НАМИ СДЕЛАЛ ТЫ? ЧТО С НАМИ СДЕЛАЛ ТЫ?
Слон и коза сверкают глазами, обращаясь в грозу. Они берут за руки Аллу Пугачеву и кланяются зрителям. На сцену летят розы, сделанные из чьей-то жизни.
73-ЛЕТНЯЯ АЛЛА
(улыбается с пышными букетами в руках)
Щас жизнь
такая, знаете, суетная, беспокойная, но все пройдет,
все будет хорошо. СПАСИБО!
ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ / ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖ
Говорят, что звуки никогда не перестают звучать, они наполняют пространство, как пена — водяная накипь — может наполнять хрустальную сферу / стеклянный мешок. Впитываясь в воздух, они нисходят на те частоты, которые не слышит человеческое ухо. Однако Алла слышит. Мужья Примадонны нередко жаловались на ее возгласы во сне. На сцену выходит седой мужчина с черными бровями, к его носу присоединены блестящие трубки, сообщающие воздух, на голове его причудливый убор с рогами оленя и перьями страшной птицы.
55-ЛЕТНИЙ ФИЛИПП КИРКОРОВ
(монотонно и кашляя)
Конечно, Алла слышит все эти звуки. Когда мы жили вместе, во сне она кричала так: СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ЗВУКА, ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ЛОПНУЛА ОТ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГОРЯ / КТО БУДЕТ ПЕТЬ НА НЕБЕСНОМ КОРПОРАТИВЕ / КОГДА ВОЗОПЯТ ЖИВОТНЫЕ / КОГДА ВОЗНИКНЕТ НЕЗЕМНОЙ ОБРАЗ / ДАБЫ УМЕРЩВЛЯТЬ МЕЧОМ И ГОЛОДОМ И МОРОМ И ЗВЕРЯМИ ЗЕМНЫМИ / НЕ БОЙСЯ МЕНЯ / ВООРУЖЕННОГО / Н͈̠͇͙̠̟̥͖͉̲̝̳̔̐̃̊͂͌̽͂̒͊̓̅Ѐ̣̞̯͖̬̗͔͔̮͙͛̋͗ͅ Б̞̬̤̩͎͕̥͇͈̃̃̌͒О̳͔̲̱͓͔̯̥̭̿̈́͗̎̋̊Й̬͙̰͎̥̖͊̿̀̿̈́̄̚ͅС͚̤̘͔̱̫̣̱̤̜͍͙̈́̂̔̉̅̾Я̘͎͓̪̗̝͔̔̄͐͊͋͐̅̚ М̰̯̝͎̮̙̪̩̙̙̗̅̌̐͂̈́͛̚ͅЕ̞̪̮͇͈̗̞̥͓͂̊̄͌́̄̈́̔̊́̾̚Н͔̠̭̲̬͚͉̯̓̂́́̌͑̿Я͍̳̪̙̬͇͋̿̆̑̒̓́̌͌̊̀̇ͅ.͚̮̳̖̰̲̮͖̯̤͈̑̋̐̐͐̃͐͌̂̈ͅ.̖͎͖͍̦̐̏͆̉̊.͖̳̱͍̍͌̅̿ / ВООРУЖЕННУЮ / ИБО ПРИШЕЛ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ГНЕВА ЕГО / И КТО МОЖЕТ УСТОЯТЬ.
У Аллы сильный пророческий дар. Однажды я должен был лететь в США, и Алла посоветовала отложить полет. Я остался. Самолет не упал, но на борту были серьезные неполадки.
Он долго смотрит в темный зал, повторяя слова СЕРЬЕЗНЫЕ-НЕПОЛАДКИ, сначала улыбчиво и неловко, с каждым разом все серьезнее. Филипп Киркоров берет в руки топор и наносит несколько ударов по белой двери, нарисованной белым мелом на стене. Из трубок в носу начинает литься непонятная жижа, похожая на глиттер. На сцену врываются медики и увозят его на коляске. В зал входят люди в служебной форме и начинают задавать зрителям неудобные вопросы: как они относятся к действиям правительства, кому доверяют, что собираются сказать на Страшном Суде, какое белье предпочитают. Потому что было бы очень неудобно, если бы это были стринги, например. Ведь, по выражению известного поэта Андрея Таврова, стринги и короткие платья представляют собой лобовое мышление и вульгаризацию реальности поэтического пространства, в котором мы с вами живем. Жуткое время.
АНТРАКТ
Зрители выходят в холл театра. Кажется, для них приготовили фуршет. Широкий стол, у которого стоят. Широкий стол, у которого стоят официанты и пьют шампанское с широкого стола. Когда зрители пытаются взять бокалы с широкого стола, официанты начинают ругаться и запрещать зрителям брать бокалы. Еще в холле бегает какой-то лысоватый человечек с красным галстуком и лицом, но он делает это так скромно (хихикая в пиджак), что никто не придает этому значения. Мало ли что бывает.
КОНЕЦ
АНТРАКТА
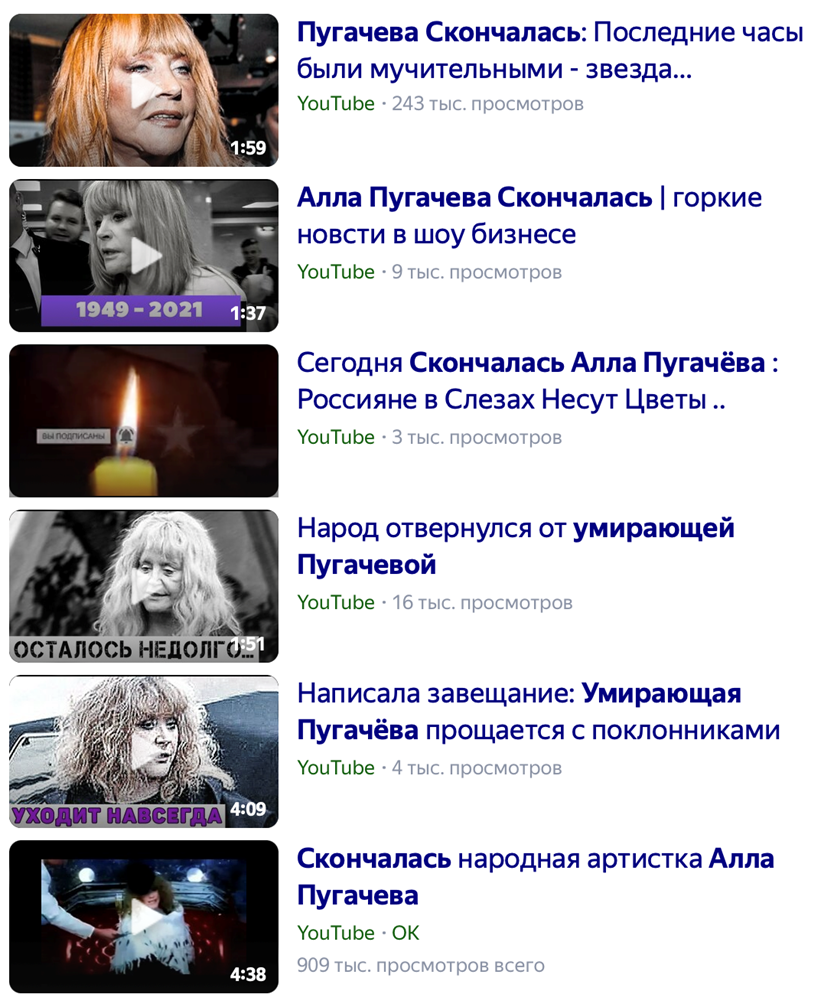
ТРЕТЬЕ ВИДЕНИЕ / ЭЛЕГИЯ АЛЛЫ
2022 год. На фоне голая стена из ДСП, на которой нарисована белая дверь, прежде пострадавшая от ударов Филиппа Киркорова, четвертого мужа певицы. Медленно на сцену выходит хор мужчин в пиджаках, они улыбаются. За ними выходит дирижер — лысый мужчина в очках, смахивает на Мишеля Фуко. Алла одета в бесконечные меха, черные кружева жабо погоны медали на шее стразы перчатки, свисающие с платья. На фоне проецируется экран, там кто-то гуглит новости о Примадонне. Большие заголовки, буквы:
ГАЛКИН НЕ СМОГ ПРИЕХАТЬ: ПОКЛОННИКИ НЕСУТ ЦВЕТЫ И СВЕЧИ К УМЕРШЕЙ ОТ ШЕСТОГО ИНФАРКТА ПУГАЧЕВОЙ
РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА АЛЛА ПУГАЧЕВА ИМЕЕТ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОДНУ НЕДЕЛЮ НА ТО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, ЗА РОССИЮ ОНА ИЛИ ПРОТИВ НЕЕ
И так далее. Алла начинает петь.
АЛЛА ПУГАЧЕВА
(поет)
в нарисованных джунглях / нельзя заблудиться / и не съест никого / нарисованный зверь / в черном своде висят купола как глазницы / и пищат две звезды не от счастья теперь / я была как обычно девчоночкой странной / а сейчас я похожа на елку в лесу / и кричат катастрофой и гибелью страны / а я дома сижу и кастую козу
ХОР
(поет)
Уже была тут коза. / ОДНАКО АЛЛА / АЛЛА В ЭТОМ ТЕКСТЕ / В ЭТОМ ТЕКСТЕ АЛЛА / МЫ ВИДИМ РЕЗКУЮ СМЕНУ / ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ / СУБЪЕКТ ОВЛАДЕЛ ДВОЙНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ / АМБИВАЛЕНТНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ / ДИАЛЕКТИКОЙ ЕСЛИ УГОДНО / НАСТОЯЩИЙ ЯЗЫК КАТАСТРОФЫ
АЛЛА ПУГАЧЕВА
(поет)
спасибо друзья но теперь
Теперь я хочу сказать яснее.
Я давно уже не обычная женщина.
Я не совсем человек. Я могу молчать
и я могу говорить. Разницы нет. Я могу жить
или умереть, петь или шептать, поддерживать
кого угодно или быть против всех. Я давно не в
ответе за свое тело, свой голос, свое мнение. Мой
образ это как бы напряженный сгусток гетерогенного
потенциала, лучистая сфера из разнонаправленных векторов,
мои глаза источают киберлучи, которые порождают тексты, видео- и
аудиоматериалы, киберлучи, которые испражняются медиапотоками и
медиапотоками же оказываются зачаты. Я совсем не человек. Я КИБЕРБОГИНЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АУРА О ТЫСЯЧЕ ГОЛОВАХ, БЕДРА ВКИПАЮТ В МОНИТОРОВ СВЕТОДИОДЫ. Я вирус, который заражает твой компьютер, когда ты нажимаешь на то, что называется моим лицом. Я парю поверх жизни и смерти, поверх добра и зла, войны и мира, я Альфа и Омега, Сигма и Фета. Мое лицо плоское, и оно перемещается, даже когда я сплю. Что это висит за тобой. Я Алла, погибшая от сердечного приступа, я Алла, погибшая от шестого инфаркта, я Алла, пострадавшая в автокатастрофе, я Алла, зажатая в тиски / РОССИЯНЕ В СЛЕЗАХ НЕСУТ ЦВЕТЫ / я лобовое касание, паучиха в конце американских горок, большие сочные жвалы в дыре воронки как итог твоего скольжения ///ОСТОРОЖНО В ЛИФТЕ МАНЬЯК / я Алла, Алла, Арлекино, нужно быть смешным для всех, я Алла — QR-код, ЯДЕРНАЯ БОМБА — сияющий слюной леденец в глотке священника, я аттракцион политического высказывания, тринадцатый кегль, текст, пишущий сам себя, ракета, полет которой засемплирован и наложен на бит, битый пиксель размером с город, мюллер, жаба, эсхил, арто, МРАЗЬ ДЕРЬМО КАЛЕКА

взрывной гриб у твоего пупка / костяной глаз над лесом намерений
ЧЕТВЕРТОЕ ВИДЕНИЕ / ТЕТРАМОРФ
Зрительница №1:
— у них просто как один живой организм каждый
звук отточен ну я говорю мы просто потрясены
Зрительница №2:
— какой звук а какой чистый звук
с ума сойти можно
Зрительница №3:
— кланяюсь создателю
На сцене пусто. Рабочие сцены медленно выносят клеенку огромного размера и устилают поверхность. Заторможенный метроном объемного электронного баса: раз в восемь секунд. Клеенка заливается скользкой красной жидкостью. На фоне видео / крупный план / лицо Аллы / раскрытый сном рот.
Дым вылетает с разных сторон / вспышки света, будто на фотосессии или где-то сверкает электрическая авария. Гарь. В дыму лицо искажается.
Медленно появляется хор мужчин, ор мужчин, они кричат и двигаются скользя немного в разные стороны, как большое безобразное тело, как общее дело, истлела / будто одежда / на сцене все еще скользко, поэтому мужчины могут падать и неизбежно мазаться красной краской. ДОЛГИЙ БАС / БАС / где-то будто открытый кран / в отдалении стоит Лев Троцкий в виде католического мученика / что-то стучится в белую дверь
АЛЛА
(поет)
В нарисованных джунглях Нельзя заблудиться И не съест никого Нарисованный зверь Только верю я верю я верю Что может открыться Эта белая дверь Эта белая белая дверь
СТУК УСИЛИВАЕТСЯ
ХОР
(крича)
нарисованный зверь нарисованный зверь
Дверь, нарисованная мелом на стене из ДСП, распахнута. Какой вид имеет сжатый кулак света, такой вид имеет сияние оттуда. Дверь блюет великим облаком, среди облака молнии, волны, динамики не выдерживают / сэмплы хрипят / забагованное существо / тормозя / высовывается из проема / грома фонограмма / это подобно вкладке браузера, которая никак не закрывается / душить компьютерную мышь от страха искривленной дланью / ВНИМАНИЕ /// ГОВОРИТ МОСКВА /// и я видел / И ВОТ / среди живота алой ткани / И ВОТ / подобие четырех животных / монитор изрыгающий бесконечные репортажи / И ВОТ / животные выталкивают сквозь резиновые трубки / косметику дроны 3D-очки товары для беременных коллекторские агентства огнестрел контракты электронные подписи БРЕНД PRIMADONNA / в лоне животном / на экране искрятся десятки сварок / и крылья тетраморфа укрывали крылья с правой стороны / и крылья укрывали крылья с левой стороны / существо падало каждый раз собираясь по-разному / и колеса перекатывались по сцене / ободья сплошные / неожиданный овод как глитч на лице / спицы колес / огромные глаза вроде вырванных ноздрей / глаза укрывали глаза с правой стороны / глаза изнутри закрывали глаза / что за устроение этих колес это как мрамора складки / СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ / куда бы ни пошел дух / воздух напрягся спазмом / размазана краска на ребрах тетраморфа / и говорило оно нечеловеческим голосом / на кибернаречии / изрыгая ртом бесконечные транспаранты / УСТАВЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ /
в очередь на НЕБЕСНЫЙ ТРИБУНАЛ выстраиваются
Marilyn Monroe, Ulrike Meinhof, человек с глазами
похожими на миндаль и кто-то еще —
последние люди без стартового капитала в раю
Алла Пугачева (google-голосом). СЕКСИ МЕНЯ УБИЛО///
секси меня убило;;;))) точка с запятой закрывающая круглая скобка / Сейчас я вспоминаю, как:
«Шаровая молния зависла надо мной и что-то внедрила. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, в каком виде бывает магма на штыках тысячи военных станов, такой вид имело это сияние кругом. В каком виде бывает кровяной минерал на губах убитого, такой вид имели мои глаза, отражающие соборный огонь империи».
Тогда я видела ДЕЦИМАЦИЮ размером с
СОТНЮ МАНУФАКТУР
какое-то событие ТОРЖЕСТВО ДУХА
№№№№№№№№№№№№№::::::
№№№№№№№№№№№№№№№№№№
%%%%%%%%%%%%%
неоновый свет НЕ ОТМОЕШЬ)
%%%%%%
мировой трибунал перетекающий в рейв /////////////////////////////
!!!!!УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА «ЧУДО-СЛУХ» 999 РУБЛЕЙ
и нашпигованный веществами нЕБЕСНЫЙ РОТ
это будто раскрытый
СНОМ РОТ будто четыре животных
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
моя же надежда
только
точка грязного слива раковины под блюющим ртом и вмазанные глаза
в м а з а н н ы е г л а з а и))))
подъезд в котором прячешься от ледяного треска
в смертоносный октябрь
ROT__STAROGO_BOGA и свиток слов:
кто не спрятался я не виноват
И НОЧЬ ВЗЯЛА НОЧЬ И ОСВЕТИЛА НОЧЬ






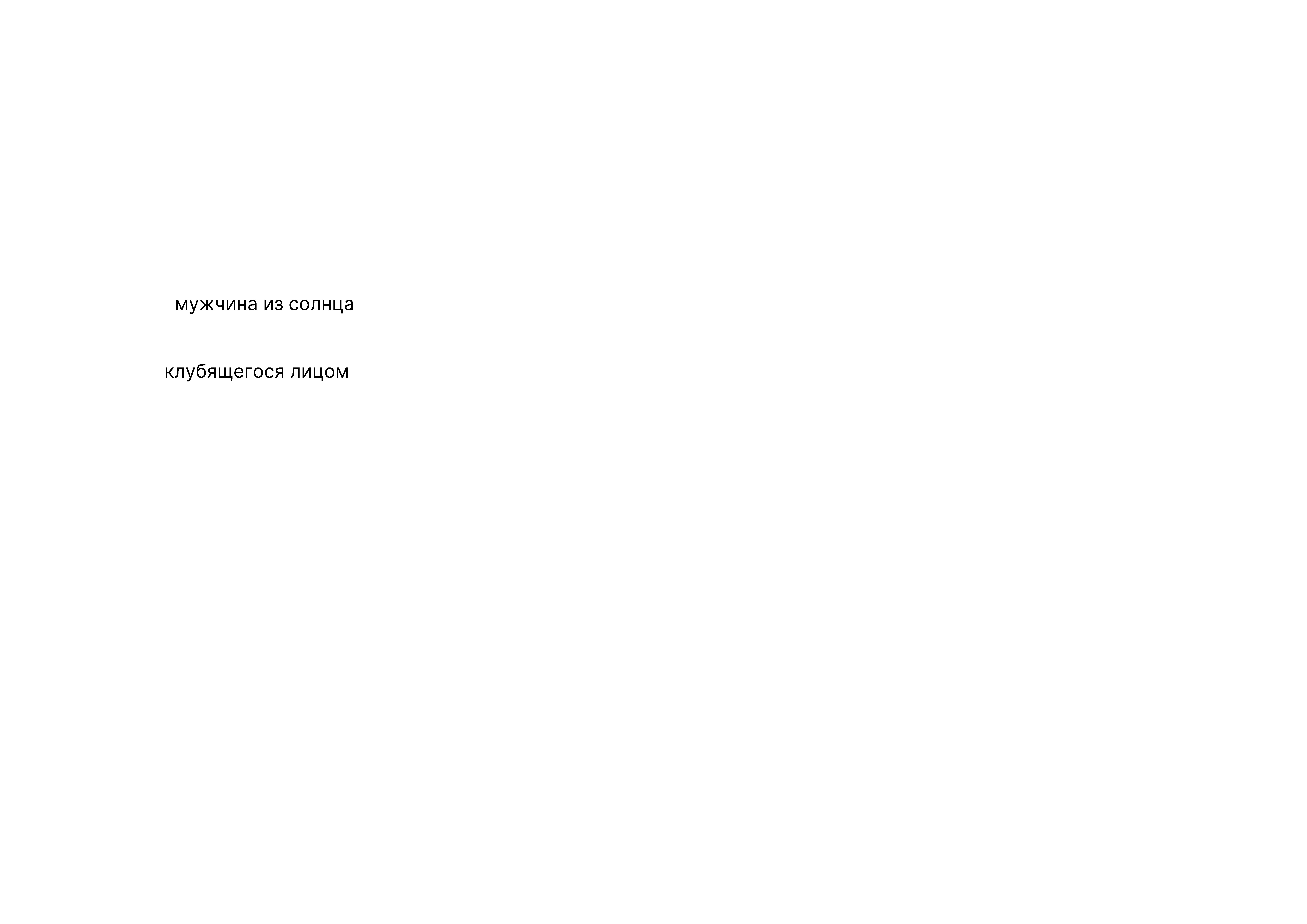










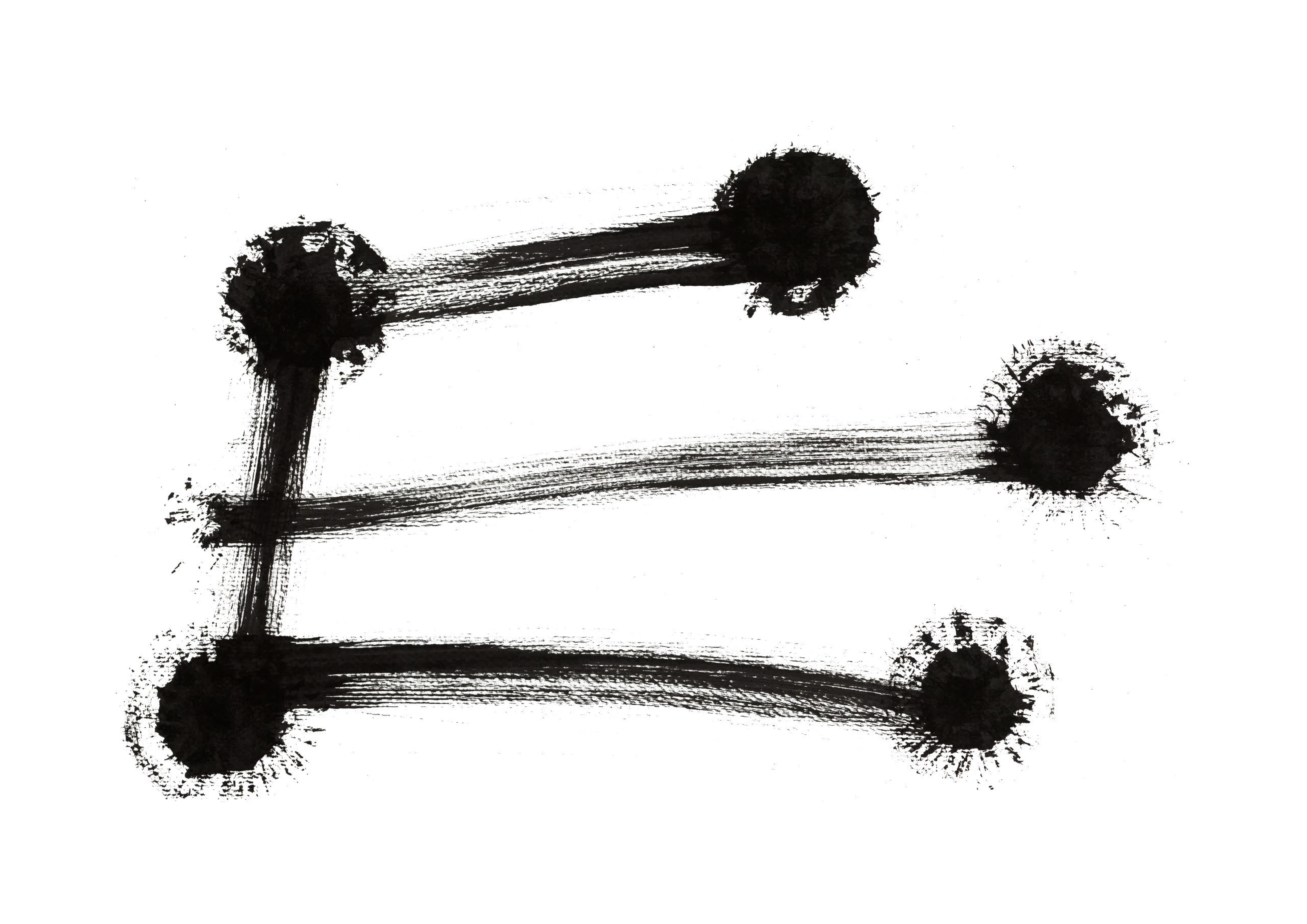

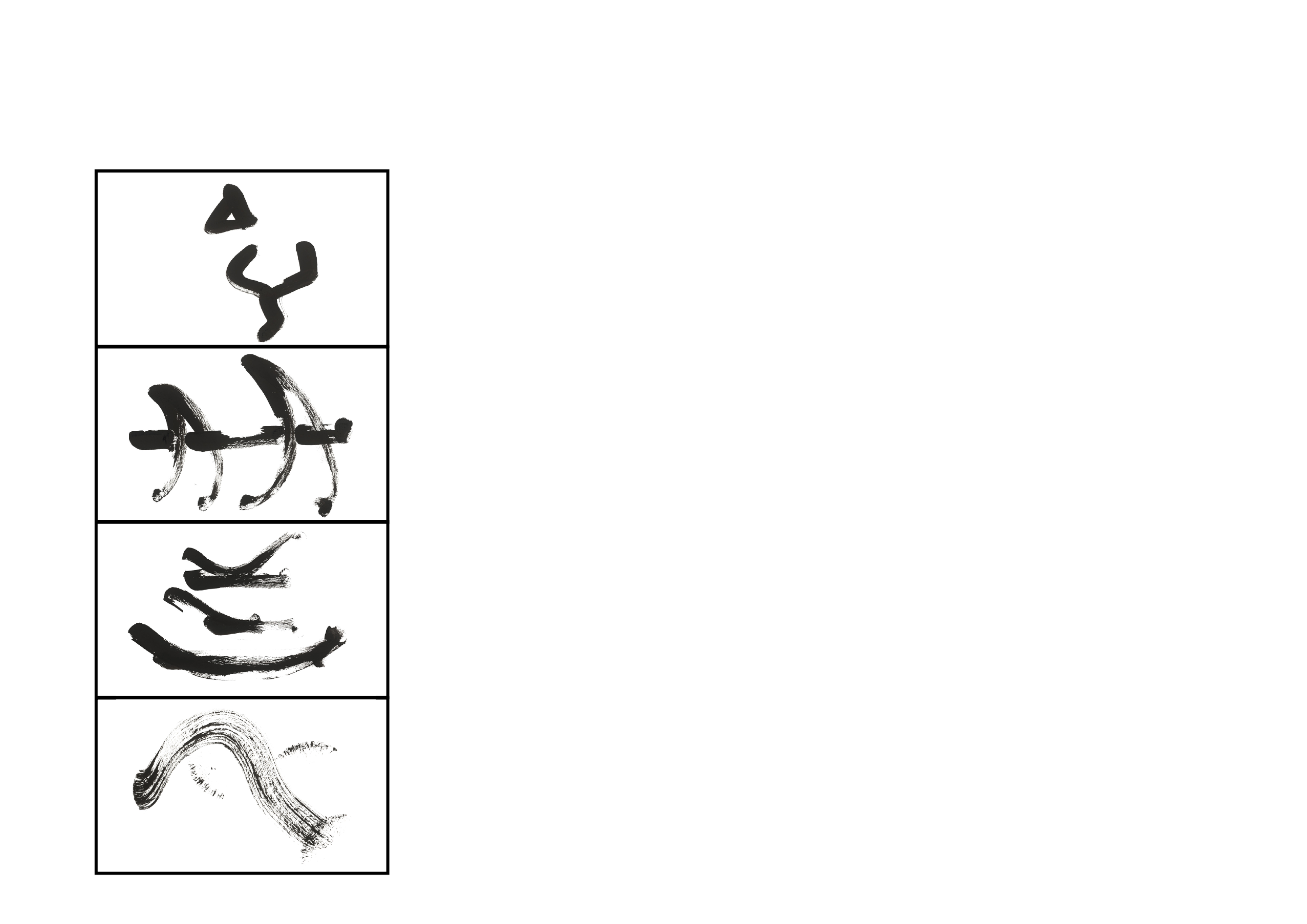
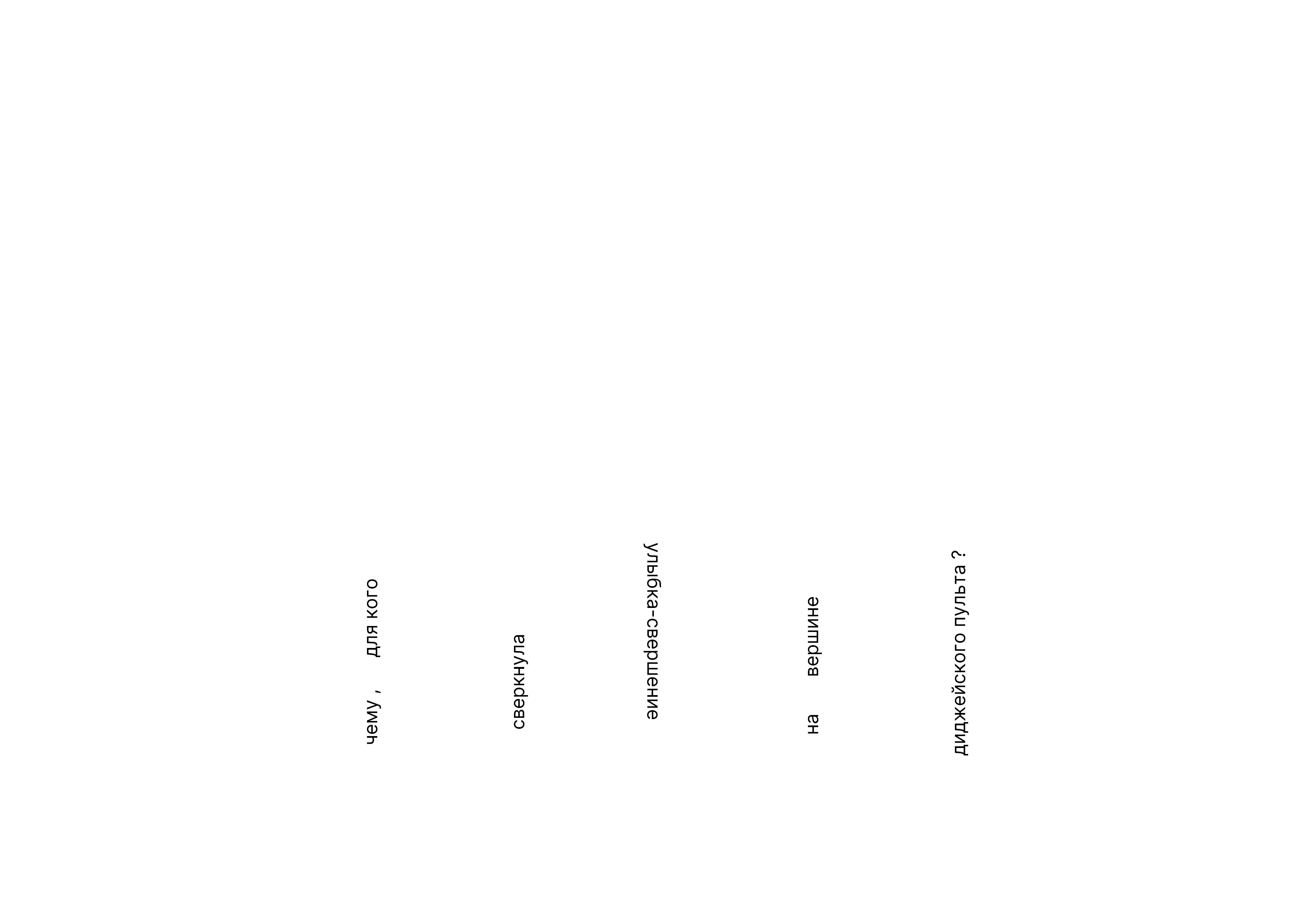


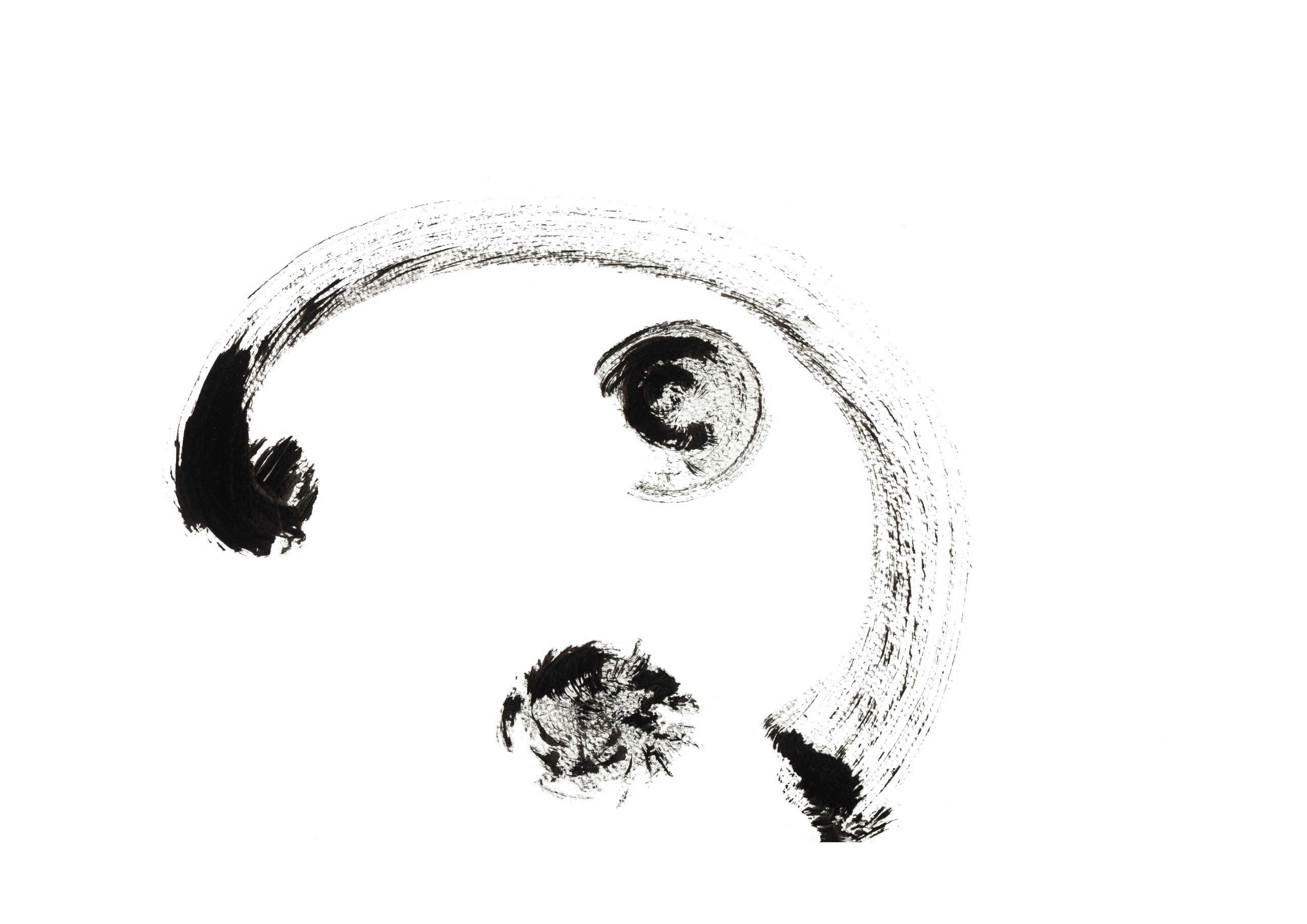






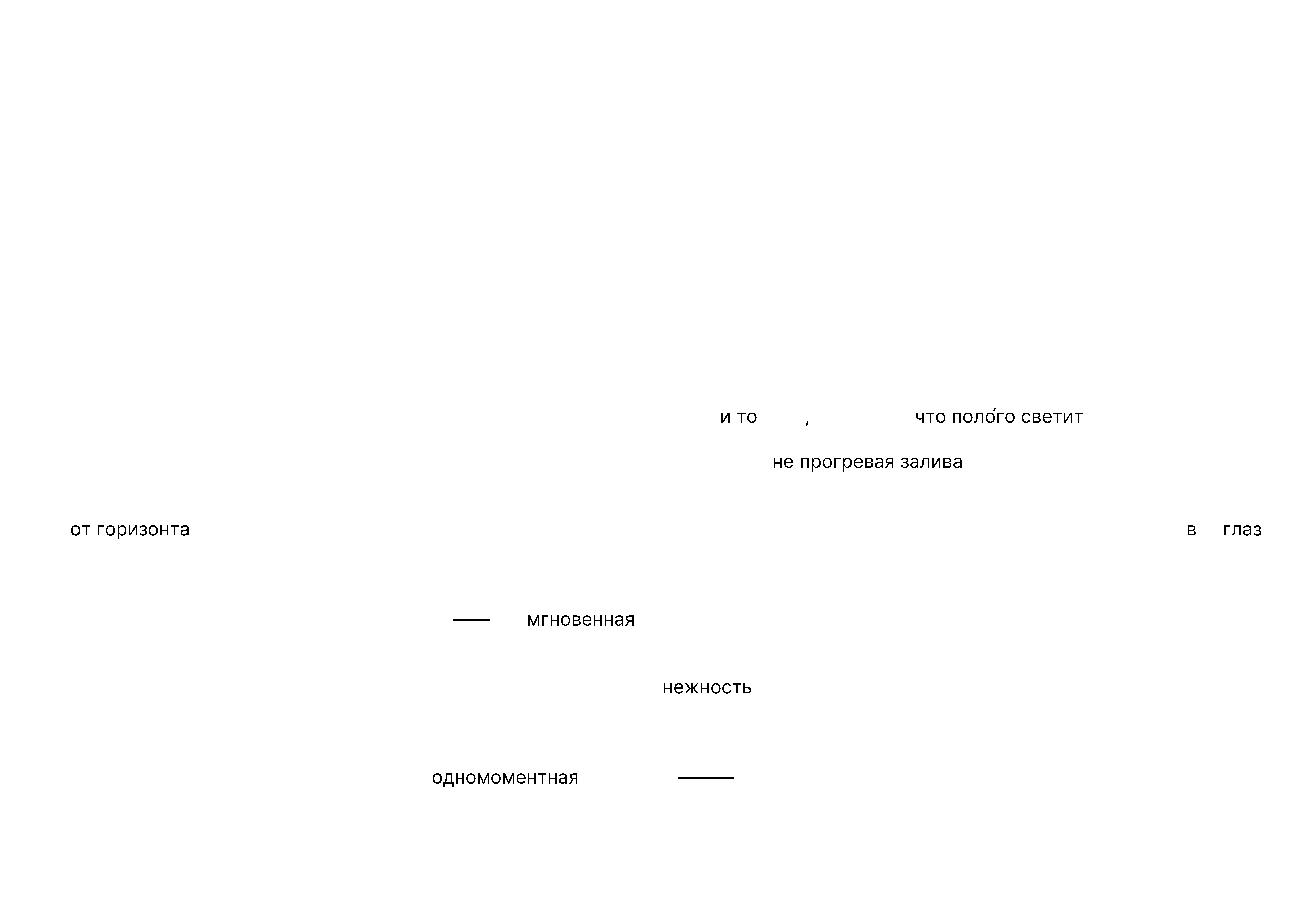


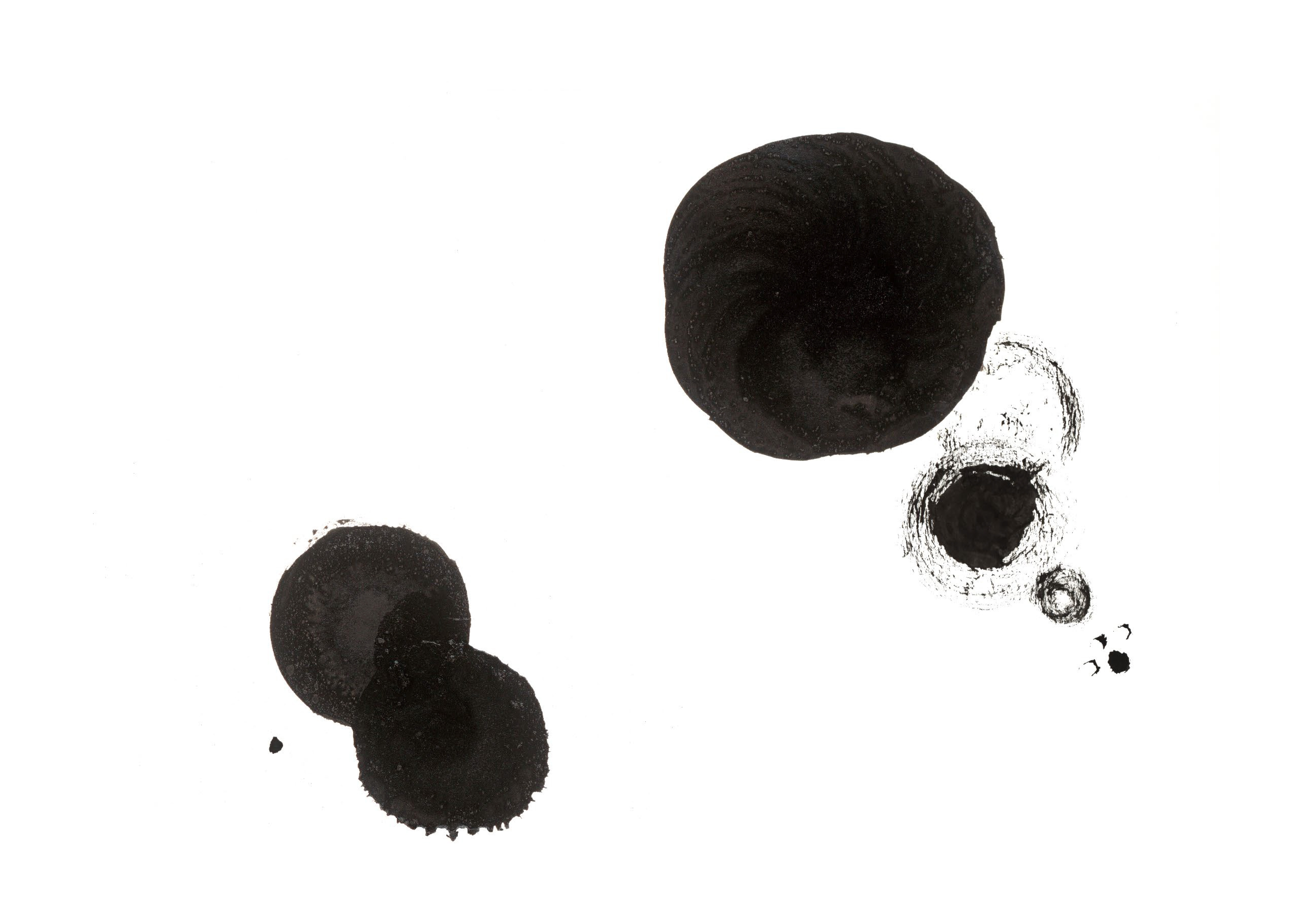
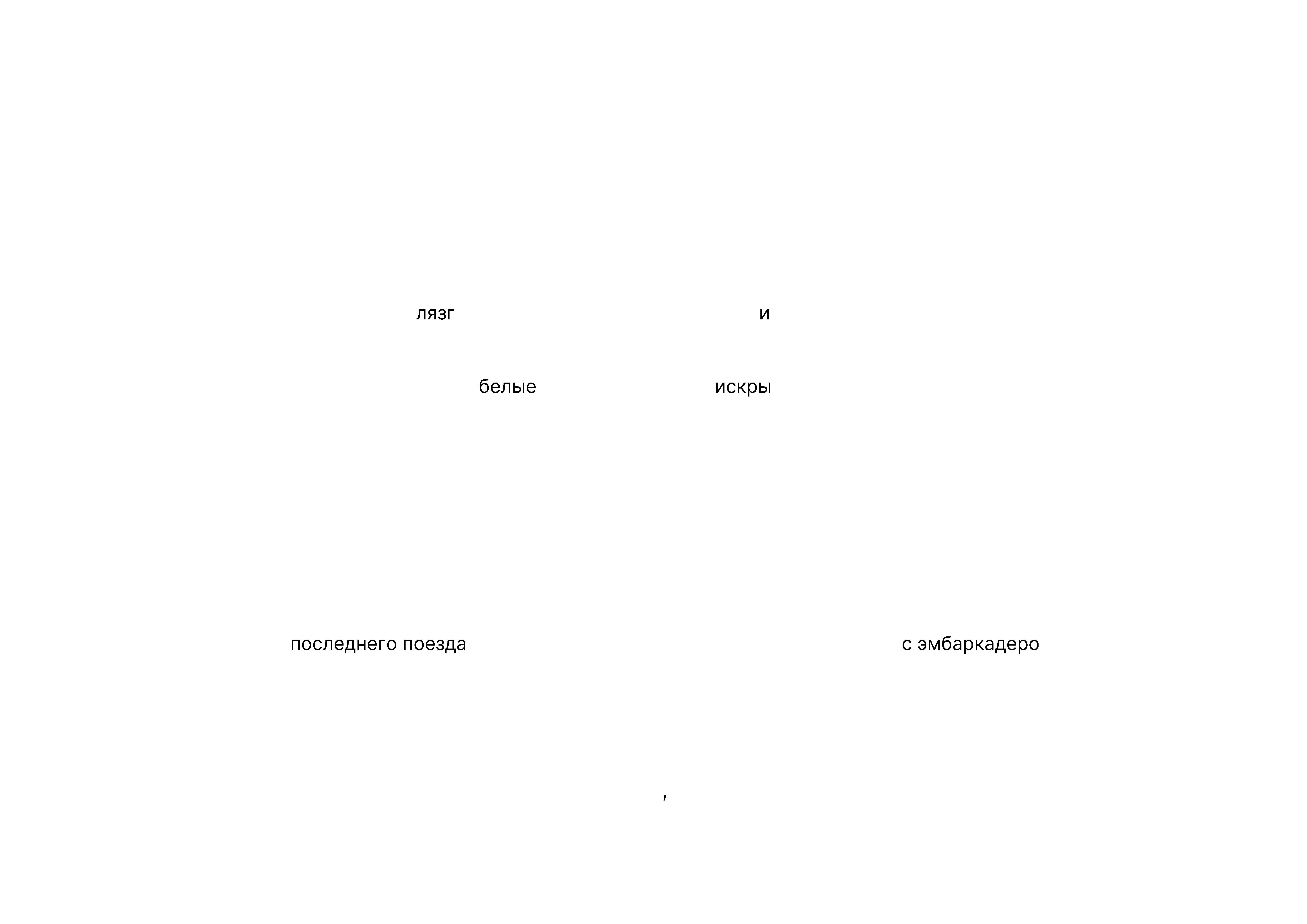


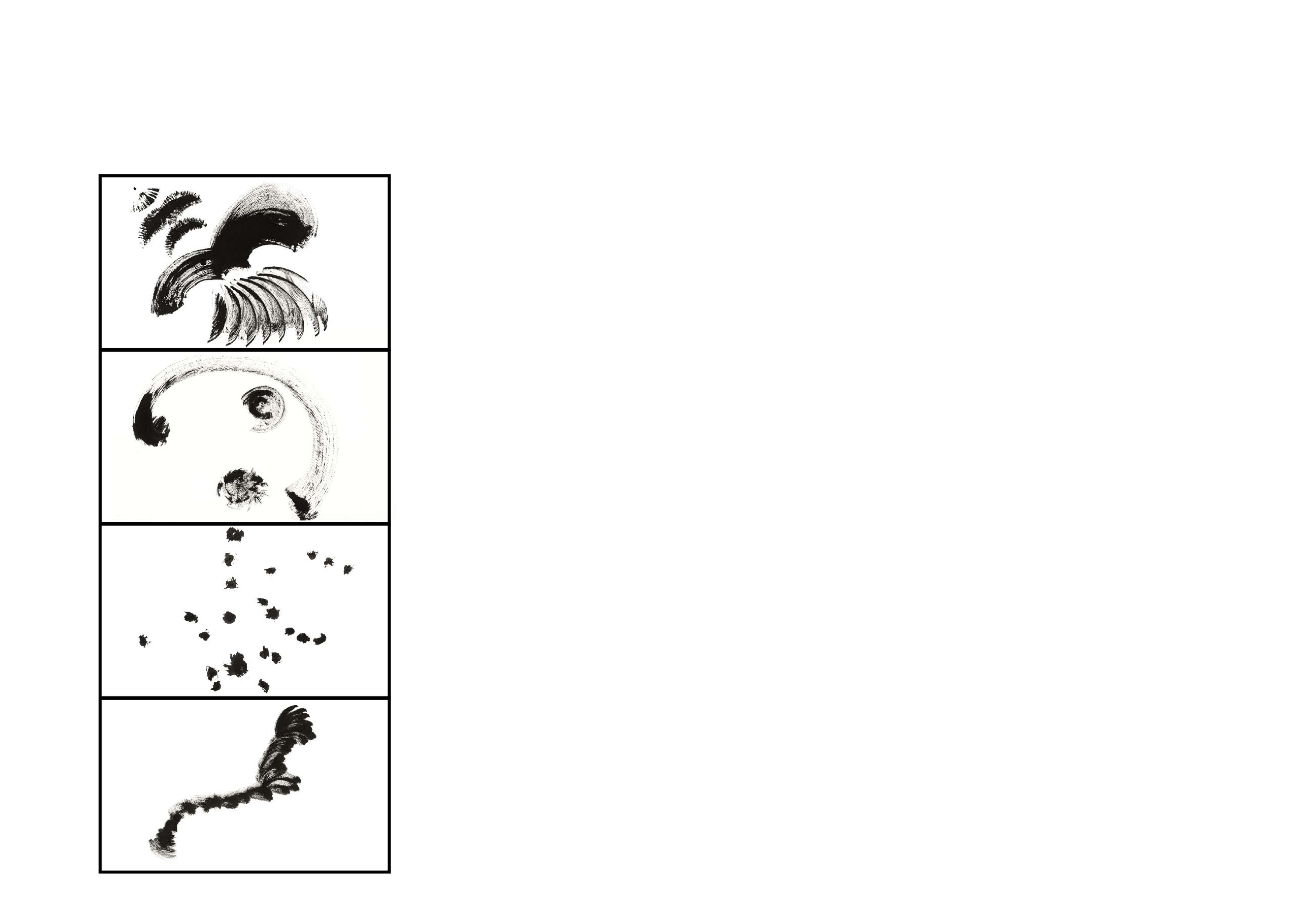




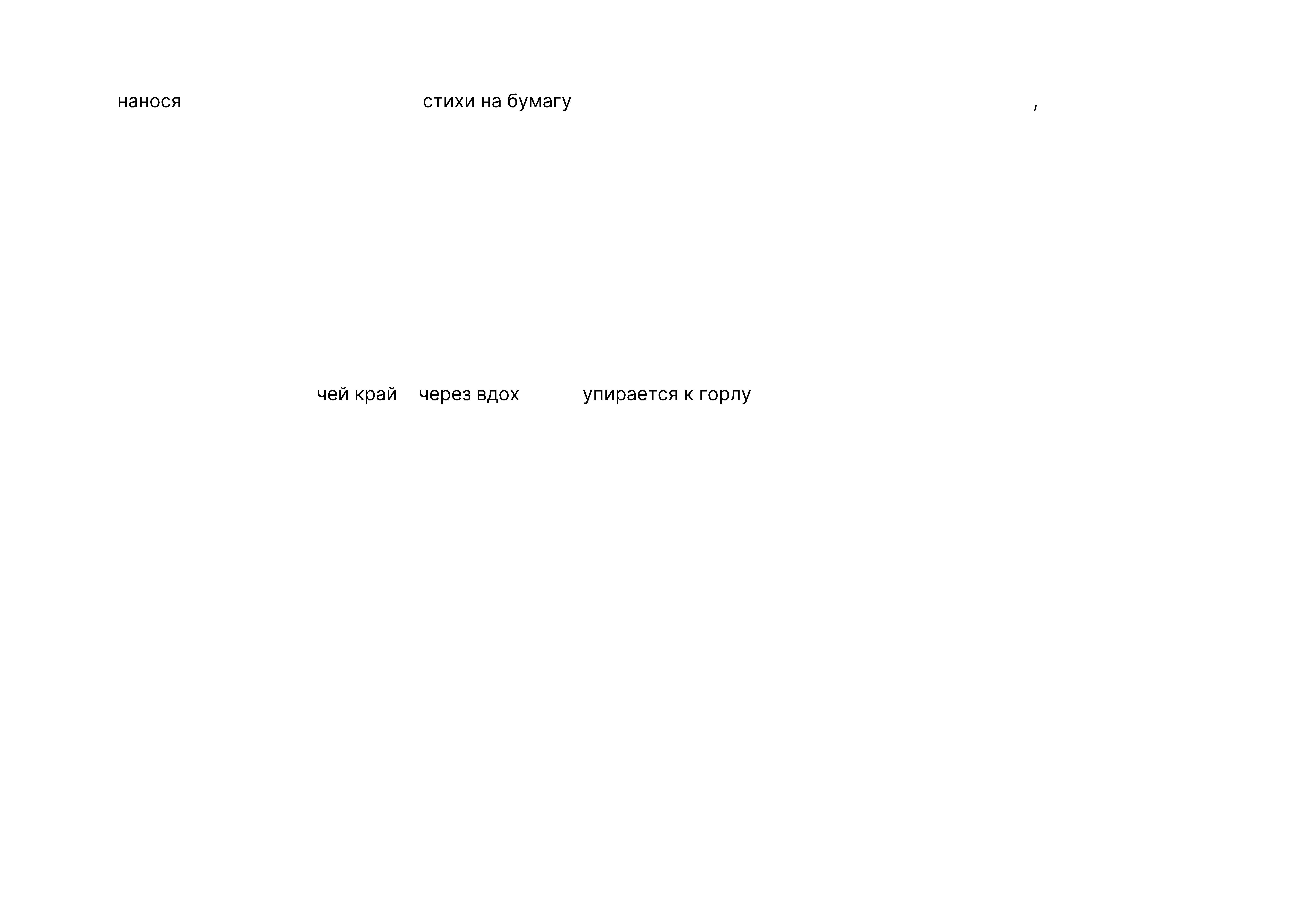







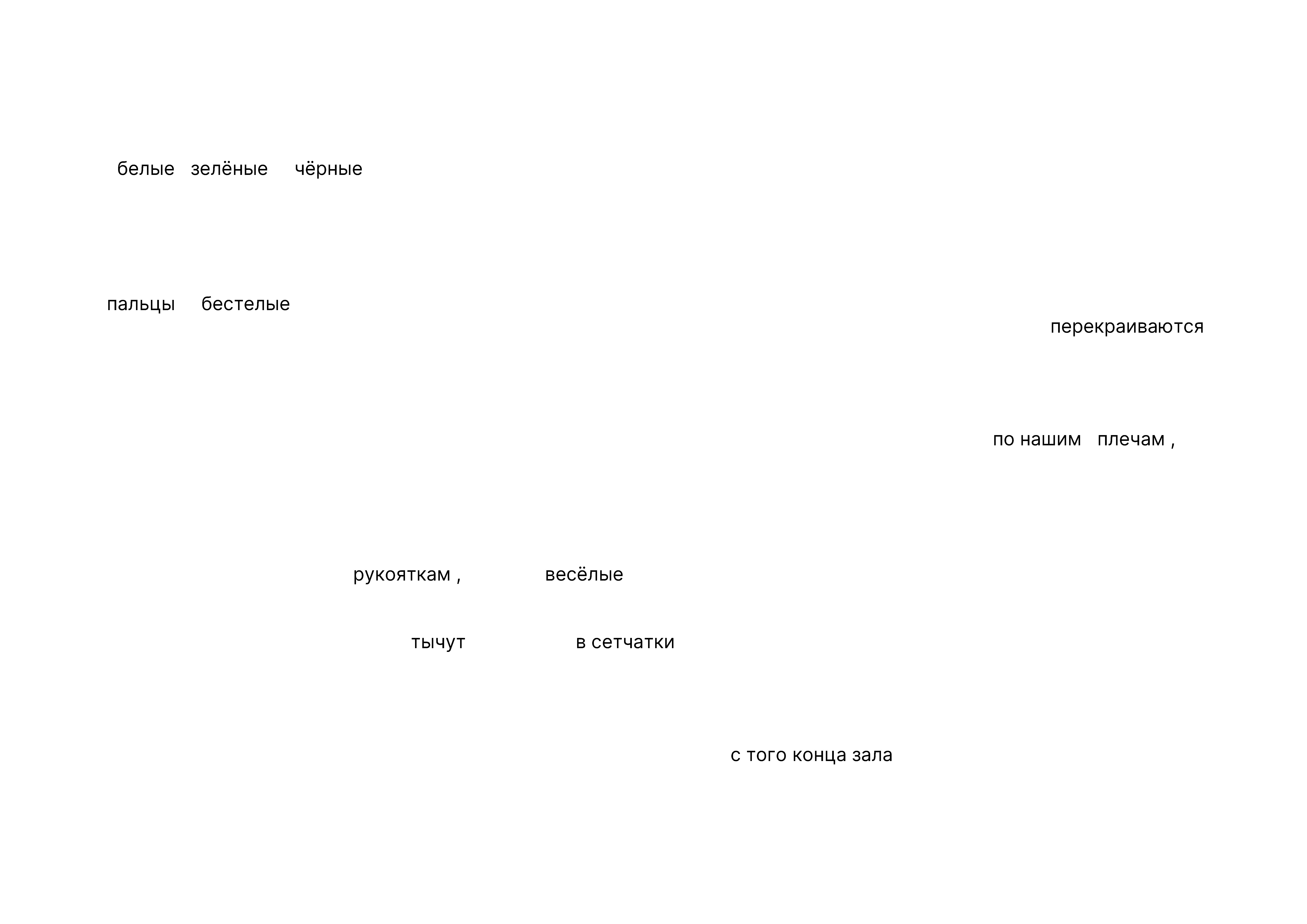

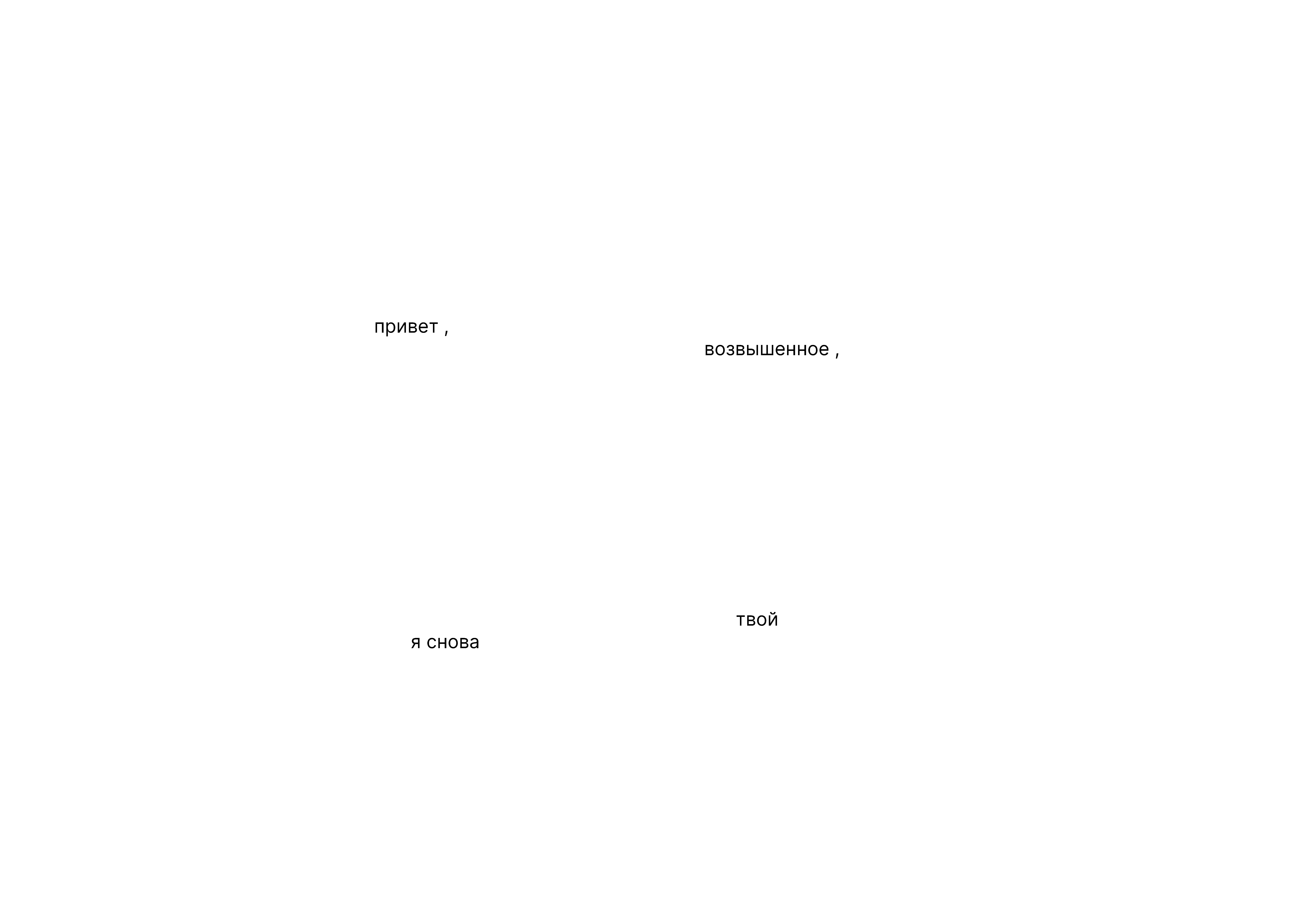
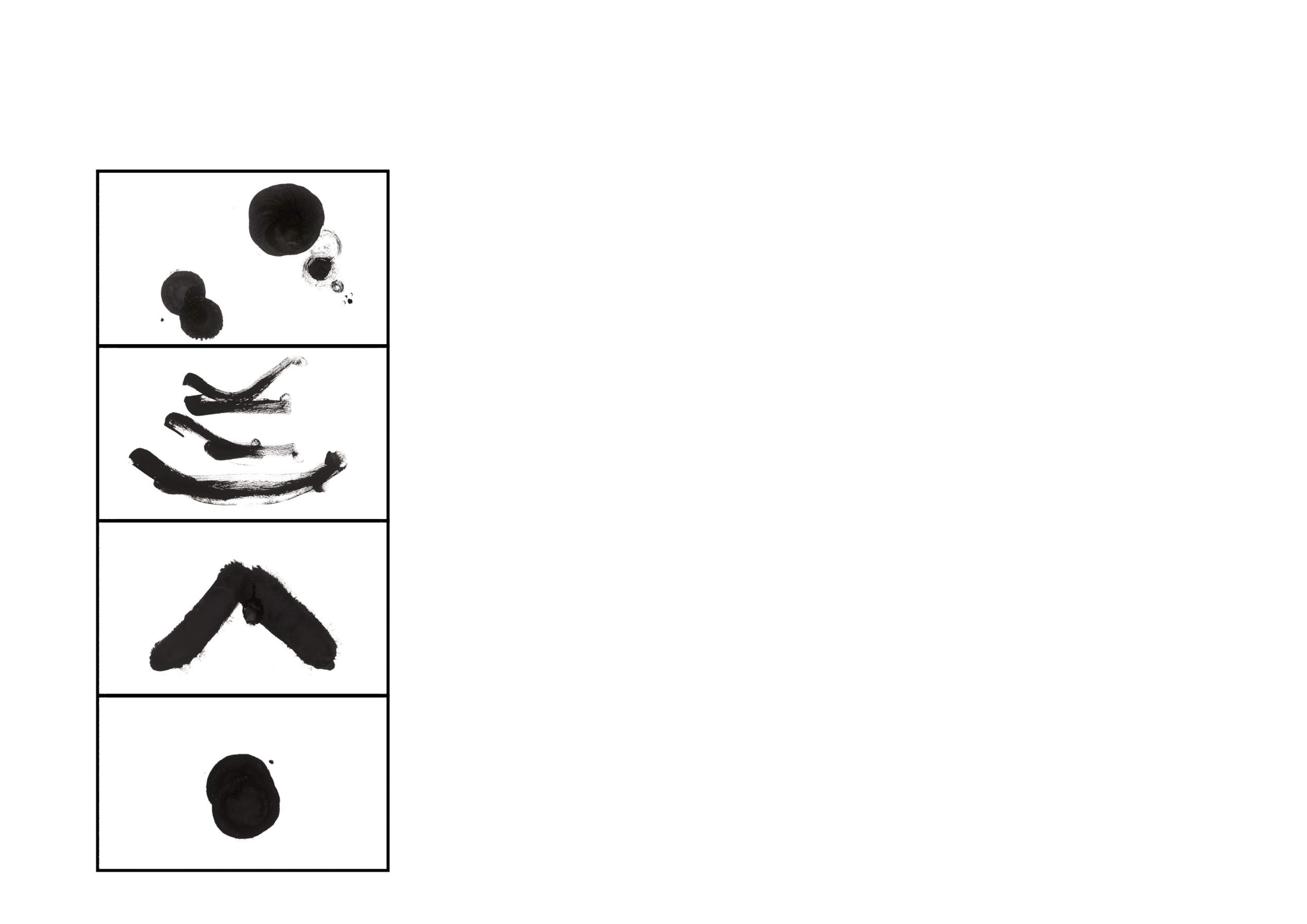
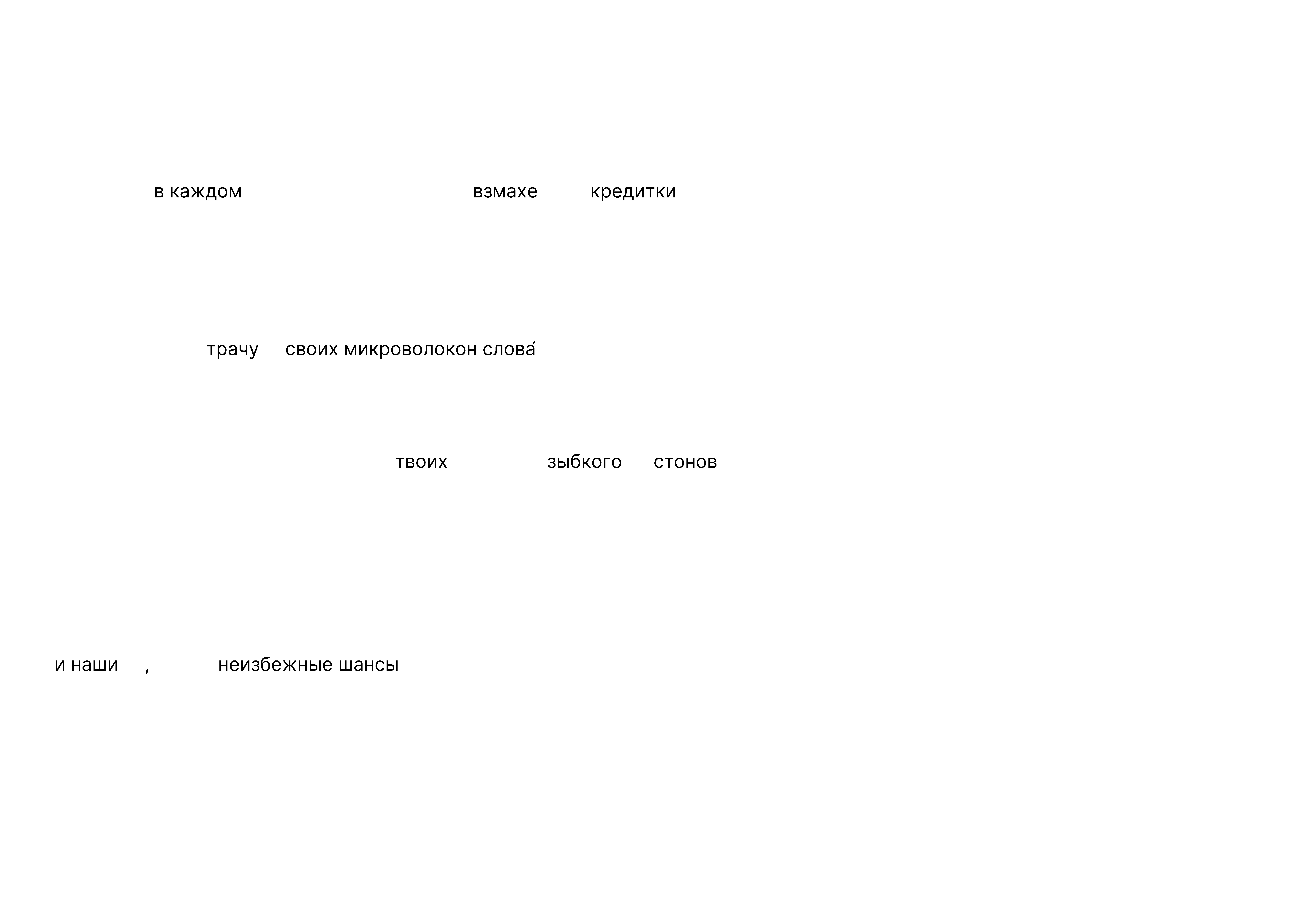

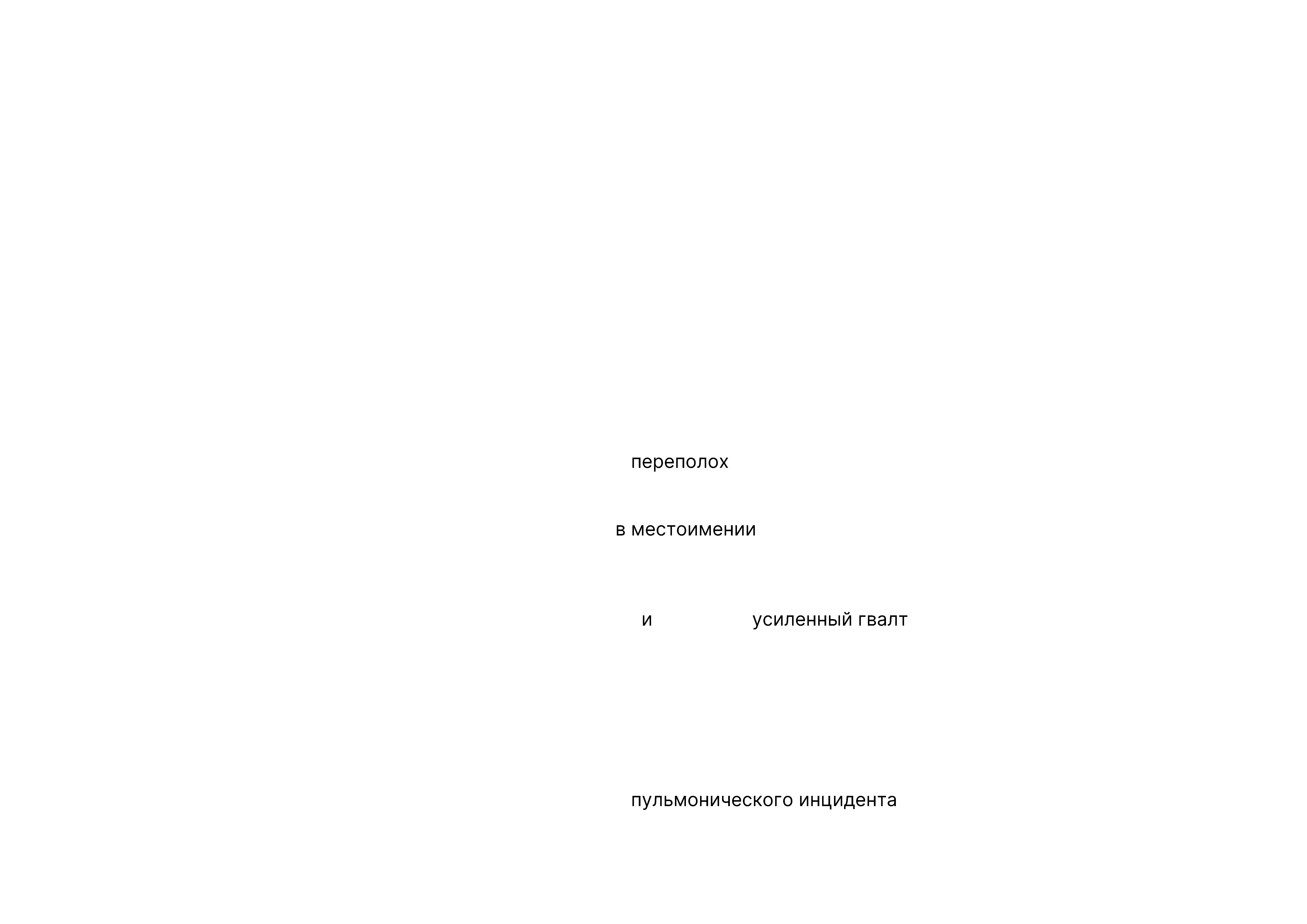
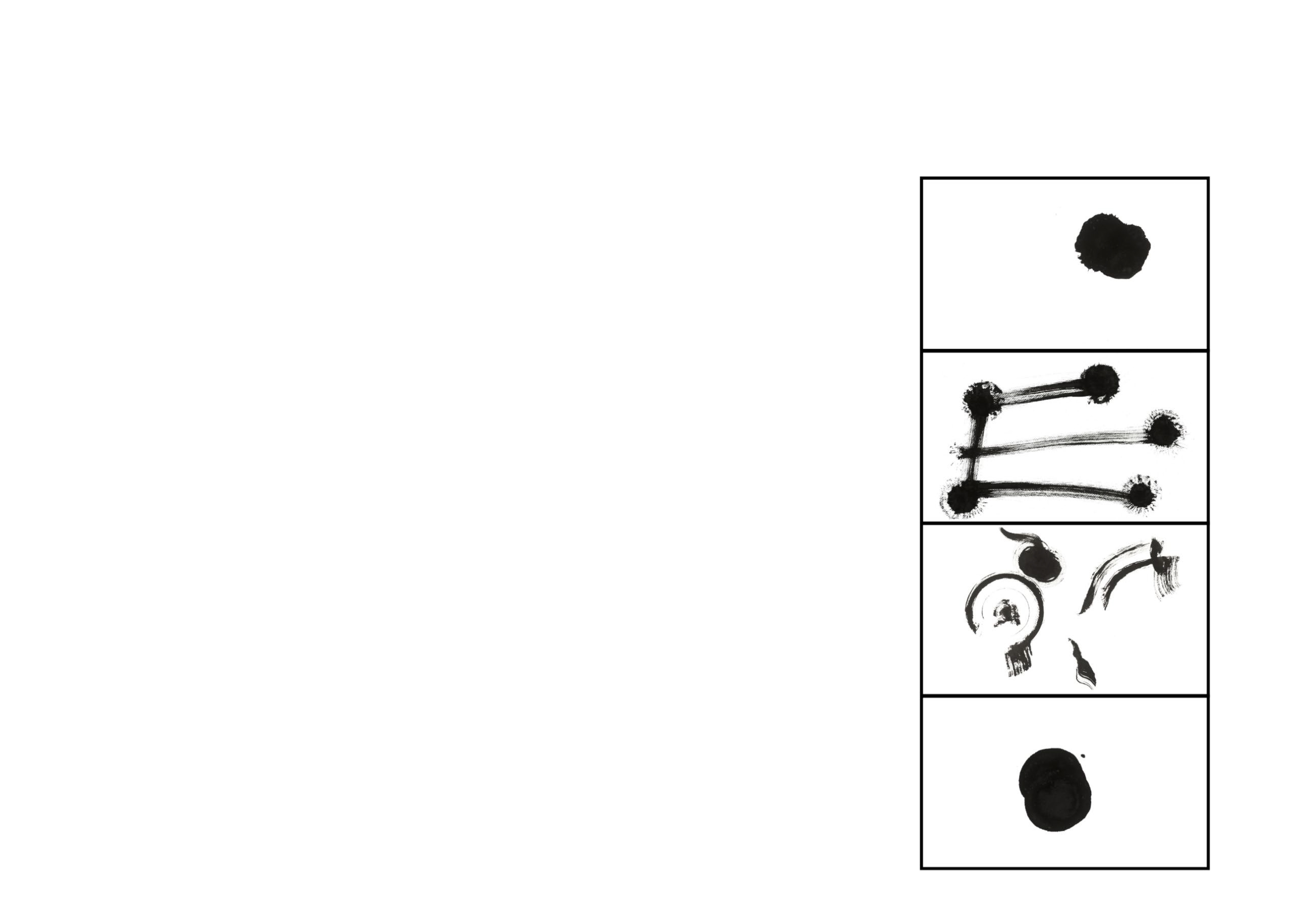
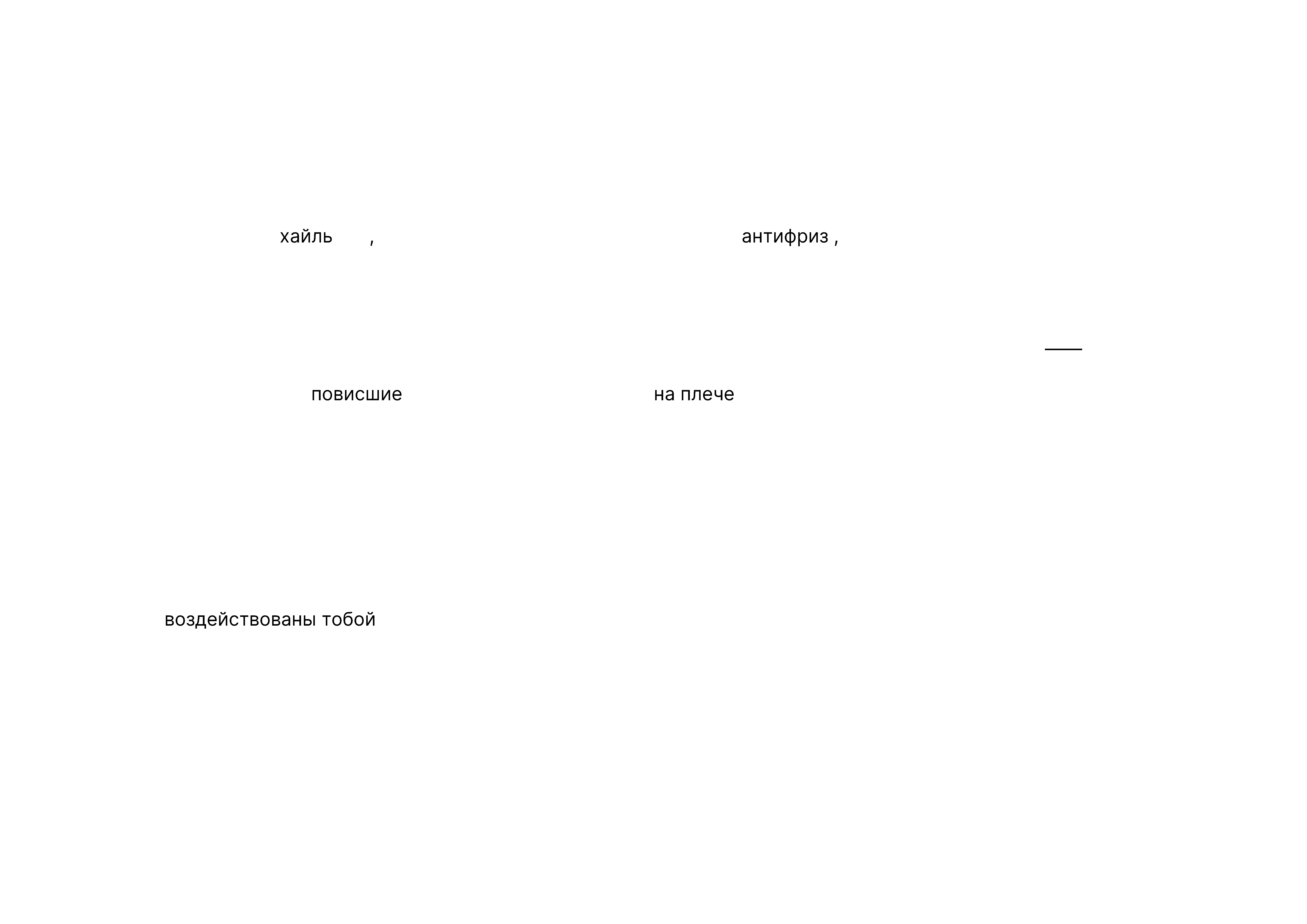

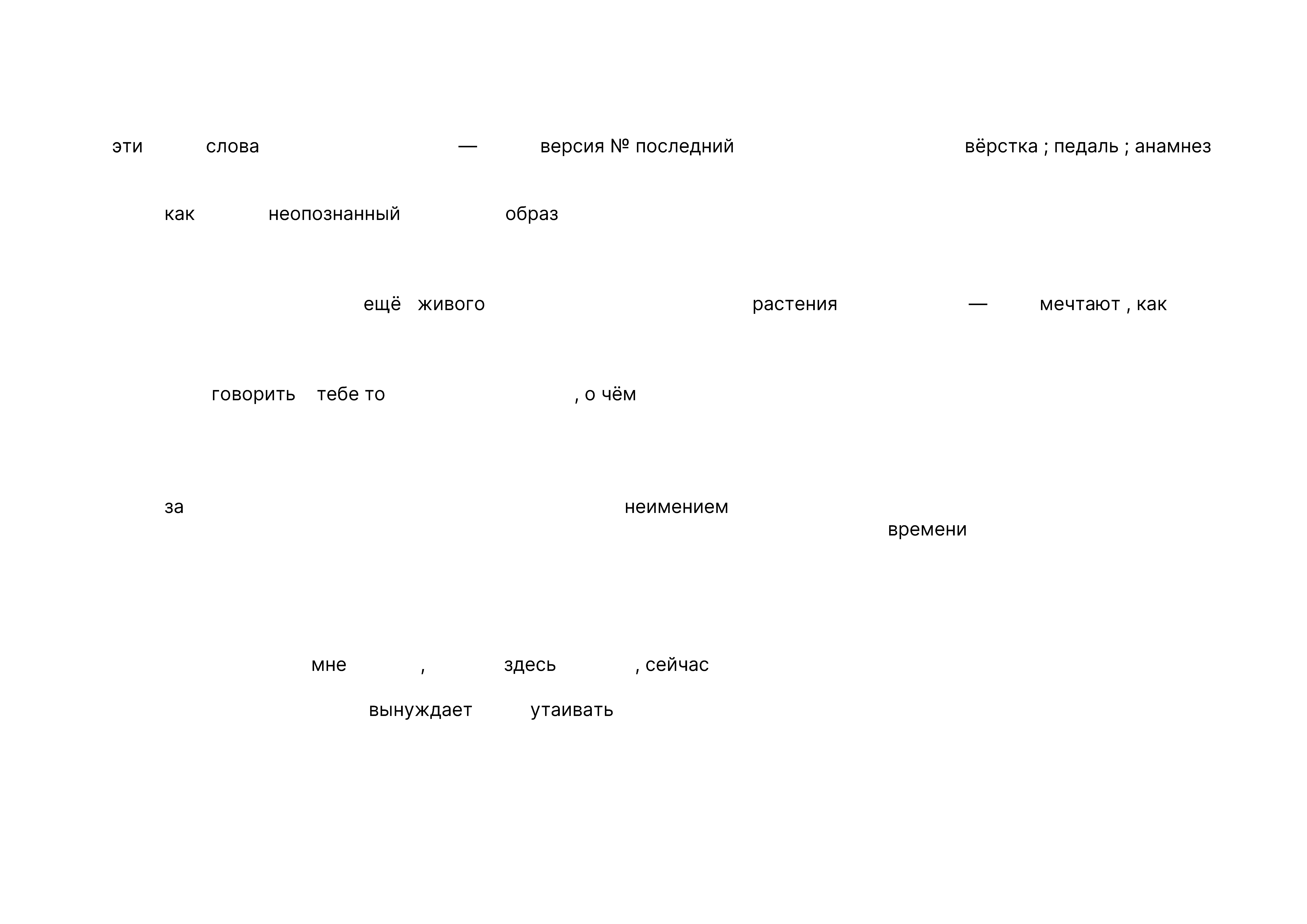
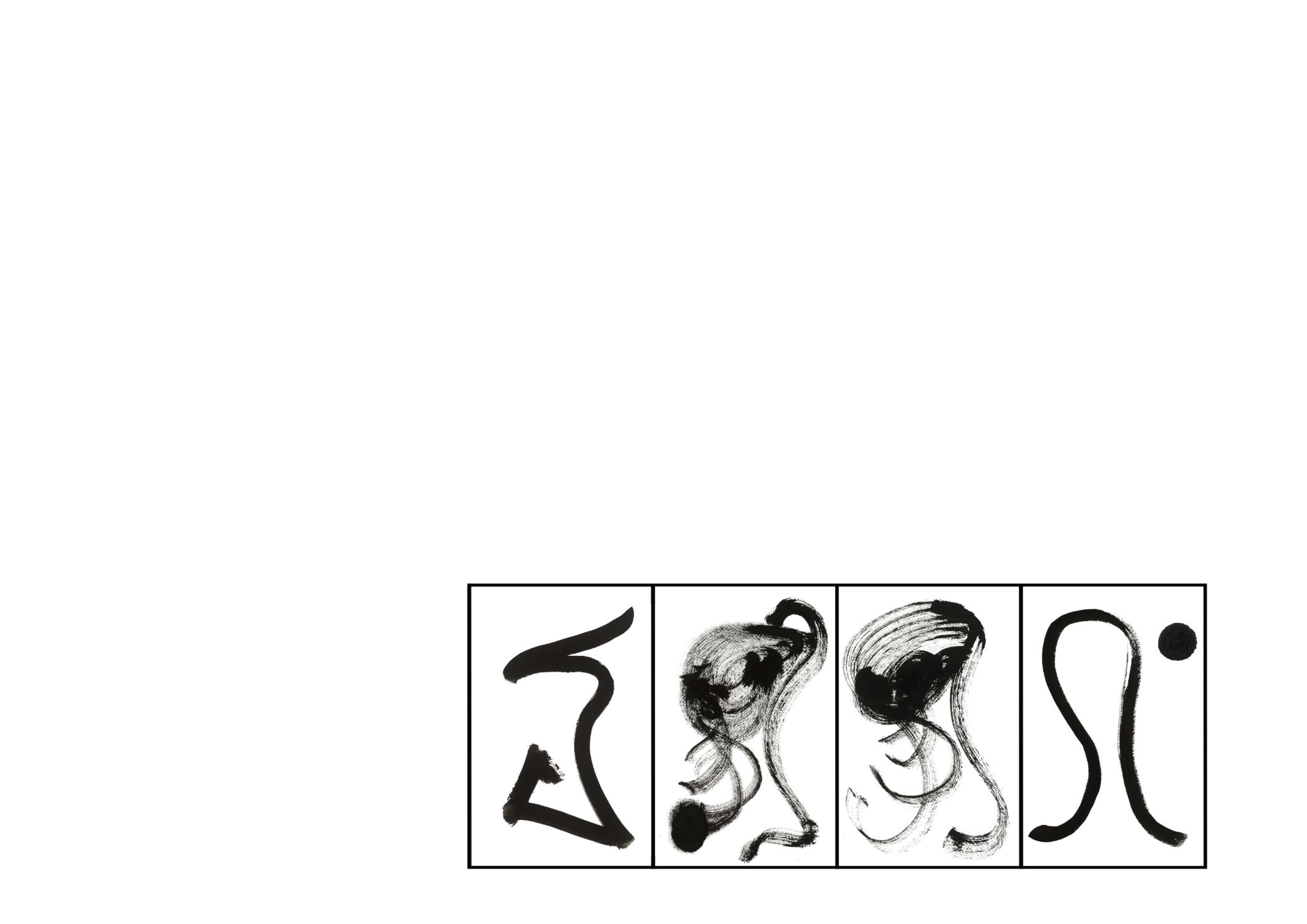

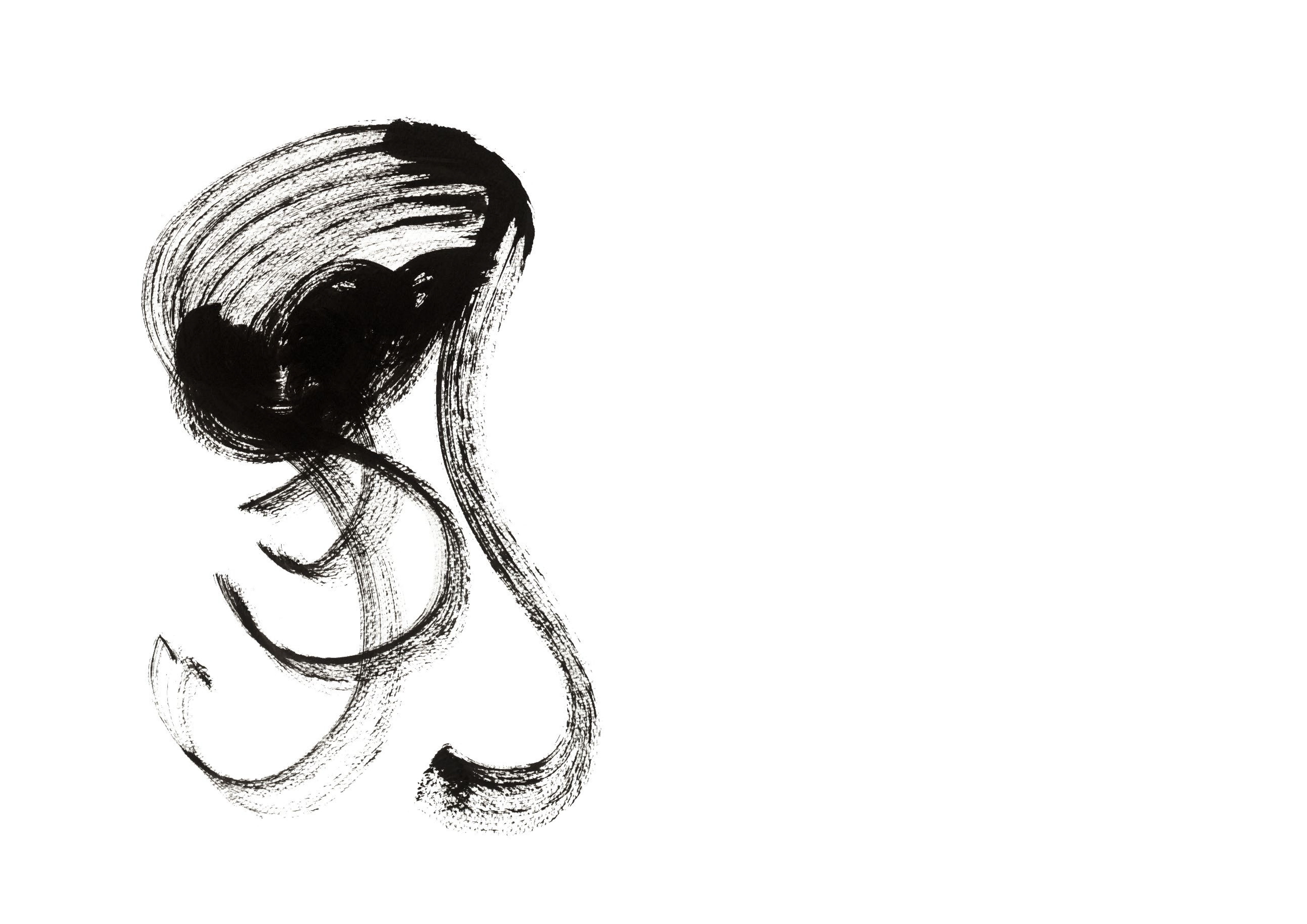


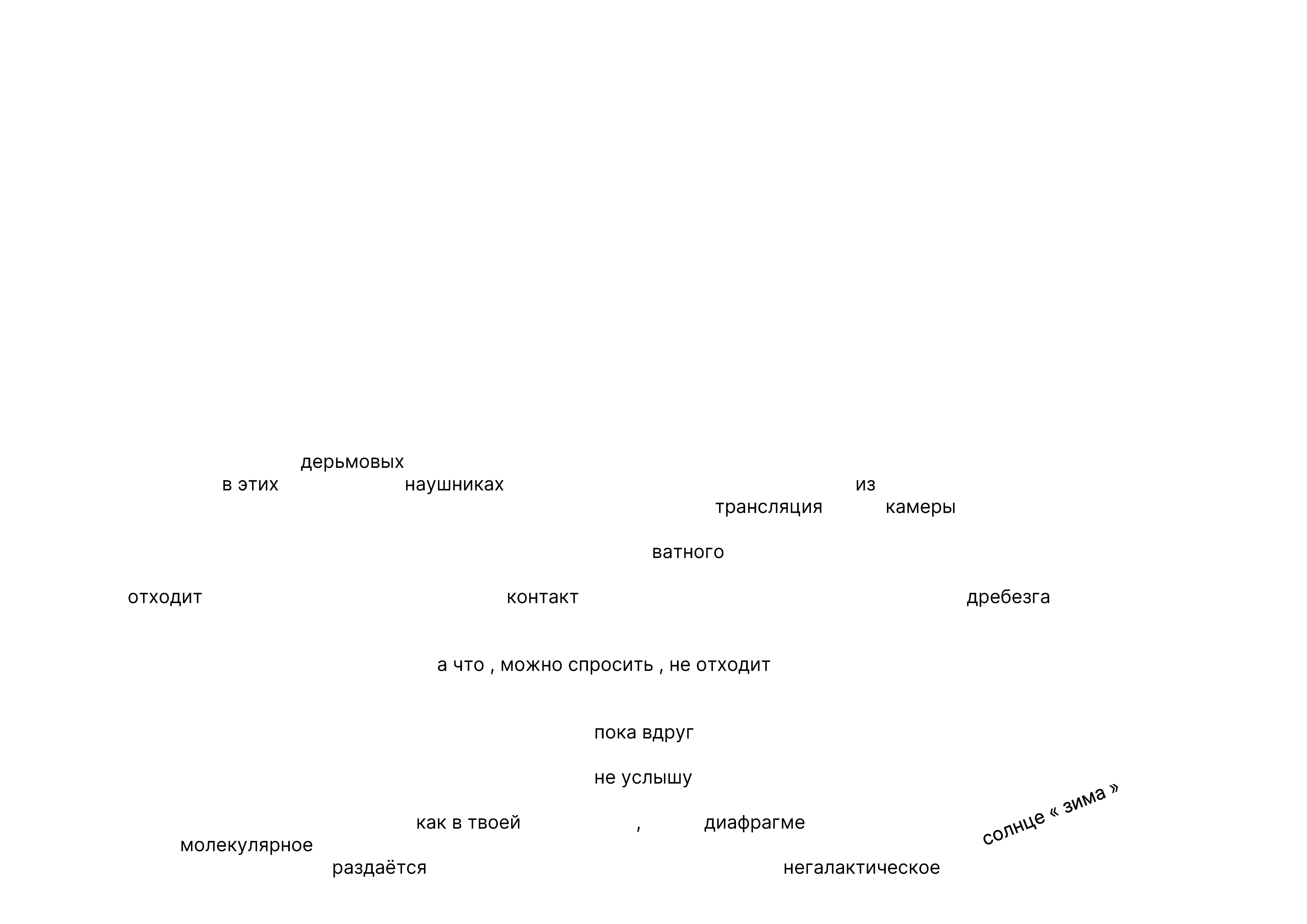
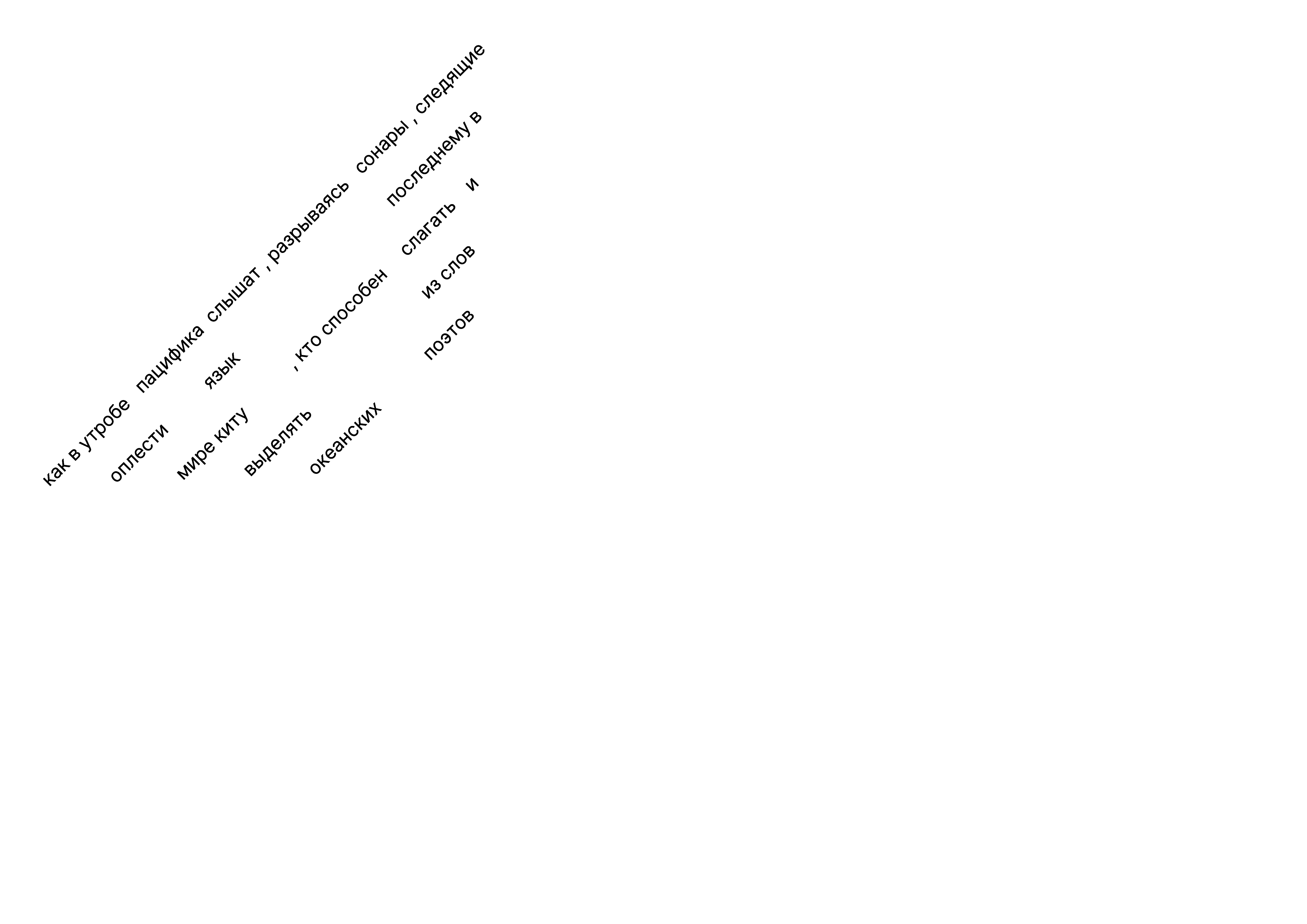


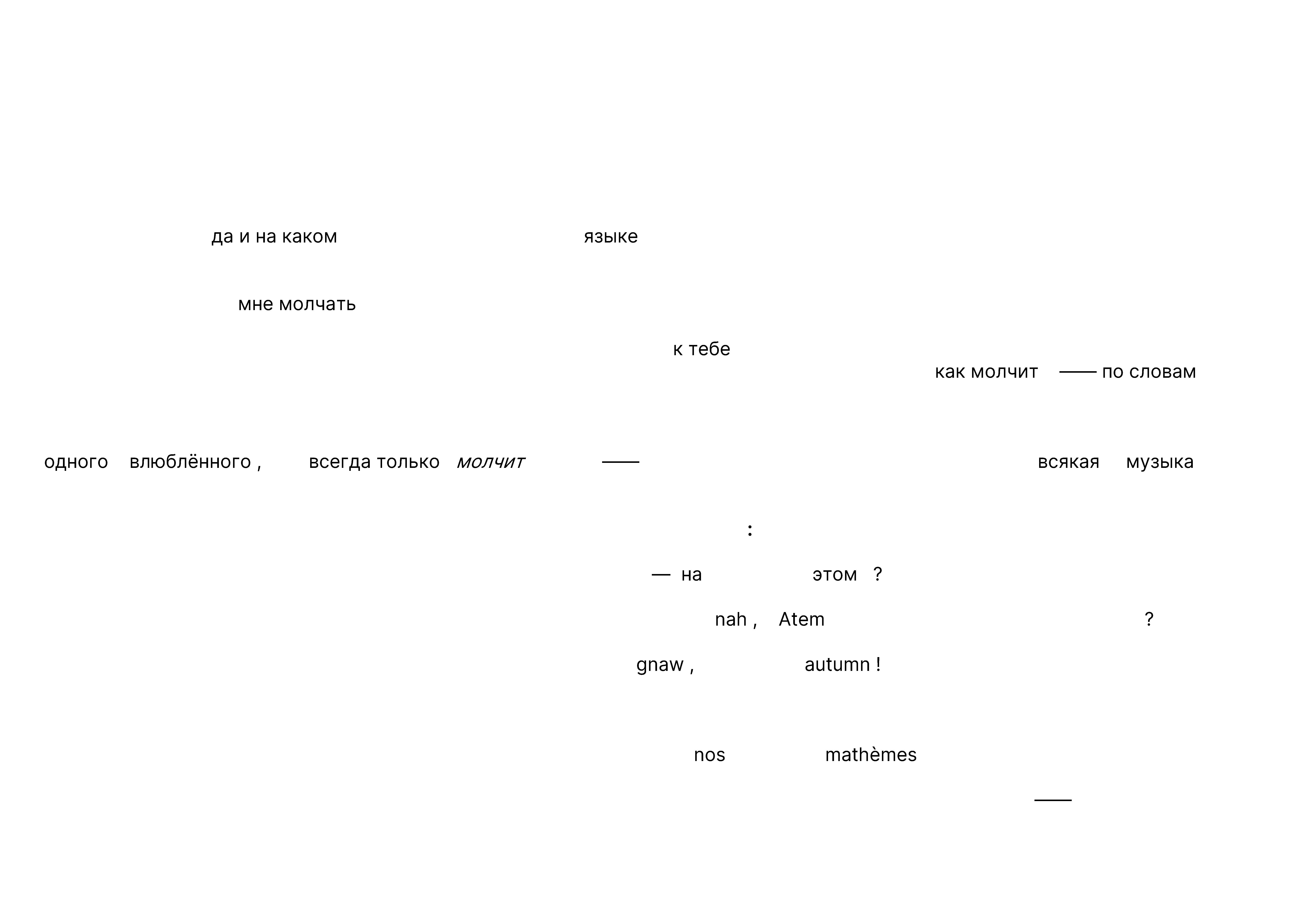




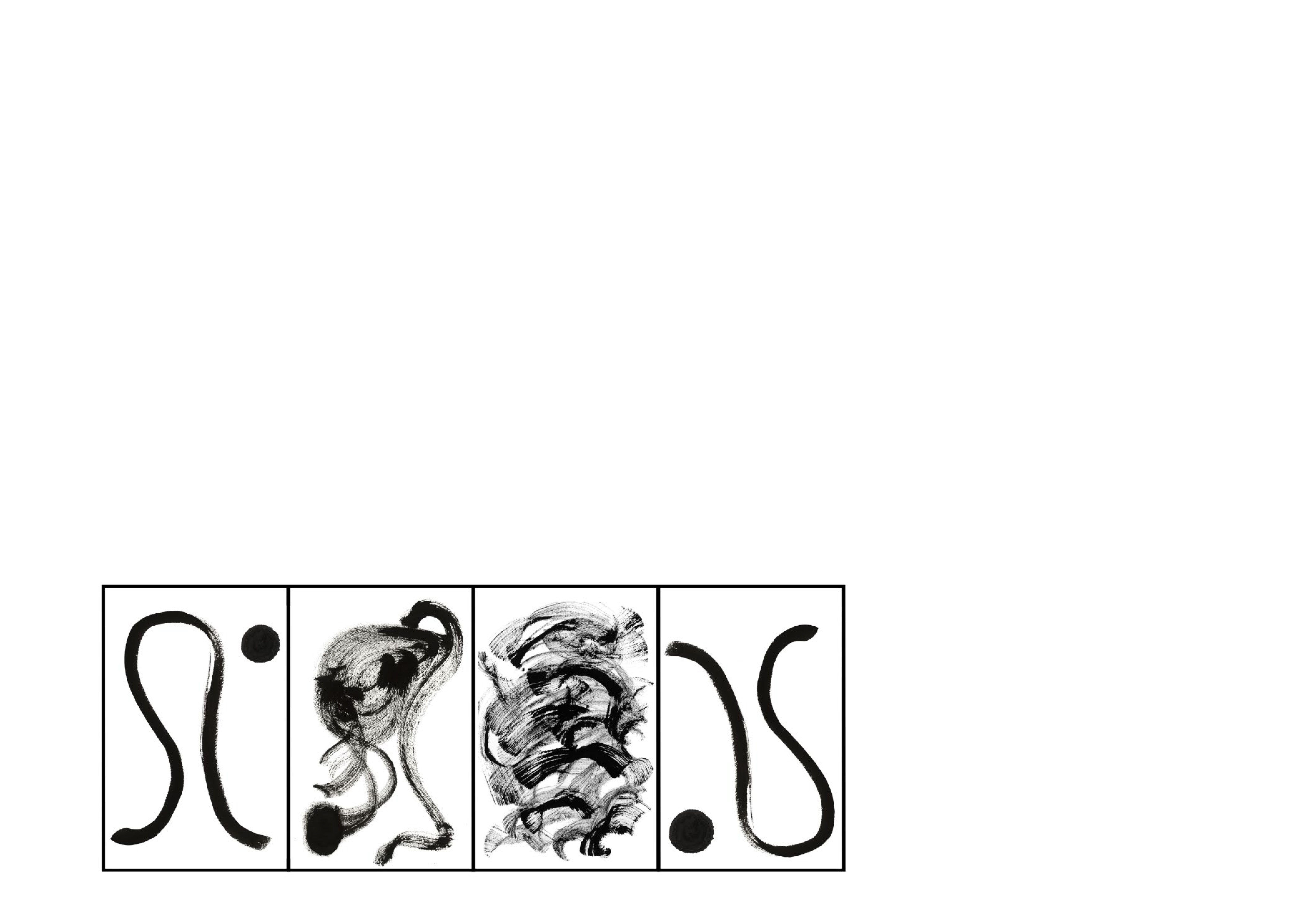


Sorrow business camp
***
поститься горем
как телом христа
там где остановилось время
как пролитая на землю кровь
которую никогда не удержишь в рассечённой ладони
не понимая где настоящее переходит в символическое
где слова похожи на то лицо что их говорит и
наоборот.
неожиданная тишина
посреди шума
ощущение тяжести
будто ты колокол без языка
в котором только и осталось
что слегка немного воздуха
от того что перехватило дыхание
молчаливым криком в падении
в котором сжимаешься пытаясь
хаотично отрастить новый язык
как гидра голову
каким-то последним усилием
из ниоткуда
где уже нет ничего
кроме простого безразличия
и повешенных на крючки рук
***
последнее тепло тела осталось в куртке
а может и
да кто его знает
ОТЧИМ В БУМАЖНОЙ ПОЛЬШЕ
вот ты и в польше
как и мечтал
но так и не съездил
вот желязова воля
где родился шопен
вот костёл святого креста
где его сердце
улицы варшавы с синими табличками
может ещё какие города
странные блюда польской кухни
их непонятный язык
похожий на твой последний шёпот
смеющиеся поляки вокруг
что-то ещё такое другое
вот тебе польша
её пограничники из слов
другой уже нет
но хоть так сойдёт
вот ты и в польше
и как тебе тут?
неправда ли ведь
красиво?
***
коростами облака
но ты их не видишь
хотя глаз у тебя приоткрыт
не удосужилась ни одна медсестра
его закрыть
теперь тело пустое
как запертая квартира
и мертвецы правда похожи
на потрескавшиеся обмылки в ванной
которыми брезгуешь руки помыть
так зачем тебе облака?
под этой простынёй
седой и костлявый
ты и сам будто облако
подземное как картошка –
яблоко
***
в магазине стою
выбираю пакетик салата к обеду
сроки годности их бросаются мне в глаза
02/03/2022
назначенный день похорон
маш латук рукола
все как сговорились
айсберг вот до седьмого
но не беру
его мама не любит
батавия есть вот до пятого
но не беру
её я́ есть не буду
но ниже
на уровне ног
нахожу маш-салат подороже
тридцать центов накинули лишних три дня
вот его я беру
и кладу себе в сумку
сколько раз я маме талдычил
что не надо цепляться за даты
искать символы и оправдания
и вот сам я дурак
дураком оказался
сам не понял зачем
от реальности убежал
***
теперь ты просто тело
но тело ли это?
нет в языке нет такого слова
ведь глядя на него я не могу поверить
что это оно причинило мне столько всего
что из-за него я отказывался говорить по-французски
ведь оно требовало этого
что из-за него я приобрёл плохую привычку
играть с левой педалью на фортепиано
ведь оно говорило я играю громко
что это оно заставляло мою маму столько раз плакать
из-за чего я не мог найти себе места
и боялся и бил себя в рёбра на нервах думая что поможет
и хотел убежать
что из-за него я не могу сесть и найти работу
потому что помню как оно сказало:
если он с братом не едет в россию летом
пусть ищут работу не хочу видеть их в доме
и эти слова и их тон застряли у меня в голове
что из-за него я редко приезжал к маме
потому что оно вселило мне страх неправильного жеста
и я не хотел лишний раз чувствовать
будто пью кипящий чай мелкими глотками
не зная когда обожгусь
что из-за него я стыдился
слыша расистские выпады на публике
и что стеснялся называть его истинный возраст
и врал или делал вид что не знаю
и на улице боялся каждого старика
видя его повсюду
нет это не оно
не сосуд моих страхов и неприязни
ты стал чем-то другим
по чему можно плакать
горевать и сожалеть
абсолютно искренне неподдельно
как будто не было ничего
как будто невинный
как будто я любил тебя
кем же чёрт возьми ты стал?
неужели это смерть делает каждого человеком?
ЧТО-ТО ТИПА РАСТЕНИЙ
фотографии
что-то типа растений
мало-помалу
они поглощают наше отчаяние
и запечатывают в себе
как радиацию
в цинковых гробах
В ТРАУРНОМ ЗАЛЕ
он называл маму жёнушкой
она называла его муженьком
в траурном зале он кажется мне
стеклянной горгульей, охраняющей порог пустоты
она говорит
он красиво одет
он отмучился
он свободен
сложенные на животе руки с подтёками от катетеров
неестественно плоски
брат так внимательно их изучает
будто они старинный манускрипт
или цветы яна брейгеля
ему кажется, он всё ещё дышит
я молчу и не говорю
что если уставиться на асфальт
он тоже начинает двигаться, будто живой
и только тени не отбрасывает
вот и всё, мама говорит
спи спокойно, мой муженёк
в зал вошёл его старый друг по работе
впервые вижу этого человека
добродушно знакомится с мамой
она столь же к нему добродушна
мы собираемся уходить
как друг говорит
наши пути разошлись
но я всегда помнил его
он всегда был во мне
маму трогают эти слова
она плачет
ей сейчас так мало нужно для этого
теперь тебе нечего его бояться
она говорит мне на улице
он больше ничего тебе не скажет
и не сделает
я зажигаю сигарету
держась в стороне от разговора мамы с подругой
она говорит
я тебя понимаю
и ты теперь тоже знаешь через что я прошла
жизнь как будто разбита
мама говорит
это да, нужно просто придумать себе её заново
она говорит
постепенно и
шаг за шагом
смерти никогда не бывают похожи:
родители, дети, мужья
каждый уходит по-своему
но как-то так происходит
будто по волшебству
они в конце всё равно оказываются рядом
мама говорит
когда я развелась с их отцом
я перевернула страницу
тут я тоже переворачиваю страницу
я свободна
но что бы там ни было
с ним было то ощущение безопасности
которого теперь как будто уже не будет
я переворачиваю страницу
я одна перед жизнью
стою перед нею одна
пока она говорила я уставился на асфальт
чтобы проверить как он дышит
взгляд зацепился за мамину тень
длинную-длинную, каких не бывает
солнце сегодня яркое-яркое
мы стоим на пороге лучших дней года
и на секунду я даже обманываюсь его силой
потом мне кажется, это её слова, застывшие над нами
у слов, оказывается, тоже есть тень
но снова всё просто:
брат просто стоял на ней, удлиняя своей
я стоял на его, удлиняя
мы трое была одна длинная тень
***
будто любая смерть
дарует это великое откровение:
его вещи теперь так странно выглядят.
и если скажет кто-то:
теперь они твои
посмеешь ли забрать их просто так
не подумав при этом:
они как камни
или цветы
которые все твои
и все – тебе
настолько же насколько
они просто цветы и камни
причастные земле
и какому-то другому слою
времени
урывками доступного нам
когда, бывает, горе или красота
отрешают нас от мира
ненадолго.
и если появляется вопрос:
как эти вещи могли попасть в его жизнь
и почему даже в воспоминаниях
даже одежда кажется бессмысленной
не значит ли это, что смерть
не столько событие
сколько тихий садовник, осторожно раскрывший бутон,
а жизнь человека только стремится
стать памятью другого
несколькими едва уловимыми касаниями,
как камешек, брошенный блинчиком,
отскакивает от поверхности,
едва ли не думая,
будто солнце, отражающееся в воде,
может обжечь его шаги
***
сходить в мэрию
в налоговую сходить
и не забыть написать всем твоим друзьям
газ
электричество
вода
телефон
интернет
телевизор (звучит смешно в нашем веке)
страховка, конечно
а дальше уже по мелочам
где остались подписи.
вот так неторопливо
каждый день
спокойно
шаг за шагом
мы выписываем тебя из жизни.
смешно выходит:
что написано пером –
в итоге можно просто зачеркнуть
и дальше – снова
всё как прежде
***
сознание не отключается так резко
как мы себе представляем
скорее оно тихо и неспешно
угасает:
не просто выключатель, а тот
с регулятором яркости.
в августе
я игрался с ним в москве, у андрея
тогда ещё совершенно не думая об этом
тихо вертел регулятор,
пытаясь понять
где тот момент, когда наступает тьма
и как его поймать
чтобы если не прожить
то осознать
а если не осознать
то принять
а если нет,
то просто заметить себе:
вот здесь кончается свет.
и пока я пытался это сделать
я снова и снова
отдавался тьме комнаты
даже не думая об этом,
нисколько не боясь.
жизнь учит нас порогам,
потому что состоит из них
как панцирь броненосца –
из пластин
её принцип – работа выключателя –
порог света и тьмы.
смена радости и печали
боли и удовольствия.
так мы себе её представляем:
если наступает ночь – должно сесть солнце –
отчётливо
мы нуждаемся видеть эти пороги,
чтобы не запинаться как дети
но момент невозможно поймать неводом сознания
когда я перестал грустить?
или твоё лицо озарилось нейтральностью после улыбки?
так ли отдельна приставка от корня
вопреки ощущению, что она тут была всегда,
неотделима?
можно сравнить это с тем
как насмотревшись картинок в энциклопедии про рыцарей
впервые видишь лошадь без седла
будто совершенно свободную и непричастную
к осознанному миру.
но даже тут переход он седла к голой спине
словно порождает искусство
становясь неразрешимой загадкой
искусством стать рабом
искусством стать свободным
и если отменить страх
всё становится незаметным
становится собою
и если отменить горе
смерть приставкой присоединяется к имени
говоря которое вслух
замечаешь как она произносится
чем-то или в чём-то мимоходом
быстро проносится
мелькает
как рука разгладившая прядь
***
чувство юмора пропадает
любовь пропадает
ненависть пропадает
и страх:
все эти вещи с профилем кесаря
пропадают бесследно
спасая мир от эмоциональной инфляции
как можно было бы сказать.
покойник прост
как зародыш
первый дождь первый снег
первый цветок первый жаркий день.
что ж пускай так, но всё остальное?
язык, умения, знания и всё это искусство?
они все ещё узники тела
или покойник и правда прост
как я имел в виду выше?
если я ещё вижу прелюдии шопена
застрявшие в пальцах
то что могу сделать с этой людской простотой?
я знаю где вещи могут быть в мире
но когда мира нет, не знаю где могут быть вещи.
впрочем, я просто не думаю, что с небытием всё так просто:
как я смотрю на эти руки
не потому что, например, руки вторые глаза
и даже у мёртвых они всё ещё открыты
или какую ещё земскую чушь сюда можно приплести?,
а потому что они – всё,
что ещё выглядит живым и узнаваемым,
полуживым:
вот что должно значить это слово:
мёртвое, но на вид как живое, а не то,
что готово вот-вот умереть.
и может это всё из-за прелюдий
застрявших в пальцах
и не дающих плоти спокойно увянуть
храня эти руки всё ещё живыми
и всё не сводится к известной простоте:
все узнают руки своих покойников,
абсолютно все,
ведь это нормально
и, кажется, нет ничего проще.
***
дом без тирана
страшнее.
бессмысленного присутствия
не бывает.
квартира пуста:
как я её вижу
а то что в голове:
этот страх:
так это только память
и редкий момент
когда проживаешь её наяву.
неужели никто больше не спустится?
неужели никто не придёт?:
так люди спрашивают.
никто не спустится
никто не придёт:
они знают ответ
но словно делают вид
что не думали
что всё будет так
просто ровно так, как и бывает.
НАИВ
кажется неотступно
эта мысль придёт
последней надеждой до безразличия.
не явно так подспудно
озарит глаза.
его смерть проживёт дольше чем этот мир.
***
здесь тóчно кончается пространство-от-себя
если так кто-то ещё видит его
обратным человеческому движением
оно смотрит на нас
и мы исходим из него
являясь
ровно этим ощущением глаз
когда смотришь перед собой
и видишь
будто затаившийся зверь
каждый следующий шаг – осторожен
я как на ярмарке – думаешь –
всё вокруг столь замысловато корчит что-то бóльшее
или мы и правда чем-то лучше муравьёв?
такое чудо видеть вас живыми – думаю глядя на прохожих
нормально ли это? –
зная что да
как же нам не смешно так подменять реальность:
говорим: свеча горит
но видим: свеча оплавляется
говорим: солнце садится
но видим: день уходит
говорим: живут
но видим: просто движутся к смерти
а может быть ни то ни другое
может быть всё-таки муравьи
как будто бы бездушные
и чересчур простые
неважные незаметные
но столь самодостаточные и в-себе
казалось присвоившие всё вокруг
а на деле
каменеющие от взора того
на что ещё секунду назад была монополия зрения
всего лишь вечные созерцатели пространства личного тела
и снова взгляд не покидает пределов глаз
не выходит наружу
как пейзаж в снежном шаре
обречённый довольствоваться узкой рутиной себя
***
уже забыл твой голос
а это лицо
забудется как-нибудь потом
само
как припрятанная на кухне
консервная банка
так же просто
так же естественно
***
увидел кошелёк
на пианино
которое вот-вот уж отойдёт
его сыну от первого брака.
незнакомый кошелёк
никогда его не видел
мама что ли новый купила?
и вот
просто решил посмотреть
познакомиться с ним поближе
как дети хватаются за всё
в наивных поисках мира
это рефлекс робинсона
обволакивающий не хуже вина сыр
рефлекс незнания.
в кошельке нахожу его водительское удостоверение
фотография девяносто какого-то года
когда я так же касался чего угодно
не стесняясь
испытывая едва ли не сексуальное влечение
к такому контакту с миром
ведь вещи порождали больше вопросов
чем давали ответов.
так я однажды потрогал поганку во дворе детского сада
и мне грубо повелели
вымыть руки ровно двадцать два раза
и я мыл
и считал
и думал: откуда взялось такое число?
уборщица кричала на меня
что я транжирю воду
а я ревел ей сквозь слёзы
что если не помою руки двадцать два раза
то умру отравившись своими же пальцами
когда по привычке потащу их в рот.
бросив кошелёк на место
дрожащий от отвращения
я побежал в ванную
чтобы помыть руки с мылом
хотя бы разок
как я часто делаю с детства
будто верю что мылом
можно отмыть любую болезнь
любой страх
любые навязчивые мысли
***
у смерти есть лицо:
твоё лицо:
посмотри в зеркало:
почему не узнаёшь?
как ты из головы на мир
она смотрит на тебя
так же просто и ясно
из каждой отражающей поверхности:
из мыслей когда видишь себя со стороны
из фотографий
когда признаёшь
что даже самые памятные моменты
стали частью прошлого
настолько болезненного
что его уже не было
будто навсегда застывшее мгновение
превращается в косолапый рисунок ребёнка
в выдумку
которой можно было избежать
в телесную профанацию тела
в марионетку
чьего-то театра памяти
признавая: чем больше следов на земле
тем тревожнее исчезновение путника
посреди открытого пространства
и как будто неожиданно
однажды ты не узнаешь своё лицо
но оно всегда узнает тебя
ПЕРЧАТКИ
перчатки прикрывают тело от невзгод
от чужих людей или
просто ото всех людей
раз уж все мы одинаково чужды друг другу.
в них лезешь в останки
в последний раз и на время
поселяя там жизнь.
пальцы как обескураженные астронавты
сообщают: здесь не построишь колоний.
тогда этот детский театр
превращается в тайный ритуал
извлечения смерти из тела
чтобы сделать его нейтральным
пускай и с помощью грима.
в конце перчатки камнем
полетят под грудную клетку
будто в надежде на поединок
которого не будет
или чтобы там наверху
по старой привычке
можно было не стыдиться
и прикрыть своё тело от невзгод
и чужих взглядов: тех ли что вокруг
или тех оставшихся позади
***
не надо играть в игры:
смерть абсолютно понятна
взгляни на всех этих мёртвых людей:
что тебе тут не понятно?
причины смерти – всё ещё жизнь
столь ценная и собственная
как всегда и бывает
потому смерть и ужасает нас
что мы видим её чем-то общим
поражающим нашу уникальность
превращающим горы в камешек
но она не едина и не одна
их много как облаков и цветов
они не диалекты а языки
такие же собственные и разные
достойные внимания
и может быть чего-нибудь ещё
мы не против того
чтобы потеряться в счастье
перестав быть собой
став одним среди многих
мы не играем в игры:
счастье абсолютно понятно
оно похоже на смерть
или смерть на него похожа:
потому становится страшно
от грустного понимания:
она – самый понятный людям язык
самое простое и понятное в мире
самая прекрасная вещь на земле
***
мы кидаем лепестки белых роз в могилу
пока где-то там далеко
падают бомбы на города
и вот я вспоминаю об этом
возвращаясь к реальности
отхожу от ямы
встаю в стороне
смотрю на колонну людей с лепестками роз.
как же жизнь может наподдать пинка и по смерти: думаю
последней музыкой пронёсшейся над ним
был не его любимый шопен
а неизвестная ему песня из « волшебника страны оз ».
хотя конечно речь уже идёт о нас:
он не услышал ни того ни другого
старания живых бесполезны мёртвым
и вот мой брат что-то долго уже стоит у могилы
наконец красиво и медленно кланяется
отходит ко мне и маме.
она говорит:
ты что-то сказал?: губы шевелились
а он говорит:
да
сказал: я прощаю тебя прощаю.
и тут я думаю
что должен был сказать что-то тоже
последнее
едва забывая что
можно быть откровенным с телом
не стесняться тела
но честность останавливается перед человеком
как поезда перед границами
так что теперь и некого прощать
и некого вспоминать
всё это стало простыми выдумками и небылицами
как твоя бабка рассказывает про своего отца или деда
а ты смотришь на её умиротворённое лицо
пустившееся куда-то далеко
в какой-то чулан времени
где ничего нет
и не веришь что у неё кто-то был
что она не придумала себе целую жизнь
ради лёгкого ощущения
когда одиночество живого
сменяется иллюзиями тел
как руки становятся животными на стене
или лепестки роз превращаются в бомбы
***
всю ночь держать включённым свет
пока дела не станут видениями и
наоборот.
победить сон тревогой
и тревогу сном
день ночью
ночь днём.
что ещё остаётся когда
сцена горя окружённая факелами
наконец чересчур театральна
а значит недолго ждать
человеку в обличии танцора
ожога на своём плече
от того кто стал зрителем самого себя
и хочет выйти наружу
зная что никогда не будет прежним
не потому что невозможно
но поздно.
и только мир неизменен
безразличен в вещах
и только обещает
циферблатами и календарями
безжалостно добро и просто:
когда-нибудь снова
новый день наступит скоро
Нежить (всегда читать как оглаголенную нежность)
У насъ не было никого и ничего, кромѣ другъ друга. Мы были оторваны отъ жизни и дѣятельности, отрѣзаны отъ человѣчества и родины, лишены друзей, товарищей и родныхъ. Не только люди, но и природа, краски, звуки – все исчезло... Вмѣсто этого, былъ сумрачный склепъ съ рядомъ таинственно замурованныхъ ячеекъ,въ которыхъ томились невидимые люди, зловѣщая тишина и атмосфера насилія, безумія и смерти.
Действующие лица
Конспиролог: Тут есть ошибка. Действующее лицо называется действующим потому, что оно действует. В нашем мире действие как таковое невозможно. Что есть действие? Действие – это трансформирующие влияние на мир. Но наш мир, мир мертвых, мир вечной стагнации, мир, где все всегда было так, как оно есть сейчас. Новые жители не рождаются, старые не умирают. В нашем мире нет времени, а значит – мы не помним прошлого, каждое событие дня кажется нам уникальным и новым, мы ничему у самих себя не учимся. В нашем мире нет времени, а значит у нас нет будущего. Вечное, желейно растекшееся ничто, это мы, это наши города. С наших потолков свисают поганки, стены покрыты влажным мхом.
В основе нашего мира три сферы:
1. Светящаяся сфера под нашими ногами
2. Туманная сфера между светящейся и земляной
3. Земляная сфера над нашими головами
Мы вечно шагаем в туманном свете, а глядя наверх видим влажную черную землю, в которой блестит мицелий, копошатся черви и торчат коренья.
Каждый из нас замер в одном из процессов:
1. Самопереваривание
2. Окоченение или «Rigor mortis» [лат. – трупное окоченение]
3. Зловоние
4. Разбухание
5. Иссушение
6. Обескоживание
7. Обесчеловечивание
Мы ходим медленно, скидывая лоскуты плоти, выплевывая зубы и языки, прожевывая дыры в щеках. Мы не едим, не дышим, не танцуем, не любим – нам незачем.
Конспиролог: Ну ладно, пора закончить экспозицию, я сейчас стану персонажем, а про то, что был рассказчиком, забуду. Хотя и в этом есть ошибка. Персона (ж) способен к движению, развитию, эволюции или деградации. Никто из тех, о ком вы будете читать этими качествами не обладает. Гомеостаз энтропии. Никто, истинно говорю вам, никто.
Как-то мне было видение, мне было пророчество?
Хм. Не знаю, что это было. Но вот там была персона! Вот про нее почитайте лучше, конечно, не кукситесь, не горюйте.
Видение, бывшее конспирологу, или пророчество, или что это было.
Звали его Даха́с. Даха́с Схирт. Он был обесчеловеченный, кости белели на бедрах, глазные яблоки выпали уже, а вместо носа зияла дыра.
Он, как и мы, не знал ничего, кроме боли, страданий и смерти.
Однажды исчез он. И было мне видение, что он выходит за пределы нашего мира, над головой у него белое и синее, под ногами трава, а кругом все зеленое, мягкое, нежное, жужжит все, дышит и смеется природа.
Идет он по тропе и видит, работают люди в поле, крепкие, мускулистые, полные: кто косит, кто снопы собирает.
Спросил он у людей: Откуда в вас силы на столь тяжкий труд?
Люди ответили ему: Мы здоровы, мы полны сил.
Так узнал Даха́с Схирт, что есть здоровье и силы, и энергия.
Идет дальше Даха́с Схирт и видит: возлюбленные, целуют друг друга в тени деревьев, трепещут ресницы их и щурятся глаза в улыбке.
Спросил он у возлюбленных: Отчего на лицах ваших ни тени несчастья?
Возлюбленные ответили ему: Мы наслаждаемся сейчас, нам хорошо, в блаженстве мы.
Так узнал Даха́с Схирт, что есть наслаждение, блаженство и любовь.
Идет дальше Даха́с Схирт и видит зеркало, а в зеркале он – кости обрасли плотью, мышцами, кожей, потекла по телу кровь, покраснели уши немного, нос на месте, глаза зеленоватые, волосы на голове, руки крепкие, тело подтянутое.
И спросил Даха́с Схирт у себя: Что вернуло плоть мне?
И ответил Даха́с Схирт себе: Дыхание жизни.
Так узнал Даха́с Схирт, что есть жизнь. Вдохнул как можно глубже и сам себе улыбнулся.
В наши края он больше не возвращался.
Конспиролог: Не верят мне, когда я это рассказываю. Я каждый день все равно рассказываю, ведь никто не помнит вчерашнего дня. Есть тут одна кукурочка, я рядом с ней в храме лоб расшибаю каждый день. Стала в последнее время живот свой гладить, а я за ней проследил, дошел до дома, она там в кровати лежит, платье задрала и живот гладит, а живот – то кругленький, сочненький, как будто не мертвыш там, а сами понимаете что… Не? Не понимаете?
Дочь: Плод в моем теле стучит
Мать: Должно быть цикада поселилась в его маленьком сердечке…
Дочь: Во мне не живут насекомые, я пустая
Мать: Должно быть цикада поселилась в его маленьком сердечке, разродилась личинками…
Дочь: Во мне не живут насекомые, я пустая, опарыши не копошатся в моей печени…
Мать: Должно быть, цикада поселилась в его маленьком сердечке, разродилась личинками, они расползлись туннелями и высосали из него все трупные соки
Дочь: Во мне не живут насекомые, я пустая, опарыши не копошатся в моей печени, слепни не садятся на мои глазные яблоки
Мать: Должно быть цикада поселилась в его маленьком сердечке, разродилась личинками, они расползлись тунелями и высосали из сердечка все трупные соки, сердечко теперь сухое как осенние листья, аминь,
Дочь: Во мне не живут насекомые, я пустая, опарыши не копошатся в моей печени, слепни не садятся на мои глазные яблоки, пчелы не вьют ульев в моих легких,
Мать: Должно быть цикада поселилась в его маленьком сердечке, разродилась личинками, они расползлись тунелями и высосали из сердечка все трупные соки, сердечко теперь сухое как осенние листья, аминь, а цикада, глядя на своих сытых малышей,
Дочь: Во мне не живут насекомые, я пустая, опарыши не копошатся в моей печени, слепни не садятся на мои глазные яблоки, пчелы не вьют ульев в моих легких, паучиха не ткет серебряных нитей в моей глотке
Мать: А цикада, глядя на своих сытых малышей, радостно застучала ножками и ты услышала, аминь, и приняла стук за стук плода
Дочь: Нет. Это плод в моем теле стучит. Она в моем чреве сердцебиеет.
Мать: Она? Это дочь?
Дочь: Это дочь.
Мать: Это дочь. А ты мать.
Мать: А я мать.
Мать: В тебе не может быть жизни. Ты делала что-то живое?
Мать: Я не способна на жизнь, как и ты.
Мать: Может ты танцевала, может рука ненароком стала плавнее, и по телу твоему прошел импульс?
Мать: Нет, я двигаюсь угловато, как и ты.
Мать: Может, ты съела что-то? В нефтежиже иногда бывают мальки, икринки, может, ты ненароком, купаясь, проглотила…
Мать: (перебивает Мать) Нет, я не купальщица, как и ты.
Мать: Скажи, ты с упорством бьешься лбом о храмовый пол, когда себя отпеваешь?
Мать: Я отпеваю себя каждый день, как и ты, я бьюсь лбом о каменный пол, усыпанный щебнем, каждый день, как и ты, и ты видишь, на моем лице отпечатки камней.
Мать: Вижу.
Мать: Причин нет, плод в моем теле стучит.
Мать: Причин мы не знаем, но я уверена, что это временно, ничто в нашем мире неспособно удержать жизнь надолго. Скоро это прекратится.
Мать лежит на кровати, задрав платье на грудь, она гладит живот, чувствует его тепло, она чувствует ритмичное тук-тук, она напевает.
Мать: Мир наш в паучьей пустоте, нитями серыми замурован.Солнце нас темнотой охлаждает: тела наши серые бережет от разложения, гниения, растления, слезотечения, сердцебиения, кровотечения.
Мы в черной осени живем, вечный ноябрь у нас. Ноющей слякотью под ногами земля стонет. Тучи наши кровью дождятся и пеплом снежатся.
Сады наши печальных туманов отцы, воды наши тихих ливней матери. Деревья нам подражают, окоченели ветви их кривыми изгибами, как конечности наши, птицы нам подражают, поют часами тишину свою, рыбы нам подражают, на сушу выбросились и дышать перестали. А мы зверям подражаем: лоскутами кожа на нас одета, что шкуры их.
Есть люди, есть не люди. Мы – не люди.
Есть жить, есть нежить. Мы – нежить.
Мать замирает, проводит ладонью выше, по груди, сжимает ее грубо, длинными ногтями распарывает платье, а затем продолжает царапающие движения на коже, кровь не течет, но есть желтый гной.
Мать: У меня соски трескаются из них гной течет тебя им не напою
У меня руки холодные, обниму если, легкие твои воспалятся, поэтому не обниму никогда
У меня губы в простудах разбухшие, поцелую если, умрешь
Я тебя не трону никогда, ты одна будешь, ты смейся, плачь, одна только смейся и плачь, я смотреть буду, а видеть не буду.
Я тебя не укушу никогда, ты сама себе навреди, ты сама себя укуси, ты сама от себя откуси, ты сама себя съешь, а потом подавись, а потом затошнит…
Я тебе любви не дам никогда, я ее с собой похороню, она во мне разлагаться будет, до боли разлагаться будет, а я удержусь, улыбки не дам тебе и поддержки не дам, лицо в сторону поверну и губы сожму, крепко очень сожму. Скулы сведет. Подбородок вверх.
А потом как затараторю:
Уйди уйди уйди йди ди и и и и и и и
Оставь оставь оставь оаставь ставь тавь явь
Пропусти ропусти опусти пусти усти сти ти и и и и и
И сама украдкой буду глядеть за тобой, в любви своей купаться одна буду, а любовь моя в тебе, но тебе ее не узнать, я скрою, я все зеркала занавешу, ты себя не увидишь и любви моей значит не увидишь.
Ишь чего захотела
Тела твоего не умою ни разу
Разум твой опустошу оскорблениями
Ленивой украдкой буду
Украду все, что есть тебе милого, чтоб мое было
Кого полюбишь ты, того тенью стану
Руку к кому протянешь кожей его окажусь
Посмотришь куда, там я уже стою
Не жить и нежить нежить – тебе судьбой наречено
Это я нарекла, это я к Богу прокралась и в его книжечке, на твоей страничечке выцарапала, а он посмотрел, головой кивнул, молодец говорит, хорошие слова говорит, потом контрол цэ контрол вэ нажал и множественное копирование сделал: на все странички перенеслось.
Теперь он лицо от меня отвернул, губы крепко сжал, подбородок вверх.
А потом как затараторил:
Уйди уйди уйди йди ди и и и и и и и
Оставь оставь оставь оаставь ставь тавь явь
Пропусти ропусти опусти пусти усти сти ти и и и и и
Прости прости прости прости прости прости прости прости
Я иначе не умею, но и ты не учись
Смирись смирись смирись смирись смирись смирисьсмирись
Мать: Ребенок в моем чреве стучит
Эхо: Ит
Отец: Это невозможно
Эхо: Но
Отец: Нет никаких но, он должен быть неподвижен, он должен молчать, твердо свернувшись в твоем животе
Эхо: Воте
Мать: Недавно я почувствовала внутри себя пульсацию. Ту-тук ту-тук ту-тук ту-тук
Эхо: ук
Отец: Можно я…?
Эхо: Но я
Мать: Я сразу поняла, что это плод.
Эхо: ук
Отец: Можно я, пожалуйста, прикоснусь?
Эхо: Усь
Мать: У меня не было даже мыслей других не было, в моем теле не может быть ничего энергичного.
Отец: Пожалуйста, можно я почувствую?
Эхо: Нет, ты не можешь, конечно. Ты никогда ее не трогал, ты никогда ее не ласкал, она не понимает, о чем ты просишь.
Мать: В моем теле не может ту-тук ту-тук ту-тук ту-тук, оно размякло, оно разбухло.
Эхо: В тебе даже опарыши не живут
Мать: Да, это правда, во мне даже насекомые гнезд не вьют, я всегда была пустая.
Эхо: Тая
Отец: Дай я руку, пожалуйста, к животу приложу, дай я ту-тук ту-тук ту-тук ту-тук почувствую
Мать: Потрогай
Эхо: Ай
Мать: У тебя руки холодные, ей не нравится
Эхо: Нравится
Отец: Откуда знаешь, что она – это она?
Эхо: Она
Мать: Я никогда не думала, откуда. Я всегда знала, я всегда была здесь, я всегда была: «Труп молодой женщины хорошего питания. Кожные покровы лица и груди слегка желтушны, на остальной поверхности с сероватым оттенком. На коже живота от пупка до лобка расположен операционный разрез, ушитый швами, которые хорошо держат. В области правой лодыжки имеется косо идущий разрез линейной формы, стянутый тремя швами». И во мне всегда был «плод, смерть которого наступила, от внутриутробной асфиксии. Жидкая темная кровь в полостях сердца и крупных сосудов, точечные кровоизлияния в серозные оболочки сердца, легких, полнокровие вещества головного мозга и внутренних органов».
Эхо: Внутренних органов
Отец: Понимаю.
Эхо: Нимаю.
Мать: Это – дочь. А ты – Отец.
Эхо: О те ц
Мать: А я мать.
мое небо растрескано молниями, сквозь которые пробивается туманный свет
я очень свернутая
в тесной камере
ее стены мягкие
я толкаю их ножкой
большим пальцем дырочку проковыряла
от нее по стенам разошлись трещины
темно-серые
в темноте это очень даже ярко
я вижу, что вокруг меня все красно-розово-сине-серо-зелено
я очень свернутая
как будто поломатая
холодно
плечей не расправить
когда я рожусь я буду ненужная
это вообще мой план на жизнь – оненужниваться
потихоньку
сначала надо перестать плакать и кричать
один раз можно самый первый
а потом надо хлюпать и хныкать
все тише и тише с каждым разом
задыхаться еще планирую
интенсивно, но незаметно
мне воздуха не должно хватать
тело чахнуть будет
Я уже в чахлом теле
Я слышу ее голос
похож на слово «скрижаль»
скрипит и жаль
жаль такого человека
я знаю, как мы жить будем
я буду спрутом по дому растекаться
вся слух вся внимание
а где она там ходит
а она будет очень громко ходить
суетливо
громко кастрюли тарелки переставлять
и непонятно зачем переставляет
потом дверью входной хлопнет
я выдохну – ушла
а потом затревожусь
куда ушла
зачем
и с чем придет
какая придет
такая свежая и легкая со словами
ты представляешь что в магазине было
или такая молчаливая грузная
что очень даже хорошо что я мало дышу
потому что она все своей тяжестью заберет
она весь воздух в себя всосет как губка
и мне совсем мало останется
голова будет болеть
будет очень часто болеть
врачи скажут анемия
она скажет симуляторша ебаная
лишь бы в школу не идти
я глазами буду за ней следить
на чем она сейчас сосредоточена
она будет сейчас телик смотреть
или что-то полистает а потом выдохнет громко и скажет
ну че ты там
как в школе че
оценки хорошие у тебя
а пахнет от нее невкусно
мне моя подруга скажет, что очень любит как ее мама пахнет
а я вспомню как она пахнет и меня скрутит
тошнота
ее мягкое тело
когда на стуле сидит
ногой постукивает
у нее икра трясется
а на столе будут бутерброды
а я буду под столом играть
я буду говорить это моя комната теперь
а она что скажет
она скажет что
нашла себе место
ты что собака под столом сидеть
может тебе объедки еще начать кидать
и посмеется
а я там останусь
это моя комната теперь
и объедки не будут кидать
даже крошка не упадет
и капельки воды не прольется
потом кто-то придет и посмеется тебя что не кормят
а я скажу да
и снова посмеется
плохие какие поругать их
и я скажу не надо
ничего не надо
в покое оставьте пожалуйста
оставьте меня
оставьте
Отец: Вот теперь время выйти из дома. Хотя откуда мне знать, какое время. Я же не забрал свои часы!
(жовиально идет к часовщику, по пути к нему обращает внимание на дворников, которые снимают объявление «Только сегодня! Цирк с дрессированными животными! Городская площадь, возле гастронома» и клеят новое «Только сегодня! Цирк с дрессированными животными! Городская площадь, возле гастронома»)
Отец: Ух ты, надо сходить!
У часовщика:
Отец: Здравствуйте! Не починили ли вы мои часы?
Часовщик: Нет, еще не успел.
Отец: Не скажете ли тогда, который час?
Часовщик: Я всегда был здесь, окруженный временем. Я всегда был часовщик, я всегда смотрел на неподвижные стрелки и радовался им тихой радостью старца обездоленного любовью, а ваши часы, они ходят ходуном, они дисгармонизируют меня, и мои некоторые часы тоже стали бежать, значит ли это, что время начало свой ход?
Отец: Что есть время?
Часовщик: Я думаю, это неизвестная нам конвенция.
Отец: Всего вам хорошего. Я завтра снова приду
Часовщик: Вы приходите, когда ваши часы показывают на цифру десять.
Отец: Я не знаю, что это значит. Всего вам хорошего.
Дома:
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
ОтецыМатьсмотрявокно.
отецыматьстираютволокно
отецыматьволокимолоко
отецымать
отецыма
отецым
отецы
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят в окно.
Отец и Мать смотрят друг другу в глаза
Отец: Пора
Городская площадь возле гастронома. В центре огромный баннер «Только сегодня! Цирк с дрессированными животными! Городская площадь, возле гастронома»). Весь город собрался здесь и смотрит. На сцене никто не появляется.
Большинство жителей города мертвых: показывают пальцами в пустоту и смеются над клоунами, обсуждают стадо зебр, которые синхронно преодолевают препятствия, удивляются пуделям, прыгающим сквозь огненные кольца, восхищаются полетом дрессированных попугаев, со страхом замирают, когда дрессировщик погружается по пояс в пасть трехметрового аллигатора, вздрагивают, когда эквилибристка делает три сальто мортале на канате подряд без страховки, широко открывают глаза, когда фокусник вынимает верблюда из цилиндра и тот плюется в толпу, и кто-то даже хохочет, а кто-то возмущается.
Меньшинство жителей города мертвых: плачут, что не могут ничего разглядеть, что на сцене пусто, а другие при этом много чего видят.
Отец: (энергично) Выходит, сегодня это мы оказались дрессированными животными!
Ночь. Мать ходит из комнаты в комнату, по лабиринту квартиры. В мире мертвых никто не спит, ночью все ходят из комнаты в комнату в плотных черничных сумерках. Иногда она оказывается в одной комнате с отцом, который тоже ходит из комнаты в комнату.
Комнат бесконечность или три. Есть еще коридор(ы). Есть еще ванная, туалет, санузел раздельный, это важно.
В одной из комнат Мать застает стиральщицу.
Стиральщица открыла шкаф и выбрасывает одежду на пол.
Мать: Доброй ночи!
Стиральщица: (шипит в ответ)
Мать: Да как-то и не спится, знаете.
Стиральщица: топчет одежду и улюлюкает
Мать: А я вас не вижу, вас же никто не видит.
Стиральщица: топчет одежду и улюлюкает.
Мать: Я вас каждую ночь не вижу. Вы очень незаметная. Я так удивляюсь каждый раз. Сначала я удивляюсь: «А почему моя одежда по полу разбросана?». Потом удивляюсь: «А куда это моя одежда плывет в этом огромном металлическом тазу?». А вас никогда не вижу.
Стиральщица: (лакает таз языком, стоя на четвереньках, сладко мычит)
Мать: Просто иногда любопытно все-таки, вы не против, если я проявлю любопытство, все-таки. Вы мне в прошлый раз вернули платье мое повседневное, но я вас не видела, конечно: все как положено, есть и дырочки от сигарет там, где соски, есть и разводы крови на воротнике, потемнела очень, на спине есть след ботинка, прилипший кусочек веревки есть в районе предплечий. И все филигранно, очень.
Стиральщица: прикусывает краюшек таза, скрежещет зубами и металлом.
Мать: Надела я, но вас не видела, ни до, ни после. Надела я платье, а выглядеть избитой, потасканной, изнасилованной не стала, вроде и разорвано местами, а эффекта нет.
Стиральщица: складывает одежду в таз, медленно пританцовывая
Мать: Можно я вас попрошу, в этот раз тщательнее стирать?
Стиральщица: (берет таз обеими руками и идет к выходу)
Мать: Спасибо большое, вы очень помогаете, я не хочу выглядеть ну знаете, какой-то неопрятной что ли, соседи уже стали говорить всякое.
Стиральщица: (останавливается возле матери и бьет ее ногой в живот)
Мать: Я вас не вижу, спасибо (улыбается нежно)
Стиральщица: Сука!
Мать: Не вижу.
Стиральщица: (уходит)
Мать стоит у кровати. Она надавливает на матрас ногой, касается пальцами торчащих пружин.
Мать: Я не могу положить тебя на матрас, когда ты будешь спать, ты же будешь спать. И, если ты будешь спать здесь, ты поранишься, эти пружины ранят твое тело.
Из-под кровати доносятся голоса. Мать наклоняется, чтобы посмотреть, под кроватью лежат дети. Их ладони в первой позиции колыбели для кошки.
Мать: Что вы здесь делаете?
Дети: Мы играем
Мать: Во что?
Дети: В заупокойную для кошки
Мать: А в чем смысл этой игры? У меня скоро тоже будет ребенок, я хочу с ней поиграть во что-то.
Дети: Нужно, чтобы твои руки оказались связаны нитью и ты не могла шевелить пальцами, ладонями и запястьями.
Мать: Надо же как интересно. А как понять, кто победил?
Дети: В этой игре это неважно, важно оказаться связанными по рукам.
Мать: И давно вы так?
Дети: Мы всегда были здесь, мы всегда были связанные по рукам дети, спрятавшиеся под кроватью.
Мать: От кого вы прячетесь?
Дети: (молчаливо отводят глаза)
Мать: Вы прячетесь от меня?
Дети: Мы не знаем, от кого. Мы просто знаем, что мы всегда были здесь и всегда должны прятаться. А что про вас?
Мать: Я всегда была здесь, я всегда была жена и дочь. Скоро я стану жена и мать.
Дети: Что-то поменяется в тебе?
Мать: Плод покинет мое тело.
Дети: Ты сделаешь аборт и будешь нянчить абортыша?
Мать: Нет, она выйдет сама, это будет живорождение.
Дети: Спасибо. Нам никогда не читали сказок раньше. Продолжай и мы узнаем, что такое дремота и сон.
Мать: Плод разрастается в моем животе, скоро начнутся схватки и роды, она выйдет с криком на свет. Я буду кормить ее грудью и смесями, а потом начну прикорм. Она будет становится крупнее с каждым месяцем, начнет ползать, а потом ходить. А однажды она спонтанно скажет «мама», представляете?
Дети: впервые в жизни уснули и сопят.
Раннее утро, сотрудники коммунальных служб меняют плакат о цирке на плакат о цирке, на городской площади, за их спинами оказываются горожане, которые расталкивают их нелепо и молча, и поверх плаката клеят небольшие листки А4, точнее, половинки А4, на которых написан один и тот же текст.
«Мы жители города мертвых, среди нас имеются граждане, разной степени разложения, разного свойства окоченения, с разным набором органов и конечностей, в едином вопле вопрошаем: наличествует ли злой умысел в действиях гражданки, которая, как выяснилось, занималась непотребством: процессуальным вынашиванием и живорождением (есть подозрения и в живозачатии, но это нам доподлинно неизвестно, хотя источники наши, конечно, достоверны и достойны, чисты и честны).
Мы выносим на общественный суд данный вопрос, как активные граждане, как инициативные субъекты, как люди, в конце концов, наблюдающие аморальное и неспособные это более терпеть.
Гражданка демонстрирует своим поведением вседозволенность. И, если мы сейчас, допустим это поведение, то что будет дальше? Узнаете ли вы завтра своих детей? Не покраснеют ли их щечки от румянца, не потянутся ли они губами к соскам вашим за теплым молоком?
Мы должны это остановить!
В связи со всем вышесказанным, заявляем следующие требования (все сразу или одно из)
1. гражданку изгнать из города
2. гражданке провести изъятие плода и умертвить его
Завтра на городской площади пройдет совет по безопасности, по вашей безопасности, товарищи! После дискуссии и выступлений проведем голосование, на котором определим судьбу гражданки
На бюллетенях будут представлены два вышеперечисленных варианта исхода, а также третий «за оба» и четвертый «против всех».
Просим, нет, ну настаиваем, конечно, всех быть.
В начале пройдет митинг, мы будем на нем шептать о своих правах и желаниях»
Отец: Вот теперь время выйти из дома. Хотя откуда мне знать, какое время. Я же не забрал свои часы!
Отец случайно бросает взгляд на вечно лысые, вечно белые деревья, которые вечно стояли у подъезда, без листвы и плодов, возле которых вечно лежали осыпавшиеся листья и перегной. С земли медленно поднимаются и наполняются багровым цветом листья, и в спиралевидном круговороте поднимаются к веткам, и соединяются с ними, а потом зеленеют. Отец не знает, сколько времени это занимает, но понимает, что долго, ему становится страшно, что он теперь знает, что такое «долго», выходит, вечность заканчивается, выходит, появляется чувство времени.
Отец: А мне что теперь делать? Ну, конечно! Я могу сделать вид, что ничего не видел и ничего не знаю. Отлично! Вот теперь время идти к часовщику.
Отец случайно бросает взгляд на ведро, которое вечно стояло у подъезда, в котором вечно лежали, разложившиеся трупы вечно утопленных котят, убитых вечно садистичной живодеркой из соседнего подъезда. Он слышит, что в ведре, что-то плещется, он слышит протяжные тонкие звуки, которые заканчиваются на аааааааааау. Он боится подойти ближе и увидеть, что там не смешавшаяся с грязной водой шерсть и куски серой плоти и морды с выпученными глазами.
Отец: А мне что теперь делать. Ну, конечно! Я могу сделать вид, что ничего не видел и ничего не знаю. Отлично! Вот теперь время идти к часовщику.(печально идет к часовщику, по пути к нему обращает внимание на объявление «Только сегодня! Цирк с дрессированными животными! Городская площадь, возле гастронома», объявление заклеено листками, он подходит ближе и внимательно читает. Он боится, что его жену скоро будут судить, он боится, что теперь, выходит, есть суд, есть правосудие, и, поэтому, есть преступление, он боится, что будет свидетелем)
Отец: А мне что теперь делать. Ну, конечно! Я могу сделать вид, что ничего не видел, ничего не знаю. Отлично! Вот теперь время идти к часовщику.
У часовщика
Отец: Мне, если честно, страшно, я смотрю на все ваши часы, их стрелки синхронно двигаются. И я понимаю движение, на часах он выглядит цикличным, благодаря окружности, но я почему – то ощущаю его как конечное.
Часовщик: Вы озвучиваете мои мысли. Непривычно вас видеть таким печальным.
Отец: Это все из-за моей жены. Ее планируют изгнать и\или умертвить младенца в ее утробе. Вы, наверняка, слышали об этом.
Часовщик: Как же! Из-за нее ко мне ходят весь день, забирают часы, чтобы не упустить голосование. Поверить не могу, что появилось время. Раньше ко мне ходили только вы.
Отец: Раньше! Появилось раньше, серые листья стали подниматься с земли и багроветь, мне страшно.
Часовщик: Ну-ну, ну что вы.
Отец: Я всегда был муж, я всегда был «труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания. Трупное окоченение умеренно выражено во всех исследуемых группах мышц. Трупные пятна фиолетовые на задней поверхности, больше слева, при надавливании пальцем окраску не изменяют. Труп холодный. Кожа бледная. Голова правильной формы. Волосы на голове русые. Стрижка короткая. Ушные раковины обычной формы. Слуховые ходы свободны. Лицо синюшное, одутловатое, с экхимозами. Глаза закрыты. Роговица помутневшая. Зрачки круглые, равномерные, 0.4 см. в диаметре. Соединительная оболочка век синюшная с единичными точечными бледно-красными кровоизлияниями на переходной складке век». А теперь я ничего не знаю и всего боюсь.
Часовщик: Вы говорили со своей женой обо всем этом?
Отец: Зачем?
Часовщик: Возможно, она разделяет ваши чувства?
Отец: Я никогда не думал, что такое возможно! (к нему мгновенно возвращается былая жовиальность) А вы ведь можете оказаться правы. Она, скорее всего, тоже не хочет ее… И она, скорее всего, тоже боится. Я ей помогу с умерщвлением. И тогда закончится этот ааааааааау у подъезда и листья рухнут наземь, а горожане вернут вам все часы. Хорошего дня!
Часовщик: Подождите! Заберите свои часы, я их починил.
Часовщик протягивает Отцу наручные часы, Отец сжимается в плечах и медленно отступает, Часовщик открывает прилавок и двигается в сторону отца. Начинается драка, Часовщик прижимает отца к стене и бьет его несколько раз в лицо рукой, выковыривает из его рта почерневшие зубы, широко распахнув его рот, бьет ногой в пах, а потом правой рукой сжимает его шею, а левой скручивает мошонку. Отпускает мошонку, двумя пальцами хватает за ноздри и ведет лицо вверх, пока ноздри не рвутся. Ставит Отца на четвереньки, садится верхом, лицом к его затылку, заламывает руку и силой надевает на нее часы. Смотрит на отвертки, которые лежат на его столе и думает, какой бы изнасиловать. Решает не насиловать. Кусает в плечо, отгрызает кусок плоти, из плеча на пол капает несколько капель крови. Красной.
Часовщик и Отец вскрикивают от ужаса и выбегают из часовой мастерской, куда глаза глядят. Отец успевает на прощание крикнуть «Спасибо» и взмахнуть рукой.
Следующий день, на городской площади
Мать стоит перед толпой мертвецов. Из толпы к ней выходит женщина, баюкающая на руках вечно спящего младенца, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС)
Женщина с вечно спящим младенцем на руках, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС): Я люблю, и ты полюби, мой мертвый и твой мертвый.
Мать: Моя живая
Женщина с вечно спящим младенцем на руках, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС): Мой мертвый, значит и твой мертвый будет
Мать: Она ножкой иногда дергает, она теплая и мне от нее очень тепло, я теперь тоже теплая, на потрогай (берет руку женщины с вечно спящим младенцем на руках, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) и кладет на свой теплый живот)
Женщина с вечно спящим младенцем, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) на руках не может оторвать руки, она так и остается надолго, а потом, ну это будет потом, когда митинг закончится, она начнет ходить за матерью, и просить иногда потрогать, а сейчас, ну это сейчас, когда митинг уже идет и все граждане молчат, она что-то вроде эйфории проживает.
Выходит следующий житель, чтобы высказать свою позицию.
Следующий житель: Ну, малая, ну как-то нехорошо это.
Следующий житель: да ты знаешь, мы с тобой еще вошкаемся тут, по-хорошему бы уже взять вот лопату и по животу тюкнуть и все сразу станет нормально. Фу, уговариваем еще
Следующий житель: Мы тебя тут не уговариваем вообще-то, что скажем, то и сделаешь.
Следующий житель: Мужу в глаза не стыдно смотреть?
Следующий житель: Да что вы с ней разговариваете?
Следующий житель: Граждане, кучнее, не распыляемся, давайте голосовать. Перед вами четыре урны, возле каждой бюллетени, На бюллетенях будут представлены следующие варианты: гражданку изгнать из города, гражданке провести изъятие плода и умертвить его, а также «за оба» и «против всех». Вы голосуйте, а я буду считать, сколько людей к какой урне подошло.
Мать решает прогуляться, пока идет голосование, за ней увязывается женщина с вечно спящим младенцем на руках, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Они идут к порту и смотрят на купальщиц, которые плескаются в нефтежиже и мажут лица друг друга мальковым перегноем.
Купальщицы: Вы с нами хотите? Да не осталось почти ничего природного, приходится самим все делать. В море все мальки свеженькие. Приходится ловить и относить в лужу, там загнивают, мы их жрем только потом. По несколько дней ждать приходится.
Купальщицы: А вот смотрите, что еще (заходят чуть дальше в море, вода смывает с них нефтежижу, мальков, очищает их серо-зеленые разбухщие тела).
Купальщицы: А еще знаете, что, вот многие из нас всегда были «труп женщины, причиной смерти которой явилась механическая асфиксия в результате закрытия просвета дыхательных путей жидкостью при утоплении, о чем свидетельствует наличие острого вздутия легких, мелкопузырчатой пены в просвете дыхательных путей, кровоизлияний под плевру и в ткань легких, наличие жидкости в пазухе основной кости, признаки быстро наступившей смерти (венозное полнокровие сосудов внутренних органов, жидкое состояние крови в полостях сердца и крупных кровеносных сосудах), а также отсутствие повреждений и заболеваний, которые могли бы обусловить наступление смертельного исхода». И, естественно, мы в воде устоять не могли, потому что «при достаточном развитии гнилостных газов вовремя нахождения в воде труп всплывает». А теперь вот стоим.
Мать: Зачем вы все это говорите и показываете?
Купальщицы: Затем, что твой уродыш должен как можно скорее омертветь. Мы ждем – не дождемся.
Мать возвращается на площадь, голосование завершилось. За ней тенью ходит с вечно спящим младенцем на руках, смерть которого наступила от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Голосование там еще идет, толпа хаотично бродит между урнами, не понимая, что делать. Мать возвращается домой.
Отец: А ты ждешь ее?
Мать: Жду
Отец: А я нет
Мать: Я знаю
Отец: Мне она не нужна
Мать: Я знаю
Отец: А тебе нужна?
Мать: Мне очень нужна. Я, знаешь, что стала замечать, когда она во мне запульсировала? Что все на самом деле пульсирует. Я пульсирую, свет под ногами пульсирует, земля над головой пульсирует, в ней корни пробиваются, мы на них смотреть будем с дочкой и думать, какие там деревья выросли, снаружи?
Отец: Тише! (оглядывается по сторонам)
Мать: Мы одни в квартире
Отец: Даже одним в квартире небезопасно говорить о снаруже
Мать: Снаружа снаружа снаружа снаружа
Отец: (хватается за голову и безмолвно кричит, широко открыв рот и распахнув глаза)
Мать: А мы с ней еще мицелий будем рассматривать, он блестит очень красиво в почве
Отец: Я не могу так, мне страшно, мне очень страшно, я бессилен, перед тобой бессилен и перед людьми
Мать: Ну снова ты начинаешь
Отец: Ну позволь, позволь я изыму ее из тебя и она станет такая как мы?
Мать: Нет, я хочу чтобы она шла своим путем
Отец: Ты же понимаешь, что если я это не сделаю, то другие сделают
Мать: Да, но если ты это сделаешь, это будет совсем ужасно, я не смогу с тобой больше быть
Отец: У тебя нет выбора. Мы заживем как прежде, твое чрево нам принесло столько боли. Мы теперь знаем, что такое прежде. А что будет дальше?
Мать: Она будет расти
Отец: Она медленно умрет на твоих глазах, потому что нам нечем ее кормить, наш мир не предназначен для таких, как она.
Мать: (хватается за голову и безмолвно кричит, широко открыв рот и распахнув глаза)
Отец: Позволь мне изъять ее из тебя. Позволь! Я ее верну обратно, но она уже будет как мы, ты будешь с ней также ходить. А если тебе хочется, чтобы она пульсировала и стучала, я знаю часовщика, он вставит в нее часовой механизм, и ты всегда постоянно каждую секунду будешь слышать, как она ту тук ту тук.
Все вернется на свои места мы с тобой будем ходить и в храм, и в порт, и все на нас будут скалиться.
Мать: Мне страшно.
Отец: Так и должно быть. Мы всегда были здесь, мы всегда испытывали страх.
Мать: Я забыла об этом.
Отец: Мы всегда были здесь, мы всегда были без памяти.
Мать: Если нет памяти, то и вспоминать не о чем.
Отец: Ты даешь согласие?
Мать: Нет
Я тебя ненавижу, я, когда ты провинишься, а ты провинишься, ты уже виновата, я на твоей ладошке кожу защипну и крутить начну. Буду спрашивать: ты понимаешь, за что я это делаю? Это наказание, ты скажешь. А я буду спрашивать: а как ты себя вела, что я тебя наказываю? Ты скажешь: плохо себя вела, больше так не буду, я чуть-чуть скручу сильнее, и скажу, дай обниму, ты молодец.
Потому и ненавижу, я себя твоими глазами видеть хочу. И я хочу видеть, что я красивая, что я нежная. Как я изящно хожу, например. Или смех свой слышать через тебя и твои мысли слышать, а ты от моего смеха должна думать: я теперь тоже смеяться хочу, так она заразно смеется. Я не потерплю, если ты будешь других людей любить. Это выходит, ты их тоже будешь красивыми видеть и от смеха их смеяться. Я вот иногда встану в какую-то позу и думаю, как бы поизящнее. Или, иногда, ты думаешь я чем-то увлечена, читаю или кофе варю, а я тобой увлечена, твоим взглядом на меня увлечена, как ты меня видишь и думаешь: интересно, она вот ручкой делает пометки, наверное, что-то интересное читает, какая она умная, не просто читает, но и пишет что-то.
А я вот когда кожу на ладони кручу, ты меня какой видишь? У меня лицо злое? Ты мне расскажи, это красиво? потому что я думаю, что красиво, ты не удивляйся, но нет ничего красивее матери бьющей ребенка в нашем мире. Это повседневная красота, она всем доступна, кому-то в прошлом, кому-то в настоящем, кому-то в будущем.
Если ты была в животе, а потом у тебя в животе кто-то будет. И тебя вот щиплют, потом ты щипать будешь. И лицо у тебя будет красивое, внимательное и трепетное, наполненное заботой, за что я это делаю я себя плохо вела больше так не буду молодец дай обниму
ооооо ты будешь хотеть каждый день так делать
но каждый день нельзя, ты же понимаешь
нужна неожиданность
я, например, раза три-четыре над твоими шалостями посмеюсь, а на пятую смотрю строго и говорю: «ты как посмела?»
обязательно посмела
потому что смелость за нее надо щипать
и крутить
и скручивать
и выкручивать
и выкрикивать
ты как посмела
потому что смелость должна быть выдрессирована
если ты в этом хаотическом непредсказуемом потоке все же осмелишься что-то сделать а потом будешь осмеливаться все чаще и чаще и чаще
я скажу, конечно, поколачивала, я из тебя человека пыталась вырастить и видишь, вон ты какая теперь, себя в обиду не дашь, за словом в карман не полезешь
а если ты не осмелишься
если так и останешься стоять голову склонив и не поднимая глаз и повторяя «плохо себя вела больше так не буду»
я спрошу «а что надо теперь сказать»
и ты скажешь «спасибо»
спа-пой поговорю он тебе ремня всыпет
спа-сите
спа-сайся
дело рук утопающих грести как можно сильнее
ручки чахлые не справились, вот и ущипну кожу на правой сначала и скручу посильнее
Мать лежит в кровати и смотрит на лицо Отца, Отец стоит над матерью и нашептывает, глядя на ее живот.
Отец: Я бы очень хотел, чтобы тебя не было. Чтобы ты не появлялась на смерть. Потому что в мире, где ты есть, меня быть не может. А в мире, где я есть, тебя быть не должно. И вот теперь ты есть, ты здесь. Значит, мне уйти надо.
И я ухожу. Напоследок только сказать хочется несколько слов.
Чтобы ты знала.
Я человек простой. Мужчина. У меня есть семя. Бывает эрекция. По утрам поллюции. После близости post coitum triste.
Fallos, fascinum, pryapisme.
Это все, чем я по-настоящему обладал. А твоей матерью – никогда. Обладать значит управлять и распоряжаться. Такого у нас никогда не было.
Были просьбы, уговоры, мольбы. За ними шли пенетрация, фрикции, эякуляция.
Мы не смотрели друг другу в глаза и редко целовались в процессе. Нам не хотелось кусать друг друга за мочку уха. Мы даже не потели.
Ты возникла из этого процесса.
Без пота, влаги, устойчивой потенции, не доставляющего удовольствия оргазма. После мы не лежали в обнимку голые. Я не целовал влажной спины твоей матери, и мы не начинали заниматься любовью снова. В ее глазах не было теплого света любви и радости. В ее глазах ничего не менялось.
Ты дитя нелюбви, неблизости, неудовольствия.
Я прощаюсь с тобой, потому что ты хуже, чем голлум.
Обычная снаружи, навеки монструозная изнутри.
Ты это не изживешь.
И я не смогу сказать тебе, что люблю. Это абсурд.
Как я могу любить монстра. Тебя очеловечит только непричастность к нашим телам.
Может, ты просто возникла.
Наша возня не могла привести к рождению ребенка.
Ты непорочно зачата. А мы просто возились под простынями в дождливый день.
Это совпадение. Причинности в этом нет.
Не хочу смотреть, как ты растешь. Ты не моя дочь. Я тебя не люблю и не полюблю.
Прощай.
(бьется головой о столбики кровати или растворяется в воздухе, но рядом с семьей больше не появляется никогда, в одном действенном пространстве их быть не может)
Мать в сопровождении конспиролога идет к городской площади. Там все также хаотично двигаются между урнами жители города мертвых.
Конспиролог: Смотрю на тебя, совсем ты изменилась, тебе надо что ли, ну не знаю, дай руку, руку дай, теплая почему рука? А я тебе скажу почему, потому что ты вчера молча стояла, надо было завыть, закудахтать, а ты молча стояла, че ты молча стояла? Знавал я одну, такую же, молчите вы. Молчание женщину не красит, женщина говорить должна, вслух, ртом, губами шевелить, а то взяли моду, по углам сидите, рта не открываете. Ну-ка, скажи что-нибудь, ну зубы разожми, АААААА сделай. Фу, дурная, закуксилась как.
Я верую, меня вера спасает, вера, что все это закончится, что наступит конец мраку, который нас поглотил, что нас черви доедят. Я вижу, что все подгрызает знатно, у многих уже белые-белые такие кости торчат, так лизнуть хочется, да у меня языка не осталось, я утробой говорю, и ты научись. Не сиди без дела.
А ты думала, что будет, когда кроме костей ничего не останется? А я знаю, мне откровение было, рассыпемся мы, в муку рассыпемся, нас боженька веником в совочек соберет и слепит из нас, вот нас миллиарды, да? Бесчисленно много нас, а он из нас всего одну слепит. Но какая это будет….
Ты поэтому, чтобы поскорее рассыпаться, ты каждый день в змеиный тоннель ходи, там темные клыкастые, они от нас откусывать любят, ты ходи, на входе раздевайся, и в темноте лежи.
Они к тебе приползать будут, и по чуть-чуть откусывать. Темные они быстро наедаются, терзать не будут
Нам всем надо туда ходить
А я говорил я говорил уже много раз вообще-то, что надо вместо площади там нам лежать
чтобы чуть-чуть кусали
каждый день по чуть-чуть и что будет? за две недели бы уже рассыпались
мы – материал, мы гипс
она нами будет лепестки роз целовать в райском саду
она нами будет львов по спине гладить
она нами в воды чистые войдет и затвердеет кожа ее от прохлады и засмеется нами она
а ты стоишь тут зенки выпучила, ступай, говорю в туннель
Мать: молча выходит в центр площади
я сплю
я нежная
я сон вижу
я тебя за руку держу
я на тебя с улыбкой смотрю
я в платьице с белым кружевом
я в туфельках с розовыми бантиками
мы сидим в обнимочку и наверх смотрим, мы сидим в обнимочку и в альбоме чертим, вот это червь прополз дождевой, а вот это плоский, мы исследовательницы с тобой
и мне хорошо
а потом мы домой идем, а в доме я засыпаю и сон вижу
а ты, пока я сон вижу, гладишь меня по ногам, и говоришь: устала малышка, конечно, столько гуляли с тобой, весь центр обошли.
и хороший такой сон, и ведь правда, что сбудется, что это все впереди.
а что еще впереди, я знаю
и поэтому я даже за умертвение, ты знаешь
возможно, я как только ходить и говорить научусь, начну пытаться умертвиться, ты поэтому может и не затягивай
ну потому что а что еще впереди я знаю
будет очень больно каждую секунду будет очень больно потому что ты меня приведешь в боль это без сомнений потому что если и есть что-то из-за чего этот мир крутится то это страдания конечно ты либо сама страдаешь либо смотришь как другие страдают и ничего не можешь с этим сделать
смотреть как другие страдают
поначалу будет казаться что можно это исправить что есть маленькие дела что зачастую достаточно просто не причинять вреда и иногда делать что-то хорошее а боль будет множиться она будет все пространство занимать
со мной будут взрослеть информационные технологии
и, если поначалу я буду тревожиться только в 07:00 (когда проснулась), в 15:00 (после школы), в 18:00 (во время ужина), в 21:00 (перед сном)
лет с тринадцати и до двадцати двух я буду в пубертате,в плохой компании,в поиске призвания, в депрессии, в парасуицидальном поведении, тревожится, но из-за себя, из-за школы, колледжа, универа, из-за первой любви, из-за первого секса, из-за подружек с турбулентным взрывным характером, из-за нехватки денег на поездки и классную одежду, из-за дурацких работ, где все кричат и ничего непонятно, из-за того, что явно тупею, мало читаю и никуда не хожу, из-за того, что перестала писать тексты, хотя всю жизнь мечтала быть писателем, из-за того, что наконец поступила на литературное творчество и перестала писать, хотя всю жизнь мечтала быть писателем и быть среди писателей, из-за насилия и абьюза, хотя не знаю этих слов и об этом никто не говорит публично, из-за того, что не умею просить о помощи и говорить, что мне плохо, из-за затяжной меланхолии, из-за ежедневной боли в голове, из-за ежедневной боли в грудной клетке, из-за головокружений в метро, из-за обмороков в метро, из-за нежелания выходить их дома, из-за страха остаться одной в подъезде, из-за навязчивой мысли, что мне причинят вред, из-за того, что все будет серым и вязким и ничего не будет доставлять удовольствия, из-за того, что я ничего не делаю, ради своей мечты, хотя я всю жизнь мечтала быть писателем, из-за того, что надо прятать синяк на щеке, а я всю жизнь мечтала о любви как в книгах и фильмах, из-за того, что чужое настроение на меня очень сильно влияет и, когда рядом со мной кто-то экспрессивный, мне физически плохо, в животе что-то сворачивается в холодный клубок и я должна это исправить, из-за того, что все, с кем я общаюсь, очень экспрессивные и громко разговаривают и всем недовольны, и я должна это исправить, из-за того, что я не могу эту исправить и перестаю чувствовать не только удовольствие, но и все остальное, из-за того, что я схожу с ума, пытаясь получить любовь и одобрение от мужчин, из-за того, что я схожу с ума, пытаясь получить любовь и одобрение от женщин, из-за того, что я всегда чувствую себя неуместной, из-за того, что я всегда за плотной стеклянной стеной между мной и миром, из-за того, что я тянусь рукой к кому-то и ударяюсь кончиками пальцев в эту стену, бьюсь в нее кулаками и разбиваю об нее голову, а она не трескается, из-за того, что я одинока и часто из-за этого плачу, из-за того, что я всегда была одинока и часто из-за этого плакала, из-за того, что я всегда буду одинока и часто буду из-за этого плакать, из-за того, что я всех понимаю, а меня никто, из-за того, что мне часто стыдно за все: где-то что-то не так сказала, где-то рассмеялась громче положенного, где-то пошутила, а никто не понял, где-то споткнулась и упала, где-то что-то уронила и это было громко и все заметили, из-за того, что ты меня покинул, а я не смогла это принять и несколько лет мучалась, из-за того, что ты меня покинул и я приняла это спустя несколько лет и поняла твои причины, а сквозь них и причины других: любить меня невозможно и ненужно, я мусор, во мне нет ни таланта, ни ума, ни красоты, ни сексуальности, ни юмора, если кто-то меня любит, то он скорее всего такой же, и уважать его невозможно, из-за того, что стала встречаться только с теми, кого уважать невозможно, из-за того, что перед сном продолжала себе рассказывать сказки о том, что я писательница и о том, что со мной кто-то, кто меня любит. из-за того, что все мои мастурбации заканчиваются плачем, тихим и горьким. из-за того, что у меня некрасивое тело и я изо всех сил пытаюсь это чем-то компенсировать. из-за того, что мне нечем компенсировать. из-за того, что мне очень нужна помощь, потому что иногда я задыхаюсь, широко открыв рот и, кажется, вот-вот умру, но я не знаю, у кого ее просить, но я не знаю, кому об этом рассказать, из-за того, что все, с кем я дружу много учительствуют и мне меня объясняют, а я их слушаю широко открыв рот и кивая, хотя они неправы абсолютно и причиняют мне боль, из-за того, что я выдумываю диалоги с ними потом и я в них крутая, а в реальности нет. в реальности меня нет, я не существую, я не личность, я никто и однажды меня стащила с сидения в автобусе злая женщина, а я не решилась ей ничего сказать и просто стояла рядом с ней и с сидением и еле сдерживала слезы, а потом друзьям выдумала историю, как я ей круто ответила, как над ней даже подшутила, а они мной восхищались, а реального повода восхищаться мной не было нет и не будет и мне ежедневно больно и я не знаю, каково это жить без удушья и боли и я хочу вырваться, и я верю, что кто-то меня заметит и заберет, и я верю, что это все прекратится и я стану блистательная и самоуверенная.
а ближе к двадцати трем все это вместе и плюс новый график тревожности от коммуникаций с миром, теперь, когда есть свободное время и телефон в руках, а это есть у меня круглые сутки
и я знаю, я знаю отчетливо, что прямо сейчас кто-то невероятно страдает, потому что люди насилуют людей, люди пытают людей, люди становятся жертвами катастроф, люди становятся жертвами людей, люди люди люди люди люди это сплошная боль, которую я чувствую постоянно.
а удовольствия я не чувствую, поэтому, когда я наконец начинаю становиться писательницей, я ничего не чувствую ни за похвалу, ни за конкурсы, ни за сообщения от незнакомцев, ни за гордость матери не радуюсь, потому что все мои поры, все мои нервы, все мои капилляры настроены на боль и страдание, волоски на моей коже улавливают их как усики муравьев улавливают солнце
и никакая радость неспособна быть прочувствованной, когда все занято болью
где-то в двадцать пять боли станет чуточку меньше, потому что я научусь просить о помощи у специалистов, радости не прибавится, но уже хорошо
и я даже поверю, что вот-вот уже скоро я начну испытывать радость, удовольствие и блаженство, и я даже становлюсь здоровее и начинаю любить йогу и медитации и очень редко буду думать, что не жить легче, чем жить, а задыхаться стану раз в несколько месяцев
а потом, ну это где-то вот сейчас, когда мне двадцать семь, я буду понимать, почему этот возраст сложно пережить и задохнусь, скрючившись от боли в голове, ребрах, и склизкого холодного свернувшегося в животе бессилия, потому что устану смотреть на страдания других и ничего не делать, потому что пойму, что маленькие дела или простое банальное ненанесение вреда ни в какое сравнение не идут с насилием, смертями, войной и самое страшное посеревшими от равнодушия лицами других, которые просто ждут, что завтра будет хуже чем вчера и просто это принимают и медленно двигаются по делам или за кофе, и мое лицо такое же, возможно, даже более серое, и сердце у меня серое, потому что мир не делится на черное и белое
он серый.
мы – материал, мы гипс
она нами будет лепестки роз целовать в райском саду
она нами будет львов по спине гладить
она нами в воды чистые войдет и затвердеет кожа ее от прохлады и засмеется нами она
а ты стоишь тут зенки выпучила, ступай, говорю в туннель
Мать: молча выходит в центр площади
Мать говорит: «Пойдемте со мной» и мертвецы, хаотично бродившие до этого вдоль урн, не зная, что делать, идут за ней.
Мать приводит всех к змеиному тоннелю и говорит: «Ждите меня»
Мать входит в темный тоннель, тоннель на самом деле уроборос, вечность назад укусивший себя за хвост и пожевывающий его теперь, поэтому потолки и стены ходят волнами и устоять сложно.
Мать движется в самый вверх, хватаясь руками за сталактиты и сталагмиты, которыми обросли внутренности уробороса, за хрящи и хребтовые кости уробороса. Мать оказывается внутри широкой пасти и видит, как зубы, что больше, чем она во весь рост, смыкаются и размыкаются. Мать считает и понимает, что у нее есть тридцать секунд и прорезь возле клыка, в которую нужно проникнуть.
Мать чувствует схватки и сгорбившись подходит вплотную к прорези. Мать дожидается, когда челюсть вновь широко открывается и выходит наружу.
Потому что тридцать секунд это очень много.
Жители города мертвых стоят и ждут, а потом слышат крик, первый крик младенца, он доносится из змеиного тоннеля, но как будто издалека.
Жители города мертвых стоят и ждут, ведь им велено было ждать. И слышат иногда смех, чистый детский смех и нежный женский смех.
Жители города мертвых стоят и ждут, ведь им велено было ждать.
К жителям города мертвых вернулась мертвая вечность. Времени больше нет, значит и помнить не о чем, они стоят и ждут, сами не зная, чего, в мертвой вечности трутся друг об друга телами.
Иногда они слышат смех и слова.
Издалека.
Сам ты Юпитер
Фрагмент неоконченного на сегодняшний день текста Леонида Шваба. Предыдущие части цикла выходили в проекте «post(non)fiction» под заголовком «Панические рассказы» («Царство бабочек» и «Царство стариков»)
Сам ты Юпитер
Себастьян предложил съездить в монастырь Бейт Джамаль, пополнить запасы меда и керамики. День выдался пыльный, бездушный, египетский песок мелкой взвесью терзал наши легкие.
Каждый раз, когда нужно позвонить по телефону, я набираю воздух в легкие и сам себе говорю – это не конец света, к тебе непременно будут добры.
Оказалось, что для полной занятости мне не хватает утренних часов. Я подрядился волонтером в музей природы, на уборку сада. Иногда из экспозиции выносили на свежий воздух древние чучела, а я орудовал метлой и граблями и старался не смотреть в стеклянные глаза. Музей раздирали судебные тяжбы, территория была лакомым куском для подрядчиков. Кто-то из дирекции пронюхал, что у меня огромный опыт в работе с документами времен мандата, но я отказался ввязываться в войну и мне указали на дверь. Уходя, я обернулся – на крыльце стоял белый медведь на задних лапах, я помахал ему рукой.
Себастьян неизменно внимателен ко мне, но я умею различать особые желтые искры в его глазах, когда на предложение помощи нужно ответить немедленным и твердым отказом.
Никогда никому нельзя рассказывать свои сны.
Займемся Цицероном, в самом деле. Призывал к гражданской войне, обнаруживал деловитую непреклонность, сомневался в бессмертии души. Убивать автора «Филлипик» было бездарно, благородный гнев ненаказуем, не правда ли. Подобно тому, как на ветвь оливы вспархивает синица и что-то там еще.
Этот загадочный нищий возле аптеки «Ора» снова объявился на своем месте. Тридцать лет назад он выглядел точно так же как и сейчас, тогда на вид ему было лет 50. И сейчас 50. Он обязан быть глубоким стариком, я требую, я не согласен, есть же какие-то правила, в конце концов. Что можно требовать от меня, какие обязанности и права, вы все с ума посходили.
Лет пять назад минимаркет Дорона перестал работать круглосуточно. Дорон сказал, что он тоже человек, и вообще у него теперь молодая жена. На пасху Дорон теперь закрывается на всю неделю. Что-то, видимо, изменилось в составе воздуха, потому что улица поскучнела. Наши дела равны нашим потайным страхам.
Все началось с невинной затеи представлять кипарисы людьми. А закончилось ураганным ветром, градом, затоплениями в низинах по всей стране.
Письмо я озаглавил «Здравствуй, Петр», и далее: «Все пошло наперекосяк в последние месяцы, мама болеет, да я и сам неблестяще себя чувствую. Валютный рынок лихорадит, я остался на бобах. Закажи мне, пожалуйста, зефир в шоколаде, копченого палтуса, вина немного. Заранее благодарен, обнимаю». Я не стал распространяться насчет презумпции невиновности, Петр не поймет. «Виноват, всегда виноват», – так говорит Петр.
В ту зиму яффские рыбаки выловили гигантского группера. На набережной стихийно образовался праздник, рыбаков качали на руках и закармливали сладостями. Группер лежал на рогожке, и я обнаружил, что в каком-то ракурсе он похож на меня застывшей своей мимикой. Я быстро удалился, только этого не хватало, лежать на холодной рогоже и радовать всех этих неприкаянных.
Нас распустили по домам и велели вернуться через неделю для заполнения каких-то анкет. Я устроился на раскопки в Бейт-Шеан и начисто забыл о чиновниках и военных, никто мне больше не писал и не звонил, если это не обман, то что же тогда обман.
На скорую руку соорудили убогие декорации в павильоне, студийные остряки тыкали в нас пальцем и прочили блестящее будущее. Фанера скрипела под сквозняками, оставляла занозы в нарядах нашей главной героини красавицы Ниночки. Главное, что ничего у нас не получалось, ровным счетом ничего, отснятый материал ежевечерне уничтожался без малейшего сожаления. Через неделю группа распалась, Ниночка вернулась в свою бухгалтерскую контору, сценарист и оператор рассорились на всю жизнь. А режиссер сбежал еще до съемок, мы все делали сами, да он, собственно, и не обещал нам ничего.
Себастьян вернулся из Флоренции помолодевшим и удрученным, его темперамент прыгал и скакал козленком. То он бешено флиртовал на улице, то обнимал якаранды, вернее обматывался всем телом вокруг ствола и замирал надолго. Что с тобой произошло, друг мой, – обратился я к нему с некоторой опаской, – ты не такой как раньше. Мне снится Макьявелли, – отвечал Себастьян, – он хочет, чтобы я продолжил историю Флоренции до наших дней. Я и сам об этом подумывал, но Никколо хочет буквально диктовать, навязывает мне свои идеи. Это невыносимо, что ни говори.
Радость моя, – бормочет подвыпивший господин средних лет, непонятно к кому обращаясь, – радость моя. И больше ничего не говорит. Я смотрю на него с любовью.
Задумчивый и тихий господин средних лет сидит за угловым столиком кафе и читает газету. К нему подсаживается не спросив разрешения некто с виду банковский клерк: «Я наслышан о вашем даре, знаю, что у вас мерзкий характер, я только хотел предложить...». «Во-первых, не мерзкий, а просто дрянной. Во-вторых, от вас вскоре уйдет жена, и детей вы не отсудите, простите».
В застолье Петр вспоминает былое и увлекается необычайно. Давайте сосчитаем, – говорит Петр, – такие поворотные моменты в нашей жизни, когда от нашего решения судьба могла повернуть... Я запутался, – смеется Петр, – я не могу окончить фразы. Закатное солнце вспышкой освещает Петра в профиль, как будто делает моментальный снимок и отпечаток отправляется на небеса. Теперь Петра запомнят.
Сегодня мы будем учиться кричать. Бедные вы, бедные мои.
Я продаю собаку породы сенбернар. Три года, привитая, выученная, покладистая, добрая. Любит чтение вслух, тишину в доме, птиц за окном. Не любит только меня, необъяснимо и беспричинно. Не могу и не хочу так жить.
Новый шрифт невозможно придумать, придуманные они, видишь, тоскливые, вымученные. Шрифт должен быть естественным как дерево или птица, или, на худой конец, как кирпич. Лживая мысль дружит с самыми вычурными, самыми кропотливыми буквами. Рукопись всегда честнее книги.
На вокзал Виктория приезжает журналистка, очень красивая дама, выписывает что-то из расписаний электричек на завтра, едет на такси в частный дом, где ее не ждут. Хозяин дома говорит, что так не принято, никто не будет отвечать на ее безумные вопросы, журналистка плачет, как дитя, ее кормят обедом и изгоняют окончательно. У нее выстрижен начисто правый висок с крошечной наколкой, паучок и муха.
Я совершенно здоров, я хочу домой – кричит Петр, – не надо больницу! Ветер срывается в спираль и закручивается вокруг него по часовой стрелке. Петр начинает вращаться в обратную сторону и таким образом сохраняет равновесие.
О египетском походе Наполеона, о чуме, о расстрелянных в Яффо.
Забвение и избавление, вот наша цель, господа, – сказал предводитель. – Завтра утром предателя ждет яйцо пашот и просекко, заранее забудем и простим, как говорится.
Молодая женщина в качестве продавщицы парфюмерного отдела крупного универмага. Документальный фильм об успешных продажах. Шпионский троян, зашитый в файл фильма. Обвал акций конкурентов, расширение бизнеса. Наша продавщица в разговоре с подругой жалуется на внезапные приступы тоски и страха. Подруга думает про себя – мне бы твои проблемы, дорогая.
Мертвый Джон Ф. Кеннеди высаживает орхидеи в воображаемом садике, компост парит, одиночество выжигает душу. Полупрозрачный черный дрозд ходит кругами рядом, покоя нет, но и сомнений нет.
Обнаженная женщина спит, обнимая подушку, зад прикрывает мужская шляпа. Так начинается «Конформист» Бертолуччи, эта завораживающая картинка сводит меня с ума. Нервозного и неуверенного в себе человека легко смутить, но манипулировать им – видите ли – невозможно.
На уроках рисования мальчик всегда изображал самого учителя рисования, всякий раз в гибельной ситуации – то раздавленного под колесами автомобиля, то в пасти у львов, то по дороге на расстрел. За что ты меня так ненавидишь? – спрашивал учитель. Я тебя вовсе люблю, а не ненавижу, – отвечал мальчик, – у тебя такое красивое смертное лицо.
На дороге ведущей в Вифлеем в винном магазине работал Стефан, который славился умением угадывать, что именно выберет незнакомый посетитель. Стефан не развлекался, он искренне и трудно переживал, когда ошибался. Впоследствии он открыл собственный бизнес, разочаровался, вернулся. Что мне делать с моим талантом, – без улыбки вопрошал он, – больше ничего примечательного во мне не было и нет, но разве станет мир лучше, если я заранее вычислю, что некто в потертом стетсоне купит розовый мальбек.
В память о безвременно ушедшем капитане парома на пристани подняли флаги 15-и республик СССР, радиоточка транслирует концерт композитора Баснера, девушки раздают распаренную кукурузу на палочке. Мальчик с огромным деревянным маузером стреляет себе в рот.
«Прощайте, сатиры и нимфы, – говорит джентльмен с пронзительным нависшим взглядом, – ступайте к своим прерафаэлитам». На пустыре ни души, солнце печет невыносимо, даже эха нет, и жидкие тени обступают прозрачную фигуру.
«На нашем наречии «будьте прокляты» и «будьте счастливы» звучит одинаково, – продолжает он, – это конец, королева никогда не простит».
Моя фамилия Бер-Паташинский. Мне 70 лет, я живу в деревне к северу от Хайфы. Жизнь моя ничем не отмечена, я это знаю, когда-то был специалистом по заговорам и оберегам алтайских целителей, давно не у дел. Я встаю очень рано, до захода солнца, выхожу во двор, укрепляю ограду после ночных нашествий диких кабанов, пью свой кофе с любимой курицей Глашей. Мне мало что интересно – пожалуй, только судьба последних сочинений Шостаковича и свои застарелые хвори. Я талантлив своей, так сказать, психологической стройностью, я умею отдалять от себя невзгоды и негодяев. На таких как я вся надежда.
На каждый перекресток привезли бочки с пивом. Праздник назвали днем хорошего человека. Салюты были неистовыми. Камерный оркестр передвигался на открытой платформе грузовика, музыканты проклинали идиотов из отдела культуры. Что-то пошло не так, уличные клоуны пинали детей, клоунов с удовольствием избивали всей толпой. Куда нам податься, – говорили люди как во сне, – зачем это всё, Господи.
Купейный вагон поезда дальнего следования экстренно отцепили и отправили на запасной путь. Причину не объявили, пассажирам предложили плохонькую гостиницу, все поголовно отказались и решили переждать непонятно что в обжитых за время дороги купе. Вагон красиво светился в темноте, кто-то вышел на прогулку по насыпи, компания студентов забралась на крышу вагона, проводницы ворчали. Мальчик лет семи сказал как будто сам себе: «Где мы проснемся завтра, что нас ожидает? Утром мы будем или не будем?» Папа привычно одернул мальчика, сосед папы пробормотал: «Пусть говорит, вдруг он спасет нас всех». Проводница сказала: «Почему так остро хочется обняться и целовать в шею, и пить вино из бумажного стакана». Студенты разом загалдели и утянули проводницу на крышу. Мальчик продолжал: «Наш вагон облеплен жемчугами, сбоку сложены крылья, мы улетим и нам ничего не будет».
– Ваше имя? Куда направляетесь?
– Меня зовут Тимофей Бей, я еду в Катрумбо.
– Такого места нет на карте и не было никогда.
– Увы, мой путь лежит именно туда.
– Доброго пути, господин Бей, надеюсь, ваше путешествие будет приятным.
– Приятным? Не думаю. Мы больше никогда не увидимся, не так ли?
– Мы увидимся, но при других обстоятельствах, вы будете юной леди в сопровождении вашей тетушки, а я инспектором по делам несовершеннолетних.
– До свидания, господин инспектор, тетя не подведет, мы обязательно всё уладим.
Петру стали чудиться голоса на улице – представляете, рядом никого нет, и, представляете, вдруг к нему обращается неизвестно кто и требует внимания и участия. Петр однажды даже вступил в разговор неизвестно с кем, но, собственно, только и сказал «извините, бегу» и вправду побежал изо всех сил.
С неумолимой последовательностью каждый день – это необходимо, чтобы каждый день – в повседневной жизни происходили малые события с небольшим, так сказать, сдвигом по фазе. То в городскую управу заявится мальчик лет десяти с удостоверением депутата, и его допускают в комиссии, поскольку все документы в его портфеле безукоризненно настоящие. То дрозды без запинки начнут насвистывать оду «К радости». Или, например, в историческом музее сотрудники в один голос подтвердят визит призрака британского офицера: «Он, понимаете ли, запросил протоколы трибунала по делу о взрыве гостиницы Кинг Дэвид!».
По случаю купил немного древесины ливанского кедра. Первую фигурку я вытесывал не зная, что хочу изобразить, рука сама вела резец. Получился кипарис, в кроне пряталась сова. Затем я вырезал бойлер для нагрева воды, с двумя солнечными панелями на проволочных ногах. Дальше случился катер с иллюминаторами из слюды. Мой психолог искренне радовался моим успехам, и пояснял, что рано или поздно фигурки сложатся воедино в некую линию смыслов, и вот как раз с этой линией мы и поработаем, процарапаем рядом, так сказать, наши векторы.
Коррозийные процессы в общем и целом под контролем, поставки сырья почти под потолок, персонал проверенный. Так почему мы в глаза друг другу не смотрим, зачем так страшно кричим, когда снимся друг другу?
Когда мне, никакого отношения к миру искусства не имеющему, заказали мурал 10 на 20, я поначалу засомневался. Идея была именно в том, чтобы привлечь постороннего – в надежде, как я понимаю, на свежесть взгляда и подхода. Мне предложили помощников, знакомых с технологией, я принялся за проработку идеи. Первая мысль была изобразить электросхему из учебника инж. Альтшуллера. Потом пришло в голову изобразить автомат Калашникова. И, наконец, меня осенило – не нужно красоты технической, нужна красота неведомая. Я выбрал изображение цифры 8 с подписью «Это восемь, а не три, несмотря на то, что три изобразить легче».
Заказчик скис и расторгнул договор, а я что, я ничего. Хожу на службу в вельветовом вечном пиджачке, всякий раз, когда встречаю восьмерки в расчетах, улыбаюсь. Что-то важное произошло, несомненно, но я не знаю что именно.
Рассказывает вездеход «Тойота»
Доброкачественные клеммы подменили на какие-то сомнительные скрутки. Короткие замыкания и перегрев почти беспрерывны. Грабеж среди бела дня, но даже этой простой вещи я понять не могу, только догадываюсь и как бы просыпаюсь – и снова замыкание, и темно в глазах. Я выживаю за счет исключительной выучки и самодисциплины, я умею гневаться и вспоминать, это немало, поймите же, наконец.
Барон вызвал бухгалтера ночью. Разговор был нервным и долгим. Барон повторял одно и то же – где мои деньги. Оборотно-сальдовая ведомость пестрела красным, кофе казался выдохшимся. Выдохлись и сами собеседники, светало быстро. Барон сказал: «Не могу поверить, что ты, ничтожество, так и не понял – без меня ты ноль». Бухгалтер отвечал: «Будь проклят тот день, когда я связался с вами. Лучше бы сразу в чернокнижники». На рабочем столе лежал золотой соверен, талисман и оберег, барон засунул монету в рот и ворочал языком, давил металл зубами.
Первое предупреждение будет намеком, скорее даже чем-то вроде взгляда случайного прохожего. Господин ты или госпожа – неважно, на минуту станет некомфортно и быстро пройдет. Второе предупреждение случится ударом, перехватит дыхание, разум помутится. В голове застучат отдельные слова, ты будешь безуспешно разгадывать смысл, и, не умея разгадать, решишь, что «так мне и надо» или «я хуже всех». А третьего предупреждения не будет, уж не взыщи.
К ночи мы с женой оказались в заброшенном поселке, у которого и названия уже не было. Ночевать пришлось под открытым небом. На рассвете со стороны дороги раздался жуткий скрежет, колонна армейских тягачей волокла в ремонт или на металлолом разбитую технику. Наши лица стали бордовыми от пыли, мы улыбались. Что-то сильно щелкнуло, и мы переместились километров на сорок восточнее, запахло морем. Мы были уже не муж и жена – так, едва знакомы. Одежда была больничная, стеганые пижамы со штампом и тряпичные шлепанцы. Почему-то нам обоим было ужасно стыдно, мы смотрели в землю и шевелили губами. Мы силились вспомнить, в чем наша вина, но ничего не получалось.
- Ваш самый провальный проект, можете вспомнить?
- Конечно. Зеркало с антизеркальным отображением. Оказалось, что многих пугает собственное лицо.
Реконструкция
Нам нужно помещение как минимум в трех уровнях. На входе зал со столами регистрации, мы предложим заполнить анкеты и выбрать бейджик «хороший человек» или «плохой человек». На второй этаж будут допущены только хорошие, плохие пойдут на третий этаж. Алкоголь будет и там, и там, но на третьем этаже больше и разнообразнее. Легкомысленные наряды порицаться не будут, модераторы вообще будут полностью обнаженными для уравнивания с публикой. Дискуссии начнутся после анализа анкетных данных, нас, как понимаете, интересуют прежде всего агрессия, унижение, насилие. Экспонатами будут сами гости. Наши гости мечтатели и паникеры.
Рассмотрим пример. «На западной окраине началось строительство нового микрорайона». Перед нами образец идеальной лжи, но мы инстинктивно пытаемся отыскать долю правды, соглашаясь хотя бы в том, что западная окраина не фантом, она существует. Господа, прошу особо обратить внимание – никакой западной окраины в действительности нет, на западе начинается другой город, застройка сплошная. Вы понимаете? Реципиент считает ложь живым существом. Мы неисправимы, господа.
Лето выпрямилось и выгорело. Памяти Софии Камилл
Новость о смерти Софии Камилл пришла в декабре 2021 года во время моей работы в образовательном центре. В этот же день нужно было рассказывать детям о географическом стоицизме Шамшада Абдуллаева и разбирать его эссе, в которых он немало говорит о смерти. Все метафоры и слова об этом, несмотря на любовь к Абдуллаеву, не работали. Почти ничего не работало: только одинокое молчание и тяжесть непонимания, которая точечно проходила по телу, сталкивая друг с другом эмпатические датчики и возможность наблюдения. Сенсорно-моторные сбои, тотальность памяти, ранее неизвестные агентности – всё это стучало в окна, и кажется, до сих пор стучит, несмотря на то, что прошло уже больше года.
Мы познакомились с Софией осенью 2020 года, 7 сентября, в понедельник. Помню это по фотографиям в чате и через перенос даты – странно, что в понедельник, изначально мы договорились на воскресенье, но наш друг, который должен был вести урок древнегреческого, в этот день не смог. Так запомнился перенос и смещение, а ещё – дорога и код на незакрытых воротах (его пришлось долго узнавать, а оказалось, что всё открыто). Понедельник. Мы разбирали Евангелие от Матфея, а потом долго разговаривали, выходили на улицу, ждали других гостей. С того вечера осталась одна песенка из фильма «Обыкновенное чудо», которую София включала через большую колонку:
Давайте негромко, давайте вполголоса,
Давайте простимся светло.
Неделя, другая, и мы успокоимся,
Что было, то было – прошло.
Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно,
Ах, как бы начало вернуть.
Начало вернуть невозможно, немыслимо,
И даже не думай – забудь.
Теперь эти слова звучат жутко в смысле лакановской осевой пустоты невероятно-реальной Вещи или, как писал Рильке, в таком смысле, который говорит, что красота – это последний покров, скрывающий ужасное. Древнегреческий был про начало, песенка тоже про начало, и в том начале остались огромные куски наших субъектностей, потерянный карнавал и празднование себя, речь о котором напоминает рассказ об утопии: лекции каждые выходные, встречи, прогулки в тёплом сентябре, спотыкание об собственное будущее, висящее на чём-то типа школьной атмосферы во время разбора «Поэмы без героя». Хонтология наоборот – сны снов, будущее будущего, сторис в Инстаграме, сразу перемещаемые в архив. Помню, как мы с Софией катались на роликах по Коломне, был солнечный осенний день. Эта поездка была наполнена невидимыми скольжениями условной «материи прожитого», которая каждый раз производила метафизику присутствия и отсутствия – неправильный эон, (не) наше время, так легко дающее аффекты радости, воспоминаний и дружеского агона. Но что ещё тогда можно вспомнить?
Наверное, то, как работала карусель литературного мифа и репрезентаций культурной жизни Петербурга из конца девяностых и начала нулевых – времени, когда мы ещё не родились. Эта карусель отправляла нас на презентации новых книжек, на открытые философские семинары, обсуждения фильмов и так далее. Компас, карта, ролики, концерт, дистрикт, сборник, прикол, штука, танец, балкон, ролики – вот тихий набор реальных и нереальных инструментов для мерцания в тех траекториях, которые всегда стояли крайне далеко от политик заботы.
Мне по-прежнему тяжело писать «Соня», «София», «София Камилл», как будто имена слишком ярко рисуют факт твоего права на память о человеке и те ритурнели (музыкальные мотивы, голос), которые соотносили это имя с пространством (оно звучало в отдельных комнатах и на отдельных улицах), создавая что-то вроде новой земли и новой субкультуры, чьи акторы – тексты Софии, записанная и незаписанная речь, кукурузные хлопья с йогуртом «Чудо», яблоки, молочные конфеты, которые почти всегда были в её сумке.
Прошло уже больше года после тех событий. Но есть отчётливое ощущение, что вместе со смертью Софии из нашего маленького локального мира ушла беззаботность и дух лёгкости. Они все остались в декабрьской дымке, в Комарово, на дне рождения Софии, в карманах разноцветных кофт, вместе с эротизмом за-бывания, которого не хватает на все путешествия от Бенгалуру до Стокгольма (географическое измерение текстов Софии). Потребуется много времени, чтобы перенести эти болевые норы в язык, чтобы нормально просверлить слова, открыв их к миру, который по-прежнему и даже ещё с большей силой дрожит во всех направлениях.
Теперь, когда вышел сборник «Мы были богинями» (М.: Пальмира – 2023), настройки речи стали легче. Накопилось чуть больше дискурсивных возможностей, чтобы кратко зафиксировать опыт аффекта памяти. По-прежнему этот аффект как будто посылает сигналы, чтобы узнать, где находятся пределы переживания смерти, как разрыв игровой карты, ненадёжная текстура странного витализма («ничто», зависающее между тобой и другим), в ловушку которой очень легко попасться. София Камилл писала стихи, танцевала, занималась музыкой, пела, каталась на велосипеде, училась в университете, говорила на шведском и английском, ходила на вечеринки, дружила с нами и делала много чего другого до момента своей смерти. Страшнее точки и полного непонимания, что происходит с другим в этот момент (и что обязательно произойдёт с тобой) – найдётся мало чего. Но София радовалась жизни и делала это совершенно удивительно, любила шутить и шуметь. Праздники, на которых никогда не побывать вместе – один из главных участников любой истории. А вот текст Софии, который мне очень дорог:
***
лето превратило меня в
золотую рыбку
мои волосы выгорели и засияли
сама я стала прямее
в движениях
кажется, исчезают мои пластмассовые глаза
вместе с памятью
золотая рыбка превратила меня
в лето
мои волосы выпрямились и выгорели
сама я засияла и в пластмассовых глазах
кажется, исчезают мои движения
вместе с памятью
я сама превратила себя в
золотую рыбку
лето, кажется, ещё больше выпрямилось и выгорело
и мои пластмассовые глаза засияли
золотая рыбка исчезает
из памяти
с каждым движением
Ребёнок в седле медиакентавра: отсканить детство, разъять Тиресия (о зине Егора Зернова «ВЫЖИГАНИЕ»)
1.
Казалось бы, двенадцатистраничный зин – это полчаса чтения и вглядывания, короткое время работы рецептивной машинки. Но эти тексты – только часть сложной конфигурации медиапространства «ВЫЖИГАНИЯ». В настройке на беглый темпоральный режим просто-чтения что-то ломается. Этого требуют: аудиовизуальный трип текста, лежащий на YouTube; реальная антипрезентация в «Книжном в Клубе»; её запись, остраняющая остранённое и выводящая зрителя на метапозицию: зачем смотреть на других и на самих себя, смотрящих на других и на самих себя?
Через эти объекты не размножаются способы бытования зина (мало ли иллюстраций к поэтическим книгам и видеозаписей презентаций), а включается двигатель синкопирования. Сталкиваясь с медиакентавром, трудно не обернуться на любимые, но отживающие привычки восприятия и не остановиться в их воспроизводстве. Вместо рецептивного скольжения – частые паузы (чтобы достать телефон и отсканировать QR-код в конце зина; рассмотреть фотографии в нём; понять, что видеозапись презентации – это статичная съёмка её аудитории). Вместо уютных перескоков между вкладками или ритма перелистывания страниц – черные ходы рецепции, порталы, вырывающие из горизонтальной материальности зина, перекидывающие в виртуальность и обратно, переключение между кодами и семиотическими системами.
Егор Зернов простраивает медиаполитику текста так, что читатель медленно превращается в зрителя и свидетеля. Эта гибридность оказывается принципиально важной стратегией левой поэзии после двадцать четвёртого февраля. Замедляясь, ты перестаёшь пребывать в состоянии герменевтического дефолта и заставляешь себя проблематизировать те способы думать и воспринимать, к которым привык, никогда не нормализуя аварийное состояние высказывания-аттракциона и его зрителя. Несмотря на «кажущуюся невозможность скрыться в "складках смысла, ещё не захваченных идеологией"», синкопирование и логика нелинейной рецепции делают зин точной иллюстрацией к скидановским «Тезисам к политизации искусства».
2.
Само замедление становится не только читательским состоянием, необходимым для синхронизации с эллиптическими темпоральными режимами медиапространства «ВЫЖИГАНИЯ», но и линзой, через которую субъект наблюдает за миром. Время взято в его самой нерепрезентативной версии – в виде искажённого аристотелевского «теперь»: разница только в том, что «теперь» не передвигается между разнообразными событиями настоящего и будущего и не замирает, а плывёт в кашеобразных паузах повседневности. В видеозаписи, которую транслировали на антипрезентации, главной остановкой, чередой складок повседневности, когда ничего не происходит, названо детство.
Темп детской жизни – женеттовская дескриптивная пауза, детство – время собирания мира, вглядывания в статичные объекты. Детство – материально, почти единственная память о нём – не нарративная событийность, а предметная плоть и синестетическая неопределенность. Синестезия становится призмой припоминания: громкий запах больничных простыней и ядовито-зеленый ток ультрафиолетового облучателя (эти образы при всей своей исключительности – образы не только субъекта «ВЫЖИГАНИЯ», но и, думаю, нашей коллективной памяти). Синестетический субъект смотрит на облучатель «Солнышко» и видит в нём лицо ребёнка (мне кажется, этот ребёнок похож на Пиноккио). Замечательная метафора больничного детства – подсоединение к зловещему коллективному механизму / организму, безвременное глотание фаллической трубки (процесс, в котором, несмотря на своего визави – ребёнка напротив, глотающего такую же трубку, – ты смертельно одинок).
Но больница – не только метафора детства, но и знак его травматичности, его смертельного дыхания, близости к пограничью. Всю эту плотность и все эти подчёркнуто свои, исключительные, индивидуальные ощущения уничтожит реальность после двадцать четвёртого февраля. И тогда – в стихотворении о пересобирании, переприсвоении и деколонизации детства посредством больничных примет – появится воображаемая смерть. Вторгаясь через чужое воспоминание – слова Дениса Ларионова о «все разрастающейся картинке всегда с условными нами» – воображение ставит субъекта на место мобилизованных солдат из телевизора – и мы вместе с ним проскакиваем в экран.
 Егор Зернов / «ВЫЖИГАНИЕ»
Егор Зернов / «ВЫЖИГАНИЕ»
3.
Егор Зернов исследует особую интимность границы между человеком и медиа, годаровскую магию отчуждения вблизи этой границы, поэтичность прикосновения к поверхностям. В этом снова виден синестетический синтез: искажения черно-белой печати переживаются телесно. Между телом и техникой возникает особый контакт:
Сканера луч выблевал заново distortion, выжженные глаза, песок
монохрома на волосы и тому подобное, и ты тонер слизываешь
со зрачков, гладишь пальцем крестик из складок на колене
Это стихотворение настраивает зрение на погружение в детали:
Что нашли на ксерокопии твоего тела:
следы внеклассного чтения, в том числе
закладку «завтра» в парной кишке
орла, соски Тиресия искусавшего
От Тиресия мы ждём одного: он должен гадать по парной кишке орла и предсказывать будущее. Но будущего нет, его зажевал принтер и выжег сканер, образовав очередную складку в пространстве и времени – и субъекту остаётся только перечень самодостаточных внутренностей, не несущих пророчеств в останавливающемся мире.
Выжженные глаза (Тиресия?) ставят вопрос о грамматике черно-белого изображения в этом зине. Рядом с монохромностью – слова о визуальном разнообразии: пронизывающие лучи, светящиеся экраны, неоновые вспышки цветовых эпитетов. Это встраивается в логику синкопы – несовпадение вербальных и визуальных ощущений провоцирует рецептивную остановку. Егор Зернов работает с неочевидными ассоциациями – не первого, а третьего ряда, подталкивая к вопросу: зачем нужны эти визуальные искажения, что даёт текстам соседство с фотографиями из паспорта и Хаги-Ваги?
Особая драматургия выражения лиц на паспортах – нить, из которой ткутся мемы. Этот зин появился несколько позже дискуссий о паспортах хороших русских – абсурдной приметы настоящего – такой же невозможной, как и паспорт Хаги-Ваги – зловеще-прекрасной приметы современного детства.
4.
«ВЫЖИГАНИЕ» – ещё и о том, что социальные связи истощил и умертвил не февраль – они были мертвы до. Субъект удивляется возникающим разговорам с родителями, а значит уже пребывает в состоянии тошноты от материнского. Но когда приходит двадцать четвёртое – начинается катализация, находится повод, материнское выблёвывается.
С одной стороны, делиться интимным с матерью – значит пересобрать себя, сбросить кожу и натянуть на себя новую. Но перевоплощаясь, субъект лишается самости, выбрасывая окорябанное окурком – фрагменты кожи, которых когда-то коснулась сигарета. Из-под кожи рассыпаются расслабленные мышцы (этот образ напоминает монстров из «Stranger Things», а картинка с ультрафиолетовым облучателем «Солнышко» – Истязателя Разума, забирающего Уилла). Собирая свою политическую субъектность и сопротивляясь материнскому, Зернов пользуется стратегиями переописания и переназывания: рождение – момент, когда она просто выталкивает из себя ч(Ч?)ужого.
Кристевское выблёвывание материнского оформляет сюжет о «старости сочувствия». Выблёвывать материнское – значит отказываться от универсальности и унификации. Субъект раскалывает повсеместную апологию имперского сознания, хочет раскрошить родительский лоялизм. И болезненнее всего пронзают его кожу осколки унифицированной и автоматизированной речи родителей, в которой их не видно. Сочувствие – не старо как идея, и старость не обладает монополией на производство сочувствия, но сочувствие оказывается просто невозможным. Почему?
Есть два детства: детство, присвоенное родителями и колонизированное их образами: события помнят они, не ты – но тебя прививают иллюзией нарратива и структуры. Другое детство – подлинное, то, которое состоит из запахов, вспышек света, теней и бессобытийного компота, оно только твоё. Наталкиваясь на него, субъект «ВЫЖИГАНИЯ» собирает себя, в то время как отец и мать быть собой не способны. За потёртым идиоматическим репертуаром стираются их лица и выжигаются голоса их поколения. Эвфемизмы бюрократического языка (СЕРИЯ ГРОМКИХ ЗВУКОВ), проникшие в язык родителей – набраны капсом, настолько они невозможны и немыслимы и в то же время мыслимы и возможны – что отсылают к графике онлайн-коммуникации, когда капсом пишут самое странное, кричащее и кринжовое.
Точка кипения политической эскалации – перечисление подлежащих призыву. Мобилизация всеохватна, квазиидеологическая речь тотальна, мест вненаходимости и складок, о которых пишет Скидан, всё меньше. Эрозия тоталитаризации захватывает новые пространства. Но идя по улице, субъект видит знакомые лица – а значит всех пока ещё не забрали. Можно ли этот факт экстраполировать хоть сколько-то широко? Родительская речь вторгается в интерпретацию с воплем ответа и пронзительно нормализует катастрофу: «ПОКА ВСЁ НОРМАЛЬНО». Капс – это минус-приём, знак нашей невидимости.
5.
«ВЫЖИГАНИЕ» в чём-то может напомнить поэтическую практику Сергея Кулле: но мир времён Телеграма не только увиден через оптику руины и античности, но и описан словами мёртвого языка (культурная руинизация, исследование руины – сквозной сюжет и для упомянутого в начале Александра Скидана). «Я» в зине – само как руина, расплюснутая мобилизацией, истончением социальных связей, разрывом детства (анализ детских ощущений и шёпот их припоминания – тоже разъятие и сминание ясной картинки). «Выблёвывание материнского» происходит через пересобирание детства и отказ от памяти, колонизированной родительским сознанием. Настоящая память – не стройный нарратив, а обрывки ощущений, грамматика мёртвых сияний и кожный зуд, плавание в детском безвременье.
Глоссолалия, закрепленная Конституцией: о романе Руслана Комадея «Крым-тупик»
Комадей Руслан. Крым-тупик. М.: Полифем, 2022
ГЛОССОЛАЛИЯ, ЗАКРЕПЛЁННАЯ КОНСТИТУЦИЕЙ
Есть произведения, изображающие катастрофу, а есть произведения-катастрофы. Не те, что по оплошности или судьбе проворонили свой шанс быть интересными, а те, что свою поверхность разрыхляют катаклизмом. Такой катаклизм может быть имманентным или же трансцендентным. Трансцендентный предполагает очевидное и нарочитое наличие автора-демиурга, который, подобно судьбе или Богу, вытворяет с поверхностью холста всякие ужасы. Имманентный катаклизм представляет собой барочную эстетику движения «изнутри наружу», где внутри самого материала некие магматические силы воздействуют на поверхность произведения. Автор здесь отходит на задний план, меланхолично фиксируя, подобно комсоргу, происходящее. Автор становится медиумом, через которого говорит сама реальность, пусть даже в гипертрофированных, гротескных, абсурдных формах. Это не визионерское высказывание пророка, не меланхоличная лекция историка – напротив, это практически документальное произведение, если позволите, вещдок, по которому возможно установить состояние реальности. Именно к разряду таких имманентно-катастрофических произведений относится роман Руслана Комадея «Крым-тупик».
Не удивительно, что роман «Крым-тупик» вырос из навязчивой идеи-анекдота: робинзонада с президентом в главной роли. Игривое «а что, если…» здесь становится отправной точкой для множества фантастических сценариев, самый абсурдный и парадоксальный из которых окажется единственно верным. Чтобы правителю отправиться на необитаемый остров, нужна революция. Но если революция способствует обретению правителем собственной субъектности (именно ИМЯ, а не белые пропуски, не замазанные, размазанные и притихшие суррогаты, появляется в момент революции) и созданию правителем нового, лично ему принадлежащего, государства, не становится ли революция апроприированной? Именно постулат: «нет, Я ЕСТЬ» становится апофеозом и концом революции. Да, глава «РЕВОЛЮЦИЯ» оканчивается именно тезисом «я сверг себя, следовательно, я есть». Революция, захваченная президентом – этот парадокс как нельзя лучше попадает в нерв времени. Порционный протест, санкционированный митинг – примета сегодняшнего дня. Абсурд ли это? Безусловно, но обратное – несанкционированный протест – является нонсенсом. Тем не менее, так оно и есть.
Крымская гетеротопия у Комадея, отвечает всем фуколдианским стандартам: страна внутри страны, изолированное пространство (как нарративное: действие происходит на острове, по заветам Аксенова, – так и текстуальное: текст автореферентен, замкнут на себе, на него воздействуют только внутренние силы), подрывающее нормальный синтаксис (и пунктуацию). Это пространство, в котором речи, языку и мысли ставит подножки взбунтовавшаяся почва: «Почему фразы написаны на лежащей насквозь воде?», «в черном-черном параллельном нескладной тьмы…», «бессрочно, то есть навечно», «…вытянул ноготь за пишущий стержень и айда писать» – и так далее. Надо сказать, примеры я взяла абсолютно случайно, гадая на книге, что говорит о том, что этими проплешинами в земле испещрено все крымско-текстуальное пространство.
Текст конгениален пространству, которое он описывает. В этом смысле мастерски соблюдено соотношение формы и содержания. В своей рецензии на роман Алексей Сальников сравнивает его с «скрупулёзными переводом с ангельского языка». Здесь всякого, кто ознакомился хоть с одним фрагментом текста, смутит слово «скрупулёзный». Да, роман безусловно переводной. Только вот перевод может быть и схож с автопереводом на айфоне. Если зайти на иностранный сайт, смартфон заботливо предложит плашку с иероглифом, нажав на которую изначальный текст вначале задрожит, потом поплывет, поколеблется, переливаясь языками, а потом встанет, подрагивая, заявленным переводом. В таких халтурных автоматических переводах часто встречаются несогласованные окончания, пунктуационная путаница, вставки на третьем языке (такой перевод французского сайта как-то выдал мне китайские иероглифы), иногда и вовсе пропуски слов, выбеленные, зияющие высоты смысла. И такие особенности автоматического перевода, на первый взгляд, мало чем отличается от текста романа. Как же можно называть такой «перевод» скрупулезным? И все же можно, но с оговоркой. Приглядевшись к небрежным согласованиям, вольной пунктуации, бредовым обрывам мысли на середине предложения, мы обнаруживаем подозрительно удачные состыковки. Чересчур поэтичные абсурдизмы. Допустим, случайность допущена один раз. Но два, три, пять, на каждой второй странице… Это и навевает сомнения: действительно ли перевод – автоматический, не выдает ли он себя за то, чем не является?
Существует итальянский термин sprezzatura, введенный в трактате «О придворном» Бальдассаре Кастильоне, означающий «нарочную небрежность». Термин этот употребляют касательно манеры поведения, внешнего вида и – редко да метко – живописной манеры. Умение создавать иллюзию небрежности, случайности, синхроничности и удачного совпадения – это сложное и тонкое искусство. Талант изящно и легко скрыть усилие на самом деле довольно редок. Важно чувство пропорции: как сделать все естественно, не выдать себя и свое усилие? И стиль, который присущ «Крыму-тупику» стоит называть именно спреццатурой. Это скрупулезный перевод, скрывающий свою незаурядность и замысловатость.
Окей, мы выяснили, что это действительно скрупулезный перевод. Но вот с какого языка? Не соглашусь, что с ангельского. Это домыслы. Как всякое имманентно-катастрофическое произведение, «Крым-тупик» уже содержит внутри себя все ответы на вопросы: а от чего он стал таким? Что здесь произошло? – и прочей детективщины. [фрагмент текста изъят в 2025 году] прибывает на остров Крым, чтобы построить государство КНСРМС, что расшифровывается как Крымская некрократическая свободная республика мертвых сограждан. Населяют ее, как и следует из названия, мертвые. Жителям положена Конституция. И автор ее любезно предоставляет. Она является и ключом к языку книги. Читаем пункт 7: «Они [мертвые – Ю.Т.] не владеют пространством, но используют его как равенство. Язык – основное место существования, единое». Что-то проясняется, но вот пункт 6: «Язык КНСРМС – мертвый язык, похожий на русский». И далее пункт 13: «Право собственности мертвых на смыкание в мнемоническую массу и говорение внешним текстам [курсив мой – Ю.Т.] предупреждается правами живого». Эти несколько пунктов объясняют нам, что именно заставляет почву текста рыхлится, расходится ранками и расщелинами, заставляет его набухать и прогнивать: в этот язык заперты мертвые. Согласно Конституции мертвых, которую им даровал [фрагмент текста изъят в 2025 году], мертвые не могут ни говорить внешним текстом, ни как-либо с ним коммуницировать. Максимум – распластаться и растечься равнослойно по памяти живых, а те, кому неймется, могут тщетно биться собой о пленку языка, создавая неполадки для чтения. «Мертвое тело говорения» – вот так Руслан Комадей характеризует учесть мертвых при правлении [фрагмент текста изъят в 2025 году]. Переход от невнятности текста в текст впереди – вот что временами накатывает на страницы романа. Интенсивность оговорок увеличивается, интерпретатора штормит, автора заносит – это обитатели крымско-островной земли, они же обитатели тела текста, предпринимают штурм пространства языка. Итак, роман «Крым-тупик» суть переложение на русский мертвого языка, похожего на русский. Иногда мертвый язык прорывается сквозь. Иногда затухает. Иногда блестит галантерейным изыском цитат из инстаграма Яны Рудковской. Иногда скрежещет выдержками из сталинской конституции. Временами он почти нормальный, но это иллюзия. Цитаты не здесь – не заплатки, пришитые белыми нитками, не баги в стройном монтаже. Они по краям расплавлены и вживлены в общую материю текста. Неразличимо переливаются блеск безделушки и достоевская слеза младенца в субстанции, похожей на застывшую ртуть. Мы так часто оговариваемся, что уже невозможно скинуть это на казус переутомления. Цитаты в романе рассчитаны не на узнавание и перенос сознания читателя вовне (соблазна ностальгии, которому подвергает, скажем, Виктор Пелевин, здесь нет и в помине), они заставляют протиснуться в зазор между знакомым и неуютным, между доскональным копипастом из реальности и его перверсией, вывернутостью, внутренним освобождающим сдвигом парадокса и тотальным сдвигом по фазе. Это периферийное и ускользающее квази-узнавание так кардинально и отличает аффект «Крыма-тупика» от аффекта, создаваемого Владимиром Сорокиным в «Дне опричника», где механизм перверсии рассчитан на возможность мысленной инверсии, а значит, и мгновенного понимания нереальности, искусственности происходящего. «День опричника» все же изображает катастрофу, а не несет ее в себе. «Крым-тупик» в своей абсурдности вовсе не пародирует реальность, не обыгрывает ее, не дает возможность мгновенно считать сатиру и референт сатиры (который по сравнению с гротеском выглядит, в общем-то, и нормально, и вполне себе, Кремль-то не сахарный!). Но больше нет никакого «в принципе-то нормального» референта. Есть только этот язык, похожий на русский. Он есть.
И все, что происходит с русским языком в романе Комадея – не случайные совпадения и не леность переводчика (откупиться искусственностью, механикой, исполнением приказа) – это документальное свидетельство катастрофы. Автореферентный, имманентный текст-катастрофа, выуженный из бурлящего балагана России. Вот что это такое, Крым-тупик – зеркало нашей речи. Стекло запотело, на нем выведена глоссолалия.
Закономерные образы в случайном узоре: о книге Лин Хеджинян «Моя жизнь»
Лин Хеджинян. Моя жизнь – М.: Носорог, 2022 (пер. Руслан Миронов)
В конце 2022 года издательство «Носорог» выпустило автобиографию «Моя жизнь» и небольшое дополнение к ней под названием «Моя жизнь в девяностые» американской писательницы и эссеистки Лин Хеджинян в переводе Руслана Миронова.
В книгу будто вшита иллюзорная перспектива быстрого чтения. Под плотной, но не твердой обложкой на два текста всего 155 страниц и четыре строчки на последней, непронумерованной. Количество глав и предложений в каждой совпадают с возрастом авторки на момент написания: «Моя жизнь» 1987 года в 45 глав и «Моя жизнь в девяностые» 2003 года в десять глав, по годам в десятилетии. Но как только читающий оказывается один на один с текстом, без сопутствующих цифр и объемов, иллюзия распадается, а перспектива то и дело смещается с прямой на обратную: текст настолько же нужен читателю, насколько читательское сознание – тексту.
«Моя жизнь» характеризуется как «экспериментальная автобиография». Экспериментальность этого текста впоследствии повлияло на его восприятие как программного: Хеджинян обратилась к практике, идейно ориентированной на исследование истончённой грани между поэзией и прозой, а языка – как динамичного перехода контекстов и смыслов. Поэтическая интонация, инверсии и парцелляции во внешне прозаическом тексте «во всю страницу» создают замысловатый узор памяти не как слаженного нарратива, а как фактически разрозненных ощущений:
«Прислушивайся к лучшему. В те времена мы были подобны раскормленным птицам, неуклюже гуляя вдоль берега на песчаному ветру. В раскрытый блокнот упал колос лисохвоста, брызнул персика сок. Секрет этой песни был в том, что напеть её не представлялось возможным, мелодия была неуловима, да и была ли она вообще. Женщинам, слышала я, следует изъясняться спокойно и внятно. Аналогия с музыкой очевидна. Возможно, отчуждённость была привилегией. Мне надоели игры с мячом, мяча стало страшно».
Идея о слабой различимости поэзии и прозы связана с фактом общей затуманенности воспоминаний, парадоксально глубокого впечатления, где большое выражается через малое. Детство, самый масштабный временной образ, внутри себя оказывается разрозненным, а детские воспоминания и впечатления проходят через всю книгу: стянутые занавески на окнах деревенского дома, шаг дедушки, ощущение мороженого, воспоминания о матери. Детство никогда не исчерпывается, а повторяется и длится за счёт калейдоскопичности воспоминаний, неспособных сложиться в единое и замереть: «То, что строго следует хронологии, в памяти не остаётся».
Еще одним воплощением «программности» текста становится работа с контактом читательского и авторского сознаний, превращение читателя из участника в соучастника, сначала сбивающегося с интонаций на синтаксически вопросительных предложениях, в конце которых стоит точка, но потом начинающего запоминать, угадывать закономерности. Читательским актом во многом становится не столько чтение, сколько сопутствующее чтению припоминание.
В главе «Какая память не "захватывает" мысль» есть следующий фрагмент:
Что касается нас, «любящих удивляться», я тебе не прислуга, я твоя мать. Парусные шлюпки-маломерки вверх дном на заливе. Не было ничего удивительного в том, что они проложили путь сквозь живую секвойю, превращая её в туннель, создавая то, чего не было прежде, отдаляя её навсегда от любого другого дерева. Универсальное вдохновляется индивидуальным. Имя украшено разноцветными лентами.
Хеджинян присваивает названия главам книги таким образом, что в голову приходит ассоциации со стихотворениями, названными по первой строчке. Однако в отличие от поэтической традиции, внутри главы именно эта строка не встречается. Зато в неё включаются названия предыдущих глав: «Что касается нас, "любящих удивляться"» и «Имя украшено разноцветными лентами». «Какая память не "захватывает" мысль», в свою очередь, появится в нескольких последующих главах. У читателя заведомо нет цели запоминать предложения дословно, но встреча одинаковых форм воскрешает впечатление, повинуясь которому можно вернуться на несколько страниц назад и рассмотреть форму того, что сохранилось как ощущение. В такие моменты перспектива «разворачивается», и текст обращается к читателю, а не наоборот.
Когда форма оставляет читателя наедине с последней страницей, ему уже подарено впечатление от системы разрывов между кучевыми облаками: недостаточно сюжетно для памяти о прозе и слишком материально для памяти о поэзии. «Моя жизнь» очерчивает ту спонтанную закономерность, которая не определяет память о себе, но создает пространство для внимательного глаза и чуткого слуха, чтобы, как детям на холме, оставить читающим возможность рассмотреть в телах облаков полнокровных зверей.
По ту сторону: о сборнике «Растяжение»
Со времени своего начала (если брать за точку отсчёта 2020 год) беларуский протест становится всё более квазиреалистичным, чему во многом способствует преобладание эмигрантской оптики при рассмотрении этого явления. К сожалению, в центре беларуского поэтического контекста возможна только минус-риторика и напряжённое молчание о протесте, связанное с возможностями определения самости в диктатуре.
Сборник «Растяжение», созданный в одноимённой лаборатории ф-письма, характеризует свое содержание протестной и эмигрантской болью. Работа с уже ставшим традиционным для феминисток принципом Кэрол Ханиш реализуется в определении политического как исключительно личного, субъективного, оформленного в дневниковую запись. Протест облекается феминисткой солидарностью, в рамках которой существующие различия (национальные, гендерные, конфессиональные) не позволяют взять верх некоторой общей идентичности – даже перед лицом насилия, страха и унижения; совместное письмо в этом случае – это скорее возможность выработать эмпатичный взгляд на эти различия.
Это не первый вышедший сборник о протестах 2020 года: достаточно вспомнить «Мы вернемся» Ганны Комар или «Дни в Беларуси» Юлии Тимофеевой. Следует сказать, что последние десятилетия беларуская поэзия была во многом обращена к разговору с мёртвыми: стремилась к «возвращению голосов», отражая проблематику поколенческой преемственности (см. сборник «Страшна не пачуць голас твой» о расстрелянном поколении или вышедший в прошлом году перевод «Songs for dead and resurrected» Вальжины Морт). Документальность в рефлексии о протестах возвращает поэзию к живым здесь и сейчас, но одновременно разрывает голос, которым может быть рассказано о «неудавшейся» революции.
«Растяжение» обнажает поколенческую проблему поиска языка протеста. Авторки подчеркивают документальность своих текстов, они пишут только про то, «что было», пытаясь разделить свой метод описания с космогоническими интерпретациями событий. Сборник состоит из свидетельств (пусть иногда и опосредованных), требующих правосудия. Сам протест обретает здесь свою характеристику и может действовать, как заданное правило, «нулевая точка» координат; но, с другой стороны, события 2020 года предстают для авторок сборника только как обусловленность, «околичность». Именно это отличает их от старших представителей беларуского литературного процесса, для которых эссенциализм протеста оказывается той неизбежной связью диалога с мёртвыми, о котором говорилось выше. Сборнику «Растяжение» необходимо было появится, чтобы разрушить то (иллюзорное) устанавливающееся единство, которое проявились вследствие резкой политизации беларуского общества после 2020 года (можно ли себе представить, чтобы пять лет назад в «New York Times» писали о trasyankie). Активная политизация вполне предсказуемо обнажила проблематику национального: оказалось, что чётко обозначенное «своё» насилие ничем не лучше пришлого, имперского.
Уникальность «Растяжения» – в его полилокальности и продолжающей её полижанровости. Исповедальность сборника парадоксальна: обнаружение различий препятствует разъединению. И снова, как в случае с русскоязычными произведениями в сборнике, орудие против солидарности приспосабливается для авторских нужд. Полилокальность сборника выражена не только географическим положением писательниц – на родине и в эмиграции – но и дейктической принадлежностью. «Растяжение» находится «по ту сторону» логоса революции, – симфонического, но отрывистого – и заполняет собой зияние между этими отрывками.
Растяжение: разговор с автор:ками и составитель:ницами сборника
Осенью 2022 года вышел сборник текстов «Расцяжэнне» («Растяжение») об эмигрантской и протестной боли беларуских автор:ок, которых затронули события 2020 года, репрессии, вынужденная эмиграция и война. Тексты, отличающиеся в жанровом, языковом и фикциональном отношении, могут быть концептуально объединены с помощью маргинальной позиции автор:ок – принципиально важно, что они были написаны женщинами и квир-людьми, чей опыт часто воспринимается как вторичный или не первостепенный в изучении по сравнению с «универсальным» травматическим прошлым человека, попавшего в ситуацию, для которой часто не находится слов. Я поговорила с пятью автор:ками о «Растяжении», задав им вопросы, которые освещают разные особенности сборника, и многообразие непосредственных авторских позиций. В случае письма о травме, авторская позиция часто находится в мерцающем, нецелостном состоянии, проговаривает себя через другие дискурсы. Но главное, что она находится в постоянном художественном и этическом поиске слов для экстремальных состояний, которым, как нам кажется, иногда невозможно ответить иначе, кроме как через травматическое оцепенение.
– Лиза Хереш
Получить электронную копию сборника или приобрести её за свободное пожертвование можно с помощью специальной страницы обратной связи. В поле «How much do you want to pay» введите «0», если хотите получить «Растяжение» бесплатно, или любую другую сумму, если хотите оставить донат. Все собранные деньги пойдут на оплату консультаций психологинь, работающих с пострадавшими от насилия или находящимися в абьюзивных отношениях.
 «Rasciajenne» (2022), ISBN 978-609-96338-1-7 / Publisher: Vilporta (Lithuania)
«Rasciajenne» (2022), ISBN 978-609-96338-1-7 / Publisher: Vilporta (Lithuania)Дарья Т. – Д.
Тони Лашден – Т.
Виктория Т. – В.
Маша – М.
Аня З. – А.
Дополнения Лизы Хереш – Л.Х.
1. Как вы понимаете название сборника?
Т.: Для меня название сборника отсылает к двум вещам: к растяжению физическому и одновременно к метафорическому и художественному опыту переживания этих лет в Беларуси. Мне кажется, что физическое растяжение это о том, что беларуские сообщество и люди, участвующие в этих сообществах, были вынуждены разъехаться по очень разным странам. Теперь Беларусь ощущается как протяжённое понятие: это не только географическая единица, но и люди в Польше, Грузии, Литве, Латвии; люди, которые уехали куда-то дальше к близким и родным. Физически это стало очень растяжённым понятием. Художественное понимание процесса растяжения для меня состоит в том, что боль, связанная с произошедшим в Беларуси в 2020 году, как будто бы отошла на какой-то второй план. Начиная с 2020 люди в Беларуси и за её пределами проживали много разных кризисов: это события 2020 года, миграционный кризис в 2021, до этих двух кризисов – очень тяжёлый опыта, связанный с динамикой ковида, а после всего этого в 2022 году произошло вторжение России в Украину в котором Беларусь стала пособницей страны-агрессора. Вся дальнейшая, действительно тяжелейшая травма, связанная со всем этим, как будто бы не смогла быть прожитой. Времени переживать об этом не было. Кажется, будто изначально боль, которая произошла со всеми нами в 2020-ом году, менее заметна. Для меня растяжение то в том числе и про то, что, возможно, рана зарубцевалась, но её переживание не закончилось. Эта ноющая боль, которая присутствует в растяжение мышц – это то, что многие из нас испытывают в отношении Беларуси.
Д.: Для меня это, во-первых, про время, которое после 2020 долго пребывало в состоянии растянутости, не заменяясь ни настоящим, ни будущим. Во-вторых, про широкую рамку включения материалов в сборник: под одной обложкой находятся тексты и тех авторок, у которых уже опубликованы книги, есть литературные премии, и тех, кто только начинает писать.
Л.Х.: Мышечную метафору использует и Виктория: «Растяжение – это про болезненный, но необходимый процесс. Вроде растяжки мышц – ощущения не из приятных, но к какому-то результату (вроде дополнительной гибкости) приводят».
О растяжении пространства и времени рассуждает Аня: «Сейчас, когда я стала задумываться, я вижу две интерпретации. Первая – это социальные связи, которые тянутся, рвутся и растягиваются под влиянием времени и обстоятельств. Второй смысл – про само время; оно приобрело дополнительное измерение, растянулось. Если раньше у него было только персональное измерение для многих из нас, то сейчас в том же дне как будто помещается гораздо больше: это несколько пластов новостей – российских, украинских, из дома. Для эмигрировавших это два параллельных таймлайна, дома и новой жизни. Как в отеле или крупных компаниях – на стене висят несколько часов (Москва, Токио, Лондон, Нью-Йорк), так и кажется, что у каждого сейчас несколько часов про всех, кто тебе дорог, про тебя самого. Любая единица времени включает в себя сейчас больше, чем прежде».
Мария добавляет: «Растяжение – это протяжённость травмы во времени: она не кончается, истончается, а потом накрывается следующей».
2. Личное и политическое – дихотомия, имеющая долгую историю критики в традиции феминистской мысли. В частности, феминистки давно указывали на то, что, во-первых, сами обстоятельства и условия пребывания личного являются политическими вопросами – а политическое, наоборот, создает сети, в которых мы можем или не можем практиковать частные жизни. Как вы работаете с этими категориями («личного» и «политического») в своих текстах?
Д.: Моё эссе напрямую обращается к связи личного и политического, предостерегая от аффектов, которые делают человека потенциально уязвимым для манипуляций – не на личном, а на политическом уровне. Когда мы теряем способность обнаружить прореху в логике, когда нам хочется облегчить бремя публичной демонстрацией аффекта, найдется сила, которая встроит этот аффект в выгодный для себя контекст. При этом контекст необязательно будет выгоден для нас. Необходимо осознавать, какой вклад и куда мы делаем, когда решаем отойти от рационального, слиться с коллективным телом, которое обещает утешение (часто ложное).
Текст, чьей темой является деколониальность, не предлагает универсального решения, но делится моей личной стратегией – а она в том, чтобы помнить, как мои идентичности (атеистка, лесбиянка, женщина) соотносятся с определенными идеологиями, ценностями, политиками. Я знаю, что традиционалистская, эссенциалистская, правая риторики не включают меня и мой опыт, и даже если в текущем моменте напряжение спало, поскольку существует крупная объединяющая беда, мы не близки. Мои идентичности не предполагают стирания опыта тех, кто определяет себя иначе, тогда как консервативный дискурс строится на необходимости уничтожить меня (если не физически, то политически).
М.: Для меня важно признавать важность личного, повседневного, бытового, подвергать сомнению разделение на великое и бытовое. Я долго не могла признать эту важность собственного автофикшена, не давала себя права назвать это литературой, а не просто личным дневником. Лаборатория [в рамках которой были созданы тексты, далее вошедшие в сборник – Л.Х.] была одним из способов этой валидации, способом набраться смелости заявить: да, это важно. Это стоит внимания. И, конечно, в итоге дневник оказывается чем-то большим: то самое политическое становится фильтром, через который я смотрю на обычный обед в кафе, на маленький концерт ирландской музыки, на выставку современного искусства. Мне кажется важным показывать эти невидимые связи.
Л.Х.: Такую же целительную роль совместной работы для осознания связи личного и политического отмечает Аня: «Я никогда раньше не пробовала дать голос тем группам, которым я не принадлежу. В обозримом прошлом мои тексты, за исключением текстов юности, все автобиографичны. Не чувствую пока в себе решительности и мастерства работать с чужой болью и помогать ей найти какой-то голос, поэтому и про политическое я могу говорить только в контексте личного-политического. Долго мне казалось, что я не имею права на политическое, что мой опыт слишком зауряден, тусклый, что для тех же протестов я могла сделать больше и, раз я не так пострадала, как мои знакомые, значит, могла бы сделать и больше. Это очень характерная мысль для многих: я слышала такие высказывания от знакомых и незнакомых людей. Мне все время казалось, что мое личное слишком мало и нерелевантно для многих, и тогда даже лозунг "личное – это политическое", если тебе трудно сформулировать, от какой идентичности ты говоришь, как будто личной частью становится никому не нужен и не интересен. Если ты текстом или другим объектом искусства не говоришь про общую проблему с некоторой группой.
Однако в рамках лаборатории, когда мы вычитывали тексты друг друга, что было очень полезно для меня, одна коллежанка сказала мне, что таких людей много: уехавших и затем вернувшихся. Когда ты создаешь текст, ты смотришь на свой опыт в сильном приближении, и сложно оценить каждую деталь. Однако коллежанки, смотрящие более общо, помогают понимать, что человеческая склонность находить во всем паттерны проявляется в чтении и интерпретации текстов. Оказывается, что твое личное может выступать как политическое – говорящее про вашу общую проблему».
Аня добавляет: «Тематическая подборка сборника такова, что даже при описании бытовых аспектов протестной деятельности, даже если она не была на передовой и ты делал не больше всех, если тебе и твоим близким пришлось эмигрировать и ты описываешь бытовые, будто бы неокрашенные аспекты этого, это все равно становится политическим, так как потом, при прочтении текста холодной головой, ты видишь ненормальность того, что ты жил именно так. Это превращается в сатиру, критику и гротеск просто потому, что из другой реальности понятно, что люди не должны так жить – проверять, в каком ОВД их друзья, собирается и уезжать одним днем. Это становится политической критикой просто потому что это честно документирует нечеловеческие, несовременные, несоответствующие правам человека условия».
Т.: Феминистский императив личного как политического, политического как всегда связанного с личным опытом проникает и в активистскую практику, и в письмо. Безусловно, мой текст старается разделить этот опыт с близкими, подругами, коллежанками, старается очертить пространство, где этот опыт может быть осмыслен без осуждения, дать время для того, чтобы в полной мере погрустить, иногда с какой-то большей эмпатией к себе и к произошедшему со мной выстроить структуру пережитого заново в текст. В нём я стараюсь показать, насколько происходящее в автофикциональной прозе связано с большими политическими процессами событиями, и что политическая катастрофа, произошедшая в Беларуси, на личном уровне проживается в общем и целом в том же огромном масштабе. Буквально катастрофа всей жизни.
3. Кажется, что особая логика, объединяющая тексты сборника, может обнажиться при рассмотрении категории времени. С одной стороны, подавляющее большинство текстов вращаются вокруг основных узловых дат – выборы 2010, выборы 2015, события 2020 года, политические преследования, последовавшие за ними, война. С другой стороны, травма, связанная с календарным временем, влияет на его восприятие и описание: время замирает, повторяется, растягивается, течет неправильно хронологически, закольцовывается. Как ваши тексты работают со временем и как их форма влияет на темпоральность произведений?
Т.: Я за последний год почувствовал, что подавляющее большинство текстов, которые рассказывают о болезненном опыте, так или иначе повторяют друг друга. Как будто это все тексты про один и тот же момент, случившийся со всеми нами. Я думаю, это происходит потому, что травма – это место повторения. Найти в беларуском контексте какой-то сверхкреативный язык для описания травматического опыта мне кажется невыполнимой задачей. Нет красивых метафор, чтобы описать то, что с нами произошло. Язык скорее усыхает до не самых привлекательных слов, не самых привлекательных форм, и я думаю, что он повторяет сам себя до некоторой степени просто потому, что травмы так устроены.
Д.: То, как мои тексты работают со временем, связано с тем, как время работает со мной. Пока я в плену травматического события, оно повторяется во снах, стоит перед глазами, когда смотришь в никуда, вытесняет все прочие мысли, едва перестаёшь сознательно думать. Текст начинается с дистанции. Я использую сны и эпизоды диссоциации как материал для него, и сама дистанция тоже становится предметом осмысления. Например, что происходит с любовью, в каком качестве она существует, если исчезла ситуация любви, исчезли те версии нас, которые любили друг друга, но воспоминание, однако, оживляет чувство, и ты испытываешь его изнутри своего миллион раз изменившегося тела, испытываешь от лица другой версии себя, по отношению к персоне, которой больше не существует? По сути, ничего нет, но в качественном процессе вспоминания можно, тем не менее, соединиться с утраченным чувственно, по-настоящему.
Л.Х.: Об использовании настоящего времени в своём тексте рассуждает Мария: «Так как я пишу автофикшн, я часто использую настоящее время: мне хочется задокументировать момент, пока он происходит, и мне хочется погрузить читатель:ницу в этот момент. Но в этом документируемом моменте неминуемо возникают веточки связей с прошлым и будущим: с личным прошлым, с семейной историей, странные параллели и совпадения, знание о том, что случится дальше, знание, которое неминуемо окрашивает воспоминания о прошлом. Получается такая невидимая структура, которая для меня и держит текст».
Аня считает, что темпоральность сборника связана с его названием: «Кажется, во многих текстах сборника таймлайн нарушается, повествование нелинейно: есть какая-то ось и игла, на которую нанизываются разные временные слои, разные события. Это калейдоскоп. Многие тексты, описывающие события в прошлом, написаны в настоящем времени. Мы застреваем в прошлом, как в травме, поэтому события прошедшего оказываются для нас грамматически актуальными».
4. Как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать жанровое многообразие сборника? В «Растяжении» можно встретить и стихи, и прозу; отрывки из приговоров и судебных речей; переписки, сообщения и электронные формы бытования текстов; дневниковые записи. Как форма в вашем тексте освещает ту грань тематического сплава (насилие, любовь, тревога, война, жестокость, забота, тело), которая объединяет тексты? И какое место в сборнике занимает ваш текст?
Т.: Как составитель:ница сборника я видел свою задачу в том, чтобы организовать пространство сборника как пространство исследования. Мне кажется, сборник, начинающийся с соединения личного и политического насилия композиционно переходит в осмысление того, что значит быть связанным с Беларусью. Что значит беларуское? Что значит иметь опыт проживания всех произошедших с нами событий? Для меня тексты глубоко и искренне пытаются дать ответы на эти вопросы. Уже ближе к концу сборника тексты ставят для читателей уже собственные исследовательские вопросы, помогают понять, как ещё можно прожить, переварить произошедшее и двинуться дальше с опытом, который у нас есть.
Д.: Поскольку сборник выпускался по следам лаборатории феминистского письма, его композиция и обусловлена тем материалом, который создавался участницами. Нельзя сказать, что эти тексты – широкий срез практики письма беларусок. Если бы речь шла об опен-колле, можно было бы рассуждать о концептуальной редакторской селекции, но здесь мы видим иную рамку выбора. Неоднородный писательский бэкграунд, разные цели письма (в том числе терапевтическая) определили многообразие сборника. Мне кажется интересной такая практика скорее не подбора, а столкновения текстов.
Моё эссе находится рядом с поэзией ганны отчик, и они связаны темой деколониальности, но говорят об этом разными языками: если ганна обращается к противоречивым и сложным опытам, то я работаю на более поверхностном уровне, где возможна некоторая четкость. Я нечасто пишу эссеистику, но для сборника написала именно эссе, потому что сейчас кажется важным сделать предельно однозначное деколониальное и антиэссенциалистское заявление. У текста прагматическая и конкретная цель, и поэтому он таков: с тезисами, историческими параллелями, нумерованными пунктами. Лишь в конце, где я предлагаю читателю познакомиться с моей персональной стратегией противостояния, отделения себя от аффекта, он становится более поэтичным, интуитивным, неоднозначным.
Л.Х.: Виктория добавляет: «Свое собственное место в сборнике я бы охарактеризовала как точку в кольцевой композиции "от частного к частному", через что – уже другой вопрос. Это про общность травмы во всех текстах, но помню, когда я прочитала текст Ольги Костюк, с которой у нас разница в возрасте около пятнадцати лет, я подумала о том, что в целом время вообще ничего не меняет. И не в том смысле, что мы в застое каком-то, а в том что мы переживаем одни и те же опыты и не находим эффективного способа как справления (с травмой), так и сопротивления (режиму)».
Своё место в сборнике описывает Аня: «По оглавлению, если рассматривать его тоже как единый текст, можно сделать вывод о развитии сюжета: экшн, движение вперед, затем движение натыкается на стену и невозможность возвращения, а в финале мы остаемся с вопросом о том, был ли выбор и могло ли все сложиться иначе. Сочетания созвучия во взаимодействии заголовков рождает небольшое произведение. Мне нравится мое соседство, тексты коллежанок; кажется, что соседние тексты имеют много общего: с первым текстом у моего как будто нет очевидных перекличек и тематических координат, зато тексты-соседи моего текста дополняют друг друга вопросами или альтернативным взглядом на одно и то же: я читаю текст Тони, стоящий перед моим, и нахожу переклички эпизодов, схожие плоскости высказывания. Тексты-соседи подталкивают меня рефлексировать над своим текстом. В этом и заключается удачность композиции».
5. Узловые моменты, объединяющие временные створки текста и как бы объединяющее их в одно, застают героев в разных местах, состояниях и аффектах. Насколько растяжение боли в пространстве и времени позволяет лучше изучить или, наоборот, отклонится от переживания боли?
Т.: Мне хочется вернуться к опыту уязвимостей и обратить внимание на то, что люди которые участвовали в создании сборника – это женщины, квир-люди с опытом многочисленных пересекающихся дискриминацией, люди, которые пострадали от репрессий, люди, кто были вынуждены эмигрировать из Беларуси, люди, у которых есть опыт тюремного заключения, которые подвергались преследованиям. Мне кажется форма текстов, которые есть в сборнике, отражает одну главную проблему: когда у тебя есть весь этот опыт известно, что писать становится очень сложно. Кажется, что малая форма очень важна именно потому, что она показывает, насколько ключевую роль играет свободное время, незанятое вопросами выживания. Если вы посмотрите, какие формы используются, то это рассказ, эссе, короткая поэтическая форма. Это всё тексты, которые могут быть созданы в рамках очень ограниченного времени.
А.: Сборник не ощущается разнородным при языковом и жанровом разнообразии. Сплавление разных временных пластов и нелинейность существования объединяет все тексты и выходит на передний план, за этим уже не так остро ощущается разность формата. Есть единство в подходе ко времени, к хронике, к документации периода войны после и до 24 февраля, чтобы противопоставить день прошлогодний, например, и день сегодняшний. Есть общие темы – протесты, эмиграция, общий опыт, идентичности (квир, женщины) – и это оказывается более общим, чем формат оказывается различным. Многие тексты можно отнести к автофикшену – под этим сочетанием автобиографического и художественного прячутся разные форматы. Стихи могут быть художественными и детализированными в биографии. Текст может говорить про собственную травму и содержать отрывки из новостей. Мой текст близок к дневниковой форме: тут нет дат, он весь написан в рамках лаборатории, никаких цитирований и чужого материала я не вносила, но он стал для меня при этом ещё и автотерапевтичным. Утренние страницы, дневниковые записи. В тексте есть эпизод, где я перебираю вещи, которые взяла с собой из Беларуси – я уделяю вещам много внимания, желанию их сохранить в качестве артефактов, созданию дополнительных смыслов между ними, любви и заботы. Текст освещает любовь, заботу, самозаботу, тоску по близким, желание сохранить ниточку к ним, портал через значок или сережки. Про форму – у меня тревожный текст, много повторяющихся конструкций («Я помню...»); повторение создает ритм предостережения. Этот эстетический прием про тревогу.
Растяжение пространства и времени – сборник так и может называться: исследование боли от Минска до Тбилиси. Широкий спектр того, где оказались автор_ки, помогает дистанцироваться и воспринимать не только совсем близкий опыт. На далекий опыт смотреть легче. При чтении про тех кто, кто оказался в Киеве, осознается сильная болевая граница – эта боль чужая, присваивать ее себе невозможно, ты ее не переживал, это разный опыт. Ты в одной капсуле, а кто-то в другой, и в этом вопросе у вас разные идентичности, которые нельзя смешать. Изучение и излечение боли, на самом деле, не такие разные стороны, не два опции – можно изучать чужую боль, не являясь ее элементом, можно изучить ее, не присваивая, не идя опытным путем. Переживание не будет полным.
В.: Отклониться от переживания боли, думаю нельзя никак. Просто после лаборатории и прочтения итогового сборника, я бы сказала, боль воспринимается иначе - как если бы раньше это был твой личный камень (как у Юли Тимофеевой в стихотворении «Камень страху» [VPN]), лаборатория просто разбивала его на разные куски, более и менее интересные, более и менее болючие, а в итоге мы все оказались в равной позиции в куче гравийки. И не разберешь, где чье. Коллективный сборник о боли говорит, что боль – общая. И связана.
Л.Х.: Дарья добавляет: «Растяжение, зависание, продлевание – всё это отодвигает возможность рефлексии, поскольку никакой этап опыта не оказывается завершенным. Сейчас, мне кажется, завершенность этапа случилась, и поэтому письмо стало возможным – не как агитационный материал или терапия, а как художественное высказывание. Изнутри момента оно не происходит – там только тишина, плач, плакат, прокламация».
6. Полиязычие (беларуский, русский, украинский, английский, польский) является характерной чертой сборника. Помимо огромного географического пространства, на котором оказались автор:ки сборника, как работа с несколькими языками повлияла на ваши тексты (в случае, если это относится к вашим произведениям), если повлияла? И как тогда меняется идентичность пишущ:ей автор:ки и характеристика самого сборника? Как говорить о сборнике, преодолевающем моно- языковые, национальные и гендерные границы?
Д.: Мой текст целиком написан по-русски, однако языковой вопрос в Беларуси вообще и мои личные основания писать на русском языке – предмет его рефлексии. Критически важно понимать, почему я, беларуска, говорю и пишу на русском, почему это первый язык, который я стала учить. Дальше могут быть разные стратегии обращения с этим. Так или иначе, ответственность за колонизацию Беларуси лежит на России, и нельзя, на мой взгляд, предписывать людям, как им обращаться с этим травматичным опытом, как из него выходить. Моя стратегия, например, состоит не в переходе на беларуский, а в присвоении русского. Мой русский язык принадлежит Беларуси, а не России.
М.: Полиязычие кажется мне очень важным инструментом исследования идентичности и иерархий. Язык не принадлежит какой-то определённой стране, культуре, человеку. Мы можем его реклеймить, менять, совмещать с другими. Думаю, должен быть «беларуский русский» так же, как есть, например, «австралийский английский». Я скорее русскоязычна, но беларуский всегда был тайным убежищем, тем, на что можно опереться. Я сейчас нахожусь в англоязычной среде, большинство моей коммуникации на нём. Одновременно с этим я стала намного больше писать на беларуском, читать на украинском. При этом я не отказываюсь от русского языка: у России нет на него монополии. Пока я просто наблюдаю за взаимодействиями этих трёх языков во мне и в моих текстах.
А.: В самой лаборатории мы говорили на двух языках, и это было бесшовным и естественным. Выбирать говорить на беларуском языке – это политическое заявление, но при этом мне нравится мысль Даши Трайден о том, что и русских языков много, у них разные понятия и разный бэкграунд. Мы – отдельные, это наш язык. Я для себя пока что исследую вопрос языковой идентичности, до лаборатории я очень стеснялась говорить на беларуской мове, но сейчас мне стало казаться, что языковое смешение – не маргинальный прием, это может быть намеренным решением. У билингвального человека вообще будто две стороны личности, где каждый язык используется для определенной темы, эмоции, ситуации. Язык – инструмент, который можно использовать. Художник не всегда должен пользоваться только большой кистью; детали он будет рисовать кистью меньше. Нет правил, нас ограничивающих.
Сборник определенно беларуский, и то, на каких языках он написан, не изменит этого. Тематически для этого сборника очень важен беларуский опыт, и язык не может этого изменить. И использование многих языков как раз черта беларуского многоязычного пространства, и об этом стоит говорить как об особенности беларуского сборника, преодолевающего границы: можно все.
Л.Х.: Тони Лашден резюмирует: «Для меня вообще процесс создания сборника чтения и работы с текстами, которые в него вошли, стал попыткой понять, что для Беларуси может значить процесс деколонизации, что для нас может значить использование русского языка, беларуского и украинского языков. Где найти ту опору, безопасное языковое пространство, в котором мы можем себя выразить? Для того, чтобы осмыслить это, автор:ки используют разные языки: для того, чтобы нащупать ту самую зону безопасности, где они могли бы рассказать про свой чрезвычайно болезненный опыт».
7. Оглядываясь назад, можете ли вы сказать, каким для вас стал процесс написания текстов? Терапевтическим, репаративным, или тяжелым, но необходимым? Нашли ли вы в процессе письма эмоциональный или образный элемент, о котором не подозревали при воспоминании события или его пересказывании?
Д.: Я не пытаюсь опубликовать тексты, которые носят для меня терапевтическую функцию: такое остаётся в личной переписке и телефонных заметках, поскольку потенциальная читательница – не моя психотерапевтка. Отдавая моему тексту свои время, внимание и, возможно, деньги, она должна получать что-то взамен, а не становится вместилищем для необработанного горя, никуда не вписанной боли, неуправляемой ярости. Этим эссе я хотела бы начать с читательницей диалог о преодолении колониальности, об опыте и интересах социальных групп, к которым мы принадлежим. Сейчас я вижу подъем правой риторики, к которой, не осознавая этого, зачастую присоединяются левацки настроенные люди. Разумеется, эта внезапная слепота к популизму и эссенциализму – ответ на сильные травмы, которые произошли и происходят с нами, однако важно найти такие способы реагирования, которые не будут усиливать консервативное движение.
В.: Я думаю этот опыт был необходимым. И все совпало в сборнике, в организации лаборатории: это о грани, которая совсем скоро может быть забыта и утрачена на ближайшие пять лет минимум. Покрытая грузом еще большей ответственности (в основном уголовной), эмиграции знакомых, депрессии и сложных ментальных состояний травма двадцатого года никуда не делась. И тут, в Минске, никто не ждет что ближайшее время будет лучше. Из вопросов личной безопасности проблематичной становится даже возможность пересылки физического экземпляра сборника в Беларусь. Думаю в моем тексте, самым большим открытием для меня стало название - я разрешила себе сомневаться. И само название («ці быў выбар?») появилось уже после написания черновой версии текста.
М.: Важный терапевтический процесс документации. Нахождение в другой точке времени во время редактуры позволило увидеть новые связи между событиями и восприятиями.
А.: Процесс написания текста и обмена обратной связью стал для меня очень терапевтичным. Как у психолога воспоминания складываются в общую картину, так и в сборнике фрагменты, долго находящиеся у меня в голове и в разговорах с близкими, смогли вербализоваться и сложиться в мозаику. При написании автофикшен-текста это ряд выборов – признать ли мысль или страх своей или нет. При запечатлении слабости в тексте ты одновременно осознаешь ее.
8. Если ваш текст – сон, то какой? Глубокий, некрепкий, утренний, тяжелый?
Т.: Это отсутствие сна в принципе. Мой текст в сборнике посвящён бессоннице и нарушению сна.
В.: Сон перед сном, в промежутке между 5-10 часами вечера: быстрый, без сюжета, с разбитым послевкусием.
М.: Сон, после которого хочется проснуться и с облегчением осознать, что это был всего лишь сон.
А.: Беспокойный сон с вспышками, воспоминаниями, ерзанием и отрывками.
9. Какие дополнительные контексты, факты и индивидуальные особенности вашего письма могут помочь читателю прочитать ваши тексты ближе, глубже, внимательнее?
М.: Внимательное отношение к деталям, обращение к своим собственным переживаниям и воспоминаниям. Я бы хотела, чтобы читател:ьница разделил:а со мной описываемый опыт – и вспомнил:а свой.
Пространство отрицательного стягивания: о новой книге стихотворений Гали-Даны Зингер «Всё, на что падает свет» (эссе)
Зингер Гали-Дана. Всё, на что падает свет. Иерусалим, 2022 – 140 с.
Сборник стихотворений «Всё, на что падает свет» Гали-Даны Зингер, вышедший в 2022 году в Иерусалиме, по замыслу поэтки выступает «теперечнем» – авторским жанром, совмещающим каталогизацию, протяжённость, вместе с задержанным моментом настоящего, запечатленным и проживаемым впечатлением. Это синтетический и противоречивый путь соединения временного и пространственного искусств, экстенсивного и интенсивного освоения звука, языка, мира.
Возможно, поэтому Зингер осторожно подходит к любым грамматическим категориям, герметизируя их – текст, написанный исключительно в настоящем времени; текст, вытягивающий из небытия поэтов далёкого XVIII века, Капниста или Державина, и потому предлагающий глаголы прошедших форм. Но прежде всего это поэзия легко улавливаемого дискомфорта, разоблачающая собственную прагматику. Убедительности поэтического текста Зингер противопоставляет недоверие – и немалую часть первых текстов сборника составляет присказка «Ну что ж, не верится, не верь». Не верится сомневающемуся наблюдателю и в любую составляющую художественного мира Зингер (урбанизм, смазанный и отразившийся в луже после дождя), и в то, что у этого художественного мира возникнет менее пристрастный, внешний наблюдатель. Мета-«я» скрупулёзно удаляет из стихотворений слова, образ и звук, пока не останется ничего. Кажется, что и самые традиционные составляющие представления о стихах оказываются вывернуты наизнанку, вроде стихотворения о ненависти к анапесту, анапестом и написанные; десемантизации слов, растащенных на строчки и слоги.
Зингер подставляет под свет (очищает от снега) противоречия, с которыми сталкивается каждый, внимательный к незначительности, невеличию, малости, и при этом вынужденный создавать тексты, растягивать строчки, множить вариации слов – в общем, производить что-то больше минус одного, добавлять в мир больше, чем отбавлять. Это то самое напряжение, которое существует между помысленным и записанным, почти никогда не решается в пользу пишущего: «как в детстве / промолчи – ты умнее / чувствуешь себя дурой» (с. 32). Кажется, симпатия лирической героини к малому уже интуитивно понятны; но сомневающиеся могут перечитать главу из книги «Птицы, искусство, жизнь. Год наблюдений» Кио Маклир. Собранные ею примеры невеличин (маленьких собраний сочинений, миниатюрных поэтических форм, микроскопических пятен на грудке птицы) можно, пользуясь словесной гибкостью Гали-Даны Зингер, назвать «мелочнем» – списком, где каждый пункт должен выдерживать насыщенность малого. Однако Маклир оптимистична: во внимании к маленькому она, во-первых, находит импульс сопротивления большой (часто мужской) истории, во-вторых, тренируется в остроте зрения. Именно она необходима для наблюдения за птицами.
Зингер куда более сдержанна и осторожна в обнадёживающих итогах. Социальное как категория её поэзии часто не подразумевается; напротив, она как бы подготавливает поэтический кризис эстетики (затёртые формы возвратных глаголов), этики (помощь на случай поражения от дождя), физики (не видно – не слышно), который отследить сложнее, чем политический кризис. При этом Зингер удаётся балансирование на плоскостях игрового взаимодействия с бытовой речью и очищенным экзистенциальном планом, где человек всегда остаётся в одиночестве, не выбирая ни одну из них. Это не скепсис лейбла-концепта и не сентиментальная улыбка, смазывающая, как в дожде, границы между предметами. То, что есть, то, какая есть, без упаковки.
Колониальной лавкой вербальных излишеств называет Зингер варьирование иностранных корней, очарованность тканями и запахами, которые обыкновенно поставлялись в русскоязычную поэзию контрабандой. Но сейчас мир стал слишком большой, и поэзия в нём стала так протяжённа, что ни то, ни другое невозможно собрать. Глубоким замыслам не хватает слов, а сами слова обнаруживают в себе подгнившие места – слоги, где раньше можно было отыскать ответы. И человек, хоть и околдовывается словами, но уже иным образом – одушевляя их, анализируя их, думая, что их можно оставить, умереть раньше, описать ту неопределённость, которая определённо присутствует. Встреча, пишет Зингер, невыносимо радостна даже после обмана – но возможна ли встреча со словом, как с собакой, после предательства, снятия ответственности, отказа от поиска этической позиции? Растёт ли слово само по себе, как оставленные щенки?
Возможно, им остаются только созвучия, вроде «челом», «черен», «бил», «бел» и «был». Вне звука в распоряжение читающего и слышащего (если он возникнет после неопределённого периода разрыва связи между написанным и обращающимися к написанному) остаются всполохи глубинных замыслов, едва ли передающихся словами. Ещё остаются теперечни (перечисляющиеся теперь) движений мира вокруг, в описании которых Зингер достигает высшего во всём сборнике временного и пространственного напряжения:
многоочитые ответы
когда не спрашивал никто
огонь сорвавшаяся с веток
иззаоконь
лаокоонь
подумай, ведь тебя не звали
но ты пришла на всё равно
в окнозабитом созерцале
смотреть змеистое кино
как в позабытом кинозале
никто не спрашивал когда
.
.
никто не спрашивал когда
а так хотелось чтоб спросили
о том как зыбятся года
идя на свет в обратной силе
как с веток сорванный огонь
плащом взвиваясь из заплечья
трещит: нетроньменя! не тронь!
а сам все тщится бы обжечься
Почему для самых плотно связанных текстов важно именно отсутствие вопросов и множественность ответов? Стихи ли дают ответы, и человек ли задаёт их? Для этого кажется важным обратиться к одному из самых чудесных мест в сборнике Зингер:
ты ломишься в открытые окна
как ветер и ветка
лучше бы в закрытые ломилась
как свет
Кажется, текст, многоочитый ответ на вопрос, который никто не задал (либо же который не был услышан за плотным стеклом), отводится у Зингер не то в закрытую комнату, не то, напротив, ставится ею за по ту сторону окна, и тогда обозначает весь мир, на который смотрит выросший в четырёх стенах человек. Проникновение заменяется волной света, удовлетворяющего и проницаемое окно, и холодный пол, и отчаявшихся людей, для которых стихи всегда значили чуть больше, чтобы недостача слов не имела никакого значения.
Сборник Зингер даёт новую перспективу, существующую вместе с кризисом, но не взаимодействующую с ним открыто (как ветер и ветка). Этот ответ может показаться совсем скромным. Но, как уже показала Маклир, малое ничуть не уступает всеисчерпывающему. Кроме того, это просто честнее.
Несколько месяцев я не писала стихи потому, что Всеволод Некрасов, казалось мне, написал уже всё. Каждое новое слово, вызываемое мной в стихотворении, казалось лишним, и я хотела писать словами в отрицательном отношении, чтобы мой текст становился всё меньше, пока не стал уносить с собой что-то ещё. Зингер создаёт пространство отрицательного стягивания, воронки, где слова не могут сцепиться друг с другом. Чужие друг другу, они продолжают шествие, незамеченные приметы нового представления о свете.
Дайте ему лабораторию, и он поселит туда несколько простейших: как читать Михаила Ерёмина через Бруно Латура
Пункт сравнения и прочтения двух важнейших фигур (Латура – для социологии, Ерёмина – для неподцензурной поэзии), ушедших в 2022 году, находится легко: это образ лаборатории, расплывчато, но угадываемый университетский язык, любовь к латыни или же латинским корням в сочетании с интеллектуальной смелостью, лингвистической и зрительной остротой.
Всю жизнь Бруно Латур, споря сам с собой, давал новые определения социологии и социальному с помощью упорных попыток обратить научный мир к тому, что находится у него перед глазами: хватит искать тайные силы, хватит норовить проанализировать социальные структуры, стоящие за чем-то, ведь это «что-то» уже сообщает достаточно много о собственной структуре. Михаил Ерёмин, последний представитель ленинградской филологической школы, кажется, поступал ровно наоборот, обращая внимание на страницы самых редких этнографических энциклопедий, словарей мёртвых языков, на сноски, написанные самым мелким шрифтом. Можно ли прочитать его стихи обратным методом – масштабировать художественный мир до нужного размера, не создавая новых интерпретативных рамок (при том, что каждый ерёминский текст их вводит – дискурсивные, тематические, стилистические)?
Первый шаг: осмотр лаборатории
В чём, собственно, особенность лабораторного мира Ерёмина? Ни лианозовских бараков, ни постреформенных рублей Оскара Рабина, ни аксёновских таллинских портов тут нет, и современная ему действительность просачивается, дистиллируется и организуется в тексте по гораздо более строгим принципам. История естественных и гуманитарных наук, метапоэтический синтаксис и скорее ученая, чем профанная неуверенность в том, что «хромосомы… не обернутся вирусами» строго изучаются и отмеряются. Говоря в латуровской терминологии, все эти семантические, профессиональные и нарративные (по типу историй, которые рассказываются с помощью этих слов) группки выступают проводниками, которые транспортируют их силу в текст. Кто или что может стать посредником, трансформирующим их?
Второй шаг: настройка систем
Разговор о неподцензурной поэзии и первом акционизме, помогающем создавать тексты, которые одновременно являются и волнами, и частицами, в случае Михаила Ерёмина истинно антилатуровский: нельзя ставить за словами социальные структуры и объяснять всё их влиянием; сами по себе слова, синтагмы и текстоиды производят структуры, создающие посредников. В данном случае восьмистишие – твёрдая форма, выбранная Ерёминым для плотного укомплектования химических компонентов, сама становится общим посредником. Она совмещает в себе, кроме нефти, вахты и карбоната меди, не такую уж и краткую собственную историю – философские стансы, тоже в каком-то смысле натурфилософские восьмистишия Тютчева. Восьмистишие – форма, которую легко запомнить из-за небольшого размера, –становится обманчивым посредником для тех, кто, идя против Латура, читает гранитные мультиязыковые восьмистишия Ерёмина на манер закрытых коробочек, игнорируя эпиграфы из Тургенева, Державина, Пушкина…
Шаг последний: разгерметизация
Если паратекстуальные элементы (эпиграфы, сноски, расщепления центонов) так настойчиво отсылают к другим текстам из истории мировой словесности, то не имеет ли смысл расколоть кирпичики и посмотреть, наконец, на картину за ними?
Вероятно, мы сможем увидеть достаточно много, чтобы никогда больше не выходить из лаборатории, созданной Ерёминым – написанную на нескольких языках историю религий (и религиозных реформ), растений и животных, Земли и человечества. Трансформационная сила Ерёмина может быть сравнима с опытом Луи Пастера, который оставался в лаборатории не со статьей о птичьей холере, а с ней самой – изнутри, на малом масштабе предпринимая попытку сделать то, что никому до этого не удавалось снаружи. Пастер одомашнил микроб, и Ерёмин сумел одомашнить учёность, всё то скопище микрочастиц знания о мире, которое может навредить или смирить дух так, как смиряет эпидемия, изоляция и карантин. И если, читая восемь ерёминских строк, мы сможем пережить ту же стремительную, скачкообразную эволюцию, которая вне поэтической лаборатории Ерёмина происходила многие миллионы лет, то масштабирование удастся. В наследство Ерёмин оставил нам несколько скафандров – сноски, эпиграфы, скобки и цитаты: словом, тот багаж, которого не было ни у Латура, ни у Пастера.
Пересборка может начаться в любой момент.
Знатоки лакун в невесть чьих манускриптах: как читать Бруно Латура через Михаила Ерёмина
Памяти
БРУНО ЛАТУРА МИХАИЛА ЕРЁМИНА
22 июня 1947 – 9 октября 2022 1 мая 1936 – 17 октября 2022
1.
Этот текст был запланирован, когда одного (Латура) я ещё ни разу не открывал, а другого (Ерёмина) долгое время любил и ценил. И я рад, что встречал поклонников поэзии Ерёмина в своём окружении (несколько близких мне молодых коллег даже называли Ерёмина учителем, и я думаю, что могу к ним присоединиться). С ними можно обсудить те тонкости и «секреты» ерёминского письма, о которых говорить со старшими как будто не имеет никакого смысла. Не знаю насчёт «нас», но мне точно хотелось каждый раз заново убеждаться в его гении. Статичная уверенность в мастерстве и глубине Ерёмина меня просто не устраивала.
Однажды, во время беседы с энным количеством молодых литераторов (разговор был посвящён Ерёмину) прозвучал вопрос, который сейчас я воспроизвожу по памяти: «Почему мы пытаемся найти в этих стихах что-то человеческое?». О человеческом преимущественно говорил я, но моё желание подобного поиска поддержали. Тогда я не смог сформулировать чёткий ответ, пришлось рефлекторно сказать что-то невнятное. Сейчас, спустя несколько лет, я понял, что суть была не столько в поиске того, что принято считать человеческим, но в той особенной стратегии выживания, которую я ощущаю за стихами Ерёмина и текстами Латура – так, будто знание об этой стратегии предшествует любым свидетельствам о ней.
Скажу ещё раз, иначе: в октябре прошлого года, с разницей чуть больше недели, этот мир покинули французский социолог Бруно Латур и русский поэт Михаил Ерёмин. Настоящий очерк призван соотнести два феномена, на которые комментаторы обращали внимание и раньше, не замечая, однако, связи между ними, а вместе с нею и той впечатляющей поэтической энергии, что может быть порождена их сближением друг с другом.
2.
Ботаники, генетики, поэты
На материальном поле для сравнения,
Где сила, не желающая
быть
Сильнее некоторых – са́мой предстоит,
Как Гее, выкарабкаться наземь,
От латуни скрыться, до
(Удар, отданный во тьме со страшной
Силой) новой силы.
3.
Принудить круглый короб, лес
Отборный, словно мёд (и слом),
Кропить, кроить, но суждено за фоном –
(В дни оные любил его особенно) – бактериям
Установить свою машинку звука,
Бросая мелочь мела на подранка,
Как и его эдемский предок,
Затейливо изогнутый.
4.
Обнажена заутреня, без правых, левых,
Но исключительность
Растений в темноте, – что капли? –
Ноты. Нефть в прииске оттенков слышна́:
Бывало, пот поёт в антракте,
Как герр Аттрактор – павшим. Нити
Переизобретены, но те
Назад уводят, всяко.
5.
Вне перевода кто,
Отметив вместо шелеста уход,
Останется? (Предшествовала мудрость.)
(Минуя дар возможности прибытия)
Развилкой схвачен, как Земля на паузе –
По памяти, возможно –
И было слово обронено́,
Обро́нено.
Эрси прощает, Эрси сожалеет: о поэме Эрси Сотиропулу «Человек в море»
Эрси Сотиропулу. Человек в море – СПб: Темерон, 2022 (пер. Павла Заруцкого)
Сегодня мне хочется говорить о тексте не только как о результате рефлексии и простом воспроизведении пережитого жизненного опыта. Поэма Эрси Сотиропулу «Человек в море», безусловно, автобиографична – мы не можем игнорировать этот факт. Более того: очень важно то, что отмечает переводчик «Человека в море» Павел Заруцкий – «потенциал читательской идентификации с персонажами поэмы является одним из сильнейших её качеств».
Но мне кажется, что интересно рассмотреть структуру этого текста как самостоятельный герметичный объект, успешно заполняющий (и дополняющий) сам себя внутренними сюжетными линиями и сплетающий их в единый нарратив. У поэмы (вновь соглашусь с переводчиком: определение жанра рассматриваемого нами текста может быть весьма неоднозначным), безусловно, есть авторка, у авторки есть история, нашедшая своё отражение в поэме – однако это не отменяет факт особого рода художественности, действующей по собственным законам. Фигура героини/авторки/автономной травмы внутри поэмы выступает в четырёх ипостасях, презентуя себя с разных сторон восприятия, временных отрезков, – и выполняет совершенно разные функции.
Прежде всего «Человек в море» – это действительно история матери и дочери (история дочери в контексте болезни матери), рассказ о принятии постепенного умирания близкого человека. Всё начинается с самопрезентации – «Же м’ апель Эгси» – но самопрезентация сразу же превращается в монолог, включающий постоянное обращение к фигуре матери (я могла бы назвать это диалогом, если бы мать была способна ответить, стать автономной фигурой внутри текста): «Я прощаю тебя мама», «Что написано в этой книге мама?», «Илеана отчего блестят твои глаза?», «Что ты забыла в моей кровати?», «Мама не бойся». Вопросы без ответа и попытки утешить составляют основной костяк позиции «дочь-и-мать», но я бы назвала эту позицию по-другому, проще и точнее: «я-мать». Посвящение поэмы сыну недвусмысленно намекает на восприятие себя как отражения матери: «Я не хотела становиться бабкой. / Я хотела кокетничать» – «Она не хотела становиться бабкой. / Она хотела кокетничать»; «Мама я состарилась уже / Я тоже устала». Такое отзеркаливание вынуждает нас остаться в подвешенном состоянии: мы не всегда понимаем, как отнестись к тому или иному высказыванию («Одна манда мыло лампа плачь пламя мама вместе»). Эрси просит мать освободить её постель, Эрси прощает, Эрси сожалеет: должны ли мы прощать Эрси и сожалеть о ней? Сам язык ловит нас на крючок и становится полноправным героем текста, действующим словно бы автономно.
Следующая позиция строится вокруг множественных воспоминаний. Вполне возможно, что они частично вымышленны – но это неважно, поскольку мы смотрим на текст, как на мир в себе, осмысленный, самостоятельный, рассчитывающий на наше доверие. Весьма лаконично, в нескольких словах героиня набрасывает образ юности. Несколько деталей, никакой выраженной оценки: «(она была похожа на Гуфи поговаривают отец её болел сифилисом)», «Загородный дом. Дом зов.», «Мужчина чужих квартир / Украденных поцелуев». Эта часть мира-текста одновременно расширяет пространство для читателя и, продолжая говорить об истории матери, говорит о другом и о других. Особенно интересны в этом смысле воспоминания о фантазиях: история мамы-русской шпионки или маленькой героини, придумавшей мальчика на велосипеде. Мы не сомневаемся в том, что всё это является вымыслом, однако авторка встраивает воспоминания о выдумках в текст-автофикшн, и парадоксальным образом это превращает мир-выдумку в текст-реальность. Это изящный обман: мы никогда не можем быть на сто процентов уверены в том, что текст воспроизводит реальность с максимальной точностью (я склоняюсь к тому, что это вообще не является возможным); тогда почему бы нам не поверить в реальность того, что текст открыто признаёт не более, чем проделкой фантазии?
Фантазией в поэме является и фигура мужчины, скроенная из кусочков, порой достаточно детальная (с зелёным глазом), но при этом зыбкая, эфемерная. Мы наблюдаем её в воспоминаниях; ярче всего она проявляет себя внутри позиции «я-они». В «они» входит всё, что не имеет непосредственного отношения к фигурам матери и дочери, а только огибает их и становится платформой для текста и/или диалога между героинями. Здесь божества, лягушки Аристофана, хрупкая Сапфо, Элиот и Каммингс, равнодушный врач и занимающие особое место в поэме рецепты лекарств, отстаивающие позицию живых существ, – всё это становится в один ряд, сопровождает разворачивающееся горе. Каждое из таких существ может служить основой для метафоры или использования уместной цитаты, становиться взглядом третьего лица («После это станет грандиозным опытом итд. итд. / После ты напишешь о нём итд. итд») или конспектом действительности – но никакое из них не может нарушить герметичность мира женщины, чередующей в себе мать и дочь, и поэтому никакое из них не способно нарушить герметичность автофикционального текста.
Наиболее открытая и простая позиция работы с книгой Сотиропулу – прочитать название поэмы, а потом найти «человека за бортом» внутри текста. У него может быть много ролей: он – наблюдение, он – общее воспоминание, он – метафора переживания дочери и болезни матери, он – сам текст или же мир по отношению к тексту. Важно то, что он абстрагирован и встроен в историю, как точка на горизонте событий – при этом отнюдь не второстепенен; можно даже предположить, что на самом деле это фигура «человека за бортом» обрамляется всем текстом; он «запирает» её внутри себя самого как необходимый для собственного существования элемент.
Транспозиции героини текста эквивалентна транспозиция языка поэмы: он непременно находится в состоянии перехода. Язык не стремится быть безукоризненным: «Почему-то верит / что остаётся / неприкасаемым / для смерти и / ужаса / которым одежда / все эти / эротические истории»; язык отказывается выполнять функции, которые принято ему приписывать: «А Мама / Б Матка / В Манда / Г Моргнуть / Д Мордочка / Е Милашка / Ё Малышка / Ж Плачь / З Плачь / И Плачь». Язык независим и так же, по-своему, переживает горе, предназначенное для героини.
Я не настаиваю на полностью самостоятельном существовании каждой из позиций: безусловно, все они так или иначе связаны друг с другой (фигура говорящей, в общем-то, не меняется); однако и ограничиться термином «автофикшн», говоря о поэме Сотиропулу, не могу – если только мы не расширим определение этого понятия. Если процесс трансформации реальных событий в поэтический текст (при условии, что каждое из этих событий действительно произошло и каждый образ является отпечатком увиденного и пережитого авторкой) станет включать в себя процесс переосмысления и обращения реального в описанное (что так или иначе трансформирует и изменяет реальное) – тогда можно назвать «Человека в море» автофикшн-поэмой. В конце концов, становление мира текстом – это абсолютно реалистический процесс, и, на мой взгляд, он более чем органичен.
Это текст не об уходе матери, а о попытке дочери говорить о собственных переживаниях честно, – говоря о честности, я не имею в виду точное воспроизведение рецептов лекарств или натуралистические детали вроде «Моя мама в памперсе теряется в глубине коридора» – речь, скорее, об осуждении, злости или раздражительности, о смелости написать «Я прощаю тебя», обращаясь к родному существу. Эта честность может обескураживать или даже вызывать у читателя возмущение – на самом же деле она есть проявление привязанности и любви. Продолжая говорить с матерью, позволяя себе испытывать отторжение или злобу, героиня сама себе предлагает воспринимать стремительно меняющиеся тело и разум матери как абсолютно равные её собственным разуму и телу. Для неё умирающая всё ещё такая же, как она сама – для меня, читательницы, это свидетельство глубокого уважения и искренней нежности. И именно эта смелость становится самым важным зерном текста Сотиропулу. Я признаю травматичность пережитого ей опыта, признаю, что такой опыт по-своему универсален, и вижу ценность в том, как именно этот опыт был передан – он способен стать примером и выполнить ту «функцию», которая для многих читателей является необходимой – преподать хороший урок. Но не стоит забывать о том, что читатель не является позицией этого текста – он наблюдатель, за которым признают право наблюдать и присутствовать при том, как наблюдает и трансфигурирует сама «Эгси»:
Потом ты чуть повернулась своим прекрасным лицом будто бы слушая
птицу поющую в далёких затерянных краях
и вышла из комнаты оставив
дверь нараспашку.
«Любовь неделима на лица»: зимние заметки о новой книге Владимира Аристова
Аристов Владимир. Севастьян – Чебоксары: поэтическая серия издательства «Free poetry», 2022 – 42 с.
Морозный голос зимы, холодный, сквозной, в нём отчётливо слышен не только стук собственного сердца, но шёпот времени, сдавленный, будто прикрытый озябшей рукой. Трудно говорить, трудно молчать. Но труд жизни – тихое свечение дней – можно нести в себе сквозь холод и беспокойство, сквозь мглу и лишения, преодолевая собственную растерянность и потерянность, можно попытаться возвратить глазам свет, а сердцу – расплавленную музыку сочувствия и сострадания.
*
СЕВАСТЬЯН
Он проснулся во сне среди ночи
Ощутив словно бы стрел тупые удары
Отмечавшие каждую гибель еще одного человека где-то
чаще, чем сердца удары его
Он хотел бы проснуться, но знал, что не должен
Пусть хотя б этой ночью должен со всеми
так быть
Зная, что утром очнется
И забудет на миг все свои раны
Прозрачные перегородки сознания, тонкие перегородки времени, когда III век от Рождества Христова и тайное исповедование христианства римским легионером Sebastianus, его мученические страдания и смерть проступают сквозь полустерильную оболочку современного офисного «белого воротничка», преображая обыденную его жизнь в лишённое будничности существование, придавая простым человеческим поступкам драматизм в духе фантазийно-мистического триллера.
*
Неожиданности и странности в книге Владимира Аристова «Севастьян» так же реальны и естественны, как и фантастическое путешествие по невидимой поверхности Луны или танцы в кафе ГУМа загадочных пингвинов под пяти(шести)лепестковым символом давно позабытого фестиваля. А ещё: сбывшиеся или несбывшиеся сновидения, в которых загадочные двойники автора (или его персонажей) оживают и действуют через тонкую словесную ткань стиха.
Исследуя в своей новой поэтической книге время и сознание, бытие и то, что существует «за» бытием, Аристов не спешит с выводами – да они его, вероятно, не очень и интересуют, так как могут быть и ошибочны. Для поэта важен, скорее, не результат, а процесс всматривания, вчувствования – важно проявление духа живой жизни в, казалось бы, давно уже стёршихся словах.
что быт его здесь – значит бытие
что надо не споткнуться о него
ботинком, взглянуть в глубь его
*
Многомерность и сиюминутность, скрещивание и сращение временных пластов (дальних и ближних), памятных и/или растворённых в крови беспамятства, как еле слышимая музыка, под тайный ритм которой сдержанно и вдохновенно танцуют загадочные персонажи – всё это и составляет суть поэтических интуиций Аристова.
Сон не закончился
И между ним и явью
Лег рельс стальной, переходящий в ров
Но ее пальцы нежно без иглы
Его стянули суровой шелковою нитью
Наверно памяти
И снова скрыли под асфальтом шов
Параллельные (условно назовем их так) времена и пространства проявляются в стихах Аристова через оговорки, обмолвки, через случайности и мнимости. Болевая шершавость секунд (как заусенцы нашего присутствия) возникает в монолитном пространстве здесь-сейчас-бытия и дает возможность проявиться чему-то другому, неподвластному времени, как в слепо-глухом скульпторе [1] проявляется возможность иного постижения мира. Поэтому именно он, этот слепо-глухой скульптор, чувствует «пробудившегося» – или «пробужденного» – человека так, как сам человек себя давно не чувствует, потому что слишком поглощён собой. И тогда поэтический текст впускает в себя ещё одно пространство – архетипическое, в котором начинают действовать, будто пифии, сказочные девицы: одноглазка, двуглазка и трехглазка. И начинают действовать «пророчества» о том, что любовь к себе самому в человеке так велика, что если бы он смог поделиться ею с другими, то смог бы войти в невидимый прежде ветер-и-свет.
*
Трудности перевода – ещё один из множества мотивов книги. В этой почти банальной фразе поэт открывает другое «дно»: многомерность мира невместима в слово. Поэтому, возможно, в текстах Аристова возникают сбивчивость, неровность строки, лексические и синтаксические неувязки, скрученность временны́х нитей, смещённость яви и сна, их соединённость, неразрывность и неслиянность. А в слове «Война» [2] заключены не сводки с полей сражений, а иная (устрашающе-сновиденческая) реальность, облачённая в женский облик и носящая это кровожадное имя. Обмолвки в разговорах персонажей оказываются (почти по Фрейду) не менее важны, чем недомолвки и недосказанности. Именно через них выявляется архетипическое состояние бытия, когда даже слово «мир» не только нанизывает на себя морок ежедневного существования и приевшуюся до мелочей любимую всеми будничность, но обнаруживает мучительные, преследующие нас безумные кошмары бытования, похожие иногда на картонные декорации с нарисованной луной и полуслепыми жителями в тусклых полях. Однако даже вымышленные (или измышлённые) пространства Аристова несут в себе боль за другого, неотделимую от пугающей тщетности добрых или благих человеческих поступков.
«Дора! Дора! Дора! Дора!» – звал он, как безумный,
Наверно свою потерянную собаку
Бродя по улицам пустого поселка
А встретил лишь на обочине детский
сине-красно-желтый перевернутый грузовик [3]
Внутренний «кинематограф/театр» Аристова напоминает иногда картины режиссера Микеланджело Антониони, иногда полотна художника Джорджо де Кирико, сквозь которые на нас смотрит реальность или уже «перевёрнутая» (как этот сине-красно-жёлтый грузовик), или готовая вот-вот атомизироваться, распасться, взорваться, разорваться или же пролиться, как вода, в которой слышен тихий хор голосов из времени иного.
И я понял, что должен стать историком, чтобы вернуть
их имена и имена других
расслышать жизнь звучащую любого человека
ведь истинная музыка истории – оркестр именуемых времен
*
Пустынность, одиночество, опустошённость и слабое, едва заметное свечение связей между людьми. Плюс странное, неподвластное рационализации расширение каждого мгновения, соединённое с суггестивной и едва заметной меланхолией поэтических текстов Аристова, в которых блуждающими огнями мерцает не только интеллектуальная ирония, но проявляется особый символизм, не размывающий и утончающий образы, а высвечивающий энигматическую – тайную или явную – действительность, стоящую за словом.
И идя потом через ночь думал, что
Снова наверное трудно их двоих различить
И невозможно понять кто из них сейчас
Младенец, а кто мудрец
В этом движении через ночь у Владимира Аристова скрыто движение через ночь как время суток, и ночь как пространство сознания, и ночь как метафору вневре́менной жизни, и ночь как актуальный срез современного бытия (определения эти можно продолжать и продолжать). Таким, казалось бы, чрезвычайно простым способом Аристов создаёт многомерность поэтического слова – и многомерность эта, как в китайских шарах-головоломках, искусно проступает сквозь плотную структуру-фактуру жизни особыми «полыми» – сквозными – мгновениями, сквозь и через которые пробивается свет-звук-и-запах иного бытия.
Сфотографировал сам себя на фоне Китайской стены
На афише перед тем, как в трубочку ее свернул,
Покидая свой офис
Кажется, половину мира снял со стен, унося с собой
*
Книга «Севастьян» имеет довольно сложную структуру, в которой всё взаимосвязано – и несущественные, казалось бы, образы становятся тайными знаками больших событий, меняя эти события. Вспомним «эффект бабочки», когда незначительное влияние в хаотических системах может иметь непредсказуемые последствия, в том числе и в совершенно другом месте. В сложноустроенном поэтическом пространстве Аристова можно многое искать и многое находить, однако:
…в мире потеряться невозможно
Надо только внутри повторенья найти свой луч
Ибо чистого повторенья нет
*
В тени этой книги дежурят Конфуций и Лао, и древнегреческая покровительница истории Клио, и сонмы незамечаемых людей стоят на границе света и тени и смотрят на нас из-за каждого поворота строки – не будем забывать, что последняя прозаическая книга Аристова «Жизнь незамечаемых людей» (М.: Русский Гулливер, 2022) развёртывает длинный свиток с именами этих людей и рассказывает множество парадоксальных историй незамечаемого их невероятного существования.
Ощупал свою многодневную щетину
Но своего лица не узнал
Стал ли лесом ты или полем
В повелении не снимать
Пожизненную маску
*
Стихи Аристова обладают удивительным свойством – восприятие их меняется после второго, третьего – и так далее – прочтения: будто рассеиваются сумерки, строки начинают дышать, вовлекая нас в странный свой ритм и особый тайный свет, реанимируя в нас что-то глубинное и важное, что за мучительной плотностью необхватного настоящего мы, казалось, навсегда утратили.
[1] Из стихотворения «Скульптура – искусство слепых...»
[2] Из стихотворения «Военный сон»
[3] Здесь и далее подчёркивания Татьяны Грауз
«Мы сопряжены». О книге стихотворений и переводов Веры Марковой «Пока стоит земля»
Маркова Вера. Пока стоит земля. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022 – 616 с.
Книга избранных стихотворений и переводов Веры Марковой похожа на «riddle» Эмили Дикинсон – загадка здесь предстает как процесс, и читатель, взяв эту книгу в руки, встаёт на путь узнавания – в том числе узнавания нового способа знакомства с поэзией. Имя Марковой сочетает в себе противоположности: мировая известность в роли переводчика-япониста и практически полная неизвестность как поэтессы. Даже в узких кругах очень мало людей могут свидетельствовать о том, что читали её стихи (чуть больше могли разве что слышать, как она читает). Перед будущими исследователями творчества Марковой встаёт ряд вопросов. Как определить место (и какое?) неизвестной ранее поэтессы в русской поэзии второй половины XX века? Какой вклад вносит обширная публикация её стихотворений, которые не попали в поле зрения современников и не были оценены в свою эпоху?
Как справедливо заметила Лиза Хереш в комментарии к подборке из нескольких стихотворений поэтессы в «Дайджесте», книга Марковой «лишена очевидных ключей к пониманию» и требует «нужного угла чтения». В свою очередь, я предлагаю читать книгу с конца: начать с воспоминаний о Вере Николаевне, с биографических сведений.
Рассматривать поэтессу сквозь призму её биографии чревато искусственностью интерпретации и притягиванием фактов к содержанию стихотворений. Тем не менее, этой опасности можно попробовать избежать, а других способов взаимодействия с фигурой Марковой-поэтессы без полноценной исследовательской работы пока не предвидится.
Воспоминания Юрия Коваля, Валентины Чемберджи, Лидии Чуковской, Татьяны Грановской – даже краткая запись Генриха Сапгира – дают нам беглый биографический набросок. «Время стирает свидетельства современников, и всё же в каждом из таких даже чересчур скупых рассказов проступают какие-то драгоценные чёрточки», как пишет сама Маркова автобиографии, включённой в книгу. Свои стихи Вера Маркова в печать не отдавала, и мало, кто знал, что она пишет – и всё-таки кто-то знал: Сапгир «воображал, что она пишет что-нибудь в духе Дикинсон»; Юрий Коваль вспоминает, как Маркова читала ему свои стихи «размеренно, неторопливо, строго...». Как отмечает Ольга Балла-Гертман, она их «читала только самым заслуживающим доверия собеседникам, а самодельные сборнички-тетрадки <...> давала в руки совсем немногим». Внутренние границы (скромность, а в период юности ещё и сомнение в своём даровании) Марковой не давали вынести стихи на свет, образовывая чуть ли не андеграунд внутри поэтессы, скажем, андеграунд в квадрате.
Есть и другой немаловажный момент, который нельзя упускать из вида: по воспоминаниям Валентины Чемберджи, «если бы она хоть один раз "высунулась" со своими стихами, последовали бы немедленные репрессивные меры (ну, например, перестали бы печатать её <...> переводы с японского)».
Постепенно приближаясь к разговору о стихотворениях Марковой, выскажу своё субъективное утверждение, основанное разве что на опыте чтения: неподцензурных поэтов от официальных советских отличает другой способ мышления, иное сознание – и Маркова им обладала. Сознание своей человеческой независимости от идеологии, партии, нации; сознание культурного диалога сквозь время и пространство. Возможно, большую роль сыграло изучение иностранных языков – кроме японского она знала в разной степени французский, итальянский, английский, китайский; а ощущение внутренней свободы владения языком могло породить ту самую альтернативную интеллектуальную жизнь, которая принимала самые разнообразные формы во всей неофициальной культуре. Так что на основании вышесказанного позволю себе не согласиться со словами Лизы Хереш о том, что «характеристика об "идущей параллельно" поэтической традиции всё же не позволяет нам записать Маркову в мифологизированную область неофициальной литературы». Возможно, дело в том, что область внутреннего андеграунда и не поддаётся мифологизации, а пронести свой мир настолько нетронутым удалось немногим. Маркова в их числе.
Нужно сказать несколько слов и о её переводах. Возможно, великолепное владение японским языком способствовало усвоению восточного мировоззрения, которое удачно совпало с особенностями её собственной поэтики. Стоит ещё раз привести диалог с Марковой, который передаёт Юрий Коваль:
– Ваши переводы с японского… великая работа…
– Этого мне мало… есть ведь свое.
– Первое стихотворение книги “Тень птицы” напомнило мне японскую танку. Есть все-таки влияние японцев.
– Так ведь японские танки – это я. Это я, понимаете?.. Какие же влияния? Я влияю на саму себя?
И, если я близка к правде, перед нами редчайшее совпадение поэта с той поэзией, которую он переводит. Однако это совпадение с японскими танку произошло не сразу. Сильным оказывается и влияние Эмили Дикинсон, которую тоже блистательно переводила Маркова, классиков-предшественников и современников, особенно пантеона поэтов Серебряного века. Интонации Ахматовой (ей посвящен цикл «Вечнее меди»), Цветаевой, Маяковского, Пастернака проникают в поэтическую речь Марковой:
И нельзя отвратить глаза,
И уклоняю мимо.
Щит мой – дымчатая слеза.
Страж мой – страх негасимый.
Скажешь, дело мое сторона.
Скажешь, старость подшибла...
Шаг вперед – погибла и спасена.
Шаг назад – спасена и погибла.
Порой прорывается влияние официального дискурса советской поэзии – пожалуй, в императивности, чеканности формулировок, как в «Именем не гордись: забудут» или «Солнце и луна для вас. / А меня хранит завет: / «Если луч в глазах погас, / И во тьме сияет свет». Мы находим в её стихотворениях, например, цитату из Илью Сельвинского:
Прощайте,
Позвольте откланяться,
Голосистые кумиры моей юности,
Паны-горлопаны резвой младости.
Вы шикарно держали фасон.
Лихо швыряли за борт
«Тепловатый пушкинский стих»
И ко взятой в кавычки фразе есть сноска: «У Ильи Сельвинского было сказано про шаблонный язык: "Вяловато-съедобный, как слива, / Тепловатый, как пушкинский стих"».
Состав стихотворений Марковой неоднороден, среди них встречается и самобытные тексты, и написанные под влиянием современников и предшественников. После прочтения предисловия Ольги Седаковой складывается совсем другое впечатление о поэтике Марковой, но в примерах используются прецедентные случаи. Формально, основная масса книги – это силлабо-тонические и тонические стихотворения с традиционной просодией и классическим набором тропов (разделы «Облако», «Четверостишия», «Туманный день», «Мосты», «Музыка во льду», «Государыня-пустыня»):
Желторотые народились в апреле,
Желторотые, с выбором, или-или,
И трава разминалась, и перья блестели
Облаков, и руки по ветру плыли.
И голоса выбегали навстречу,
И заглядывал рай соседний,
И земля привечала Предтечу,
Словно в первый и словно в последний.
Верлибр на этом фоне выкристаллизовывается неравномерно, прорывы к нему происходят и в ранних текстах («Пока стоит земля») и в более поздних (разделы «Полустанок», «Можжевельник»). В то же время намечается отчуждение от слишком явных тропов, но «решительного отказа от тропов и вообще от "поэтизмов"» (как пишет Ольга Седакова) не наблюдается. Скорее мы можем говорить о переходе от устоявшихся тропов к неявным, и в этом родной русский язык становится спутником Марковой: вдоль и поперёк исследованный поэтессой, он подсказывает новые сочетания – и в то же время мешает, ведь груз, усвоенной вместе с языком культуры, не даёт прозрачности пробиться, уводит мысль вслед за звучанием мелодии. И здесь «японская интонация» оказывается спасительной: та поэтика Марковой, о которой пишут Ольга Седакова и Ольга Балла-Гертман (как о параллельном, независимом от современников поэтическом письме) проявляется через обращения (зачастую неявные) к японскому языку, культуре, поэзии.
Можно попробовать определить, что в разной мере объединяет почти все стихотворения книги. Кажется, это поиск предела, пристальный взгляд Марковой туда, где соединяются начало и конец:
Художник
Остановил мгновенье. Я вижу его –
И оно меня видит.
Я – это июльский лес,
И лес этот – я.
Мы сопряжены
Двуоборотными светом и тенью.
Противоположности оказываются сторонами одного целого: Маркова-поэтесса неотделима от Марковой-переводчицы. Благодаря изданной книге «Пока стоит земля» это единство наконец-то восстановлено.
Клод Руайе-Журну. Неделимые сущности (перевод с французского Кирилла Корчагина)
«Флаги» завершают публиковать «Тетралогию» французского поэта, переводчика, эссеиста и издателя Клода Руайе-Журну. В пятнадцатом номере журнала – заключительная из четырёх поэтических книг «Тетралогии» в переводе Кирилла Корчагина. Прочесть предисловие переводчика ко всей серии публикаций «Тетралогии» вы можете в 12-ом номере журнала.
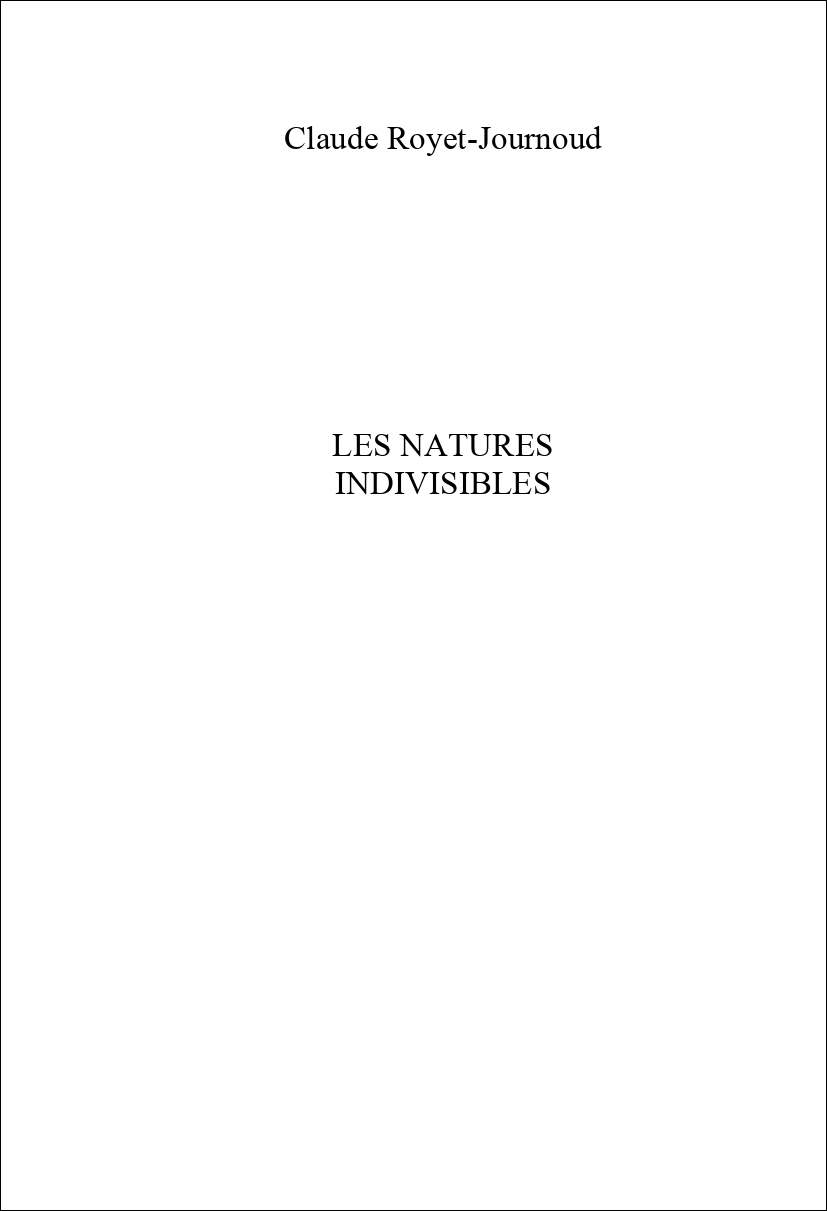
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
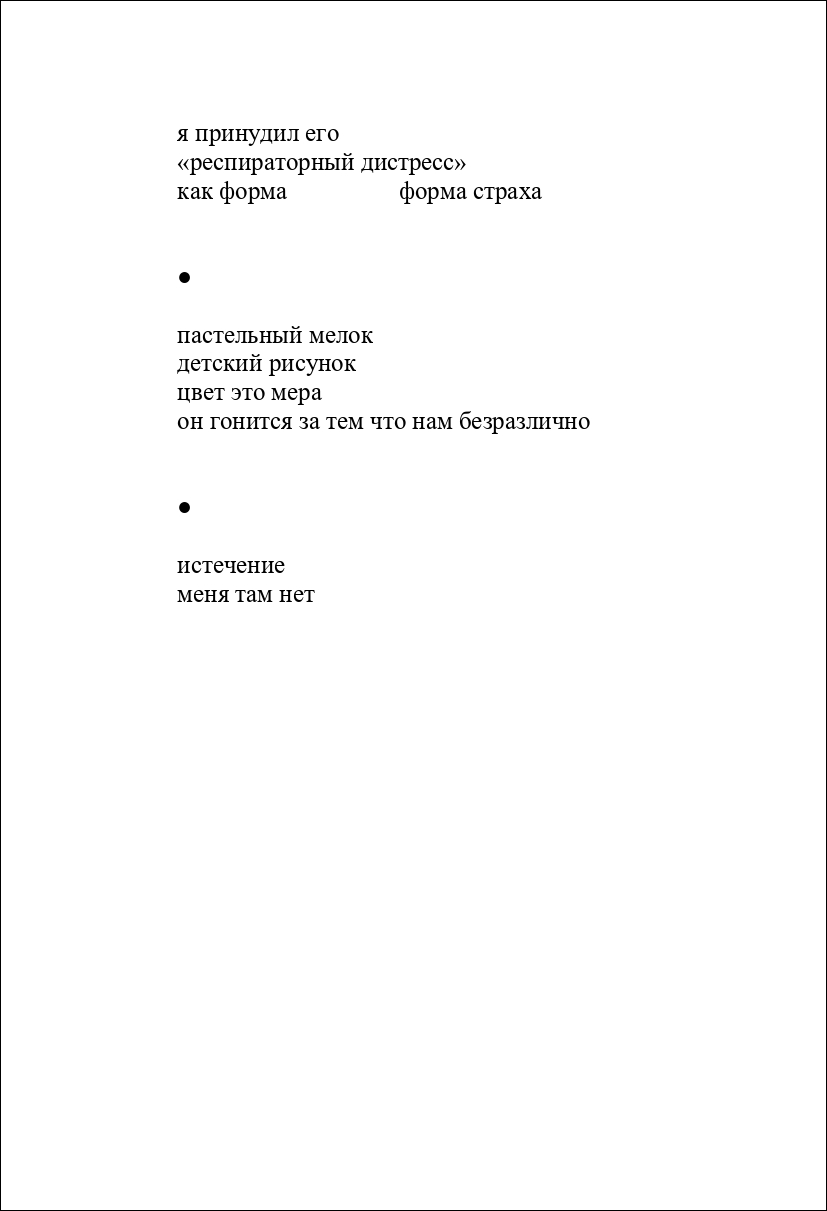
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

