«Флаги». Тринадцатый номер
.png)
Содержание
Фото на обложке – Данил Елезов | inst: @danielezov NB: Этот номер должен был выйти в конце февраля 2022 года, но выходит только сейчас. После <...> в Украину и начала <...> мы временно приостановили деятельность журнала, а недавно вновь вернулись к работе. Редакционное заявление о перезапуске вы могли прочитать здесь: <...>. А ниже – тринадцатый номер «Флагов», весть из прошлого.
Тёплая сказка Таймыр
1.
Мы торчим в аэропорту Дудинки после
долгого гудения в автобусе из Норильска.
Свернулись в жёстких креслах
обмерзшего зала ожидания, пока
сон протекает из-под рыхлых век
анемичной сгущёнкой, заполняя пространство.
Тяжёлое тяготение из-под оледенелой
земли проникает сквозь напольную
истрескавшуюся плитку и утягивает
наш сон в чью-то безымянную память:
осколки камней,
шерсть, гуденье
желудка...
Часы на стене симулировали работу
времени, на протяжении которого,
нас никто так и не вызывал на посадку
вертолёта до Усть-Авам, потому что
то ли пурга вновь налилась чернотой смертоносной,
то ли из-за стайки чиновников, прилетевших на корм,
расписание изменили, то ли нам самим уже
никуда не хотелось под
тяжестью ненастоящего
времени и голодного сна
Совсем.
Никуда.
2.
У стариков было пять дочерей.
У младшей дочери лицо
подсвечивалось глазами.
В дни такого мороза, когда сгустки оленьих дыханий
в воздухе на весь день застывают, старик
решает послать старшую к Осесу, чтобы он
перевернул мороз наружу теплом.
Та приходит туда,
где трава впитала в себя весь снег. Трава просит остаться,
но оглушенная речью дочь в ответ бьет и топчет ее; в невыносимой
избыточности от себя самой не ищет у чума дверей, прорывая его
насквозь. Вернувшийся Осес старшую дочь прогоняет за
порванный чум, убивает; то же – с другими тремя дочерьми.
Младшая осторожно разнимает траву: каждую к имени и к голосу
своему – видит у двух берез убитых сестер. Поправляет
чум – перед ней открывается дверь его. Снятыми с сестер
бусами, кольцами, серьгами украшает [ч]ум.
Внутри него только кукушка мертвая.
Осес вернувшийся говорит, что возьмёт младшую в жены и
направит тепло; теплеет. Старуха же закармливает старика
сырым тестом вины: это он погубил их детей,
вот и тепло пришло самом по себе.
Старика выгоняет искать дочерей.
Тот встречает
белого медведя,
медведь бьет его –
старик падает,
из него потекли ледяные реки.
3.
Почему ты не пишешь писем,
друг дорогой? Что с тобой?
Говорят, вам в поселок недавно
мобильную связь проводили.
И ведь тогда от тебя
перестало совсем новостей и
слухов
доходить.
Даже когда ты повесился,
никакой не оставил записки.
Какая херня у тебя
была в голове?
И что ты за человек
такой был?
Никто так
ничего и не
понял.
4.
Сестра убралась дома,
накормила детей и
утопилась в проруби.
Младший брат,
возвращаясь со школы,
бросился под колеса
проезжающего трактора.
Средний брат
нарядился в костюм,
надушился, поел и
повесился. Старший
брат пропал.
Говорят, что они это сделали
из-за матери их, которая
слепа
глуха
пьяна
Но
живая
5.
Под кожей моей
шевелится желание
увидеть конец света.
Мне снился (кажется) сон,
что он предстанет передо
мной, когда я дойду до
конца огненной воды.
Легкие и рот обжигает
эта вода, словно архангел
проводит и крестит мечом
пламенеющим, и я могу
Говорить, что в каждом человеке
гнездится «разрушение»
(у «разрушения» два лица:
одним оно смотрит наружу
другим – внутрь);
Говорить, что от шайтана этого
меня спасает лишь водка
(он ледяными пальцами
проникает в тело, когда
оно иссушено);
Говорить, что только из окон
наших родных домов (покрытых
жестью лукойловских бочек)
можно увидеть рассветные волны
конца света.
(Только этой огненной речью
тело мое все больше приобретает
черты сентябрьской земли, что
кипит разложением, испуская
жирные пары самогона)
Дети пьянеют от осеннего
воздуха, вдыхая мою
речь, и кажется
исчезают.
6.
Извини, я ведь помню, что
нельзя вспоминать о мёртвых
в течение года. Но необходимо
оформить свидетельство о смерти.
Наверное, поэтому
почти не найти
среди нас ни шаманов,
ни демонов, ни божеств.
Говорят, остался сейчас
один только моно-
полистический бог,
имя ему –
Н-н.
7.
Хочешь помыться – встаёшь под душ,
включаешь воду, а на тебя
льётся нефть.
Лучшая в мире:
Артик лайт, 0,02% серы.
Такую, говорят, С. подарил П.
в хрустальном графине.
И эта же нефть в твоей же ванне
обволакивает тебя, словно вы –
доисторические любовники, что
готовы в любой момент вспыхнуть
гулким пожаром на всю
ледяную вселенную.
Она за тобой наблюдала
из переработанных форм своих:
из часов, посуды, мониторов,
одежды и презервативов –
Сейчас же предстала перед тобой,
как есть. Мимо денег и государства,
мимо нефтяных машин и земной
коры – пришла к тебе
откровением.
Видишь, как вращается
это мёртвое тёмное солнце,
источая газообразную
ароматическую основу
денежных масс для всех,
кто по ним голодает, кто
способен в себя
эти массы
принять.
Да.
Нефть
проникает в
тебя, становясь
одним целым с тобой,
чтобы вас
окончательно выкачали
отсюда.
8.
Недавно умерли за неделю четверо. Говорят,
что сами руки на себя наложили. Да только,
пока не приехал патологоанатом, опять
не понятно совсем, куда девать трупы. Морг
ведь не работает, потому что нет канализации,
потому что не проведён водопровод,
потому что никто
не хочет платить
(тем более мертвецы)
за глупое и сложное
электричество.
9.
Оленьи стада отклоняются от линий миграции,
отпечатанных на ритуальных костях.
Олени следуют за ускользающими территориями,
где земли ещё валентны для взаимосвязей,
где густой, бестелесный, невидимый голос
принимает формы, совсем не похожие на людей.
Олени в поисках ареалов, где
сверхпроводимая политика
нефти не заместила собою
все способы коммуникации
(вблизи поселка оленьи тела
становятся невесомыми и
прозрачными, ветер, сквозь
них проникая и замедляясь,
вызывает наэлектризованность
внутренностей).
Говорят, что такое свечение
бывает перед концом света,
когда северное сияние
опрокидывается на землю.
Оленьи ритм и бег ускоряются
с каждым летом, и мы за ними
не успеваем, оставаясь среди
маслянистых и черных пятен
одни.
Когда мы вновь вступим в не-человеческие
связи среди слишком человеческой политики,
в которой никто не смог обрести друг друга, чтоб
направленья дыханий, температуры кожи, кишечники
стали частями речи, границы которой
сойдутся с землей?
Смотри, олени несут единственное
сообщение от государства:
сообщение – голод. У меня
осталось последнее, чем
способен его накормить –
10.
Если детям не дает никто денег
то они возвращаются
откуда пришли
исцеляя тело свое от духа
от невыносимо дорогого чувства
жизни
11.
Бивень мамонта, говорят, приносит спасение
От долгов и безденежья. Он ценнее нескольких
Жизней. Найти его почти невозможно – лишь
На болотах весной, когда из-под снега выкарабкиваются
Системы тысячелетних корней.
Отец рассказывал: мамонты – подземные звери.
Они рыли тоннели, но, выходя на поверхность
(Чаще всего у высокого берега реки),
Погибали мгновенно, потому что
Не выносили солнечного света.
Так случилось, что мой отец пропил всю жизнь.
Ему был доступен и слышен лишь голод, которой
Однажды ангелом прошептал в тоннель
Отцовских прожжённых внутренностей
Место среди болот, где отец
Нашёл бивень.
На проданный бивень он купил
Снегоход, моторную лодку, ещё один дом
Рядом со старым и
Тонны строительных материалов.
С остальными деньгами отец не знал,
Как расправляться, поэтому конвертировал их
В чистый спирт, чтобы заниматься таким же чистым его
Потреблением, чтобы однажды вспыхнуть даже от случайного
Солнечного луча.
Отец заражал вещи болезнями своих алкогольных
Грёз. Предметы, к которым он прикасался,
Тяжелели и впечатывались в ледяное письмо поселка.
Так случилось, что мой отец умер среди этих
Заражённых вещей и тяжёлых предметов,
Не выдержав то ли изнуряющего огня изнутри,
То ли волн рассвета, превратившись в мумию среди льдов,
Как в древности принцесса Укока.
Когда мной вспоминаются мамонты,
Сквозь ноги проходят волнующие линии миграции,
Я начинаю присматриваться к формам света:
Окружности и треугольники, складки звуков
И этносы синтаксиса, сверкающие перья
Сердцебиений –
И мне странно вспоминать, что я
Живу среди и немного
Лучше других,
И странно,
Что мы [ – ] до сих пор
Здесь.
12.
Птичка дямаку мерзнет.
Просит человека сделать ей
железные крылья, нос и
лапки;
а после летит на юг. На облаке восседают
семь девушек, у каждой – мешок.
Птичка упрашивает у бога, чтобы девушки
уснули; развязывает мешок у младшей,
из него катятся теплые облака,
наступает лето
Усес'ас'кет («Теплую сказку») рассказывали вечерами только в период сильных морозов; рассказчиками могли быть лишь лица, родившиеся в теплые зимние месяцы; сказка должна была вызвать потепление.
Кости пестенки той
***
вот-вот:
так:
слышно ему:
как слышит предъон:
как шепчет доъон,
ведёт его:
– несмело, но твёрдо,
не смело бы –
звук:
***
ворное снот.
о! –
– ткель помню:
я ведуешь тебя
сна поодаль.
на сновином краю,
из-сквозь крыл век,
ся проклюнет,
себя проклюнетет
речь ненаша.
ворны, ворны
граятем
без ны уж.
***
(вот тро́пчет вдоль)
(тропка петляетешь –
(твоё пелески утишь –
(изгибы свои)
(уследив)
(при пене следов)
(даль усталого тела)
(утешетешь? –
(утешешьет? –
(вот пéльнится сквозь)
***
(к)
(ости)
(пестенки той)
(подступая)
.
(к)
(омна)
(те)
(безтени там)
(иглою костяною по сетчатке вышивая)
.
(рас)
(кроя)
(гла́)
(за́)
(сберегая темно́ты)
(проступая просты)
КОММЕНТАРИЙ К «ФУКО» ЛОСЕВА
(мимо волос в кожу, ясные)
!рыться в мне не сметь-сметь!
(мимо кожи в кости, ястные)
!род в мне не смерь-смерь!
(ясти, их раскоп там, за увулой)
!рот в мне не смети-смети!
(но лысы мы, лысы телом)
***
она стала морфему паузами, проев
субъедку слушали:
!не глотай слова!
!⸮ты говоришь или жуёшь?!
!я глух и нем!
субъэтке слушали: ты только ешь
толико ела, что слова костями,
встаными в мягкий слух:
/-ктк-/ /-ктк-/ /-ктк-/ /-ктк-/ /-ктк-/ /-ктк-/
ТЕКСТ, КОТОРЫЙ НЕ ЧИТАЛ ЯКОБСОН
значение вынажено, как кости мёртвой рыбы
выглодано
проглотишь –
смысла кость остра
смыкоос
И.Х.Т.И.С.
Бежит в горы вол, вырвавшись за гард
Ошибка в подсчёте голосов
хотелось сосчитать птиц по голосам
(например, гагар)
но я стала сочетать их
с вином, и различными дистиллятами из зёрен
с ягодным муссом, с кисленьким вкуусом
«перебои с продовольствием» – ты
занёс на страницы гроссбуха, а в скобках,
слева казалось число с точкой над каждой цифрой
Комментарий автор_ки:
Здесь попытка счёта птиц по голосам в итоге превращается в бухучёт некоего предприятия по их переработке для потребления. Горькая ирония неясной сцены, в которой женщина-натуралистка сбилась со счёта по голосам, не сумев различить и разделить их на отдельных особей, прерывается точным учётом её мужа: то ли охотника, то ли предпринимателя. Соответствие голосов и особей становится соответствием съеденных блюд в ресторане, где обычно приносят счёт. И там, где счёт голосов становится невозможен, остаётся только изысканный ужин.
Когда мы, наконец, возвращаемся к названию – а я настаиваю, что к названию мы возвращаемся всегда в конце (тавтол.), это не прямая отсылка к проблеме коррупции на избирательных участках (которые есть важный институт политической системы), но всё же это вопрос о возможности политики вообще. Такой политики, в которой животные являются активными и учитываемыми на уровне принятий решений при всех аргументах о несопоставимости их интеллекта с человеческим и невозможностью осознанно участвовать в политической жизни общества. Это фактически вопрос о видовых границах социума. Представить, что мы дадим возможность гагарам выбирать президента – они попросту не прилетят на выборы – будет смешной ошибкой. Но в этом всё и дело: животные исключены из сферы защиты их собственных интересов и для человекоцентриста являются своеобразными «ошибками природы на письме» (Ж. Деррида).
«когда следопыты, чтобы не говорить лишних слов, указывали друг другу кровь былинками»
вода в этой реке текла под песком
торн
живая изгородь
как описать эту лунную бледность и коричневое пятно
между строк свистят пули
выделил чуть пониже лопатки
реакт
вставкой сюжета
он уходит подранком
как свистит леска в надводной выське
разле́тистый рог
запоздалой крови дурнеющий вкус во рту куду
так благоухает дыхание телят и тимьян после дождя
и так же свисти этот разговор с тобой
которого больше нет.
«и как телёнок, который был призом, никому из нас не достался»
Комментарий автор_ки:
Это какая-то неясная история, где есть ненадёжный рассказчик, не могущий высказаться последовательно. Повествование рассеянно между выстрелами и чувствами, между убийством, и является крайней реакцией на журналистское, мемуарное, натуралистическое повествование Хемингуэя и его «Записок охотника», по мотивам которого и был написан этот стих.
ох
картины века иного пробегают мимо
стыдным инстинктом с быками
волами буйволами бизонами
и воспоминаниями солнца и его света
полесье за городскими стенами
и далее в пригород с красными от земли руками полевых рабочих
бадание саваны с пыльками растений
как они падают в световой столб
крики рёв фырк и топот
пересменка на му
караула каких-нибудь шотландских миссионеров
осевших с дорожками на кефирном стакане
винтовками в деревянном ящике
дублёными кожаными куртками
охотничьими шапками их козырьками острее церковных пикушек
рог неразличимых и вьючных ох какие мягкие
после заколки
становятся аксессуаром в стиле ретро
в волосах молодой японской женщины
и теперь
её деревянные сандалии в форме скамеечки
одинаковые для обеих ног
болтаются с высоких малайских балконов
стоят у бассейна на крыше отеля
стучат по кафелю торгово-финансовых центров куалу-лумпур
копом сади ряд ком или ход перевода животных
с маисовыми дикими полями зарослями на пастбища
подом дуй над ними долгих мыслями ям
огораживающих камней их насыпки
ох как же мы безраличны в панаме смотрящие в даль горизонта
Комментарий автор_ки:
Ещё один визионерский взгляд в прошлое, во времена какого-нибудь дикого запада, ещё не Дикого Запада Голливуда – когда бизоны носились тысячными стадами.
Текст, возникший в двучтении английского существительного «ox» и русского междометия «ох». Цифровая версия текста интересна тем, что благодаря кодировке можно увидеть скрытую разницу этих языков, скопировав текст в переводчик или редактор с включённым режимом распознавания орфографии. Русское «ох» – горе и сожаление, удивление мягкости заколки для волос / мягкости тела, обмякшего после заколки-убоя. И важна богатая семантика перевода английского слова, где «ox» – это и бык, и вол, и буйвол, и бизон, и баффало – разные животные.
Все еду
Поедание от езда – на санках ракете метро лошадях ли
Так поедают само расстояние, стараясь приблизиться к
Где еда, где нев едение, на тарелках ну знаешь
Куропатки лаваш суп рассольник и сахарный сок
Ста песков, двух клыков для едок
Я же хищник как волк
Щас поем напишу и поеду как заяц
Дом виднелся в едали
Через стену метели,
едь извозом сказали мне будет удобно по спасской
Мнеб брусчатки поесть, жëлтых отблесков, эти соскальзывают с гладких камней.
Недоеденное прошагаю в ботинках, которые есть просят
Подорожник в кармане сучит о ключи внедорожника 4х4 шоколадного лота с ярмарки мастеров за 6000 рублей
Комментарий автор_ки:
Думаю, здесь всё же важно обратить внимание на название, которое можно прочитать с мнимой «ё» и ударением на первый слог, и тогда речь идёт о телефонном разговоре и поездке, и с явной «е» и ударением на второй слог – и тогда речь идёт уже о пищевом поведении.
***
река огибала наш тихий городок, точно мол
точно молл
мол
мол, точно
и быстро пропавшая улыбка тонкого помолчи
вместе со словом, мол
её вспышка во время грозы озорила было
или стало невовремя разговаривать
Комментарий автор_ки:
Про реку, молл, грозу и то, что там случилось – не могу сказать.
земельные реформы
Доллхаус. Ирренхаус. Ирренанстальт.
Лунатик Хаус. Сент-Льюк.
Пансионы снов, лечебницы без лекарей.
Возведение Нарртурнера.
Паноптикумы Бриссо, исправляющие порчерк иглы.
Пирамиды Мюскине в экономической гонке.
Позорные столбы, элеваторы в лурь.
Бровадное небо Мартеля в изумрудной крошке.
Хрупкая поверхность, каверза причала.
В сатурналиях разума отливают зеркала будущих лаканианцев.
Тартюф сходит к Дидро.
Пенель затягивает галстук перед встречей с пляшущей смертью, плачет, смеётся, пишет донесения Людовику XV, сквозь года. Всё в отделении своем досадно.
Корабль кашляет дымным порохом, в спазмах трещат пушковые отверстия.
В одинокой темнице умирает Маркиз Француа Донасьён Альфонс...
Скрип уключины. Сена, Темза? Похотливый побой воды из темницы по мрачным каналам.
Бежит в горы вол, вырвавшись за гард.
Общинные земли разделяют на кусочки. Слепок ладони человеческой.
Напиток поска на пол.
Вот и память наша исчезает – подобно лицу, начерченному на прибрежном песке.
Комментарий автор_ки:
Текст «земельные реформы» начинался как заимствования из «История безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко – уж очень красивые слова для лечебниц мы (и французы!) когда-то выбрали – и продолжился уже образами из книги и фантазиями на тему прочитанного. Это провидчество, обращённое в прошлое, заканчивается знаменитой фразой Мишеля Фуко из его первой книги «Слова и вещи» (1969-1977 гг.), где, рассуждая о смене диспозиции современного мышления, Фуко пишет, что «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке».
Здесь также есть место животному. Нетипичное поведение для селекционированных животных считается чем-то вроде отклонения. И поэтому поведение вола, вырвавшегося за «гард» (ограждение), – это то же.
Мирабо пишет: «Какова цена человеку, такова и земле, гласит весьма мудрая пословица. <…> Создать человека из земли подвластно одному лишь Богу, но сплошь и рядом мы видим, как, имея людей, можно стать обладателем земли либо по крайней мере ее продуктов, что одно и то же. Из этого следует, что первейшее из благ есть обладание людьми, а второе – обладание землей». Земельные реформы XVI века в Англии стали одним из важных отправных пунктов в огораживании земельных наделов, создав условия для первоначального накопления капитала. Что, в последствии, более жёстко ограничило перемещения как «людей земли», так и животных. Огораживание земель и индивидуализация, кажется, удачно перекликаются с огораживанием одного разумия от другого, одного безумия от другого.
евооборот
развязать зелки на стебе́лях чере́д,
их пришёл – трехраздельных
тухшие коймы стихов
жёлтых пестков, мотри падаль оснулась
крылья стригут изнутри
уратно тящих секомых на гречневом жате
ле с сссссс гой-еси
буквы слёту паслёновым оком руятся
оклёвывает синие цинком обводкой
че́рты лица
ука-водянца в очерете тросничной осанки
вислом па
ервые квы, оранже́вые как
тыквы на оле здесь ноябрём фанатеют
калятся, ллеют, дарками ставятся
рочь с выми розками гут догоняй ахаха не догонишь
Комментарий автор_ки:
Текст устроен, на мой взгляд, проще остального. Работа с формой, усечение букв. Подобно жанру mambl rap, где слова искажаются, зажёвываются, чаще всего произносятся с быстрой атакой (см. time attack – муз. софт.), яркими, заполняющими гласными и съеденными, оборванными окончаниями, – так вот, подобно этому репчику здесь были проглочены начала слов. И это интересно тем, что оборванные окончания слов нам достроить легче, чем начала. Слова появляются из ниоткуда, но непонятное содержание можно извлечь как выгоду. А можно достроить. Ирония текста в том, что можно обрести некий «правильный смысл» – и это будет даже не издёвкой на всякую там изначальность. И получится такой пасторальный пейзаж: пастуха в нём не видно, но он подразумевается, учитывая моё отношение к животным. В нём осунувшаяся падаль проснётся, а «уратно тящие секомые» снова станут «аккуратно летящими насекомыми», где животные ещё не разрезаны, не секомы на столе студента биофака, где мы ещё сами не рассекли слово для нового видения жестокой реальности – этих животных рассекают ножами.
Осваиваем с маскотом лексикон современности
ОСВАИВАЕМ С МАСКОТОМ ЛЕКСИКОН СОВРЕМЕННОСТИ
*
надеждой
бракованный ржавчиной cхоронный/чёрный
фургон: кому – юрк, кому – рыск (хотя бы не ров),
о том ли пульсары молитвы, чтобы фургон не разбился в пути,
как колокол, фаршированный мясом, в отходной не разбился,
не разметелился
змеиными
языками
кромешно кочующими
миазмами (о!)
поэтизмов (ave!)
в мертвецкой-консоли пиксельной проседью кости кочуют – куда хорошо;
каином/скиммером будут cчитаны-сточены, будет скип – будет сток:
одождением мясо / одолжением deus ex
(аминь)
реноме: «неродившийся заяц под небывшим кустом»
**
(аминь) теперь и во мне – горит этот заяц
в дёготном чате – гордец – молчит, заяц,
неуклюжий в своем логовище настороже,
в тоннельном сектантстве устал: жечь
память, не подпускать волков,
хоть вольную система отвела,
как одиночество в –
вертеброю болящий куст –
шалящего мальчонку сгустком
так пусть
плодится обморок в чате цивил-вивисекции:
«ликующих животных вскрыть, что пахнут, как цветы»
…обсценные
и ведь на кусте-то вышел – цветок – хотите поправить:
то не цветок, но что не цветок – то зайца цап
вам в невод нейтралитета (на стене: неа-неа).
через поля повлекли: как увидевши, схвативши,
как схвативши – увядши, заяц полег.
у слепых свой заяц поёт теменем,
у немых в пальцах мёд c тмином ро́дит,
«да попить бы, – серый заюшка говорит, –
горю́ жить, большой уже, пока не заневолили
в невод нейтралитета (на стене: неа-неа).
к февралю надавить с полей водички не приторной,
а преториальной – как помню, территориально оседлой в норме,
а приторной кормности местообитания, тюремную жировку не хочу,
на клеверном поле неторопливый аллюр, кормовые наброды хочу,
планируемой даты доставки из мисочки не хочу и молока не хочу:
не клянчите, не клянчите, не квохчите нечищеной интонацией –
ни-ни-ни – не поеду в зверинец. если мы по любви – то в поля,
если с эксплуатацией бусин, глазок на клеевой основе,
носиков винтовых, плюшевых запчастей, ртов тряпичных,
что отродясь не было у нас – у вас да – у нас нет – то ни-ни-ни!
нет ничего нежнее, чем растерянный, чем нежнее ловить?
ловить – не нежнее, скопом пойдете ловить же, сами ободные
в бочку ловить и доить, да полоскать своих братьев и сестёр,
да распускать хай и по дешёвке скупать гнилую нефть,
чтобы держать её, как желчь, окаменевшей агрессией,
среди сердец других добрых –
вечное урчание печени».
вечный трон-флегетон.
***
• Ты ли слепень из дула? Вероятно.
• Ты ли смола на теле господского корабля? Несомненно.
• Промежная слеза при штурме крепости визави? О да, точно!
• Мосол молодящегося Сиона? Как хочешь.
По реке сплавляют кинжалы (и вода окрашивается заранее,
для обнаружения алого) – остроязычно выбрасываются восклицания:
– Лягни меня в голову!
– Сделай аминь с этим логовом!
– Скрепой пронзи бумажного велиара!
• Ты ли зудень в топорно кармане мира? О да, камнерезом.
– Почему тебе не допустить разрушение гор, что не
помыслимо?
Гор, откормленных, фаршированных вязким стыдом за
сосцы песка/вульвы камня за
огнивно скворцов, высекаемых бастардными лучниками/
выпекаемых в позолоте | разопрей в окне регистрации жа-рева
за-лазчиво
к лапам paisley прекрасным,
каплющих потом этим лапам прекрасным.
А из раны – в горе карамельнощёкой – льется имперски-стаутно пиво
названием «Коксохим»/косоухим гора откормлена, отпоена ли
монадой, из сферы Сатурна изъятие непорочной зайчатины проф.
промыслительно.
…и нет сыти пиющим, во,
гора-некева!
…и блуждает в горе голда перед тем, как разложиться, навсегда
ли?
Пугают зайца разрывом паха, стрела аккуратно,
в пору разлада просыпается рана, вся иерархия танкомольцев –
«Хоп-Хлоп!» – ловит единицу расстегивающего дождя-кинжала.
Ус-вьюн, давай равняться! Приложив изгибающуюся
сколопендрой молнию
к пляшущей вертикали.
Разруха приелась, но не представим или соревнование –
жалкий агон/разгон костей селью – промёрзло – доколе?
Клеть-крещётку не подпускать,
но соболезновать в лупанарии:
привносится волка контур как человечная сеть,
средовечно коей назреть и ячеисто проявиться,
ловушкой стать, мордушкой-подвохом – маршруты
входят в сон, подавляя боль собственным ритмом,
петлей «тирлим бом бом» накидываясь
на памятующее столпничество.
(Поэтому не стремись истребить падальщиков и расхитителей,
стряпающих набеги и дрыги, разграбы, загребы, разоры-и-прыги;
утаптывание плащаницы, срамное уплетание пшеницы.)
Стань, присмотрись.
К волку репьись, цепляйся старухой,
ведьмой прекарной, застрявшей на этапе
превращения и ставшей гребешком мщения,
внедренным под кожу и соревнующимся в росте с волосами.
Решётка растворяется и становится покровом.
[Волк-1] убегает с костью в зубах, становится пазухой, укладом нового тела.
[Волк-2] ничего не взял, но не следует и его выпускать из виду.
Когда отворачиваешься на чужие ботинки, [Волк-2] подгружает текстуры,
величественные картинки-гостинцы дрессуры,
обедно ощерив – то есть делиться?
Расскажи о своих:
о фейлах и флейвах,
о флейтах и околеях,
о шпажках и ноликах,
о жалках и коликах,
о кралях и лярвах.
Влюбленный палец, что не отошёл конвертом влюбленной, становится дылдой в кусте – нужен феромонным – вокруг бродные метки становятся картой.
[Волк-2] переведён этапом – в цветок,
открывай глаза и убедись в этом: уникальность волка вовлечена в цветок.
– Ты хоть знаешь, как он называется? Точнее ты помнишь?
– Волк становится цветком – на этом стоит успокоиться.
Тело твоё продолжает хлябью.
Не насытившись – не метят.
Тело твоё лежит и начинает портиться,
пока ведьма охватывает его, волка.
Фарширует паршивца.
Набивка отродья.
А теперь ведьма напротив,
но она ни о чём не помнит.
Она – лакуна маршрута.
[Волка N] вскрыли охотники, обнаружили в нём проход.
Кавернить коварного [N].
Холодом повеяло.
Они не увидели – ономаста –
тогда старшой среди них ладонью закрыл глаза.
Закрыл-открыл. Открыл-и-закрыл.
По пути он призывал шатию привязывать нити
к деревьям редким.
Делал вид, что вытаскивает кишки из нутра.
Тогда охотники двинулись в волке,
а самому малому нужно было иногда открывать глаза.
Малой вскричал: «Вижу!
Это волк сделал перед смертью. Костяной куст.
На его макушке женщина и куст раскачивает».
Повеяло холодом.
Откуда куст?
Вырос из гребня.
Комбо с розой.
*
раз было и забыто, что заюшку сверг
вертлявый цинический разум
и полем «завис-замри»,
и серые полки внутри
(откашливающей саранчово)
кочующей собаки (астматичной)
мидгардский (---) мильный язычище
облавно облаяла потентата
аки тать в чужой инвентарь –
зайка –
просится на площадь с ладонь
быть выпущенным пращой
(сравнением возмущён)
в больное пространство
.
..
…
или всё же
лёжем
на плащаницу –
белесину эпохи круглосуточных ларьков –
будет время ликопринятия ли?
вокруг же клиническая ликантропия,
грызут-сторожат, чавкают-лопают.
Эксод
EXODOS
аннотация:
битый час пространственных перемещений, необратимая мания преследовать простое сложным, время (не стучит стрелочкой часов, а планомерно расширяется и сужается в значении каждого конкретного словосочетания), время, являющееся паузой, движением, время, как мед с сыром, как рваный кармашек, ненависть к микроавтобусам, нехватка ночных картиночек; перечисление; перечисление, пересилить которое не кажется возможным; перечисление. жужжание. шум.
невозможность наворачивающегося пустяка:
шифр всевозможных значений, требующих расшифровки
интерес к несуществованию единственно существующего
обман осязания.
введение:
не мои значения (время, перечисление) ритмичны. раздражение электричества. наз(ы)вание – присвоение. неизбежность глаз, пальцев, мыслей. зачем бежать, если можно идти. нечто – нечто отсутствующее или единственно существующее. (не)выходность остановки. динамичное со стояние – иногда повод для гелиоцентризма. возможно ли прекратить луч; если да, то в каком виде?
текст с использованием одного единственного слова;
апогей;
отсутствие осязаемости одного единственного слова;
самоугнетение конкретностью и серьезностью;
поддержка и проверка
гипотезы.
сквозь огромное белое по-христиански врученное полотно проступает одно единственное слово. а я отхватила целых два.
если выходить сквозь какой угодно шум, coming back ощущается все острее. это самое тактильное ощущение притупленного восприятия.
оно это я
я непроверяемое
невверяемое себе
прорубь в синеву
чтобы увидеть лик
там где давление сжимает даже его
красная вода
впитываемость прокладок
не знаю я третье второе или первое
если объятия, то только трутовые
первая стрельба на полигоне
кайф и крутняк
если я не существую, то только утром?
материалы:
3 чокопайки с манго, 7 кружек воды, две сигареты, одна сломанная самокрутка.
методы:
напряжение челюстей. наблюдение, рассуждение, особенное отношение к словам соответствующим моим морфемным ожиданиям, паф, ос, ечк/очк, стремление высказываться через две точки.
схема:
гнездо
результат на лицо
глаза как пальцы
глаза как глаза
как пыльца
изношенность шарниров
линиями-полосочками
***
первое воспоминание:
сначала выстраивается свет – он в точности как последний слой картинки, только наоборот. не знаю, что дальше: смутные очертания комнаты, мысленное осязание оранжевых шерстяных ворсинок, глубина теней или чувство страха, которого ещё нет. но это не предчувствие. это ужас.
это последнее воспоминание.
первое:
желтизна обоев, рука со столовой ложкой пьянит (она выглядит так, как ***о**сь какого-нибудь художника на какой-нибудь ***-*****). тут же: ревность к лисьему меху, свежесть снега за воротником, неловкость хрупких пальцев и спутанность шнурков; голубой и розовый рыцарь – тактильность пластика; голубое шуршащее тепло и розовая полоска (или жёлтая?).
я встаю на коньки и я падаю, и я лежу, и я не встаю, и я сталкиваюсь лицом с камерой, чтобы вновь столкнуться со своим лицом спустя год, три, пять; чтобы другие зачем-то с ним столкнулись.
я не помню, как встану.
тусклый удар по кассовой будке стал моей первой тревогой.
первое:
бликующая гладкость камня, шершавость металла – гладкость металла. сустав уставшего пальца. это рефрен. оно...
первое(?):
модель солнечного света в смоделированном пруду (перемещение моего пруда туда, где*) в смоделированный летний день. смоделированный **** погружается в воду, маска (смоделированная), камень (смоделированный). последовательность монтажа: кадр – половина кадра.
вот пасмурный день (на самом деле, непонятно какой вечер). сидит (в углу на табуретке, поджав под себя худые ноги и полузакрыв сонные глаза) и смотрит на мужчину, ей хочется, чтобы он ушёл. а он не уходит и не уйдёт. (всё тоже смоделированное: и детство, и зрелость, и табуретка).
я склонна полагать, что это все солнце и его отсутствие.
меня тогда не было.
и я уже вряд ли буду.
*было/есть/продолжится в обозримом будущем
ещё одна попытка поисков:
пастеризация и шум за окном – синонимы
хочу нести фитнес-аэробику в дом
в коробке
и так каждый день не по разу
представляете
картофель.
пол**кание:
со стояние? но у меня нет желания совместно стоять.
пустое пр**транство разрывается от переполненн**тей. в нём нет слоёв. только
наоборот.
жёлтое пятно: чем дольше, я смотрю на него, тем яснее понимаю, что оно ярко-белое. это такой сине-фиолетовый сгусток. а каемочка искрится оранжевым и красным.
пятна нет, а искорки становятся буковками.
отказ: ярко-зелёный кружочек с розовым краешком может жить вне букв. он будет со мной ещё несколько секундлет. гаснет и размножается.
в черноте становится точкой.
do ale:
меня проходят в тысячи дуг. нет, недуг!
упрямых линий?
угадали – это рэп про акацию.
опять.
[¡¡¡]
опыт:
горизонтальное положение, руки на ширине плеч
на счёт 0 – вижу дерево трещин
на счет 1 – вижу ещё одно пустое пр**транство (ага!)
на счёт 2 – на счёт 0 на счёт 1
картофель.
трение треск электричесвто
моветон:
**ы к(ус)аются
похожи в своей
пол**атости
а я ведь все чаще их ищу или нахожу.
в 22.32 это не кончится никогда
вот-вот перестанет.
по запросу [¡¡¡] ничего не найдено
продолжение ухода:
роман сергеевич бурцев был достаточно скромным и тихим человеком, каких принято называть « ». в один из мартовских дней он сидел, как и обычно, за своим письменным столом. закатное солнышко светило ему прямо в затылок, и ветерок, проникший через приоткрытую форточку, предательски щекотал его простуженные сплетенные прямые ноги.
а день был действительно славный: под ботинками прохожих поскрипывал снег, ещё не почувствовавший весеннего тепла; дети с румяными щеками радовались концу учебной недели. казалось, вся улица наполнена шумными возгласами, эмоциональными разговорами тучных дам, любовными признаниями, словами радости и печали.
но роман сергеевич не обращал, конечно, на это никакого внимания. его взгляд стремительно протыкал белый лист, покоившийся перед ним который час, – он уже не смотрел на него, он смотрел сквозь. то, что он видел в этом "сквозь", может напугать и встревожить, я уверен, почти любого читателя:
вам, разумеется, интересно, что к этому привело. роман сергеевич, как уважаемый работник предприятия, был назначен ответственным за колонку (иногда ему приходилось писать статьи для заводской газеты, которую никто не читал) о выступлении хора на открытии нового цеха. он был там, вглядывался долго и упорно в эти юные лица. видел в них:
и он думал о том, что в этот момент в его глазах должны были блеснуть слезы, но они не блеснули. он ведь почти нашёл отраду отражения. а хор ушёл.
голоса на улице почти умолкли. часы равномерно ритмично одинаково тускло стучали, создавая особенную тишину.
наконец она была прервана скрипом с силой выводимых карандашом букв. он написал:
эксод
и больше романа сергеевича бурцева не было ни в комнате, ни здесь, ни где-либо ещё. только не думайте о нём больше, пожалуйста.
/пунктир/
ночные препятствия:
держу дистанцию
барьерную защит
рамка букв метал
лоискатель препо
на/дать по шее за
цезурные огранич
ленточками
но теперь-то вы/мы знаете/ем, что делать с этими ножницами.
19.52
темнота лесов пермского края
разрывается гипотетическим вяжущим оранжевым.
шуршит как моё отсутствие сна
слишком много земли под ногами.
19.57
стала ли я более оранжевой.
липкой.
все окружает меня мир. он в оранжевых пятнах.
20.00
сине-голубой, а когда белое - черный
20.07
сотрясение моих неудач
нет(,) неудобств
этот текст секси
20.12
это святое свечение?
меня ждут
там?
какого цвета секс?
почему-то холодного.
как снег на реке в 20.12.
между святым и мной один большой секс на скорости.
на обоюдном желании двусторонняя табличка открыто. реверс
– объем черноты
20.16
я человек-***
gesus's бэк
йоу – зелёное или фиолетовое
между йоу и сексом ничего общего
*** – это что-то между
20.19
подбираю себе работенку:
красно-оранжевый свет на снегу в 20.25 и чёрный лес
все это складывается дважды или трижды, а потом дважды или трижды вычитается. жизненный цикл прокладок неустойчив. это время проведенное между, где все такое out-буквенное.
результат:
плоскость где я
бросив все осунувшись
просыпаюсь
оставляю себе
скос осиновых веточек
остановочки
косточки жизненного цикла ос
линый хвост
анекдот:
гестапо обложило все выходы, но штирлиц вышел через вход.
***
9.33 слезы в мфц
слезть с кровати с божией помощью
алчное желание покупать плач
в полости рта невыпитый кофе
перекрыть все входы и выходы, пусть штирлиц выходит в промежуток проема
у матери на лице но
в отце говорит грусть недостач
поплачусь и
не отвечу своей подписью
на мифологизацию аппарата:
думать об одном единственном слове, когда есть только три буквы
думать о времени, когда есть только три минуты.
утри лицо предварительно закрыв шарфом,
клиент которого один черт не вызовут в окно.
***
коллаж окна:
огонечки
и женщина надрывается
говорит ему на твоей совести
огонечки.
я вижу первые высокие дома и, знаете, это не дежавю
это детский жеманный авантюрный югендстиль
это электродепо.
пусть соседи по спертому воздуху и дальше глядят на неполность и резкую рваность полосок ног. мне все равно, я уже чувствую завершение.
закатного пути рельсов, пути чёрных форм деревьев, пут и
это уже не мне решать.
в дороге в дороге так и не кончилась – я знаю, что-то свернутое разворачивается. ну типа из этого все и берет свое начало.
а я не беру
ответственность за мои гирляндные укачивающие ощущения:
убаюкали и разбудили – опять тратить деньги на кофе с кокосовым молоком.
н-ну да
в каждой буковке (моей) лоск треск оскал (моих) определений (меня).
***
ускоренно
мчатся ветвистыми кадрами
орио раскрошенное в кармашке зашитом
почковаться удобнее парами
оригинальные хорошие армянские сигареты по цене твиста в сугробе
в приторном подъезде дрались
подобием битых очков
целовались в овражке обе
я не вмещу в себя 10 людей
при том броско оробевших
пли! бедные...
рамиз рагибович, они только учатся!
покорные похороны снежных хлопушков.
***
касторовым маслом разлилось
сломалось.
сторожу.
мне мало стакана
так сто рот
мой не вместит. я унесу его с собой
и каждая каждая пророненная капля
острова злит
каждый каждый звук уловленный под
вызывает такси
и лает
лает
ае
каждому литру –
каждый я
дому калитка чур рук труха
я
каждый раз говорю:
ну чего же ты ждёшь мой дорогой
что тебе снится
***
засекай время когда мы!
когда мы
начали
сферический
фееричный
дует
сон в руку
касаться щетинок
обратное
пальцами пальцами
щёк
белая полоса чёрное небо мерцающее разрывает трёт трёт и
опять щетинится
нежность под разными углами
пилит стирает
меньше меня становится
моё карнавальное имя
в предвкушении полос
лоск воспаленности
гостей принимать устаешь
таяние я перемещений
шадоу
до конца промежутка два пальца
внимательных глаз мягких
звонки сквозь шум и пыль
меня
сквозь сон
гудочки гу
дочки гу ... у
совпадение получения и ожидания вибраций
внимание! опасный момент
колбаска колбаска
крутой виражж.
меня
леопардовых пятен золото убаюкало
сердечно очень.
Азбука брайля стрижей
***
когда ветер последний последнюю пыль унесет
я превращусь в тебя с хохолком красноватым
житель лесов питаемый черным воздухом,
чтобы вспышки разбрасывать всполохами
высвечивая окраины
все кто отсюда двигаться будут по окружной
увидят тебя перелетающим с ветки на ветку,
те кому лодки у берега звёзды напоминают
встретят тебя в ущелье у родника и скажут:
вот правда гнилого дождя
на кромке района где переполнены чаши почв,
где свечение птиц перелитое через край,
всполох зарницы и ночь проходящая громо-
отводами башен, и то как я превращаюсь
в спящего на пепельном этаже –
он хотел бы вернуться туда, где протянуто
небо над всеми скучающего подмосковья,
нет, не хотел бы, где течет в ячеистой колее
запах нашего мира и вспорхнет, на крыльях
струясь, дрозд или скворец
***
размолоты все выходные бессонницей
по островам и длятся потоками света
по черной земле: там прорастает зимой
скользящий и собранный шорох
поливальных машин на съезде внизу
у поворота реки
вот они все расстояния, изъедены
ночью тягучей, где поднимается пар
от перегретой воды, соединяет слюна,
любимая, нас как новый робкий огонь,
подсушенный треск, щелканье
вместе с нами горящего мира
смогу ли я сказать «мы» или все это
осколки, дремота и гулкие звуки,
и я стою здесь один, и мимо скользит
все что слышится в проводах свистящих,
когда ласточки падают на крыло
и тягучая ночь вот уже рядом
***
кто-то вроде дрозда
в полете крылом прорезал
тонкую пленку рассвета,
и сквозь ранку эту свечением
обжигающе липкий сочится
ток самой холодной зимы
по вымоинам густеющих
парадных, по увалам дворов –
я боюсь тебя, свет,
как ты липнешь к одежде,
перебирая корку
на памятных ссадинах,
как в рукава затекаешь
желтеющим ветром,
когда во дворы
мы возвращаемся
и уже не носим коробки
со светом по лестницам –
нас в коробках несут,
и мы светим сквозь щели,
молчим – го́лоса
не хватает на всех, на реки
текущие где-то внутри
под стершейся плиткой
сквозь лестницы,
створки лифтов –
только звук среди этого,
разрезающий день
на две половины,
тонущий в свете и сам
становящийся светом
***
покажи мне грудь из окна напротив и улыбнись,
превращение состоится, и они разойдутся
по своим сутулым квартирам
вечером летним: вот он стоит как ниша для себя
самого наполняемая душным светом
что бы хотел я: лежать рядом с тобой, замечая
как холодная кожа теплой становится
и – снова – наоборот,
как стучат молоточки
и с улицы влажным тянет пожаром
но в сумрачные сокольники
не проси я с тобой не поеду,
пусть даже пустили там
новый трамвай и деревья
вылиты за ограды,
выплеснуты на стромынку,
где никак не кончится
мелкий ремонт горизонта
переставляющий нас местами
срезающий свечи каштанов
посередине дождя
***
вот выйдем на улицу и в монотонный дождь
в его усыпляющий ритм, прозвучавший
томительной песней, мы все ей наелись
она – вся туннель из укрывистых звуков
как история наша, как дождь, как все те,
о которых мы никогда не узнаем,
и за Иовом 38 (температура), почти
не понимая, кто селится в устьях рек,
кто на цитре играет среди полостей
и камыша, играет на кеманче – и что
слышат они через почву: что́ урожай их?
мусор какой-то и стук поездов –
или это опять только стук дождя,
наконец-то вот он, и пыль прибивает
ту, что струилась до нас, что после осела,
и я, мокрой собакой, с ними, и лихорадка
от капели крыш как сон о предательстве,
о чистом речном стекле, что волочи́тся
над нами, и смутные горы видимы сквозь него
***
1.
как вспышки цвета вблизи
от котловины мира, как песня
из непонятного далека, она
приходит как высверки роз,
и тонет в усталом стекле,
там где ржавые корабли
навсегда разре́зали море,
и незаметно ссохлось
время среди равнин,
перемолотых ветром,
где я слежу у залива
за лоснящимся временем
загорающих, их ухоженных
женщин – там, где история
протянута плоскими крышами
в сладкий и черный покой, –
где контрабандисты
времени, все больше их,
на шатких лодчонках, и прорези
мо́ря сквозь переплески войн
как граница вечера над всеми
нами, рвущего души,
закат выжимая
из лежащих на берегу
2.
каскадами море
перебирает ступенями
напластований, за сколы
событий цепляясь
в котловине тоскующей
дождливого побережья,
где-то там на канале тающем
в отдаленье от порта,
где небеса глубже
чем выгребные ямы
у незаконных застроек,
где изнурительно чайки
прокатываются на волнах –
там любовь выползает на берег
в слизистой чешуе, в пульпах,
лоснящихся в томном рассвете,
и жду поглотит меня,
когда разгорится море
в семафорной дали,
но медлит, перебирает днями,
и я с тобой гальку пинаю,
слышу от запаха вод
прорастают дома и ямы,
и свечение, все его нет,
не разгорится над портом,
пока среди скал дождя
мы срезаны ветром,
его волокнистым крылом
***
азбука брайля стрижей,
щелканье в проводах,
оттяжки урчащих горлиц –
ты говоришь все это и есть
любовь или же жижа какая-то
на мешках с пищевыми отходами,
как светящийся ток
ход ее между рядами
люминофорной ночи,
что никто не подберет нас,
на берегу странноприимных холмов
и поросших мусором дач,
но наконец-то дождь,
чтобы вспомнить как заблудился
однажды на свалке
в прирейнской деревне
среди прямоугольного пластика,
его долин и предгорий,
и, объезжая все это по третьему кругу,
увидел сквозь блоки
как спрессована наша
подгнившая память,
как воскресения ждет она
среди музыки мух
***
я встретил его по дороге в буйнакск,
у обочины, пока варилась зима
в лощинах туманом, и не сразу,
но он рассказал,
как у камня двое кружились,
или это черные точки,
проросшие сквозь сетчатку,
когда горели леса и всех
заволокло
их прокопченным плачем –
как росчерк по воздуху
они, как немеющий рой
растекается по долине
складками воздуха, теплым лучом
на твоей раскрытой ладони,
когда подъезжаем и видно
движение стад как морей,
отпечатанных друг на друге,
чтобы лучше запомнить,
каким ты был в блеске
всех этих лучей
Отчаяние как невозможность
ER BEWEGT SICH DOCH
кто-то гав китоголовый ботинкоклювый
великан пеликанович
шапокляк
цаплеобразный и почти безобразный
зато
безотказный
африканец прямоглядящий голубой бинокулярный задумчивый
розовоглаз
куда ты новонёбный в поисках какого
неба
крокодилоед беспощадный вымазанный
говном
и пеплом стойкий как
оловянный
***
гулять у реки
с чужой женой беглянкой –
писать такие
#ДЕНЬРАДИО
полжизни провёл погружаясь над хриплым кофе
в функциональное поле пустых колебаний –
беспроводной передачи знаков и символов на неконтролируемые расстояния
посредством электромагнитных волн –
хрипел из заводской радиорубки
будил левитаном корпоративного радио клерков транснациональной компании
и в какой-то там космос
валился как шорох
так и теперь – только с голоса так же –
без перерыва
***
М. Ш.
ты неуязвима как натянувшая лук
выгнувшись клокочущей в ледяной рубахе на весь параллельный алтай
непобедимой хордой
призывным гонгом на бой альфой и омегой всяческой песни во славу
пробуждения
схватки без устали задыхаясь и
ахая
***
скелеты листьев всплывают из-под воды
помутневшие стёкла серых историй
выуженных из речки умирающего леса
прячущейся от близоруких глаз
обречённых на вымирание теряющих всякие свойства
существ всё меньше поддающихся определению
вымываемых из очертаний
уже прозрачнее прозрачнейших
КОРШУН
расправив матерчатые
точнее хлопчатобумажные или скорее
пергаментные
а может просто крашеный сепией рельефный картон
но точно не бумажные полотенца
промокательную бумагу
он выписывает геометрические фигуры
охоты за лёгкой добычей
наблюдая с неба цыплят во дворе у реки
воздух его держит в щепоти
водит кругами так что кажется что тот
планирует самостоятельно почти невесомый
и совсем как настоящий
действие о котором когда-то говорили парит
как маленький мальчик водил в пространстве
бумажный самолётик
преодолевая сопротивление ревущей материи
бестелесного ужаса
свиста неистовых
задувающих в уши всё что услышали
на той стороне
***
серое солнце субботнего полдня
август зевает
смотрит в окно вдыхает пряности жаркого лета
отдающие лёгкой гнильцой
киснущей паданки листьев и влажной земли
тянутся ровные тени по бордово-бежевым плитам
от сохнущих тополей во дворе элитного комплекса
с охраной на въезде
вертлявыми камерами по периметру
отгороженного забором от остального города
от городских оборванцев алкашей с района сельской голытьбы
притащившейся ни свет ни заря на попутках
мальчик толкает качели с маленьким мальчиком
с очень прямой спиной и худыми плечами
в которые тот ушёл с головой
с нахлобученной по самые уши бейсболкой
вцепившись в поручни
но вот их окликает мать из окна на седьмом этаже
и старший отважно тормозит движение твёрдого в воздухе по опасной дуге
подаёт младшему руку
и тот прыгает на землю задержав дыхание
а когда они бегут к подъезду
над их головами проплывает тяжёлым урчащим шмелём самолёт
с тем кто пялится на них полузакрывшимся глазом
в иллюминатор
ЛЮБОВЬ?
для кого-то может быть и свистящее на сквозняке существо
в лопающемся от света шелеста бульканья лепета
пузыре надувшемся до изнеможения
дрожащем в тягучих коленках
с приторно скользким сосущим под ложечкой бесконечным падением
разгорающимся во внутреннем зареве сиропа
а для дикарей из парусиновых восьмидесятых
ревущая в марте
худая обглоданная гнидами ободранная когтями
со свисающей серыми клочьями шерстью
разевающая чёрную пасть с гнилыми клыками
шатающаяся от ненасытной тоски
помешавшаяся от бессонницы медведица
которая тем и жива что вломилась
в сарай на окраине
и давай драть орущую от ужаса выпучившую глазные яблоки гадящую
под себя корову
разрывать брюхо вываливать коралловые кишки
выламывать рёбра крушить хребет
вгрызаться в бьющуюся током
колотящуюся в предсмертном ритме похлеще твоих буйных шаманов
тушу
галлюцинирующих по континентам
между видимым и невидимым твёрдым и текучим
ледяным безвоздушным зависшим в состоянии невесомости
и грохочущей о барабанную перепонку горошиной
единственное что не даёт взорваться зарёй помешательства
шмякнуться о тугую тоску
гудящую в тебе стеной
зажмурив глаза раззявив рот со всей дури
всмятку
***
весь день всё валится из рук
не понимаю ничего
а это прекратился звук
а это из куста без рук
вывёртывается нечет чёт
и так вот-вот и ну качнёт
не понимаю ничего
как вот из этого чего
весь день всё валится из рук
выпрастывается лицо
9 июня 2021
ПАМЯТИ В. Б.
***
медленно
без боли
выходишь из пор
разинув рот
как пар
без малейшего запаха
единой капли
стыда
за то что с нами было
что стало
раздуваясь самим монструозным с пустыми щеками надуваясь месопотамией
вот только кто это
из нас
ты это
или
я
ОТЧАЯНИЕ КАК НЕВОЗМОЖНОСТЬ
в дверь прямиком вот и увидал
отчаяние шевелящее губами
и огнь разумеется лазури
как эхо и невозможность
произнести то что никогда не было произнесено
ни той
в намокшем платье обернувшейся на полсекунды
в ослепительном повороте оконных
ни кем-то ещё
по крайней мере в пространстве мысленно обозримого
вслух
ЗА ПРЕДЕЛАМИ БУБНА
у нас за окном настоящий нью-йорк
почему нью-йорк
потому что скулит как нью-йорк
приговорён к расстрелу
истошно заходится в вопле завывая сиренами бьётся тревогой в вертикальные
стёкла и сталь
долетает до нас
а мы на шестом этаже
пялимся в панорамное окно бутылочного цвета
что твой человечий аквариум
и хоть бы хны
повседневный и всенощный голливуд
для тебя и меня
зайцев с оборванным ухом
пухлым носом поводим туда и сюда
подёргиваем подбородком
подрагиваем губами
и вдруг ни с того ни с сего визг во всё горло
на радость лисам и совам
лунным собратьям и прочим парящим
лупящим что есть сил по барабану на весь неосязаемый
космический
барабанящим в бубен бесконечного звука
выдувающего всё что под силу увидеть и осознать
и всё остальное
лепящего самим же собой всё что слепить невозможно
разве что
слыша как будто бы там за пределами
бубна
всего что гудит за пределами этих пределов
там
где нет ни пределов ни звука ни бубна
ни
конечного ни бесконечного
а только протяжное О
выпуклым знаком
незрячим
но
ни кольцом ни волной ни лучом
гнущееся
как выдуваемое
АЭРОДИНАМИКА
вращается вьётся цепляется не разжимая рта
эхолотом взвинченной ноты
уже сорвавшись в смертоносный вихрь
над ошеломлёнными брусьями
глотает всё что швыряет упругий живот
загорелого воздуха
пуляет планета
выблёвывают законы физики опрокинутой турбулентности
круче невидимой пляски айфона
невозмутимая 1.00
разлетевшаяся под монреальским куполом
в предчувствии тех кто внизу
маленькая румынка подстреленная из водяного пистолета
ради сожжённого старбакса сэндвича с тунцом
МАТВЕЙ
перезимовал в правой ушной раковине
отоспался свалял из серы кафтан и вывалился
во время утреннего чаепития
в ту самую секунду как некто подносил ко рту чашку с выщербленным краем
и шевельнул челюстями
всю зиму и половину весны
набарматывал свитки полуслепых шуршащих речей
книг
ворочал по ночам скрежещущими желваками
перемалывал непроизносимые максимы
куда он делся
или замучили сквозняки
со свистом протискивающиеся в катакомбах слуха тужащиеся
от собственной сиволапости
мужские жуки чужих звуков
или убило то что любимая взяла привычку шуровать в ушной раковине
ватной палочкой
раковина опустела
мёрзнет на солнцепёке
и асбест как белая комната с пустым окном
без рамы и стёкол
набухает пыхтя
выдавливая любую возможность матвея с его шебуршанием
шорохом
сухими речами
о чахлых
и трепыхающихся
***
всегда есть только один пейзаж где особое расположение
зловещих оранжевых огоньков
какого-то отсвета
мягкой гряды уходящей под изнанку то ли облаков то ли светлых
расплывающихся чернил
и едва уловимой гармонии встревоженных гор
или скорее иллюзии гор
заставляет скакать из стороны в сторону
по площади
в ту же самую минуту внезапно рушащегося города
всё время держа в уме пронзительную мысль отыскать ручку
и белый лист бумаги
а может смартфон
чтобы записать это особенное расположение элементов
или хотя бы сделать снимок гибкого ребуса уходящей натуры предвещающего
то
что уже происходит
– вот прямо здесь и сейчас –
на глазах толпы мечущейся от одной падающей стены к другой
посреди которой мечешься
и ты
толкая в плечо девушку со странно знакомым обрезом каштановых волос
отшатывающихся в испуге
то влево то вправо по едва различимой
шее
уберечь от летящих обломков которую становится вдруг важнее всего
в центре этой внезапно возникшей декорации
кидаясь из одного конца площади
в другой
осознавая в последнюю запомнившуюся секунду
что главная опасность
разверзается
– прямо сейчас –
под ногами задравшей головы кверху толпы
***
набухло дикими чернилами
и расплывается на сером
а снизу свет ошеломительный
с оттенком терпкого
и рвётся речь оттуда хмурая
невыспавшаяся и чужая
и вдребезги потом о веки
о дребезжащих
и если вдруг пробормотал
то что нахмурившись сияло
то это самое что есть
и большего не скажешь
Слои пробелов
СЛОИ ПРОБЕЛОВ
Ключевые слова:
Блоковое фрагментарное письмо речь язык
Фрагментированность
Уловлен и Фрагментирован
Фоновое константное давление травмы
Монтажность
Витражирование: витражированность
БЛОКОВОЕ ФРАГМЕНТАРНОЕ ПИСЬМО РЕЧЬ ЯЗЫК
Блок#1: политика
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, государство
Фон раскрывается как звук проезжающей за спиной машины.
Почерневшее напряжение дождя.
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, религия
Фон закрывается как звук проезжающей за спиной машины.
Асфальт под ногами. Грязь как заблудившееся животное.
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, civilian
Ла-ла-ла.
Ни сумерки. Ни буря. Ни визг тормозов.
Всё вместе.
Блок#2: Personal identification
Что? Что? Что!?
Скорость чего-то невидимого подавляет зрение:
нахождение внутри
цепляется за кожу (ветер) за чувство земли (шаги)
Суммируясь звуки обоих: шаг-ветра:
порыв: держать птицу взглядом
Закрывая глаза: равенство тела останавливает
(делает видимой) речь как цезуру
Блок#3: гос
Служивший в рядах Советской Армии (отдавший долг):
тошнота-госа
врач трахает
учитель мастурбирует
учёный инцестирует
Мы можем быть речью после речи другого: <чтобы повышать от реплики к реплике тон, как в древних стихомифиях, ведущейся вплоть до финальной какофонии (сцена с клоунами), обнаруживая своего рода удовольствие>
Признать свой пепел. Клоун срезан. Твоя свобода осуждает тебя.
Блок#4: живот
<Мир был галактики придуманная плоть. Смертные.
Что теперь думать? Думай простая>
Чередования разноритмично удерживают напряжение
разделённым Poetry makes nothing happen
Чтобы говорить о смрти
Блок#5: война
Давай о пафосе поговорим тайком
Нашёл приём: ищи где и как его сломать
Остаточные структуры
Спазм сбой вывих инерции
Хромота голимая вставка
Здесь около моря есть упоение ветром
Здесь около ветра компартментализация
Дроны отшельничество войны
Порнография как искусство
Надкусив я форма и агорафоб
Блок#6: ЧТО
Вещь приди: вещь приди: вещь приди
Идиш иврита Идиш иврита Идиш иврита
Блок#7: удар
Он входил в него сзади когда мы вместе смотрели в окно
Около выстрела место без вдоха и выдоха Онтогенез
За окном по’езда проносили или проносилась
не знаю как правильно сказать
пропозиция или оппозиция никак не могла стереть нас закрывающих глаза
Мы справились сами
Блок#8: Personal identification 2.0
Скорость боковая фрагментарность
Мнемонические острова
Мнемоническая ось
Клаустрофилия
Вокабуляр лексикон амфибия
(Фон раскрывается как звук проезжающей за спиной машины)
чего-то межстеклянного
ФРАГМЕНТИРОВАННОСТЬ
Блок#1: политика; время
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, государство
Фон раскрывается как звук проезжающей за спиной машины.
Почерневшее напряжение дождя.
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, религия
Фон закрывается как звук проезжающей за спиной машины.
Асфальт под ногами. Грязь как заблудившееся животное.
Где-ты? где-ты? где-ты?
Я обращаюсь к тебе, civilian
Ла-ла-ла.
Ни сумерки. Ни буря. Ни визг тормозов.
Всё вместе.
......
Каждое движение от: должно самокомментироваться
Самоконтроль: вестибулярная политика: преддверие: всегда отрез'ать то что быстрее
Самоизоляция: зонная защита; контроль периметра;
Например. Мне кажется Паунд писал так: начинал первые несколько строк стихотворения: потом мастурбировал: потом заканчивал 0 текста
Блок#2: Personal identification 3.0; время
Что? Что? Что!?
Скорость чего-то невидимого подавляет
зрение: нахождение внутри
цепляется за кожу (ветер) за чувство земли (шаги)
Суммируясь звуки обоих: одежда-погоды;
шаг-ветра: порыв: держать птицу взглядом
Закрывая глаза: равенство тела останавливает
(делает видимой) речь как цезуру
......
Сброс защиты. Далее без.
Того кто вместо. Того кто вместо. Того кто вместо.
Замкнуть литанию. Когда уроборосы сойдут с ума.
Фрагментарность. Семантический бросок. Код вмёрз в замо́к.
То есть расширен твёрдо-пластичен вплавлен.
(ей снилось что она идёт по чистому нетронутому одинокому
городу: только все припаркованные автомашины треснуты смяты нарушены Все)
Она чувствовала открытость их и своего рта
Блок#3: гос; время
Срок паспорта Срок визы QR-код
Здесь мы работаем внутри элегии?
Здесь мы работаем внутри элегии?
Здесь мы работаем внутри элегии?
Флейта Фон Горло
Продлённое параллельное место сломать Илиаду
Блок#4: живот; время
Когда тебе на живот кладут отрезанный крик
Окончание боли смотрит на беззащитность сквозь
Ложемент траектория воды льда истончается или
материнство саспенс тишина зонги
Блок#5: война; время
Время которое не сейчас А станет цитатой
Цитадель Скорость фрейма
Сейсмично частично революционно
То есть мы внутри в центре в цейтноте урагана
ось-флейты
Блок#6: ЧТО; время
Разговаривание против пейзажа против горы против ландшафта
<Мы возвращается в только что вырытые ямы> пещеры проколы
Инернализация vs экстернализация
Проекция вечернего после-рабочего голода
Стансы музыка амфетаминовые барабаны
Оторванное хочет быть хорошим рядом вместо но
Одна идентификация говорит другой идентификации: стоп!
граница отдалённого грома уже-насквозь-наречие
Блок#7: удар; время
Факт Потенциальности Рефлексия
Ветер истощён пальцами на оконном стекле
Поглощённая структура разгоняется выбрасывается назад на улицу в сумерки в подпевку в хор
Симулякры хорды транспортные узлы
Ты боишься обернуться Ты голодна но не можешь поесть
Избыток vs недостаточность
Избыток внутри недостаточности избыток
И можно не касаться проникая
Я: кино: оммаж: распоясан: то что между
неприкасаем и наморожен
Отпечаток ладони на стекле элегически отделён от капелек холода на острие касания твоего плеча
Блок#8: Personal identification 4.0; время
Другая идентификация отвечает другой идентификации: вперёд! вперёд? вперёд!
Словно нам ничего не остаётся кроме режимов сексуальности
Выставленные наружу: они пепел_всех_вещей
Отменёные: они pro bono
Черта за которой порнографировать это
опережение выравнивание властвование контроль
внутри пустоты (но обретая зрение тело речь)
<Всё было запутано Всё было запутано Всё было запутано
Отказавшись от секса вчера с тобой я не хотел
Прости
Но после всего этого
Мне стало ясно что Опережение внутри пустоты
: (с)держать речь вакуумной сообнажённой недоступной
госам-имманентности>
УЛОВЛЕН И ФРАГМЕНТИРОВАН
Блок#1: политика; пространство
Где-ты? где-ты? где-ты?
Выпасть. Вывалиться в падежи. Отпасть от существительного. Не отпадать от существительного меняясь на конце. Трогать границу. Трескаться губами. Поймать тавтологию. Поймать тавтологию немного скошенной. (как руинированный скошенный луг). (по разному острый и звучащий внутри).
Блок#2: Personal identification 5.0; пространство
Что? Что? Что!?
Усталость как мера всех вещей
Не то чтобы эти простые рас_стояния опережали
выравнивали властвовали контролировали но
эти зазоры позволяли
содержать гору ландшафт фон
между двух оконных стёкол (стен параллелей)
замкнутыми в: раздет и нарисован
(: запомнен чтобы забывать и нарратив-цезуры-это-сумерки)
Блок#3: гос; пространство
<(с)держать речь вакуумной сообнажённой недоступной
госам-имманентности>
…….
А потом утром он приносит тебе кофе
Когда вы договорились максимально долго не выходить в эфир
выключив телефоны вай-фай и вырвав дверной звонок
(включив тела)
Никто не должен нарушать смрть скорость вакуум
Линии должны протыкать тело безречье бевременье
тонкими тихими босыми
неприменимыми отложенными резкими
Чтобы затошнило от восторга тишины удовольствия
Чтобы захотелось немедленно уйти зная что
захочешь возвращаться вселенную наощупь но
обязательно <нипочему>
Блок#4: живот; пространство
Рассматривать всё снаружи (перебирая протрагивая скользя)
Блок#5: война; пространство
Блок#6: ЧТО; пространство
Блок#7: удар; пространство
Блок#8: Personal identification 6.0; пространство
Рассматривать всё снаружи: Блок#5: война; пространство
Перебирая: Блок#6: ЧТО; пространство
Протрагивая: Блок#7: удар; пространство
Скользя: Блок#8: Personal identification 6.0; пространство
То есть: твое лицо прекрасно: и оно сейчас только моё:
мой снег
мои паузы между ним
мои следы
Мы оба впроголодь-осознаны
Блок#5: война; пространство
Другая любовь возникает накладываясь на первую
Потом начинается <ещё>
Слои это калька моего дома
Каждое пространство (вид) сверху загромаждено
содержит следующие и предыдущие
протыкая
Я: внешняя
Я им: внешняя война
Я: сама фон
(они не знают что их так много что слившись они почти
неразличимы слепы наобум)
Они моё зрение руки звук забвение
То есть трое первых достаются через/сквозь последнее
Блок#6: ЧТО; пространство
(и последнее постоянно)
Блок#7: удар; пространство
Я избил тебя и ушёл
(Ты почти не сопротивлялся)
Я не мог больше смотреть как ты покрываешься амфетамином
Ты просил ещё
Мы оба рвали пространство
(Инернализация vs экстернализация)
Но один наружу: другой внутрь
Граница рвала рты обоим
Блок#8: Personal identification 6.0; пространство
То есть один постоянно был фоном другого
Граница рвала нам рты
(отражение одного фона от другого/ далёкая молния/ после-гром)
(но они всегда возвращались: тот кто приходил первым боялся
ждать тот кто приходил вторым боялся что он первый)
Обоюдное запаздывание росло как цезура цветка
ФОНОВОЕ КОНСТАНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТРАВМЫ
Блок#1: фоновое
Когда фон приподнят над землёй: туман/ пепел погоды/ взвесь/ остатки речи/ температуры/ низкое безветрие
Когда фон внутри земли: эвридика просит фракийских менад: расчлените его
Когда он исходит из земли: у неё есть собственная зима; сброшенная на землю радиация совмещается с решёткой молекулярного; мы ходим внутри неё; такой фон медлителен долог вездесущ; застрявший в ней тромб песок кашель отталкивается заражает вскрывает
Когда я локальный фон: мой любимый оранжевый цвет неба преобразуется, размывается, светлеет, отходит на задний план; что-то предъявляет себя как кусок светло-жёлтого, отломанный и выброшенный; как трое, медлящие в наслаждении
Я чувствую что меняюсь; но не только внутри силы мощности импульса погоды цвета; а по способу производства границы-удержания-пейзажа; фоновое тело распределяет факт такт реальность удар по приготовленным ложементам ризомам упреждающе-безэмоционально
Инструментальность наших с тобой встреч внутри революции внутри любви внутри нелюбви вдавлена в первое
(и оно постоянно)
Блок#2: константное
Когда фон приподнят над землёй: туман/ пепел погоды/ взвесь/ остатки речи/ температуры/ низкое безветрие
.......
<В этот момент мы пятно цвета и цветение>
Капля за каплей
<Продырявленные транскрипции>
<Твои пальцы источают пунктуацию как мои синяки>
Текст формирует первоначальный разрез
Блок#3: давление
Уменьшим давление
Удалим слои
Оставив ссылки сноски в интернете
Калька станет чище
Длинные сокровища: Когда фон внутри земли: эвридика просит фракийских менад: расчлените его
Когда он исходит из земли: у неё есть собственная зима; сброшенная на землю радиация совмещается с решёткой молекулярного; мы ходим внутри неё; как фон медлителен долог вездесущ; застрявший в ней тромб песок кашель отталкивается заражает вскрывает
Короткие сокровища: <дай мне наложника который украдкой наполнит моё уединение> усердие
<здесь и сейчас мы собрались у границы, спросив пальто и обувь>
бежать босяком утопая в чернозёме
Геометрия ландшафта разворачивается чтобы говорить с нами о
хроматике
цвете краски
близости медовых сот
<лабиринтах белого шума>
вымытом винограде чтобы раздавить/раздавать/раздвинуть зелёное
Сними кожуру
О, этот запах
почти неслышимый
когда ты облизываешь изнутри
Отпущенное давление открытой плоти
Я кормлю тебя утерянными метафорическими вещами и мы начинаем на пустом месте
Блок#4: травмы
Когда я локальный фон: любимый оранжевый цвет рассвета преобразуется, размывается, светлеет, отходит на задний план; предъявляет себя как кусок светло-жёлтого, отломанный и выброшенный; как трое, медлящие в наслаждении
Я чувствую себя не только внутри силы мощности импульса погоды цвета; я способ производства границы-удержания-пейзажа; фоновое тело распределяет удар по приготовленным ложементам упреждающе-безэмоциональным
Инструментальсть наших с тобой встреч внутри революций внутри любви внутри нелюбви вдавлена в последнее
........
Будто мы натурщицы которых можно рисовать трахать рисовать кричать молчать не рисовать бросаться краской с кисти размазывать краску по медленным телам: рисовать исправленное настоящее сопротивление
которое настолько статично что может разворачиваться внутрь сдвигаться внутри цвета
МОНТАЖНОСТЬ
Блок#1: Годар
Я больше или меньше чем травма?
(я больше не могу оттуда брать)
Эта неуверенность случается по десять раз в день
: <всё это изменяется через запутанность>
Ей снилось что в моду вошло повальное увлечение носить на шее на цепочке в фоторамке репродукции картин сообщая во всеуслышание своё место во времени настроение отвлечённость от вчера сегодня завтра проникновение в завершённость остановку в чём-то отброшенном но ставшим понятным несказанным но вчитанным в тело
Будто это защита беззащитного скорости времени лица от чужого пространства; будто мы другой слой картины; будто мы полонии из гамлета; будто они уничтожали время внутри тела;
Позже когда мода капитализировала идею и одежду стали выпускать с прозрачными карманами для фотовложений: стали популярными фото из кинофильмов
Помещение внутреннего контекста внутрь выдуманного но общего нарратива создавало серые зоны общего смысла; одно время пропущенное через другое запускало разворачивание бесконечно новой ментальности
в которой работа обмена смыслами производилась на уровне предположения слов внутри зрения (зрение-речи-вбито-в-войну)
……..
Пребывание среди людей представляло собой постоянное считывание классических образов внутри реальности: каждый день хаос взламывался ключом-точкой-дорогой-проколом-иглой-пикселем-разматыванием-развязыванием-концептуальных-узлов
Блок#2: Тарковский
Тавтологичные до неузнаваемости они пытались вскрыть время они резали день и ночь они резались зеркалом и ностальгией но крови не было была зеркальная меланхолия
Тогда они взялись за смрть как за форму речи;
чтобы говорила разбитая ваза
Блок#3: Фассбиндер
Еб@ть революцию еб@ть
Соединяя мелодраму с политикой
Получить околореволюцию
Точное ощущение времени никуда не вкладывается просачивается сквозит Меняет планы партнёров меня скользит не прилепляет льёт через границу тела кино философии Европы Berlin Alexanderplatz это моё самое любимое время между войной и развивающимися точками несобственно-прямой речи
<Но вот его комната. Ничего и никого, никто не заглядывал. Даже Настасья не притрагивалась. Но, Господи! Как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре? Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы>
Двуакцентность
Переход прямой речи в косвенную
Аналитическая косвенная речь
<Она спросила, не хочет ли он чаю>
Отделённые друг от друга события вещей и персонажей собраны вместе но не образуют ничего кроме линейной невнятности/ улиц внутри дождя/ мокрых будто стеклянных почти бумажных стен/ перевходящих друг в друга но/
вложенные городу в рот афазивны противофазны эвфемичны;
находясь с разных сторон дождя
Блок#4: Линч
<пиксмания> –
деревья, текущая вода, кофе, пончики, совы, утки, огонь –
деревья, текущая вода, кофе, пончики, совы, утки, огонь –
заставляя читать то есть видеть речь напрямую: научиться уворачиваться быстрее чем язык успеет распознать точки прикосновения глазницы
вдавленная в себя пустота
сохраняет обе силы и функции:
смять сместить подавить сопротивляя зрение;
двойной прорыв ищет надстраивает новые внешние слои поверхности которые вспоминают как несколько лет назад шла через декорации чувствуя то-чего-со-мной-не-было но стало мной: (когда я сейчас перечитываю текст: я: новые маникюрные ножницы в блистере): избыток скорость упреждение наших метафор должны (?) помогать защищать сцеплять но они лишь мастер-погоды: сначала снегопад а потом повтор-пейзажа
Блок#5: пустой кадр
Время пусто но
Я больше или меньше чем травма?
(то что станет внешним будет отражать защищая
внутреннее)
Мерцающие руины: пространство проваливающее
время
Мерцание: это внутреннее или внешнее?
Что у мерцания внутреннее а что внешнее?
(вдох или выдох)
(свет или пауза)
Будто исчез не вопрос а первопричина
вопроса
Будто тебя одновременно одна девушка трахает а другая
душит надев пакет на голову (какую ты запомнишь захочешь заполнишь?)
Блок#6: сериал
Терпимость tempus мост висок стояние над
протекающим через ландшафт;
бегство тебе за спину
Приступы языка лишь слабли запутывались тормозились на краю
Любой вечер это глубокая манипуляция (я люблю манипуляции)
Скорость тумана (или скорость туманна?)
Главное время: время перед разрывом
Мы проводим его ходя не по льду а уже по выступившей воде льда
Эта глубина давно стала осознанной, зная где и как нам хорошо
Вечером мы почти не чувствуем ног
Скорее они чувствуют нас
Нет-нет-нет, сны здесь вовсе не главное
Сильные они лишь наяву
Где медленный разрыв позволяет себя трогать
Но внутри разрыва мы больше чем разрыв
Попытка внутри сна медленно проанализировать
Почему ты снова во сне не можешь убежать от преследователя
Погоня стоит невдалеке и ждёт; потом подходит и начинает избивать
Ты продолжаешь анализировать внутри того чего не бывает на самом деле
<вечерние сериалы это уже сны
утренние новости это всё ещё сериалы
дневное обеденное чтение это сериалы о снах
Я знаю: он думает что я снова думаю о том
какие красивые у него ключицы
но я думаю: разводные мосты это искусственные разрывы
свеча в <ностальгии> Тарковского
Мне всегда казалось что он должен исказить лицо
оскалить зубы помогая огню
Но он просто шёл от решённо
Я же говорила:
метафоры только мешают видеть>
ВИТРАЖИРОВАНИЕ: ВИТРАЖИРОВАННОСТЬ
Блок#1: собор
Куски тела всегда будут ртами скорости света
Работать по всему полю смыслов
Пребывание среди людей представляло собой постоянное считывание классических образов внутри реальности: каждый день хаос взламывался
ключом-картой-полем-ландшафтом-фоном-лицом-витражом-плоскостью-ветра
Блок#2: дом
Место где время замыкается
Это такие прозрачные корни в которых нет времени
Если соблюдать одиночество
казнь прозрачных витражей
жечь прочитанные и написанные книги
ничего из вещей никогда в доме не трогать
играть в музей имени эмили дикинсон
Блок#3: смартфон
Работать по всему полю смыслов
Пребывание среди людей представляло собой постоянное считывание классических образов внутри реальности: каждый день хаос взламывался
ключом-картой-полем-ландшафтом-фоном-лицом-витражом-плоскостью-ветра
........
Убить ленту соцсетей: требовали они; линейное время нужно предать забвению; картина мира должна быть многоточной; лоскутность карнавал шкловского да уничтожат выделение/выведение одной идеи на первый план;
пусть витражи трахнут госы
Ей снилось
Искусство как приём. Приём, последняя революция! О, отшельничество-агонии: когда нужно писать поэтические пьесы; напряжение философии в поэзии державшее верлибр иссякло; дадим слово додекафонии личных прямых и косвенных высказываний; и да здравствуют маэстры Стравинский, Чехов и Ономатопия!
The iggle squiggs trazed wombly in the harlish hoop.
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
«Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!»
Структуры ставшие человеческими
(обогнав или обогнув психоанализ)
ждут подыхающие от жажды над нашими телами
каждый божий сумеречный вечер
Сильный-огонь говорит: я не хочу возвращать к силлабо-тонику.
Слабый-дождь отвечает: меня тошнит от джаза. И метель
за окном.
Занавес горит.
Блок#4: фото
Слово ищет образ или образ ищет слово; палиндром-смысла; раскачивая маятник зрения, чтобы речь заканчивала зрение чтобы зрение заканчивало речь
Раскачивание серого означающего
Мне нравится звук вещей разрушающихся вокруг
Мы знаем лишь то что говорит тело: алеть: отвратительно алеть: точно случайная рифма ломающая место зерна: Мы знаем лишь то что говорит тело
Вопрос имеет отношение к идентичности
И сто стен истончаются И наши имманентности тошнит И форма слов: шар И роза повтор розы И что?
Идентичность продолжается
Всё что нам нужно это изящество
Всё что нам нужно это что
Всё что нам нужно это что
И рука пишет: это война
И чеченец ходит с пулей во рту
И пуля торгуется
И уличная торговка всё милее тебе показаний внутренних дел
Слышится Глокой Кудре
Всё частичное во мне собирается в общее
Листва вмёрзшая в лёд
адресована многослойна фонит
Фонит трескается след
Фонит раскалывается снег с дождем
Фонит микрофон лестничного пролета
Я отражаюсь в саму себя
Как кашель реверс auto reading
Вопрос имеет отношение к больной подвижной точке
Рифма инструментализируется
Срывая зазор Срывая разрыв Срывая дождь
Поле выжженного тактического антифа продолжается
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СНЕГОМ И ФОРМОЙ (приложение)
#1
Ей снилось что она оскорбила чеченца и тот должен её или простить или убить И речь оскорбительно тщетна Ей снилось что она Розенкранц влюблённый в Гильденстерна
Ледяная барабанная перепонка Я видимо блокирована Автоматический ужас Ледяная автоматическая перепонка отброшена сброшена в: качай-качай реальность Качай-качай вероятности Мир это вычислительный процесс Автоматически шторм младенец взаимодавец взаимовдовец Специалист по пробным военным конфликтам: реальная штатная должность в контрразведке Усталость оборачивается силой Универсальный слой: сквозь трещину сквозь расстояния истончается никогда не бывшее Скороговорка лязгает размыкаться отстоит И речь оскорбительно тщетна
Ей снилась щитовидная железа говорящая с ней о кровопролитии о литиевых батарейках о пустоте и разряженностях стихотворения об экуменическом разговоре власти белых синих розовых серых сиреневых стальных воротничков Без воротничков гильотинированные тюбики с краской лежат взвинченные ждут кровосмещения И безворотничковые художники жрут свои краски Смазывают тело Орудие труда может быть (пост)искусством снимающего с себя другие телесности руки зрение языки перстни ритм Снимающего тело Орудие производства смотрит на оружие производства Оружием производства клянусь смотрю на ключицу сиреневого красного волосы синего граничу Матерным языком водя воду остриё сны стирания по твоему боди-арту стравливая стравливаясь жёстко внешняя
В такой скорости нет времени: только пространство:
вокруг того костра ситуации где свет двигается через ливень падающий в коммунизм непрерывное понимание разрывающее язык
#2
Антропологический поворот говорит:
здесь вся скорость в вопросе –
плохо скреплённые ландшафты Примо Леви/ Жана Амери/ Тадеуша Боровского говорят прямым языком для которого нет ничего кроме самого себя: вошедшие в Шоа: (или Анчель выучивший другой чтобы писать стихотворения языком матереубийцы): последовательно написавшие о и ушедшие в: лестничный 1987, барбитураты 1978, газ на кухне (!) 1950: пять, тридцать три и сорок два спустя –
вопрос не произносится но распределён по всему воздуху –
человек в апостасии, глубоко вдалеке зрения, отделённого от себя, антропоцентризм впроброс, процедура описания статична: отрубая у времени хвост инерцию приступы языка в непринуждённом состоянии трахают детского врача сентиментальности одиночества иронией: зависеть в зависимости от творительного и родительного падежей: роза это пауза: роза это пауза выпадения: различие между снегом и формой:
роза это: наслоение пробелов
Против плотности
***
вверх по таблице к развенчиванию детства строгим лицом
графика стона брожение в закоулках города оков
сонмы плутающих по мозаике выхода
бессменность достигнутой смежности там во вневременном
точка удачного торможения
из расфокусировки начала в некончающееся потом
рифма проста как движение
трасса. начинается съезд, потом она идет на подъем
потом держались за руки, потом
держались за руки, в подполье одинаковых снов
сцепление взгляда, разговаривали ни о чем
28-29.09.21
***
меж ветров под с водом пяти этажей
стояла площадка для детей
то есть там где под тенью еще текло
стояла площадка с деревянной ладьей
мы нащупали там течение хоть и было больно, потомки старевшего человечества
под градом слез холодной весны распада
запузырилось инфракрасное искомканной бесконечности
мы знали, что встретимся
что соберем, и мы взорвали, и в ряби сиренево-желтой зари заполученного озарения
в пепле конца вверх вперед и в упор
исподлобья лица забило кибернетическое поколение
на экране бой и перекатываются шары, новые еще незначительные дни
скорость, сжатие, видеообзор
они здесь, и с ними здесь мы
10.10.21
***
в тот полдень когда мы спасли человечество
солнце было пыльным и палевым, как закат. безвозвратно
ушедшего тень шла по следу
моего бегства, разъятое
зияло исходом подменной кратности
падшему веку. воспоминаний не было, были сны
вещие, вычурные угли, слёзы пламени
капли ладана сотворенной весны в волне благовонного дыма
новой весны возвращённого времени
зыбче грань, потаённое обозримей
31.10.21
***
мы были там, как будто мы знали где мы
полевые цветы на кафеле лестничного пролёта
лязг двери бесцветных чернил
на плитке крупицы вымысла, средоточие
душный воздух непробужденной весны
беззвездные ночи московских набережных
фактография приусадебного захолустья
бессистемно полевые цветы цвета зеркала
улица солнечна извивающиеся подолы босых
лестничного пролёта раздолье квадрат
пряный табак зажигалка свёрнутая записка подъездный мрак
молодость цвета дешевого алкоголя
кафель и пепел на пальцах кислый сок лепестки заговорщиков
беспробудной весны другого народа
чужая природа, страницы по ветру вдоль вымысла волн фиксация, пепел на пальцах, бессистемно ажурный подол, лязг двери, молодость деревянных старух средоточие, монолиты, боль беспробудной весны, плитка кафеля цвета подола
поле и зеркало
30.12.21
***
выпотроши траекторию видимого когда я научусь говорить
привокзальный торговый центр мысли
в ветре бескровного неба белая нить – петля вены
белые стены с новым слоем граффити перед знаменем времени
битые пиксели пустого билборда где ничего и уже никогда и кровь неба, те битые пиксели
высосанная ветром бледного утра бессменного когда алела заря и, алая, распылялась
когда я начинала уметь говорить
интуитивная пунктуация не имеющего конца
сонмы зрителей у линии бессмысленного тротуара
в квадрате полуночного поезда траектория лица раздетого почерком ожидания
блуждание взглядом по бездорожью пропущенного пробела
прощупывание недостающего знака препинания
16-17.01.22
***
толкотня в переулке условности
некто забрёл не туда
весеняя влажность стекает с крыльев ворон подлетающих к подрагивающим проводам
волна электричества звенящей весны вдоль канала
опрометчивое означивание непрерывно овеществляется
лоснящееся пространство экранной улицы, комки тополиного пуха
виртуальная полость отворилась полудню переиначивания
голос кричащего неразборчиво с оборота портала люка, но это слышно
та ворона, высвободив лапу, летит
летит против плотности
ничего страшного не осталось
сорвалось, провод просто висит
24.01.22
Расщепленные токи (эссе)
РАСЩЕПЛЕННЫЕ ТОКИ
эссе
...if there's no overriding structure,
There is no character-simulacrum for it to reside in...
– Leslie Scalapino; from «New time»
Глоток (воздуха?)... что-то начинается? уверенность
в этом–пульс испуганного. Я бросаю пару
реплик. Они замедляются, загустевают каплями
крови и падают вниз корочками, содранными с воздуха.
Мне ничто не отвечает. Я оставляю попытки
привлечь внимание. Двигаюсь или стою? Или
что-то движется подо мной? Поверхность земли?
Что мне предстояло? Ощущать, как вращается сфера?
Интернет даёт огромные возможности,
но и многое отнимает. Сейчас
Заученные ранее движения не работали.
Едва ли они вообще когда-то были. Мышечная
память отвечала уклончиво: «Может... не помню... хотя да...
два раза налево и... это точно не...». Я не задавал
ей вопросы. В п о с л е д н е е в р е м я
д у м а ю о в р е м е н и , Она отвечала чему-то другому во мне,
толкающему на изучение новых движений – заново
учится ходить, держать ручку, ложку, себя на сцене,
в обществе, в руках, на коротком поводке, марку, пистолет...
У меня в к о т о р о м ж и в ё м хронический
бронхит, сухой кашель, которому я
предпочитаю сухие вина. Но никто не спрашивал.
Хотелось познакомиться с ними, но как-то не довелось.
Это к делу не относится. Но они были
я слышал, как о них говорили, как
о лучших среди лучших, которых я тоже не знаю.
Тик-так, каждый может что-то создать тик-так... Живая бомба во мне...
Они уверены в этом... Тик-так...
А, может, и нет... Если взорвется, то и будет тебе начало...
Мне нужно. и выложить в сеть.
От рекламы до Мне нужно освоить новые движения.
Движения мысли. Тела. Пока всё стихийно.
Потенциал. научных статей – диапазон широк.
Растущее Я не берусь начинать.
Это что-то совсем новое.
Страшно. количество информации обратно
В темноте мигает красный «глаз» –
аварийная сигнализация.
Я не стою о н е с к о н ч а е м о м, н а р а с т а ю щ е м
и не иду. Думаю о ходьбе и паузах
п о т о к е д а н н ы х,
спотыкании на ровном месте, которого никто
никогда не ,
ч т о , у с к о р я я с ь , видел.
Если место кривое, то его
видел каждый. Даже слепой трогал руками.
Я хочуразмятьстопыОни затеклиПораидтиАядосихпортут
Яхочувасвзятьссобойвсвидетелитогочто
яникуданеделсяатолькозабылкакуправлять
телом и мыслью. о б е с ц е н и в а е т в с ё
с о з д а в а е м о е Время течет сквозь меня.
Я – полость, трубка,
через которую летят птицы, года и слова.
Так будет, пока я не научусь новому языку.
Куда я пришёл? Непонятно. Внесение ясности
прямо пропорционально накапливанию опыта действия.
Но для первого движения, мысли нужно
вспомнить, откуда я. Вы скажите – как это
нет мысли, если ты сейчас нам это всё
рассказываешь. л ю д ь м и – м у з ы к у ,
л и т е р а т у р у
Вполне законное замечание.
Но это всё остатки и с к у с с т в о в
ц е л о м от прежнего: места, меня,
местоимения. ,
Та речь,
что вы видите или слышите, – единственное, что осталось от
меня прежнего. И я не уверен, что было что-то ещё.
Готов ли я к диалогу? Не знаю и с а м у ж и з н ь .
Пока новое (не)место – непроходимый туман и я слабо
пропорционально времени на её осознание.
В новостных лентах представляю к кому обратиться с вопросом.
Нужна соцсетей точка всё сложнее опоры за(у)держать
внимание на чём-то. Это что зацепиться.
Без неё, как танцевать на воде.
Используй свою приводит к обесцениванию контента,
К примеру, хорошим старую речь, скажите вы.
Но это, как со своими правилами приходить к кому-то в гости.
Кто меня станет стихам, музыке всё сложнее
выделиться из общего слушать, если я буду
говорить фона – пёстрого, как рекламный проспект.
Взгляд скользит по вертикали, не задерживаясь
ни на чём. Как со всем этим быть? в повелительном
наклонении в чужом доме? Я пока боюсь что-то предпринимать
в новых условиях. На первый взгляд
окружающая,
среда Какой фильтр нужен нейтральна, никак
себя не проявляет. Ждёт чтобы отделить лишнее??
Держится на расстоянии?
На второй взгляд здесь её вовсе нет.
Есть что-то Как не захлебнуться, остаться
на поверхности и увидеть островки суши другое, которое
не поддаётся моему словарю. Тяжелый,
плотный, Этот глобальный процесс заставляет
серый цвет соединил небо и
туман, поглотив горизонт, к которому могла бы
двигаться моя мысль, вынужденная сейчас петлять
вокруг моего задуматься о месте субъекта,
о его форме вопроса «Где я?», готовая
атаковать, укусить, стоит мне лишь на
секунду перестать сомневаться, как кобра,
удерживаемая в постоянно меняющемся мире.
Отдельные гипнотическим движением
флейты своего укротителя.
Я боялся отпускать голоса всё менее различимы –
напоминают от себя
вопрос дальше расстояния вытянутой руки –
зоны максимальной видимости, – потому что
изображения, тела, человеческие отношения
потерял бы над ним минимальный контроль.
В глубине мерцающие пиксели, невидимые
неопределенности нельзя удаляться
от своих центров, потому что есть большая
вероятность не вспомнить дороги назад. Я пытаюсь
коснуться своего лица, тела, но рука свободно
проникает там, где должен начинаться я. И рука ли это?
Или только невооружённым глазом – молекулы
фокус внимания, перемещаемый усилием воли?
Границы стёрты, только чем неизвестно. Возможно,
эти изменения
внесены мной, желающим забыть что-то или
имитировать виртуальной реальности, где буквы, звуки,
внешнее, отвергая себя, не
нашедшего с чего начать, решив самому стать началом.
Становление источником сопровождается отказом от я.
Оно никуда не девается, а рекомбинируется в «место»,
излучающее новое содержание. Стать замыслом – вот
к чему состоят из одного ДНК – ноликов и единичек:
я пришёл – зерном, в котором обнаружат свой
рост варианты интерпретации одного и того же события.
Мысль, посаженная в землю мир, где всё есть всё – пространство
безразличия., вырастет головой осьминога,
выбрасывая щупальца, как корни концепций,
её поясняющие. – Теперь ты – среда, – говорит мне
голос, – тебя нет, но твоё «нет» – твоё и внешнее,
что стало Оно постепенно перекодирует восприятие,
внутренним. В каждом из нас заложено
«нет», стирающее рамку собственного – предел,
до которого я могу говорить я – это я, моё собственное
или потенциал для этого. заставляя видеть мир
своим подобием – плоскостью с иллюзией «Нет» стирает тебя,
наполняя внешним. Ты глубины.
Что можно этому противопоставить?
есть, но другой, а точнее другие – поле,
полифония. П о с т м о д е р н и з м з а л о ж и л
в искал с чего начать, и в итоге пришёл к себе,
выталкивая собственное из н е г о б о м б у и
в з о р в а л , и м ы д р е й ф у е м себя, как пламя воздух,
живя за счёт него. Но в э п и ц е н т р е
к а т а с т р о ф ы . Д а л ь ш е чтобы впустить новое, нужно
р а з р у ш е н и е н е в о з м о ж н о . В э т о м
отказаться от старого. Но не полностью, а всегда
соприкасаясь по линии отказа. То, что было моим,
теперь должно стать внешним, чужим, но через
нить родства оставаться д о с т и г н у т п р е д е л .
Т у т д в а п у т и – л и б о собственным.
Она – длинный
поводок, длина которого – степень отказа от
самого себя – углубление в безличность источника.
Я забываю себя, чтобы о к о н ч а т е л ь н о е
с т и р а н и е , открыть возможность
новому. Но тут есть опасность: полное забвение.
п о с т р о е н и е н о в о г о т и п а с у б ъ е к т а .
Если я не буду помнить, кем я был, ту черту,
за которую я вытолкнул себя, чтобы стать началом
(началом чего? М н е б л и ж е с о з и д а н и е .
началом мысли, что должна стать
рассказом о самой себе, пустить корни в пустоте,
а потом вырастить грунт для них; беспочвенная,
выросшая на пустом месте мысль), то я не смогу
различить, где я, а где отказ от себя. Нужно
лёгкое помутнение рассудка, позволяющее слышать
какие-то шумы, Постмодернизм был ответом
на ужас и травму не переходящие в голоса, чью
природу происхождения сложно понять, так как
звучание своего голоса ещё слишком сильно́,
артикулирующее разрозненные ощущения присутствия в
«я здесь», «я думаю», «я говорю». Голос говорит:
«Вы, летающие пятна, куски взорванной земли,
рассеянная бесформенность вокруг меня – я».
Сбитый с толку разум не сдерживает всю силу
внешнего, пропуская в виде хаотично гула,
разного рода звуки, , причиненную двумя мировыми войнами,
порой слышимые мною как плеск.
Не пробуждение или это источника?
Для чего я так усердно ищу его, отказываясь от себя,
теряя частично попыткой жить после Освенцима.
Мог ли субъект память? Потому что не знаю с чего начать
рассказывать, что со мной произошло той ночью,
когда я был один оставаться целым после этой
мясорубки? среди многих, человеком Х,
без личной истории и планов, максимально живущим
в настоящем. Передо Кто говорит в мире без лиц?
Говорят осколки, фрагменты мной изо дня в день
пролетали
клубы красной в свете заката пыли; чёрный был
перспективой для всех остальных цветов, потому
что каждый предмет старого мира, предметы, потому
что людские голоса молчат попадающий в поле моего зрения,
старался уходить Художники-дадаисты (Курт Швиттерс)
создают коллажи из мусора, размещая его элементы
в непривычных для них контекстах
от светового потока, как и те люди,
что окружали меня всё более плотным кольцом,
предпочитая оставаться в тени.
Но я видел облака красной пыли, купался в них,
обагренных лучами засыпающего солнца.
Чем ближе они . . . в л и т е р а т у р е е с т ь
п р и м е р ы , подходили, тем отчётливее становился
вопрос – в какой момент я потерял связь со
своим прошлым? к а к м о ж н о н е
з а х л е б н у т ь с я в э т о м п о т о к е
Их усиливающееся присутствие
обнажало во мне места с незаживающими ранами,
где ранее были
присоединены нити, связывающие меня с
прошлым. Возможно, была война, и нас
окружали враги. Я лежал ниже уровня земли,
в углублении – воронке, окопе, вершине
отрицательного конуса, по краям
которого стояли люди, одетые в серую
униформу – мужчины и женщины, смотревшие,
что странно, не на меня, а куда-то вверх, на то,
что происходило надо мной.Там было
нечто, висящее в двух-трёх метрах над ямой,
зашитое в каменную скорлупу.
Вдалеке были горы
не отпускающие мысль, взгляд, язык.
а с п р а в и т ь с я с н и м
Птицы летели
за своим криком, огибая острые углы
ветра. Событие, в котором я и я-ма совпали,
не реагировало на внутренние изменения во мне.
Они заключались в том, что я стал видеть его время.
Оно застыло каменным сердцем надо мной.
с о п о с т а в л я я в е щ и ,Заставить себя не
смотреть я не мог, потому что с
закрытыми глазами присутствие этого фрагмента каменной
плоти было еще более правдоподобным.
Чего нельзя сказать обо мне,
не удосто́ившемуся даже взгляда окруживших меня.
Горы были синими. На горизонте несколько точек
назывались птицами, догнавшими свой крик. ж и в о е и н е ж и в о е ,
р а с к р ы в а я и х д р у г ч е р е з д р у г а ,
т щ а т е л ь н о в с м а т р и в а я с ь Люди
стояли, я лежал в центре их невнимания под каменным
орехом. Для них он – есть, а я – ничто. Не по причине ли
стирания моих следов? У меня есть только настоящее,
с которым я не знаю что делать. Оно мне
не принадлежит. Что в э т и с б о р к и
( з а к о т о р ы м и м о ж н о у в и д е т ь
я могу называть собой? –
вкрапление в мгновении, крупица в его зернистости.
Казалось, что от их пристального взгляда каменный
кокон становился живее – поверхность детализировалась:
трещины, углубления и выпуклости – рельеф,
представляющий развитие взаимодействия, рисовал
глубокий орнамент на поверхности спазма времени.
Я чувствовал что-то слабое внутри себя, неспособное
как-то проявиться, дремлющее, почти мёртвое,
неизвестно чем удерживаемое по эту сторону – силу
противоречия. Вероятно, м н о г о е ) , ч т о б ы
к а ж д ы й э л е м е н т б ы л з в е н о м
любое опровержение
их действия уничтожило бы меня.
Попробовать ли мне пошевелить пальцами?
Как это будет ими воспринято – силуэтами,
слившимися со сгущающейся ночью, чернее чёрного,
едва ли знавшими свет? с т а н о в и л с я
о т к р ы т ы м д л я п о л и л о г а ,
Я сгибаю указательный палец
на правой руке, затем средний, и делаю паузу,
чтобы оглядеться по сторонам. Вокруг – ночь,
ни сидела, ни лежала – стояла – надо мной, ними,
каменным сердцем времени. В какое-то мгновение
я стал остро ощущать тяжесть своего обездвиженного тела,
глубину ямы, в которой я лежал, крутой наклон стенок,
по которым с трудом поднималась моя мысль. Я пытался
позвать на помощь, , а н е з а г л у ш к о й,
но в горло, будто кто-то всадил нож.
От боли вспышкой образов кричала мысль, не находящих
подтверждения.
Эхо, не знающее своего источника – я,
пытающийся с чего-то начать, чтобы сдвинуться с места
в этой непроходимой ночи, неодолимой яме.
2.
< ... >
лицетворение приятно себе в не? – нерв будущего парит в текущем по внутреннему контуру истока объёме – израстание середины – танец нити в домолекулярном ветре.
подвешен на своём весе вымысел равен тому,
что свет оставляет за своим отражением,
вымыслен
…силуэт откликаясь на тень женским: плавность.
паруса вещества до земли корнесловно
дымясь (формирование, узел «я») ложением
из
– земля, дай свой холод моим пальцам,
приводящий в движение всё, к чему ты им
прикасаешься.
Я хочу отделить ночь от ночи, чтобы в этом
просвете увидеть кольцо людей вокруг своей ямы, сдавившее её, как горло,
Эти среды – поиск новых сочетаний или
хватание за соломинку, ностальгия?
обручившее меня с тобой, земля, глубиной
скрепив нас, как клятвой верности,
дно которой (впавшая плоть) – наше свадебное
ложе, где я – незнающий с чего начать,
что сказать перед алтарём, – лежу, умоляя о холоде.
Кажется, что это монтаж нового типа субъекта,
что позволит осознать масштабы катастрофы,
изобрести язык для её описания.
< … >
ветвясь, краем пребывая
потолком жидкости
представляя вес существования вращением
монеты.
зачеркнуть руку: газовая змея – тени часов
проносятся над ветром,
замедляя его
повторением.
продиктованное свету: смерть.
игла ломается об песок.
– это – наша первая брачная ночь,
как ты можешь просить меня о холоде?
Я приютила тебя под сердцем, ждала, пока
ты привыкнешь к темноте, приблизила к тебе
своё самое глубокое тепло, а ты просишь меня
отдалиться, понизить градус.
Новый тип субъекта становится неуловим.
Чего ты боишься? Я принимаю тебя вопреки твоему отказу, прогибаясь под тобой. Твоя неуверенность или незнание утверждается каменным шаром над нами.
Литература пересобралась и предоставила
бесконечное количество коридоров, нор, катакомб, для ускользания.
когда «я» переполняет себя тело становится.
стеклом.
пятна акварели на стекле. бензин. моль.
всё пребывающее между
ответственностью и противоречием – доза немыслимого в «я»
противоречие – против речи или реки: размагничивание – весть изогнута моралью
растрёпанные поля напряжения.
воск плохо имитирует время.
соль. щепоть. зло.
магнетар расцветает внутри бумажного листа, освобождая кровь.
костёр воздуха – треск внутри вдоха: больные словари.
моль резюмирует нить нарратива.
тетива снимает напряжение в живое.
мелом пойманная чернота.
трансцендентный рельеф видит «я»
расщепленным,
гулом.
Текст становится гипертекстом (Джойс, Павич, Кортасар),
лирический герой постоянно преломляется,
погружая в туман кривых зеркал. Лес цитат.
неартикулируемое тёмных песков нарезается предметами.
эхо материи бесконечно тут.
наше представление одного и того же – полярно.
ты собран из стёкол.
линейность, как ответ устойчивому.
во мне постоянны только снег и уравнение.
белый Х на том месте, где раньше – «я»,
произнесись
цапля, алебастр, кристалл.
вещи смотрят в беспамятство.
– это судьба, её каменный глаз. Эти люди пришли рассказать мне о её правилах игры. Я их не звал, они воплощённое ничто,
книги, прибитые к полу, она,
охваченная геометрией,
охваченная ей
фигуроизнесение.
огонь лижет поверхность знака: стирание, мертвая икра.
формирование растекается на формы и прошлое.
время без шеи.
тот, кто назвал мысль мыслью, создал машину времени.
от этого сворачивается воздух.
И эти люди – зачем они здесь? Зачем так много свидетелей нашему неустойчивому союзу, в который они не верят?
<...>
преодоление собственного выворачиванием границы – колесо радиации по изнанке век гуляет – прижигание красной амальгамы.
она снимает кожу в перерождение – мягкое – отказ от собственности – экспроприация – нейтральное опускает в живое поток выравнивания – расширение границ – плеск тождеств
точкой – лишь – оболочка
ограничение – частное?
«своё» без никого – опрозрачненная пластина существования.
мы в промежутке – сложное проистекает.
что до мы?
структуры движутся в безличном сквозь личное.
эхо разломами сквозит ничейного – оползая звукоподобием меры себя – каждое тут – если: шёпот.
где центр в этом том? – натяжение как нарастание ждать в нашем чьего-то здесь среднего
– ты так уверенно о них говоришь, но не говоришь с ними, почему?
– в данном случае я могу полагаться лишь на веру в то, чего не могу доказать.
пятно обращаясь к себе собой растекается в себя по краю собственного имени, вымысел неся как произношение тёмным внутреннего
сложное наполнение измерениями – шов «мы»
произношение – вторжение в ничто:
прочерчивание шва,
проживание прожигания
на что способность истока? – геометрия?
на оставить запуск на отпуск рук
чему равен «взвесь отпуск рук»?
себе?
императиву? исходящему от?..
расщепленного?
равен паузе между «взвесь...»
и дыханием ему навстречу,
что знаком будущего
переноса
переизбыток геометрии – город, сжатый в точку.
точка, невмещающаяся в «я».
воспалённая линия.
на кульминации рвётся сюжет под тяжестью характера.
изобретись насекомым в толще
зноя
вода не равна своей поверхности
– ты веришь, что я – искомое тобой начало? Я не могу тебе дать инструментарий, позволяющий это доказать.
. . . т а к ж е м н е б л и з о к с п о с о б ,
к о т о р ы й п р е д л а г а е т Е в г е н и я
С у с л о в а , е с л и я п р а в и л ь н о
е ё п о н я л , п р о с м а т р и в а я
и н т е р в ь ю , – с н а ч а л а
н у ж н о с о з д а т ь с у б ъ е к т а ,
н е к у ю т о ч к у , и з к о т о р о й п о с л е
п и с а т ь , и н а ч е м ы б у д е м л и ш ь
п е р е к о н ф и г у р и р о в а т ь т е
к у л ь т у р н ы е п л а с т ы , к о т о р ы е
у ж е н а р а б о т а н ы д р у г и м и .
– ты пытаешься отвлечь меня тайным,
но я никогда не стал бы с тебя начинать.
– я – твердость для потенциального шага.
Я не могу не быть началом. Ты висишь в пустоте
внутри каменного кокона, но вбросил своё тело в меня,
пытаясь им закрыться от моего голоса. Ещё раз
повторяю, что я тебя принимаю как есть, но только
при условии, что ты примешь меня, как таблетку от
веры в судьбу. Ты просишь о холоде, но лучше ослабь
связи между людей, окруживших факт моего гостеприимства
для тебя, точнее твоего неуправляемого тела, пока твой
разум пытается посмотреть на всё глазами судьбы.
<...>
кровь ≠ не, красному, убыванию
нити, ведущей на способность истока
в ничто.
шов расходиться городом.
– я пришёл к самоотречению через эгоцентризм.
Земля, ты обладаешь моим телом, а судьба разумом.
– ты называешь судьбой вот этот каменный мешок надо мной,
думая, что разговариваешь из него? Но твоё тело и разум уже во мне.
быть при... частным к общ.
: припой, омела,
жила ртути,
сквозь матовое зерно видеть
бутоны швов,
метаморфизм облачных долин.
в этом сейсмическом «с»
схождение холодных молний
от истока наизусть
штатив речи.
состояние: многоугольник дыма.
взлётная кожа от змеящихся частот
укусами эрогенных лампочек
вшитый в слово «моё» костный день чешуёй на зеркалах
кипит
им помещённый в неё
безграничен
предел
внутренним цитирование внутреннего.
Судьба – это сон, в который ты погрузил свой разум,
чтобы имитировать холод, который я тебе никогда не дам.
Я не могу отвернуться от того, кого люблю.
Иногда меня трясёт от озноба, так как твой сон претендует стать вещим.
Другие называют это землетрясением.
Бывает, что я тебя подбрасываю выше твоего знания о себе.
«я» помещает «я» в я
я помещаю в тебя неизвестность
я помещаю в тебя живой Х
точку объёма
зерно помещения
ветвь голоса почку
звука
я помещаю в тебя ядовитое жало,
ядом витую мысль: рост общего места – мы – консервант «поля»: двучлен
дичает в ртутном маринаде
молодое от криков окно
сворачивается в крепление ума
под высоким градусом мысли: червь, эпоха, монада.
растраченная нездешность посевом Х
переходящая в агрессию – раскаленный контур периферии: мы пришли к этому через пустые названия,
гадания на останках значений,
выдувание: Х, теряющий погоду
представление скоропостижно скоро
скорость понимания четырёхядерность
оперативное вмешательство
слово разворачивается в образ
разворачивается в слово разворачивается в звук разворачивается в плацебо
на какой частоте происходит чревовещание внутрь?
кукла отвечает своему внутреннему оппоненту
миграции бабочек в животе,
пластичность сказуемого,
предметы с горящими лицами
лицетворение: диктант гуляй-рукам.
четырехпалое пространство – свет кричит виском у медитирующей оси
в явь неустойчивого спектра
самосохраняйся – лес, кровь, быть, мысль – распадаются на пиксели.
Весь твой эгоцентризм был способом удержать
фокус внимания на постоянно распадающемся
«я» вместо того, чтобы поместить его в меня, как зерно.
Ты отрёкся от себя, отделавшись от меня телом,
от которого замерзает моя поверхность, бросив горсть
ускользающего разума в воздух, как семена, удобряя
их перпендикулярными взглядами тех, кого я не могу
представить. Они невозможны для меня, как взгляд на то,
что за моей спиной, когда я смотрю вперёд.
выгорающие на шаровых гранях мухи.
поле в кляксах.
палитра земли, кисточки тел,
редеющие на глубине со скоростью времени
математическая жара запечатывает спрятанное в другом
освобождает ясновидящее стекло
червивый фосфор,
бог восьмёркой в семи,
взорванные равенства
кровь ≠ не, диким рукам, анабиозу семантики.
кукла внутреннему ничто пеной
безличного.
море волнуется я
море волнуется ты
море качается окончаниями
антропоморфного
личным в квадрате
музей памяти децентрализован – центробежны события.
я помещение в ты
я комнаты ты
ты носящее комнату
ты оранжерея
ты марсианские саженцы
плодоношение.
монета танцует на ребре на живородящем ребре.
зигзаг рождает зигзаг рождает зиг заг.
разделённое представляет опасность.
представлять опасность для себя себе собой
параллельные действия ÷ Х
город высушивает время автопотоками.
– моя спина – то, за чем ты прячешься от
своего эгоцентризма, это – черта, за которой
твой разум, не знающий истока, то есть меня –
ретерриторизируется планетой, при этом являясь
моим спутником. Он – косточка плода, которым
насыщаются лёгкие.- ты думаешь, что ты – это
лишь проживающее себя событие внутри кокона
по канону судьбы. Твой разум превратился в шар,
веря, что повторяет мою форму, исходя из узкого
представления обо мне, лишь как о планете.
Я не покоюсь на китах или слонах, я – толща.
В глубине себя я вижу твоё будущее, но это
не предсказание судьбы, а узел измерений,
из которых сплетается наш разговор.
– мы с тобой говорим в будущем?
– да – этот разговор ещё не состоялся.
– но мы говорим!
<...>
агрегат платонического: инкогнито – шифр, которым дождь «мы».
ответ прост: запечатан в облако.
мы не можем быть открытыми в этих помещениях, где стенки – луковые мембраны.
миллиметровка: мельтешение семантических муравьёв.
мы вшиты в повседневность.
– а где твоя спина?
ртутные мячи, птица вяжет шерстяные шары, луна обволакивает фольгой.
возьми «моё», чтобы не заблудиться в собственном.
лабиринты, рассказанные рождением.
начинание – обрыв тёмного в предельном – обрыв тёмного в предельном. птичье боля в трансцендентном почкой а белок выполнятся.
«Композиция клетки» – слушать биение
осколков дыма, не-тень трактата
свитком расклёвывается из точки –
движение по спирали по памяти
скачкообразно,
вылущивание данных ростом,
вылупление дат
– ты прав. Ты говоришь сам с собой через
меня, ища с чего начать, и я отзываюсь.
Я прихожу к тебе, не приходя, через зазор между
тобой и тем, от чего ты в себе отрёкся.
разуглубляясь во вне
чтение пространства
движение ветвится трещинами
личное прорастает в личное
рождение: расширение историй
в общем объёме
дрейф ячеек
Ты чувствуешь, что я даю тебе посмотреть
за мою спину и смотришь, приводя с собой толпу
свидетелей. Начало, которое ты ищешь, всегда
за тобой. Это твёрдая плоскость под твоими
неуверенными шагами.
структура развивается расширяется
внутрь себя точка-город
сотых сот
шахматное поле с разорванной стороной
половодье стратегии
клеточный водопад
когда игра переполняет желание играть
разрывая контур
Ты отдаёшь инициативу
судьбе, опуская руки в смолу ночи.
Они тебя не видят. Они будут здесь, пока
ты продолжаешь верить в предопределённость.
Их связь тем сильнее, чем сильнее твоя слепая вера.
желание структуры движимое чем-то
внешним
гравитацией
Разделив себя, ты ушёл от ответственности, взвалив
её на пустое слово «судьба». Я – толща ответственности – начало,
заложенное в тебе.
гравитацией желания двух создать
третьего
вырастить крик
концентрат боли
зрачки обложенные лучом первого света
фарфоровые диски каплей лавы
Ты говоришь, что не знаешь
с чего начать – начни с себя, возьми ответственность
в свои руки и прими её как дар свободы. Ложись в
меня и усни, чтобы дотянуться до разговора.
оно погодой предсказывает каждого.
предсказуемость безличным. внешним.
игральная кость бросает нас в случай.
сюжетами мусорных свалок гуляет
мел синтеза.
– я большое не могу с тобой говорить,
потому что на поверхности моего кокона
оживают трещины, но начинаю,
и эта раскалывающаяся скорлупа – то,
что показывает время, когда ты мне отказываешь в холоде.
море местоимений.
деформация внутреннего падежными вопросами.
рваный контур личного.
очертание облака.
– пойми, что тебе придется начать
с себя, чтобы понять, что основание
на это начало заложено мной внутрь тебя.
Я – земля, и если я говорю, то не бросаю слов на ветер,
а в него, размечая невидимый плод, которым ты
окружил свой угасающий разум, чтобы отделиться.
Он встал и посмотрел по сторонам.
Стороны не отреагировали. Яма была ему по грудь.
Кто-то танцевал невдалеке. – Какие горы, – подумал он,
– Такая и музыка, – сливаясь с фоном земли.
Яркость
ЯРКОСТЬ (Барселона)
Окна разделены тонкой колонной на два – арки над каждой половиной, еще арка над обоими. Отдельное и единое одновременно. Под вазами ограды парка – стремительные крылатые демоны. А на вазы вползают улитки. Когда смотришь на дом сквозь ветви, не всегда различаешь, где он, где дерево. Отражения листьев переплетаются с веером кривых над входной дверью. Башни с глазами, вместо зрачков цветы. Девушка пишет что-то на огромном древесном листе. У другой балкон на легко развевающихся волосах. Балки для подъема тяжестей на верхние этажи расцвели лилиями, выгнулись носами кораблей? скрипичными ключами? Крыша выбрасывает все дальше прямоугольники карнизов, полочки для книг-облаков, книг-птиц. Дерево чуть просвечивает в рыжекирпичной стене. Завоеватели приходят и уходят, пусть даже оставив название стране. Яркость остается. Сеть прожилок между камнями, сеть мозаики – или сеть высохшего плюща.
Эти дома происходят. Дом – не стабильный прямоугольный объем, а собрание домиков, балконов, башенок, которые сейчас решили встать так, но могли и по-другому. На домиках (да и внутри них) тоже движение. Каменные цветы вытекают из стен. Окна не поднимаются из спокойствия горизонтали и не завершаются им. Ручьи, волны по фасадам. Не каменные джунгли – каменное море, присевшая отдохнуть переменность. Дом добавил себе рост проволочными столбами. Или обмахивается веером у крыши. Или наполняет подковы цветами. Или надел корону шута с бубенчиками наружу. Внизу балконы поддерживают белые волны, выше – витые ракушки, выброшенные из моря. А между ними балкон держит змея на свернувшемся в спираль хвосте. Башенка дома может быть игрушечным замком с островерхой кровлей – или парашютистом, севшим на плоскую крышу. А может стать мощной краснокирпичной колокольней с высокими окнами, с арками над ними, и дикие камни дома-скалы поддержат ее и огромный балкон с другой стороны. Рельеф с плодами книг с печатного станка – вместо бесконечных фруктов, сыплющихся из фальшивых рогов изобилия. По средневековой стене поднимаются окна-бойницы лестницы. В старом городе – теснота улиц Неаполя, но без толп и развешанного белья. Люди независимы и не демонстрируют личную жизнь. Яркость – личное дело. На стыке работящего севера, которому не до фантазий, и расслабленного юга, которому не до работы, чтобы фантазии осуществить и развить. Снимаешь куртку, в которой жарко, в тени переплетающейся высокой легкости металлических цветов.
Город спокойно выливается в море, встречая его песком, зеркалами зданий. Мудрецы оседлали шары, дерево растет из компании крокодилов, по набережной разными стилями плывут тени, смотрит неведомо куда пятнистое лицо Роя Лихтенштайна, вдали поднял хвост золотой кит. Рыбаки на стене варят уху, над дверью спасательный круг (мало ли что случится на улице). Настороженные двухвостые дельфины стерегут порт. Но дети катаются на козероге и отдыхают на развалинах крепости. Над балконом готические арки превратились в треугольники и обзавелись мозаикой.
Гауди – другая страна, союзная, но отдельная.
На балконах пальмы, плетеные стулья, фигуры человека-паука или Барби и Кена. Но больше всего – флагов, требований свободы. Даже конь в пальто носит шарф национальных цветов. Яркость требует, чтобы ей дали возможность самой за себя отвечать. Город никогда не хотел быть столицей империи, как Рим или Венеция. Он хочет быть собой. Привязанный – после того, как в печали умер от смеха король по прозванию Гуманный – к более жесткой, формальной, восточной (пусть и на запад) стране. Снова и снова восстававший – снова и снова хороня погибших при подавлении восстаний. На вазах в парке – маски трагедий с провалами глаз. Поднимают белые руки-кости шеренги обрубленных деревьев. Перед парламентом положила голову на камень много раз опечаленная надежда. Громадная глыба угля воткнута в стеклянные этажи здания у моря. Яркость – порой отчаяние, от нехватки свободы, от невозможности что-то сделать. Небо поранилось об иглу и стекает на нее густым синим.
Дом поднимает вверх углы, на углах – шипы, под ними разевают рты летучие рыбы. Неоготика – память о временах расцвета, о кораблях и рыцарях на другой конец Средиземноморья. Но и оборона своими шипами и углами, противовес мадридскому барокко, архитектурное восстание. Куполов тут немного. И скорее на жилых домах, не на соборах. В чешуе черепиц, в бело-голубой вышивке, с коронами зубцов, глазами окошек. Или соединение куполов и готических химер и горгулий. Или купол как прозрачный каркас стальных линий с таким же прозрачным высоким крестом наверху. А крылатым демонам на балконах не хуже, чем на крышах соборов. Переходят в металл тропические цветы, прибывшие из Америки с разбогатевшими там «индейцами». Девушка с корзиной рыб на голове – у ног ее дельфины.
Древняя рябь камней на фронтоне над мраморным фасадом. Корни города – где в стену у ворот встроены куски колонн и плит с надписями. Вниз, до высеченных в скале могил. Над ними кирпичные и мозаичные полы, плиты мостовых, желоба водопровода, разбитые яйца пифосов. Город растет из римских винных погребов и прачечных, укрывшихся в старых тенях. Большие камни квадратного дела и маленькие – дела цементного. Пилоны и арки, встроенные в десять раз перестроенное средневековье. Завершения окон – отпечатки крыльев летучей мыши.
Церкви – простотой кирпича и камня наружу. На жестких порталах чуть-чуть цветов и лиц. Романика – обнимающиеся лошади, перепончатые василиски или святой верхом на льве. Поднимается все выше и выше не желающими убавляться в ширине рядами арок. Спряталась над стеной фонтана, где огнедышащая собака и похожий на нее отощавший верблюд, человеколикие фламинго, воины между чешуйчатых птиц, глаза и лягушачьи рты между листьев, тонкая сеть стеблей, целуются рыбоногие существа, ягненок удобно устроился у кого-то во рту, орел – на чьей-то голове. А романский Сан Пау – геометрия. Треугольник над входом, полукруг апсиды с полукругами пояса арок вверху, восьмигранник поднимается в центре собора. Без фантастических и веселых существ на капителях колонн, вместо их живости – зелень пальм. В кафедральном соборе живет кремовая желтизна и плывут белые гуси. Женщина и мужчина по сторонам входа – на церкви XIII века и на театре XVIII века.
Но больше всего места для воздуха в церкви моря, что поднимает лучи встреч и входы света. Голубым среди серого – оба они море. Здесь и святой – углы моря и его неуверенность. И золото медленного рассвета. Тонкий белый росчерк по синему. Витражи цвета оттенков моря.
Тяжесть монастыря и крепости над городом – но еще выше фантастический парк. Пруд с кувшинками встал отвесно на стене, его охраняют химеры. Вихрь листьев порой превращает цветы в кометы. Плетение витража за плетением решетки балкона. Драконы с перьями-ножами и утиными лапами. Сине-рубиновый текучий плод. Под мавританскими окнами-подковами – рельефы с самолетами и автомобилями. Ребра дерева жалюзи своим коричневым цветом вливаются в камень. Вершины колонн распускаются листьями между окон, раскидывают над ними ветви. Замки с башнями, зубцами и бойницами – к которым пристроены веранды с огромными окнами.
Квадратные чугунные цветы. Дом из плиток шоколада с кофейным кремом наверху. Памятник, отвернувшись от чего-то, показывает туда рукой. Другой столь же презрительно смотрит с высоты колонны. Тяжесть многокоронной арки с дудящими ангелами и увенчивающими кого попадя славами. От помпезно-огромного монумента с орлами и ангелами (не он ли вдохновлял Церетели и подобных?) начинается череда забитых людьми бульваров со стандартно-богатыми домами, где лишь иногда мелькнет балкон с россыпью чугунных георгинов или маскарон демона с буйством волос. Это могло показаться красивейшей улицей мира разве что очень чувствительному политически и глухому эстетически Оруэллу. Яркость там не живет, она разошлась по всему городу.
И зашла в дома. Чтобы еще в прихожей встречала упругая путаница веток, на которые и вешать пальто и шляпы, не на крючки же? Зеркало держат крокодил и чертик. Сундук на тонких глазастых ножках. Глаза павлиньих перьев стали лампочками. Не прекращающийся танец в доме – и фигур, и линий. Сова шкафа распахивает крылья витражей над полками. Одетая в розовое приходит, одетая в синее уходит – а между ними пружина свернувшегося в два оборота дракона. Такой же свернулся между легких акварелей с птицами и цветами. По стеклам вьются белые цветы, их тени переплетаются с тенями от стоек. Часы в окружении цветов мака и с белыми лилиями внутри. Девушки болтают, усевшись под прочным основательным столом, отдыхают на полках. Им мало цветов по бокам растущего над диваном зеркала, и они ставят в вазу новые. Шкаф – чешуйчатые яркие крылья бабочки, а по дверце ползет вверх улитка. Шкаф руки-с-легкими-полочками-в-боки. В комнату входят горы и озера, весна и осень. Ножки вытягиваются и переплетаются друг с другом. Тонкость кривых лишает тяжести. Панель стола или зеркало держатся на пустоте, на букетах цветов. Свет и сверху приходит сквозь цвет. Девушка говорит с черной птицей – белая плывет за ее спиной. Зеркало, около которого собрались прогуливающиеся в парке, стеклянный шкаф на копытцах, ящики, полки и даже крыша с одной колонной и совершенно ни для чего. Можно день ходить около, приветствуя различных встреченных. А из беседок другого зеркала растет тонкий блеск цветов. Спинки кровати держатся на переплетении древесной чащи, между ними святой Георгий на белом коне (это кровать для девушек, которых нужно спасать?). На боках пианино расцветает слива. Но почти отсутствуют мотивы моря; интересно, какую мебель делали бы мастера минойского Крита, доживи они до модерна? Впрочем, модерн – только одно из настояний на индивидуальности.
Вход в госпиталь – ребра и короны, коричневые рамы для неба, перепламенить пламенеющую. Суровые птицы и лица по краям дверей, стражники с мечами по углам стен. Громадный балкон, обращенный к госпиталю, будто там не больные, а большой беспокойный город, перед которым нужно выступать сверху. И на башне мозаика, на которой эта башня. Внутри розовое и золотое, администрация, пытающаяся разрастись в собор. Вылезающие из стены корабельные носы, из которых вылезают башни, из которых вылезают арки. Мавритански пестрый торжественный зал в два этажа. То, от чего и прячутся в болезнь.
А в госпитале солнце, простор, тишина. Высота, с которой высматривать приближение болезней. Небо присаживается на корпуса, становясь цаплей, попугаем, ящерицей, кошкой, зайцем, крокодилом. Чудища по углам и у крыш охраняют покой. Прочные колонны подземных переходов, светящиеся треугольники над лестницами. Внутри палат белизна, лишь немного цветов по стенам. Яркость вернется к выздоровевшему, вышедшему. Болезнь однотонна, чтобы рассеять ее, нужно много света. Конечно, и там не обошлось без ангелов с воздетыми руками, но они высоко и не очень мешают. Свет тихо расходится радугой по полу и стенам.
Яркость не прячется за белыми или красными стенами, как в Гранаде. Витражи – пропадающие среди множества цветов птицы – или строгие стебли на фоне бело-серого неба. На фасадах – девушка с циркулем, девушка, лепящая скульптуру. Обнимающая старуху, укрывающая ребенка от ветра. Цветы балконов и дверных решеток отмечают место появления человека. Стеклянный эркер – выглянувшие из дома на улицу огромные стоящие на полу часы. Яркость движется. Кирпичные трубы закручиваются спиралью. На башне своя башенка с разбрасывающими свет белыми гранями. У дома на окраине белые цветы решеток вторят белым стенам, но он рассыпал краски в нишах окон, поднял их змеей на окантовку балконов, дверей, углов, крыши. Дома, взъерошенные садами на крышах. Разбегаются по фасадам выступы. В окне ласточки проносятся между камней-облаков? пузырей внутри воздуха? Чем монументальнее соседние стены – тем тоньше колонны, поддерживающие балконы.
Порой яркость теряет самоконтроль – и превращается в истерику дворца музыки, где смешаны плоские мозаичные чинные, в черных костюмах, певцы, сидящие рядами с нотами в руках, и рвущиеся из стены камни, колонны, толпа фигур, где рыцарь в средневековых латах над девицей в романтических одеждах конца XIX века. Головы композиторов, растущие из охапок листьев. Даже кассир за своим окошком – в цветочном кусте. Пестрота красок: розовый, белый, коричневый, зеленый. Готические нервюры на едва вогнутом потолке вестибюля и кафе. Но колонны, окна, выступы стен хоть и топорщатся прилепленными к ним цветами, остаются в ровных симметричных рядах, так что не очень веришь этому аккуратному безумию. И зеленый фонарь со словами «Каталонский Орфей» только напоминает, что Орфей был не тут и не по заказу дворца музыки появился. А до этого на искусственный холм с китайской галереей позади громоздили золотых журавлей, нереид и морских коней, чтобы те обливали стоящих внизу грифонов и козерогов на радость чайкам. Тихие ящерки не знают, куда спрятаться среди банановых листьев
Стилизация не стиль, пестрота не яркость. Колонны опираются на маленькие выступы из стены и держат разве что такие же маленькие выступы. Пинакли устроились на полукруглой крыше банка – где нет никаких аркбутанов, силе от которых они могли бы противостоять. Завершение окна в духе пламенеющей готики с девятью маленькими круглыми отверстиями – кошмар стекольщика. Треугольники крыш, выступающие из стены чуть не на метр над готическими окнами, напоминают что-то китайское. Корни готики, конечно, на востоке, но не на дальнем. Белые рельефы на голубой плитке напоминают фаянсовое блюдо.
Архитектор по фамилии Катафалк приходил в бешенство, если кто-то причислял его к модернистам. Начал с неоготики, пришел к подражанию имперскому Риму. Он и себе построил вполне классический симметричный дом, с мощными античными фигурами архитектора с циркулем и музыканта с лирой среди изобильных плодов – чтобы все видели, что тут живет человек искусства. И на мебель громоздил темно-коричневые зубцы, превращая ее в неподъемные здания. Такие и говорят, что все искусство полуострова пошло из его города. Такие и продолжают строить королевские дворцы.
Лучше вспомним Сайрака, превратившего дом в волну. Балконы выступают вперед нижней частью – именно так море бросается на пологий берег. Волнующиеся решетки. Колеблющиеся колонны беседки на крыше над волнами карниза (который еле успевают поддерживать колеблющиеся столбики – трудно подпирать волну). Рябь выброшенного морем песка на стенах.
Вспомнить нужно, создающим яркость хватает ее самой, они не расписываются на каждом ее углу. Модерново угловатые лица и фигуры, ритм жестов, рыжие климтовские волосы – но это XIII век, роспись гробницы кавалера Санчо Санчеса Каррильо, автор неизвестен.
На фонаре проспекта на короне устроилась летучая мышь. Ирония над королевской властью? Ирония смерти, что над любой властью? Другая летучая мышь орлом раскинула крылья на ограждении балкона. На доме «индейца» из корон растут зеленые листья. Девушки лежат в скверике, к одной приклеилась морская звезда – русалки? утопленницы? Яркость всегда прощание – ярче не будет, если будет – иначе. Над воротами букет из семи звезд с семью волнующимися лепестками. Башня теряется в ночном небе, где рядом чешуйки арок. Зевает схваченная за рог химера.
Тонкие витые колонны вокруг окон эркеров. Скрученные металлические ленты решеток балконов. Напряжение модерна – нелегко отличаться, быть личностью. Нестабильность и в доме. Мебель – скорее подвижное, чем движимое. Перестает быть прямоугольниками и выдвигает над собой крыши и арки. Взмахивает крыльями и цветами. Шкафы с витражами – соборы для собрания книг. Дуга бросается из правого нижнего угла полки поддерживать верхний левый. Лампы – цветы гортензии. Кружатся между роз танцующие над диваном. Спинка дивана не хочет быть прямой, разделилась на две ступеньки и расцвела кривыми. Другая спинка разделилась на овалы, дающие опору, но пропускающие и пустоту. Девушки прячутся за ширмами с девушками среди цветущих веток. Разговоры среди деревьев. Тишина с цветком в руке. Павлиньи хвосты перегородок отвечают павлинам на стеклах. Ствол зеркала, на котором выросли грибы. Танцующие домашние светло-ореховые сады. Торжество бесконечности деталей. Вошедшая в дом природа, где нет прямых линий.
Тумбочка – кроваво-красный бык. Зеркало говорит из путаницы металлических цветов, отражая их, отражающих его. Та, кто с флейтой, в изголовье кровати играет снам.
Терракотовый ветер волос, сонно-мечтающе прикрытые глаза, вздернутые носы, одежда из зеленых волн или цветов – скульптуры Эскалера. У кого-то зеркало в руке, у кого-то оно – включенный в скульптуру фон, делающий фигуру двойственной и тройственной. Ветер, который не удержишь – и который не пойдет цыганской шумной толпой. Рыжая танцовщица в изнеможении упала в кресло. Белая бессонница закрывает лицо ладонью. И многим ли отличается рвущийся и пробитый металл балерин Гаргальо от его вакханок?
Абстракция созрела прежде Кандинского в архитектуре, в мебели – многие фигуры на зданиях или шкафах в их торжестве кривых и выступов вряд ли возможно соотнести с цветами или зверями. А на стене панельного дома вытянулись кошки – и он уже не чужой в старом квартале. А можно расцвести чешуйчатыми красками-бабочками. Можно вырастить на вертикальной стене газон. Сложить дом из кругов внутри круга. Сделать музей совсем эфемерного – запахов. Но модерн остается не получившим ответа вызовом тому, что пошло по пути демонстрации техники.
Птицы укрылись от лисы на крыше – поддерживать цветные колонны беседки. Окна вытягиваются и круглятся. Цветок с цветущими ветками в каждом закругленном лепестке. Острые башенки на фоне зеленого склона горы. Дом с коричневой по белому вышивкой ромбами окон, ромбами чешуи балконов. Змеи под крыльями орлов. На тяжелых колоннах расположились гнезда серьезных белых стрижей. Довольный мальчик крепко держит пойманную лягушку. Девочка с корзинкой гладит волка. Они работают – поят в жаркий день.
Можно играть объемами эркеров на фасаде – высокие полуцилиндры, квадраты, прячущиеся между них полушестигранники. Их короны – балконы и башни. Цветок в картуше, завершающем крышу, крепко обнимает небо. Балконы для запада и востока выше, чем для севера и юга. Гирлянды деревянных треугольников. Голова слагается из блестящих лучей. Дом поставил на себя пещеру чердака, под ней кометы, над ней процветающий шпиль. На другом доме корона – над рядами острых копий верных вассалов. Утка и петух над входом превратились в перепончатокрылых когтистых демонов. Лучник целится в дракона через головы входящих в дом. Три девушки идут с корзинкой и яблоками в платке – но над ними летит четвертая и заносит нож. Кто убегает – бежит столь быстро, что становится отрывающимися клочьями. Кто догоняет – лишь протягивает руки, не в силах выбраться из огромных плоскостей отставания. На глазах дверных ручек.
Колокольня современной церкви может быть похожа на трубу электростанции с поддерживающей параллельной решетчатой конструкцией. Но действительно – и там, и там сила, как ее понимают те, кто строили. Здание электрической компании в центре притворилось замком. Под драконий замок с заросшей башней замаскировался и ресторан. А старая зубчатая передача от корабельного двигателя – хорошая скульптура в парке.
Посидим на белых, красных, зеленых, синих квадратах и кругах, неожиданной мягкости чистых красок и точных фигур. Там за потолком собрали способы делать мир ярче. На ровность пола даже модерн не покусился – но почему бы полу не стать волной, приглашая лечь, читать, пить кофе? Шары лампы балансируют на стержне. Стальная лента собралась в кресло. Керамическая полоса просунула язык сквозь себя и стала вазой. Зеркало расходится тонкими отростками. Если перевернуть большой стакан, на дне его окажется маленький. Кровать прикинулась каретой, а комод – многоэтажным домом с оградой на крыше. На прозрачности стекла стакана хорошо и птице, и спотыкающемуся пьянице. Порой яркость зазывает и бьет по глазам, становясь слишком простой при этом. Но работать приходится, а работа чаще всего скучна, тут ничего не поделать. Крыша, отражающая земной торг, пытается сломать его углами – но торгующие не поддаются. Не поддаются и едящие отражению в другой крыше.
Маленькие неровные пятна – или граненые блики – яркости собрались на брошках. Но красок хватит и на то, чтобы они собрались в скульптуры Миро, в радугу бабочки на фасаде. Дальше раскрашенный мир окраин. Граффити дома, где еще дом – воздушный шар. Домофон охраняет птицекрокодил. К стене приклеена фотография заглядывающей в дверную щелку обнаженной девушки. Другая, надев маску птицы, несет цветок в кадке. Черный рак сражается с красным. Тукан устроился на несущей корзину фруктов. Зебры гонятся за львом. La solidaritat la nostra millor arma [1]. Freedom&Love огромными буквами по балконам другого дома – одно без другого действительно не получится.
На мозаике во всю стену лишь целующиеся губы. Контур девочки танцует около контура ослика. Запрещено кормить птеродактилей – значит, и они тут есть. Стены облеплены плакатами, рекламирующими монологи вагины. Но девушке над ними нет дела до них, она продолжает играть на флейте. На стенах не только граффити, но и стихи про alterego любимой, не такие уж короткие, и некоторые строки рифмуются. Черная подводная лодка всплыла около старого трамвая цвета моря. Другая пытается пробить стену на улице. Ветер наклоняет каменные цветы под балконами.
Тонкие перья посреди чешуй и точек. Модуляции теней и бликов на помятых листах латуни или стали. Гибкость складок платья, стекающих до земли. Скорость углов: прямоугольник на плечах, прямоугольник юбки, прямоугольный, открывающий живот, вырез между ними. Так и черный становится ярким. Кошачьи глаза сверкнут в вырезах на груди. Яркость живет ярко и помирать, пусть даже и ярко, не собирается.
Черепахи кладут конверты в щель почтового ящика – ласточки там живут, и заодно разносят письма. А за ними тихие капли идут по мху чаши. С одной стороны окна архива человек читает книгу, с другой – мышь ее грызет. Из окон собора высовываются играющие на лютнях. Слон работает – выливает дождевую воду. Единорог только втыкает свой штык в небо. Арену для боя быков превратили в торговый центр. Другая арена стоит в запустении, и на ее башнях устроились голубые глазастые яйца. Яркость растет, не подавляя. Цветы внутри окон рифмуются с каменными розами и подсолнухами балконов. Стаи зонтиков убежали от японок внизу и поселились на стене, охранять их поставили извилистого китайского дракона – все они там восток, сами разберутся. Зеленые попугаи толпой гуляют по зеленой траве, вышагивают вместе с голубями по плитам мостовой, садятся на плечи прикормившего их горожанина. Из сплетения сухих прутьев возникает рыбосвинья. На рельефах – отдыхающие с зонтиком от солнца у шезлонга. Прозрачные девушки витрин. Колонны, что стоят в ряд просто так, они никогда ничего не держали.
Новая романика приглашает на капители фотографа или рыцаря, отбивающегося от омаров. Еще один омар метров десять размером, улыбаясь, подкарауливает гуляющих по набережной. Окна сдвинули свои арки влево и вправо – и превратились в пару изумленных глаз. Листья поддерживают кремовые торты и ракушки балконов. Хамелеоны цепляют языками хвосты хамелеонов, идущих впереди. Плакучие кактусы тихо склоняются в воду пруда. Дом спрятался в плащ из реек. Синие ящерицы парят над фонарями – прячутся в небе от птиц? Девушка устроилась в тепле лампы и книг, одежда ей не нужна. Буквы-люди Эрте тоже пришли сюда. На дорожном знаке идет человек с головой-глазом. Только успевай замечать.
Девушка бежит на закате по облакам – только лента успевает за ней. Громадные проволоки танцуют на ветру. Войдешь в их сеть, потянешь за не менее перепутанную ручку двери, купишь леденец с коноплей. Та, кто тонкими руками держит днем дома и деревья, ночью держит луну и птиц.
[1] Солидарность – наше лучшее оружие (каталонский)
Элизабет Бишоп. Два стихотворения в переводах Елены Рачко-Ефимовой
БЕНЗОКОЛОНКА
Ох, какая же она грязная,
эта маленькая заправочная!
Пропитанная маслом насквозь
до жутковатой
черной полупрозрачности –
Эй, осторожнее там со спичками!
У отца грязный, тесный,
маслом пропитанный комбинезон,
который жмет ему подмышками,
и несколько шустрых, дерзких,
промасленных сыновей,
которые помогают ему в деле
(это семейная заправочная),
все грязнущие с ног до головы.
Живут они там, что ли,
в этой заправочной?
Там за колонками – бетонное крыльцо.
На крыльце – гарнитур помятой,
впитавшей масляные испарения
плетеной мебели; на плетеном диване
уютно устроился грязный пес.
Стопка тоненьких комиксов –
единственное цветное пятно –
особой расцветки.
Они лежат
на большой, смутной кружевной салфетке,
которой застелена табуреточка
(часть другого гарнитура),
рядом с большой, волосатой бегонией.
Зачем этот
не относящийся к делу цветок?
Зачем табуреточка?
Зачем, о зачем салфетка?
(Вышитая гладью, изображающей,
по-моему,
маргаритки;
увесистая от вязанного крючком
серого кружева).
Кто-то вышил салфетку.
Кто-то поливает цветок
или смазывает, кто его знает.
Кто-то
так ставит банки масла рядком,
что они мягко говорят
НЕФТЯНУ-НУ, НУ-НУ-НУ
нервным автомобилям.
Кто-то любит нас всех.
ЛОСИХА [1]
Посвящается Грейс Балмер Боуенс
Из узких провинций
рыбы, чая и хлеба,
края длинных приливов, где
дважды в день
залив уходит от моря, катает
селедки косяк взад-вперед,
где река
вступает ли, отступает
стеной коричневой пены,
встречает ли, провожает,
все от залива зависит –
дома он или нет;
где, затянуто красным
илом, солнце садится,
глядя в красное море, а то
чертит прожилки, огненные ручьи
на мокром песке
цвета бледной лаванды;
там, по дорогам из красного гравия,
вдоль сахарных кленов, стоящих рядами,
мимо вагонкой обшитых фермерских домиков, или
с той же вагонкой обветренных белых церквей,
ребристых, как ракушки, мимо
двух сдвоенных черно-белых берез
ранним вечером едет
автобус, едет на запад; лобовое стекло
отливает розовым цветом, и розовый свет
поблёскивает на металле, скользит
по помятому боку,
по синей побитой эмали;
с горки, на горку,
и ждет терпеливо, пока
один пассажир обнимает
и целует семь своих близких
на прощанье, и рыжая колли
важно за этим следит.
До свидания, вязы,
ферма, собака. Автобус
снова заводит мотор. Свет
становится гуще; тонкий,
солёный, нестойкий
нас обступает туман.
Кристаллы его, холодны и округлы,
скользят, оседают
на белых куриных перьях,
на серых, отлакированных кочанах
капусты, на кочешках роз,
на люпинах, стоящих апостолами;
горошек цепляется
за мокрые белые нитки
на белёных заборах; шмели
заползают
в цветы наперстянки; и вот
начинается вечер.
Остановка у речки Баасс.
Затем Экономии –
Нижняя, Средняя, Верхняя;
Пять Островов, Пять Домов,
где женщина на крыльце
вытряхивает после ужина скатерть.
Мелькнул бледный свет. И пропал.
Болота Трантра́мра и запах
солёного сена. Дрожит
мост железный, и планка
разболтанная дребезжит,
но держится.
По левому борту поплыл в темноте
красный свет –
фонарь на корме корабля.
Вот два сапога, торжественно
им освещённых. Вот гавкнет собака и
сразу замолкнет.
К нам вскарабкивается
женщина с клетчатой сумкой
бодрая, пожилая, в веснушках.
«Прекрасная ночь! Да, сэр,
до са́мого Бостона», – и дружелюбно
оглядывает автобус.
В окна светит луна,
когда мы въезжаем
в леса Нью-Бранзвика –
мохнатые, царапучие, занозистые;
лунный свет и туман запутаны в них,
как овечья шерсть на кустах.
Пассажиры задрёмывают.
Храп. Долгие вздохи.
Сны наяву начинаются
и блуждают в ночи –
тихие, медленные
звуковые галлюцинации...
В поскрипываниях, постукиваниях,
старый разговор, который
нас не касается, но
нам знакомый, там, где-то
на задних сидениях – голоса
бабушек, дедушек –
непрекращающийся разговор
продолжается в Вечности,
называет имена,
наконец-то выясняет невыясненное –
что он сказал, что она сказала,
кого отправили на пенсию;
смерти, смерти и болезни;
год, в котором он снова женился,
год, в котором (что-то) случилось.
Она умерла при родах.
Это был тот сын, который пропал
когда затонула шхуна.
Он запил. Да.
Она совсем опустилась.
Когда Амос начал молиться
всюду, даже в лавке,
и родным наконец пришлось
отправить его в приют.
«Даa...» - это странное
утверждение. «Даa...»
Резко втянутый воздух,
полу-стон, полу-согласие,
означающий: «Жизнь такова,
мы знаем её (также смерть)».
Говорят так же, как говорили
лёжа на старой пухо́вой перине,
покойно, об этом, о том,
в коридоре притушенный свет, и лежит
пес на кухне
свернувшись под шалью.
Теперь можно, теперь
не страшно даже заснуть,
так же, как и в те вечера.
– И вдруг водитель резко
тормозит, выключает фары.
Автобус стоит.
Это лось вышел
из непроходимого леса
и стоит, возвышается
посередь шоссе.
Подходит и нюхает
горячий капот.
Высоченное, безрогое,
огромное как церковь,
простое, как дом,
(или, надёжное как дом) существо.
Мужской голос говорит успокоительно:
«Совершенно безобидное»...
Несколько пассажиров
восклицают тихонько,
шепотом, как дети:
«Какие они большущие звери».
«Очень уж неприглядные».
«Смотрите, смотрите! Это же самка, лосиха!»
Никуда не спеша,
она оглядывает автобус,
величавая, сверхъестественная.
Почему же мы (все мы)
чувствуем эту внезапную
радость?
«Интересные звери»,
говорит наш водитель негромко,
напирая на «р».
«Нет, это ж надо».
И заводит мотор.
Ещё мгновенье,
если вытянуть шею назад,
можно увидеть лосиху
на залитом лунным светом
асфальте; потом
только легкий лосиный запах,
только резкий запах бензина.
[1] перевод выполнен при участии Ирины Машинской
Элизабет Бишоп. Два стихотворения в версиях Ирины Машинской
ПОЛНОЧНЫЙ ЭФИР [1]
гусиная лампа
Как вы знаете, сейчас полнолуние – по крайней мере, над половиной мира. Но здесь луна кажется неподвижной. Она почти не дает света; может быть, она вообще уже мертва. Видимость слабая. Тем не менее, мы попробуем дать вам хоть какое-то представление об этой местности и о текущей ситуации.
пишущая машинка
Уступ резко воздетого над центральной равниной плато погружен в глубокую тень, но тщательно сработанные ступени его южного ледника слабо светятся во мгле, подобно рыбьей чешуе. Плоды каких нескончаемых трудов эрозии являют собой эти странно выточенные террасы! А ведь именно от них зависит сейчас судьба этого крошечного княжества.
ворох рукописи
Около часа назад на северо-западе обрушился сель. Обнажившийся пласт явил довольно-таки бедные почвы: белесые, с известью, слегка сланцеватые в текстуре. По сообщениям жертв нет.
машинописный лист
На севере разведка обнаружила ранее неизвестное нам большое «поле» прямоугольный формы, испещренное темными пятнами, явно антропогенного происхождения. Взлетная полоса? Кладбище?
конверты
В этой маленькой отсталой стране, одной из самых отсталых на свете, каналы коммуникации примитивны, а индустриализация и ее продукты практически отсутствуют. Поражает при этом гигантомания придорожных щитов и транспарантов.
чернильница
Нам сообщают также о загадочной формы черном объекте на востоке. Расстояние до этого объекта не разглашается. Его присутствие обнаруживает лишь гладко отполированная поверхность, отражающая слабый лунный свет. Поскольку информация о естественных ресурсах страны далеко не полна, представляется возможным, что данный объект или является неким устрашающим секретным оружием, или содержит его в себе. С другой стороны, учитывая то, что мы уже знаем об этом народе и то, что сообщают нам о нем наши антропологи и социологи, данный объект, вероятней всего, либо дух, покровитель места, либо один из тех огромных алтарей, что туземцы воздвигают своим богам, которым, в своем нынешнем историческом состоянии, смеси суеверия и беспомощности, они приписывают чудесные свойства и власть, и может быть даже считают «спасителями», своей последней надеждой избегнуть тяготы существования.
ластик с кисточкой для пишущей машинки
Наконец-то! Только что был обнаружен один из неуловимых местных жителей. Похоже, это – а точнее, это был – курьер-моноциклист, из-за обманчивого освещения упавший с вершины плато. При жизни он, должно быть, был невысок, но горд и прям в осанке, с жёсткими густыми черными волосами, типичными для туземцев.
пепельница
С нашей высоко расположенной точки наблюдения ясно видна землянка, или окоп, а возможно, просто воронка от прошлого взрыва: солдатское «гнездо». Они лежат вповалку, в своем камуфляжном обмундировании, предназначенном для зимних военных действий. Контуры их тел обезображены; все они мертвы. Мы можем различить по меньшей мере восемь трупов. Эта униформа была создана когда-то для партизанской войны на снежной вершине единственной в стране горы. Тот факт, что эти несчастные солдаты одеты в нее здесь, на равнине, есть лишь еще одно свидетельство – если таковые свидетельства вообще требуются – либо наивности и безнадежной непрактичности этого непостижимого народа, либо прискорбной коррупции его лидеров.
[1] первая публикация стихотворения – журнал «New Yorker», 1973 г.
ДОБЫЧА
Он был огромен,
я держала его на весу за бортом
наполовину в воде,
с моим ржавым крюком,
накрепко всаженным
в угол рта.
Он не боролся,
он вообще не боролся,
а сразу повис
тяжело и покорно,
почтенный, потрепанный,
в своем водяном затрапезье.
Бурая кожа свисала,
как полосы
отслоившихся
древних обоев
– там, где бурое было темней – как обои
с повтором узора:
взбухшие, с пятнами розы,
потерявшие с возрастом облик.
Весь был в крошке ракушек,
в тонких розетках
извести, весь
в ожогах
крошечной белой океанической вши,
а с живота
свисали две-три
зеленые тинные тряпки.
И пока его жабры вбирали в себя
наш кислород –
страшные жабры,
живые, горящие свежей
хрусткой кровью ножи –
я представила грубую белую плоть,
плотно сжатую,
упакованную, как перья,
одно к одному,
крупные кости и мелкие гибкие косточки,
смоль и влажную алость
сверкающих внутренностей –
и огромный
раскрытый пионом
розовый
плавательный пузырь.
Я заглянула в глаза,
гораздо шире моих
но мельче, желтей,
в зрачки с подоткнутой снизу
оловянной фольгой,
их – с патиной, в пятнах – испод
сквозь линзы
царапанной блеклой слюды.
Сдвинулись, но не с тем
чтоб ответить моим
– а так, как вещь
чуть склоняется в сторону света.
Я изучала угрюмость лица, безупречный
механизм челюстей
и увидела:
с нижней губы
(если это вообще можно назвать губой)
мокрым угрюмым оружьем свисали
лески, точней,
пять обрывков,
точнее, четыре обрывка и проволока
поводка, все еще с вертлюжком,
и все пять крюков, крепко вросших
в рот.
Одна, изумрудная леска с вахлатым концом
где рванул,
две лески потолще
и тонкая черная нить, все еще
скрюченная от натяженья,
когда она лопнула
и он
сорвался,
– болтались как потертые ленты медалей,
точней, в пять волос
борода ветерана.
Я неотрывно смотрела
в него,
покуда победа
не наполнила
на день взятую лодку,
всю – от плещущей в трюме лужи
с радужным ободом вкруг ржавого двигателя –
до черпака в оранжевой ржавчине,
до рыжих солнцем растресканных бимсов,
до уключин на тертых гужах,
до краев,
до фальшборта,
покуда не стало
всё вокруг радугой,
и я отпустила его
Ритм как инструмент эмоционального контроля: Элизабет Бишоп, «Лосиха»
Элизабет Бишоп – необычный лирик. Взгляд ее неизменно направлен от себя, к мгновенным сочетаниям вещей, людей, объемов и пространств. Эти сочетания и ситуации воссоздаются отстраненно, без аффектации, но, как это бывает в лучших стихах, вызывают сложной природы ответное волнение, в том числе и мыслительное, и парадоксальным образом именно потому в необычной даже для лирической поэзии степени выражают ее глубинное «я».
Попытки в разговоре о стихах держать в уме «реальную» личность поэта, точнее – то, что, как нам кажется, мы знаем о ней, всегда рискованны, но в некоторых случаях это полузнание все-таки кажется важным. Трудно, в случае Бишоп, не замечать сходства ее человеческого очерка, легендарной сдержанности и приватности [1] – и того, с каким мастерством она управляла в стихах не только степенью собственной открытости, но и восприятием ее читателем, как виртуозно пользовалась тоном и ритмом, как незаметно переключала эмоциональные регистры. Находясь в абсолютной оппозиции к победившей в ее время «исповедальной» и во всяком случае обращенной к себе поэзии, к которой принадлежали тогда, кажется, все – от Энн Секстон, ее полной противоположности, до ее близкого друга Роберта Лоуэлла – она представляла ушедшее на время в подполье меньшинство. Бишоп училась метафизической сдержанности у Джорджа Герберта (1593-1633) и языку вещей, выразительности их имен у Дж. М. Хопкинса (1844-1889) – двух особенно любимых ею поэтов. Ученичество у Хопкинса проявляется и в плотности словесной формы, в том, как любое самое нейтральное «описание» дается в ощущении, подспудно – и медиумом служит ритм, акустический и визуально-образный, и его производная: тон. Интересно посмотреть, как это происходит у нее в, казалось бы, сугубо нарративном тексте.
Стихотворение Элизабет Бишоп «Лосиха» – подробная регистрация многочасового, в 28 шестистрочных строф, маршрута в автобусе дальнего следования из северо-восточной провинции Новая Шотландия в Канаде до Бостона в Массачусетсе. До конечной, впрочем, стихотворение не добирается и прерывается в начале пути, в ночных лесах канадской провинции Нью-Бранзуик.
Как всегда у Бишоп, описание незаметно составляется в ландшафт того или иного рода. «Лосиха» начала превращаться в стихотворение спустя десять лет после воссозданного в тексте события и спустя десятилетия после детства в «провинциях узких заливов». Иначе говоря, это в большой степени ландшафт воспоминания. Как все дети, вырванные в самом начале жизни из своего пространства, насильно пересаженные в другое, Бишоп отличалась не только ярким воображением, но и необычно сильной памятью.
Не вдаваясь в детали сложной биографии поэта, здесь отметим, насколько этот маршрут привычен для постоянно перемещавшейся в пространстве Бишоп, перипатетика по природе. Родившаяся в пригороде Бостона, рано осиротевшая, она воспитывалась вначале родителями матери в Канаде (именно в Новой Шотландии, о которой тут речь), в месте под названием Большая Деревня (Great Village), затем в семье родителей отца (именно в Массачусетсе) и снова в Канаде: тетками, сестрами матери. Одной из них и посвящено это стихотворение.
Маршрут: карта
В отличие от большинства невольных путешественников, для которых поездка определяется, главным образом, двумя точками отправления и прибытия, в своих странствиях Бишоп должна была непременно держать в уме карту. Вообще, то, что принято называть «географией», – необыкновенно важная часть ее жизни. Не случайно последний сборник ее называется Geography III («География, часть III»), а одно из самых значительных стихотворений – ранняя «Карта» ("The Map"). Отношение Бишоп не только к месту, то есть к конкретной физической точке-пространству, к тому, как расположены вещи и места по отношению друг к другу, но и к способу изображения поверхности Земли на плоскости, было необычно личным, горячим. Это, пожалуй, единственный известный мне человек, для которого, например, момент пересечения экватора (на пути в Бразилию), событие для прочих регистрируемое туристически – как любопытная, но быстро забывающаяся условность – приобретал такую гипертрофированную эмоциональную важность.
В тексте присутствует множество топонимов, участвующих в повествовании наравне с голосами и лицами, объектами, тенями, лучами и бликами света, фрагментами ландшафта, но главный персонаж, Лосиха, появляется только в конце. Первые три строфы – пространство, из которого человек выбывает, данное крупными мазками широкой кистью [2]. И язык, и ритм, и ландшафт здесь не просто эпичны, но слитны: это единый трехмерный континуум; крупные фрагменты его скреплены настойчивым синтаксисом, серией повторяющихся «где», подымающимся и спадающим гармоничным дыханием стиха и глубокими – иногда точными, иногда консонансными или ассонансными –рифмами и отражениями, и все вместе они создают эффект длящегося действия, эха. Почти все окончания представляют собой английский открытый слог, и от этого строки пластичны и волнообразны, а приземление их в конце, их туше, растягивающееся на два гласных звука, мягко. Косяки сельди катаются длинной приливно-отливной волной взад-вперед, в море и на сушу, как пассажиры в автобусе дальнего следования. Читатель следит за мерным связным движением больших объемов воды и жизни, вторит ему своим дыханием.
Далее – собственно маршрут, в котором пристегнутые к сиденьям обитатели автобуса, как те сельди, бездеятельны и неподвижны относительно несущей их капсулы (пространственной и временнóй) и поневоле подчинены закону движения этой капсулы по поверхности Земли. На протяжении всего текста глаголы даны в простом настоящем (present indefinite) времени, причем показательно, что в длинном тексте нет ни одного случая протяженного (present continuous) – эффект получается двойственный: во-первых, нарратив подсушивается, еще больше уходит от «лиричности»; во-вторых, в английском простом настоящем заложен и чрезвычайно важный для этого текста аспект повторяемости. Характер и смысл этого неопределенного настоящего изменчивы: с одной стороны, вечные мерные ритмы природы во вступлении, их пластичная осциллирующая неизменность; с другой – описание событий в автобусе и человеческом мире за окном – дробных, мелких – и таких же раздробленных обрывков разговоров внутри. Это пристальное всматривание и вслушивание, но если обычно в текстах Бишоп детали тщательно отобраны и погружены в основу, как кристаллы в порфировой породе, то в «Лосихе» подробное последовательное многофасетчатое описание, пространственная инвентаризация событий формируют само тело текста, саму породу.
Маршрут: нарратив
Как это обычно бывает в начале долгого пути, повествователь с добросовестным любопытством регистрирует все подряд, вплоть до самых мелких деталей: капель тумана, нитей сладкого горошка, роз, похожих на маленькие кочаны капусты. Все это изученные места, и ездок заранее знает все, что произойдет: как на крыльце хозяйка будет вытряхивать скатерть после ужина, как предсказуемо задрожит железный мост и проплывет красный фонарь порта. Так закладывается в ритме мелькающих в окне вещей оппозиция предсказуемости и гармонической регулярности, контраст рассыпанного, дробного мира людей – и единого, слитного, протяженного, закономерного – в то же время в своей основе свободного, длящегося, непредсказуемого мира природы вне человека.
С наступлением сумерек пассажиров плотно обступает туман, мир группируется и стягивается в компактную камеру дорожной несвободы. Одиночный короткий лай собаки (резкая строчка «A dog gives one bark») отмечает смену сцены. Внимание повествователя сосредотачивается на освещенном внутреннем объеме автобуса, тоже фрактальном: a разговоров, к которым нехотя прислушивается пассажир, и на тех мелких событиях, важность которых неестественно укрупнена замкнутостью дорожной ситуации и которые немедленно забываешь, выйдя на своей остановке.
Луна восходит над лесами Нью-Бранзуика – и тут всего за пять строф до конца текста происходит центральное событие: автобус резко останавливается, водитель выключает фары; появившись внезапно из непроницаемого леса, на шоссе вырастает безрогий лось – лосиха, – она возвышается, царит над освещенной луной сценой, как храм. Интерес и удивление человека и зверя взаимны. Люди пытаются передать это первыми попавшимися, неловкими, ритмически угловатыми возгласами; лосиха «с любопытством» принюхивается к горячему капоту. Автобус трогается с места, человек оборачивается, зверь пропадает вдали – остается лишь его легкий размытый образ в дымке, эфемерный запах лесного существа и отчетливый стойкий запах бензина.
На первый взгляд, стихотворение настораживает слишком явно проступающей заведомой задачей, тем, что по-английски называется agenda: оппозицией пространства/времени людей – и природы. Как всегда у Бишоп, в описании лосихи ни тени антропоморфности, но при желании читатель волен, конечно, вчитать в эту сцену несложный смысл: лосиха – если не аlter ego, то, по крайней мере, родственное повествователю существо, которое так же всматривается в мир вокруг, так же чутко и при этом отстранённо принюхивается к нему. И, разумеется, современный, настроенный на все гендерное читатель может отметить важность того факта, что лось оказывается именно лосихой, и определенно связать не только с темой alter (altra) ego, но и с биографией Бишоп, ее открытой, хоть и не афишируемой, гомосексуальностью и в целом – весьма решительным и определенным даже для женщины ее поколения и ее круга устроением своей жизни. Однако такое, как и любое другое программное прочтение, было бы не только банально, но и неверно: Бишоп поэт в принципе антипрограммный. Ее тексты, их физика, вещество говорят сами за себя и на своем собственном языке: объектов и объемов выражающей мир речи, ее ритма и рифмы, ее фактуры.
Контроль: ритм, рифма, движение, timing
В сознании многих читателей поэзии ритм (чаще понимаемый как просто метр) – это что-то нисходящее на поэта. В этом есть доля истины, ибо поэт, действительно, не выбирает ритм как выбирают приличествующий событию костюм и перчатки. Но в окончательном решении он все же принимает участие, сознательно, полусознательно или бессознательно ритмом управляя. Хорошо понимавший Бишоп поэт Том Ганн, и сам необычайно чуткий к ритму, и так же, как и Бишоп, находившийся на обочине литературных процессов своего времени, сказал как-то о ее намеренном ритме («her deliberate rhythm»). Известен интерес Бишоп, особенно в годы жизни в Ки Уэст, где она встречалась с людьми, хорошо знавшими Хемингуэя, к построению им фразы и текста в целом, к тому, как ритм рождает ощущение understatement и какое действие производит сочетание этого understatement с темой, сюжетом и его движением.
Поразителен уверенный контроль Бишоп над эмоциональной открытостью и закрытостью: поэт подобен машинисту поезда, стихотворение работает как поршень, открывается и закрывается некий хорошо спрятанный клапан. И закон этого механизма противоположен ожидаемому: именно там, где поэт приближается к самым болезненным точкам своей судьбы, к мучительным теням из прошлого, тон становится наиболее нейтральным, обыденным, а ритм, внешне угловатый, и на поверхности даже случайный – более определенным и жестким. То есть в этих стихах все природное и регулярное в своей сути – закат солнца, восход луны, накат и откат волн (herrings‘ rides) и колебания реки – сложно в своём мерцающем слитном движении. Когда же начинается описание мира людей, и появляются отголоски автобиографических мотивов, хотя бы и данных фрагментарно и со смещением в третьи лица, ритм меняется, он становится проще, в нем появляется подобие метрической регулярности (насколько она вообще возможна у Бишоп); эта формальная регулярность, простота ритмического узора работает как маска, за которой можно спрятаться.
Баптистские гимны Новой Англии, первые услышанные Бишоп стихи, чрезвычайно прочны ритмически. Мелодия и текст варьируется, но ритм остается незыблем: 8.8.8.8. Оправленная в раму метра, сильная эмоция становится управляемой и обретает внешнюю опору. Это в целом справедливо для любой формально определенной поэзии, но у Бишоп интересны именно переходы от текста в твердой раме к тексту в раме пластичной, а то и к почти резиновой оболочке полупрозы.
В раннем эссе о Хопкинсе Бишоп определяла движение в поэзии как «высвобождение, контроль, временение (timing, то есть и мера времени, и течение в его потоке – И.М.) и повтор движений ума в соответствии с упорядоченными системами» [3].
Она была не только была очень музыкальна, не только любила ритмически сложные жанры, такие, как, например, джаз, но и сама в какой-то момент, в старших классах частной школы и в Vassar College, собиралась стать пианисткой или композитором. Тонально и ритмически ее стихи отмечены отличным вкусом, в них нет ритмического нагнетания и наворота и, конечно, нет автоматизма. Ритм изящен, и при этом как любое истинное изящество, естественен. Если прослушать немногие сохранившиеся выступления Бишоп, слышно, как в чтении своем она отказывалась читать ямб как ямб, как приближала метр не просто к свободному стиху и, тем более, к белому стиху, а практически к прозе. Это вовсе не означает разболтанности: напротив, эта музыка сложна и подспудно определенна, электричество в ней течет без всплесков, но осмысленно, в соответствии с логикой, а неровности разъезженной дороги добавляют сдвиги и задержки ритма, они накладываются на неровный тон длящегося повествования.
Неровно ведет себя и время. Лосиха появляется мгновенно и на несколько мгновений. В ее застывшей в царственном удивлении позе заложена текучая непрерывность движения: она стоит, вечная, никуда не исчезающая, и при этом длится, течет вместе со временем. С другой стороны, все мелькающее (то есть дискретное и мелкое) в окне появляется и исчезает, но в каком-то смысле стоит, застывая в своем повторяющемся однократном проявлении.
Визуальный ритм: объёмы пространственные и световые
Бишоп – поэт наблюдения, ее ритм и метр, о котором мы говорим – не только в звуке и длительностях, но и в ритме образов, объектов, во взаимном расположении вещей, в характере узоров, в которые складываются видимые картины.
Если вступление – большие текучие объемы, данные в тексте не только ритмом звуковым, но и графическим, панорамой безграничного пространства, то все последующее описание дороги – наоборот: дробные фрагменты-кирпичики. Если приливы и очертания материка даны широкими мазками, обрывки ночных автобусных разговоров прописаны будто тонкой кисточкой или пером, это летающие обрывки тонких ясных нитей [4]. Мелькающим человеческим постройкам, материальным и нематериальным, присуща несложная фрактальность, бесконечно воспроизводящий сам себя линейный порядок. Стоят рядком церкви – повторяющиеся, «аккуратные», похожие на раковины, мелькают похожие поселки, беленые заборы, и вообще маршрут маркируется то и дело возникающими искусственными цветами – красками без оттенков: красной (red), белой, синей.
Схема рифм создает ощущение перебирающихся возможностей, пермутации не слишком большого количества объектов. Бишоп увлекалась ассамбляжами Джозефа Корнелла, в которых сводилось воедино внешне несочетаемое, и даже сама делала похожие «коробки». Рифма, ее схема – ведь тоже ритм: ожидание, повтор, отклонение от ожидания. Так секстина, которой Бишоп посвятила одноименное стихотворение, играет с вероятностями в жестко упорядоченном пространстве 6-строчных строф. «Лосиха», разумеется, не секстина, но 6-строчные нерифмованные строфы нанизываются с похожей монотонной регулярностью – бесконечные возможности мира, заключенные в рамку предсказуемого маршрута.
Там, где повествование опасно подходит к самому личному, спрятанному, но узнаваемому, к драме жизни автора, вытесненной в третьи лица и третьи судьбы, рифмы становятся почти тавтологичны, временами напоминая почти детские стишки, музыка, ее ритм и словарь, звучат несложно и резко:
<…> He took to drink. Yes.
She went to the bad.
When Amos began to pray
even in the store and
finally the family had
to put him away. <..>
Характер рифм и синтаксиса относятся тут не только к звуку, но и к рисунку текста; графика его выражает собой текстуру земных картин. Мелькают в сумерках поселки, зажигаются огни – ранний деревенский ужин.
<…> One stop at Bass River.
Then the Economies—
Lower, Middle, Upper;
Five Islands, Five Houses,
where a woman shakes a tablecloth
out after supper. <..>
А с другой стороны – приливы и отливы, смена закатов, оттенков, и совсем иные, тонкие оттенки цвета и оттенки рифм (sets/flats/rivulets; mud/red):
<…> where, silted red,
sometimes the sun sets
facing a red sea,
and others, veins the flats’
lavender, rich mud
in burning rivulets <…>
Ритмы заданы и движением объемов световых. Во вступлении это огромные пространства света над пространствами воды. Далее они дробятся на блики – так же, как дробится на капли туман, обитание человека – на белые кубики домиков и церквей, а зелень мира – на подробные зерна и нити сладкого горошка и «кочанчики» цветков посаженных роз, как будто их можно по отдельности разглядеть из автобуса, да еще движущегося. Каждый такой объем прорисован отдельно если не зрением, то воображением.
Короткая кода по инерции с предыдущими строфами сохраняет фрагментарность, но в ней озаренное луной пространство снова расширяется, и снова включает в себя континуум леса и всего природного мира, отдельные блики и лучи сливаются в один лунный свет, свечение. Встреча длится несколько мгновений, но эти мгновения в чем-то подобны картинам, разворачивавшимся во вступлении: небольшой освещённый луной круг посреди непроглядной лесной тьмы становится моделью большого мира.
 Одна из коробок Джозефа Корнелла, выполненная с включением картографических мотивов
Одна из коробок Джозефа Корнелла, выполненная с включением картографических мотивов
Сетка: биография, словарь, узлы
Интересно сравнить «Лосиху» с описанием реального события, происшедшего с Бишоп во время одной из автобусных поездок в 1946 г., то есть, задолго до первых набросков стихотворения и тем более его окончания (работа длилась с перерывами двадцать с лишним лет). Описание встречи с лосем в дневниковой записи и в стихотворении близки, но в стихотворении оно погружено в нарратив, и все предшествующее изменяет его [5].
Внутри же самого стихотворения, как это обычно и происходит в текстах Бишоп, трудно сразу обнаружить точку (point) поворота от обыденного наблюдения или прозаического утверждения, statement, снижающего ожидание читателя, к высказыванию поэтическому, когда само стихотворение начинает утверждать что-то такое, что совершенно невозможно перевести на обычный язык внепоэтического высказывания (the poem makes a point), смутно тревожить. Нейтральный тон расслабляет читателя, который неминуемо пропускает момент, когда последовательность утверждений становится стихотворением.
Нащупать эти узловые точки отчасти помогает словарь. Тема задается узлами и повторами главных слов, как выныривает нитка на лицевой стороне ткани, определяя мотив. Одно из таких самых заметных и очевидных в стихотворении слов – слово «дом» и связанный с ним мотив. «Дом приливов и отливов» – заливы Новой Шотландии, а лес – это дом Лосихи. Дом – это и идея места, и реальный объем, как те коробки Корнелла. Should we have stayed at home whatever home might be? – строчка из важного стихотворения “Questions of Travel” («О путешествии») из книги «География, часть III». У Бишоп «дом» – это прежде всего отсутствующий дом, дом без отца и матери – дом-зияние – как в тех обрывках разговоров, из зияний и составленных. В этих фрагментах, запрятанных в сердцевину текста, в одновременно и нейтральном, и тревожном шепоте – неясно, пассажиров ли, своих ли исчезнувших родных [6] – возникают автобиографические мотивы, перенесенные на третьи лица, смещенные в общее: имена, болезни, смерти. Фразы короткие, тон стоический: «Life’s like that. / We know it (also death)», короткое утвердительное «yes». Все лучшие стихи Бишоп полны недоговоренностями, и эти недоговоренности у нее звучат естественно, не как прием – просто как пропуски, без которых невозможно понять линию, смысл судьбы, и двух-трехмерного включающего ее пространства [7].
Мне всегда казалось, что в стихах любого поэта интересно проследить путешествие одних и тех же слов – как в геохимии прослеживается путь элементов в земной оболочке. Одно из таких повторяющихся слов у Бишоп – rivulets (ручьи), которое часто ассоциируются со словом «огненные», а образ – с потоками лавы. Так в «Лосихе» это огненные ручьи на закате на мокром в часы отлива песке, и то же слово встречаем в одном из важнейших ее стихотворений, «In the Waiting Room» («В приемной») где семилетняя девочка разглядывает National Geographic и впервые сознает (переживает катаклизм осознания) странность феномена собственного «я», одновременно отдельность его и в тоже время тождественность с другими. И так же мелькает и в этих двух стихотворениях, и в других (например, «Бензоколонка» [8]) настойчивое «мы» («мы все»). Не случайно так важен для нее Хопкинс с его постоянным мотивом самости, selfhood. Но это уже тема, требующая отдельного обсуждения.
В финале стихотворение снова становится слитным, волнующим и подспудно торжественным. То, что было цепью наблюдений, становится в ретроспекции живым и важным, но чем таким важным – и не сразу скажешь. И маршрут в капсуле дальнего следования, и образ монотонно гудящего в ней человеческого мира, его осколков и отголосков, и впервые подспудно появляющийся – за туманной разорванной пленкой повествования – сам повествователь, субъект, а точнее – источник взгляда – все оказывается связанным субстанцией этого смысла.
Отсветы, отражения очевидно присутствуют и в повторах одних и тех же слов и букв (moonlit macadam) – и это не прием, не какая-то там аллитерация, а проявляющаяся в языке тайна мира, таинственный ритмический закон, который прочно держит длинное повествование. Moon, moose – двойное «о» как два глаза, внимательно ощупывающие явленную поверхность мира. А в слове «gaze», описывающем взгляд и поэта, и лосихи, легко увидеть «gauze» – марлю тумана и мглы, то есть ту пелену, сетку, которую мы набрасываем на реальность, таким образом овладевая и справляясь с ней.
2007-2022
[1] По известному высказыванию Джеймса Меррилла в статье памяти Бишоп, она все жизнь только и делала, что представлялась обычной женщиной (“her instinctive, modest, lifelong impersonations of an ordinary woman”);
[2] Бишоп любила визуальные искусства, и сама немного занималась ими. В ее стихотворении “The Мap” географическая карта и дается именно как произведение живописи. В связи с разговором о сдержанности Бишоп и ее внимании к тону интересна ироническая и точная ремарка – о топонимах на карте, выбегающих, залезающих за края контуров: так бывает, когда «эмоция превосходит свою причину»;
[3] “…Releasing, checking, timing, and repeating of the movement of the mind according to ordered systems.” Gerald Manley Hopkins. Notes on Timing in His Poetry. // Elizabeth Bishop. Poems, Prose, and letters. Ed. Robert Giroux, Lloyd Schwartz. New York: The Library of America, 2008. P. 660;
[4] Елена Рачко-Ефимова, автор публикуемого здесь перевода «Лосихи», привлекла мое внимание к фразе из рецензии на первую постановку «Трамвая "Желание"» (New York Times, 1947): "a quietly woven study of intangibles". Действительно, кажется, что это сказано об этом тексте Бишоп и вообще о ее поэзии;
[5] В письме к тетке Бишоп пишет: «Посвящаю тебе это стихотворение». И добавляет забавное: You are not the moose («Ты – не (эта) лосиха»). Вообще тема животных, вторичная по отношению к теме этой статьи, конечно, сама по себе достаточно важна и требует упоминания хотя бы в сноске. Мир животных был близок Бишоп, ведь в Большой Деревне она жила на ферме, а любившая цирк Марианна Мур, друг и покровитель Бишоп в юности, познакомила ее с миром цирковых зверей, который они часто навещали вместе. Животные всегда появляются в стихах Бишоп как весть о надежности мира, о радости и покое. Трудно удержаться и не упомянуть еще одно событие – эхо стихотворению «Лосиха», законченному в 1972 году. О нем тоже есть запись. Спустя семь лет, в Мейне, в свое последнее в жизни лето, Бишоп и ее подруга последних лет Элис Метфессель увидели из машины, на обочине пустынной дороги в лесах Мейна, двух лосей. Один из них стоя за деревом и, полагая себя невидимым, обернувшись, долго смотрел на нее;
[6] На вторую возможность мне справедливо указала Елена Рачко-Ефимова;
[7] В посмертном издании, включающем ее незаконченные вещи, издании, вызвавшим протесты друзей и коллег, например, Хелен Вендлер, видно, что более проговоренные, подробные, более открыто автобиографические тексты Бишоп были брошены ею или по крайней мере не включены в число всего 78 опубликованных ей стихотворений;
[8] См. перевод Елены Рачко-Ефимовой в этом же выпуске.
Пол Малдун. Кутберт и выдры (перевод с английского Дениса Безносова)
ШКУРА
О крышу машины
застучал дождь,
как о крышку гроба
святая вода,
святая вода и грязь,
падает вниз, стучась,
но пока я слушал
как обращался шум
самой каменистой
тишиной... Целый день
ссыпали её, я чуть
отошёл, уступил путь
довольству, какого
не испытывал много лет,
с зимы, той самой,
когда я надел мир
мехом на кожу,
подкладкой наружу.
НОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ С ДЖ. К. МЭНГЭНОМ
1.
Одни говорят «вымоченный». Другие «пареный».
Как странно забродили черносливы
под наркозом.
2.
Не этот Фрэнсис Бэкон. А этот Фрэнсис Бэкон.
Штрих-код
на пачке с хлопьями на огамическом языке.
3.
По крайней мере мы истолковали правильно,
обжаренная с двух сторон яичница красива,
как кружевная пара трусиков напоказ.
4.
По крайней мере мы не приняли ненароком
в бутылке паракват
за 1990-е Шато д’Икем.
5.
В последний раз клянёмся, как клялись когда-то – впредь
дождю во тьме к нам в дом дверей не запереть.
КАТАМАРАН
Между Доминикой и Мартиникой
едем на поиски кашалота, слушаем его «тинька-тинька»
по гидрофону,
подключенному к колонке. Тюремный стук-шифр
по батарее...
Привлечь его сумеет только слабая надежда.
Сын читает «Повелителя мух». Когда думаю об этой книге, тот-
час вспоминается потрёпанная рукопись, которую Чарльз Монтейт
вытащил из кучи самотека в Фабере.
Уверен, уважаемый Чарльз узнал
версию себя в Хрюше. Те же мучения в средних классах.
Такое же добродушие и лишний вес.
Потом я представляю, что лежу рядом с мёртвой женой,
как кашалот возле мёртвой самки, как если б он над ней
на самом деле скорбел, испуская стон.
Искаженное значение тамильского термина «два бревна,
связанные между собой верёвкой или чем-то таким» –
а мы используем слово «катамаран».
ЧЕРЕПАХИ
Черепаха длиной с локтевую кость – крышка на мусорный бак
возле канала
колдует белфастскими ночами, когда я не могу никак
уснуть, включаю каналы
про полицейских и подставных, сдающих места, где
бронированные машины, преступники жгут коктейли
Молотова. Потом многие бывшие охранники, разведчики стали
пробовать лиру на деле,
никак не могу разобраться, что правда, что нет. Вот,
вода, к примеру, похожа на олово.
Но я не уверен, учитывая их умение чуять, как что-то гниёт,
когда гниёт что-то около,
что эти черепахи не были зачислены в полицейские ряды, чтобы
помогать им разыскивать трупы.
ПОСТОРОННИЙ
I.
В Арме ли был, в Тироне
я меж двух камней уронен.
В Арме ли был, в Тироне
июньским утром ранним
я меж двух камней уронен.
В Арме ли был, в Тироне
июньским утром ранним
в 1951-м
я меж двух камней уронен.
В Арме ли был, в Тироне
июньским утром ранним
в 1951-м
я меж двух камней уронен
да стал им сыном кровным.
II.
Был у меня всего один глаз,
и мне поднимали веко над ним.
Был у меня всего один глаз,
и мне поднимали веко над ним,
как над фоморским.
Был у меня всего один глаз,
и мне поднимали веко над ним,
как над фоморским, тотчас
подперев огнеупорным бревном.
Был у меня всего один глаз,
и мне поднимали веко над ним,
как над фоморским, тотчас
что ни попадется в обзор ко мне,
обращалось камнем.
ТИТОН
Вовсе не детектор дыма и его вчерашний писклявый звук,
снизу, где был когда-то погребок,
или тсс-тсс дремотного раствора изнутри
о крышку склянки под спудом
в аптекарском сундуке, запрятанной вместе с ним
в тёмном углу бабушкиного чердака,
и не это «иди ко мне, моя сладкая, иди»
заиндевелой ветки, индевеющей ветку – не отличишь,
и не звяк-звяк
у твоего прадеда, банковского кассира, что берёг
шестёрку доз целебного (он звал его перевари-
чашником) виски, как шесть стопок медяков, покуда
перед ним те стояли, выложенные одним
лучшим и мудрейшим из членов Американского кружка
нумизматов с той стороны 155-й улицы, и
не проскакал лошадиный табун да воцарилась тишь –
этот стук-стук
услышал твой прапрадед, ярый конфедерат, разок
вывалился из стремян и смотри-
ка стал жнецом, да вот досада –
конфедераты только стали наступать с запада, и не день за днём
пустословное свысока
занудство твоей прапрабабки («дивное сидение, погляди»),
которую и звали Бланш, поди ж,
и снова не детектор дыма и его вчерашний писклявый звук,
снизу, где был когда-то погребок,
но то, что оказалось стрёкотом, каким много лет, тысячи две-три
стрекочет цикада.
КУТБЕРТ И ВЫДРЫ
Памяти Шеймаса Хини
Пока одна из них догрызает полоску плоти
с боковины лосося,
по кусочку откусывает от рыбы,
шесть других выдр охотно
через порог из песчаника переносят
к келье Кутберта рыбину в лавровом венце,
разложенную на липовом срезе –
подобно воину в кольчуге, уложенному на щит –
кажущуюся нетронутой.
Целая рыбина на ужин для аббата.
Это правда – им надо бы еще сложить реповый бурт
да выковать меч с увесистой рукояткой,
но даны уже окрасили всё вокруг бежевым цветом.
Предвкушая, стало быть, как построят заводы по производству
ковров и горчицы на земле, истерзанной бригантами.
Бенидиктинцы все еще любят поболтать, пошутить
о Заповедях. Блаженна каталка на колесиках, ибо от
Спитал Танзк грузовому причалу нас вместе
пройти по тоннелю готовит. Во мне растет
страх и отрицание вести.
Не могу вынести мысли, что Шеймас Хини мертв.
Учитывая, что 9 и 3 прекрасно сочетаются между собой,
в ирландском отряде 27 человек.
В Барроу-ин-Фернесс судостроитель изучает – совладает ли со стеной
гаечный ключ – как ребенок, который чужой
натырить хочет ежевики. В грядущие времена гортензия
пометит все края империи.
Теперь я подсечен под корень своей
скорбью, как при взгляде на скотобойню
на обратном пути из Дарема в Десертмартин.
«Diseart» – от ирландского «скит».
Они собирают торф в телеги на Баллинахон-болоте.
Кажется, один рой мошкары жужжит,
но вовсе безротый.
Но горечь стала слаще,
когда я наблюдал, как эти шесть выдр
царственно пересекали порог. Им так мешала
их ноша. На паруса в полоску нужен
ни один год. Волчьи и медвежьи шкуры
на воинах Одина. Как Дельфийский
Оракул, у кого табуретка на трех ножках,
восседает, расставив пламенные подошвы
среди дымящихся пепелищ,
они, пожалуй, накурены. Вероятно, викинг-мастеровой
под угрозой не справиться, пошел
бы все же на риск, изобрел ветряной
руль, прикрепив к флюгеру штурвал?
Так что крупный корабль опрокинется среди вереска –
подобно, надо полагать, тому,
как пчелиный улей на глади реки Тайн.
Восковые мотыльки живут в том улье. Они распознают звук
на частоте 300 кГц. Лошадь в стойле
может научиться идти на запах. Так,
если щетина заметно стала
гуще, значит усох подбородок. Я делаю туже
черный галстук, как тот, что поддерживает концы покрова,
который почти наверняка стащил
полоску кожи, поравнявшись со мной. Я сказал «цинк»?
Хотел сказать «циния». Чтобы попасть в чайную на озере Гриздейл,
лучше идти по торфяным следам
ручья Гриздейл. Прототип игры в нарды
придумали даны. Даже Моцарт нашел бы утешение в речитативе,
дабы передвигать вещи. В тумане, на полпути к деревне
Беллаи выдра вышагивает из-под похоронных дрог
и уступает мне свое место. Будто она соблюдает субординацию,
а прежде шла не там, где следует.
Хотя она и родная, и совсем чужая.
Сказывают, Колумбан приручил медведя,
запряг его и пахал. Бах. Сарабанда.
В келье Кутберта в подполье они закопали череп жеребенка,
рожденного с искривленным позвоночником.
Даже теперь мы опрокидываем вызов, как киль,
обуздав себя, чтоб не есть персиковые косточки, опасаясь цианида.
Обуздать – корень «узда».
И мы замечаем, как крючок на заднем крылышке мотылька
соединяется с глазком – на переднем. Непростое соединение,
если таковое было. Как говорят дубильщики,
при сохранении шкуры должно быть осторожным
с ветром. Благодаря их труду
викинги сумели разграбить Арму в 832-м. Оранжевая
бечевка помогает нам сохранить порядок. Как-то я вытерпел сотрясенье –
удар грома в Гринвиче –
и увидел три красных треугольника на подставке под кружкой.
Чтобы сохранить шкуру, ей не нужен лишайник или казеин,
ей нужен сам мозг
зверя, которому прежде было так хорошо в коже.
Ирландское монашество могло прийти из Египта.
Мы вовсе не умаляем деяний Лиса пустыни,
тем более проделки Лили Лэнгтри с принцем
Людвигом фон Баттенбергом. Мода 20-х на блёстки
началась при Тутанхамоне. Пять мудрых дев
скорей похожи на пятерых бестолковых –
ведь не могут они починить лампу на рыбьем жире,
чтобы осветить монахинь-бенедиктинок, прядущихпряжу.
Я и не надеюсь вплотную заняться отравой
стольких гуманитариев – слово СИНИМИАИНИАИС
начертано на мече викингов. Что же до фактического огорчения,
кажется оно от невезенья. Пол кельи Кутберта покрывает
дно болота Баллинахон после первых осенних дождей,
подвесные леса, Вудбайны, оладьи,
сколотую эмаль переполненной
ванны, старейшие в мире баночки с мазью, кусочки лососины,
барабанные дроби вьюрка даже,
на которые мы поглядываем с подозрением.
Такой шлем с наносником изобрели фригийцы,
пока стояли на посту возле Каслдоусона.
Курган Белас Кнап построили раньше пирамид.
Та же история – Ньюгрейндж.
Дизайн, навеянный семисвечнойминорой, разработанный
самим Моисеем. Захочется похрустеть –
мы всегда можем стукнуться затылком о бромистый калий –
он спасает от судорог. Отвар из ромашки
в чайной около Бигриггского рудника.
Раз уж лучшие клинки по-прежнему из импортной стали,
самые педантичные из нас не могут стерпеть
факт, что остров создан приливом.
Так же и Кутберт, чьи алтарные облачения
внесут на поле боя на кончике
копья. Я даже явственно вижу стяг
с обкусанной рыбой, порхающий на ветру,
над кучей выдровых экскрементов
на пороге кирпичного Кутбертова убежища.
Ведь озерный лосось бывает довольно поносного цвета,
хоть и жаждет странствий. Рыба носит тонзуру от уха до уха,
как любой ирландский аспирант.
Мы все еще используем слово «смолт», говоря
о лососе, впервые покидающем реку в поисках соли. Викинги украсят
стрелы гусиными перьями во времена Сулеймана
Великолепного. Амбар с десятиной
переуступит десятую часть зерна.
Не мы первые обратились к своей
совести в Бишопс Клив.
Монахи-бенедиктинцы распространят традицию персифляжа
далеко за пределы
Нортумбрии. Позднее, потом
Синод в Уитби постановил, что бакулюм у выдры может двоиться,
как зажим для галстука. Могилу лучше засыпать лохнейскимпеском.
Мы пользуемся инструкцией, чтобы разобраться,
как правильно нанизывать на кол цветную капусту.
«Пушка» с карбидным кальцием служит пугалом для голубей
в банахерском приходе, приходе, где, говорят, олень
носил на кончиках рогов
молитвенник, что святыми намолен.
Давайте не путать канделябр с люстрой.
Я доволен
и щепоткой загодя, и пудом после,
особенно ежели речь о наследстве
великого скальда. Гроб едет на колесиках,
как лосось – к катафалку.
Может статься, что почтовая форма
была изобретена кельтами?
Только что Антрим и Аргайл
делали, что велит Вероломный Айдан.
Мы собрались снова в надежде предотвратить
свои угрызения грусти. Алтарные облачения внесла на поле боя
82-я воздушно-десантная дивизия. Пачка сигарет
Лаки Страйк, смятая американским рядовым на Тоомском
Мосту. Хочу включится, сыграть свою партию,
пока небеса над скитом
сменяют листы на флип-чарте.
Серый, голубой, серый, голубой, серый. Хоть и как аскет,
живет Куберт, наладил он в лачуге-улье несколько
лавок по продаже меха, меда, сладких вин
нынче известных как рейнские.
Порой достаточно локтем толкнуть,
и большой корабль пойдет тотчас по траншее.
В 832-м, согласно подсчетам, викинги не один,
а целых три раза обдурили жителей Армы. Хочу, чтоб проходя путь
гроб оставил метку на ключице. Будь они «мещане» или «бродяги»,
ирландо-американцы – по-прежнему работяги
по части плача. То же касается места, где живет
выдра. Хиастическая структура Книги, что написал пророк
Даниил, двойной формой напоминает обух. Так вот –
так же щетина, ногти рук и ног.
Не могу вынести мысли, что Шеймас Хини мертв.
В южном Дерри, как в угольных бассейнах Южного Шилдса,
говорят, лосось плясал вдоль колесничной балки.
Подобно тому, как мы бьем по рукам, чтоб «увильнуть» от «потопа»,
точно так же мы сбиты с толку вероломством болотного газа
или подлым уважением к Роммелю.
Я думаю о выдровом кортеже,
как он шагает по колоннаде фиговых деревьев,
бесплодных, хотя и покрытых клочками листвы.
Нам неведом ни день, ни час, когда нас призовут.
Неведомо и КутбертуЛиндисфарнскому,
чье тело понесут вверх монахи, убегая от тех же данов.
И Графу Маунтбеттену Бирманскому. Виконту Монтгомери Аламейнскому.
У всех у них инсигнии на бронированных рукавах.
Лучезарные. От слова «заря».
Стихотворения из книг «Лошадиные широты» (Horse Latitudes, 2006) и «Тысяча вещей, которые следует знать» (One Thousand Things Worth Knowing, 2015).
Гаруспиции
ГАРУСПИЦИИ
Well dy’d the World, that we might live to see
This world of wit, in his Anatomie
– J. Donne
Nothing is more real than nothing
– S. Beckett
I. крайня степень вещества
хор первый
ложное небо притворна земля показуются виду
свет проникает во внутренность их и в самой утробе
там в мелькании множества оного пыль неисчетна
что за шум или ветер ничтожество зрения память
сведений точных не чует облик утратив и время
ибо не знает не видит не помнит битые камни
клеть простой геометрии гомон простых организмов
шкуры животных скопища чучел зрачки насекомых
дивище мозгло слоисто и глухо и немо и слепо
то и теперь происходит и есть что будет то было
шифр петляющих клеток спокойные контуры суток
это опять продолжается будет было и дальше
скорбны процессы исконные скорбно мышление тела
мелких членений не ведая дышит конструкция легких
если бы мог я не жить поколением пятого века
время всякой вещи под небом дни его скорби
труд беспокойство землю мешать с водой насыщая
голосом то чего нет посчитать не получится где-то
в теле закралось смещение дабы его обнаружить
должно осмотром подробным тело исследовать мира
аналогия первая
если строение птичье хочешь узнать на какие
части делимо бренное тельце крылья и ноги
как расположены органы в нем и подвешены сколько
собранно в птице костей выведать хочешь размеры
сердца желудка других данных пернатым мельчайших
и любопытных деталей доступных немногим используй
нож или скальпель для вскрытия клетки грудной и оттуда
каждый вытащи орган в раствор опусти или в воду
каждый сосуд разветвленный крошечных вязь капилляров
тонким изведай ногтем хрупкие емкости легких
свертки воздушных мешков удлиненные челюсти клюва
между большим и мизинцем органа плоть зажимая
к лампе один за другим подноси и внимательно щупай
зыбкие части яйцекладущих мельчайшие формы
кости крепления их к позвоночнику крылья суставы
сложный крестец поясницу изгибы хвоста и грудины
птичье нутро изучая изъяны ищи и болезни
так строение птицы понятнее станет наглядней
признаки станут недугов исконноврожденных а вместе
с ними строение мира станет понятней и проще
хор второй
дым числительной жертвы вихри существенных формул
хаос бесплодных земель сонм механических кукол
следуй законам понятных причин и предложенных следствий
будь послушен пространству я помню что сбудется завтра
после полудня я помню вчерашнее утро какие
возле окна проползали завтра прохожие разве
так ты себе представлял эти годы жилище погоду
цепь одинаковых дней я не знаю не вижу не помню
я предпринял большие дела посадил виноградник
выстроил дом устроил сады водоемы наделал
рощ насадил плодовитых деревьев немного осталось
взгляд помрачится смотрящих в окно в обитаемых кущах
в темном пустом коридоре в шкафу с покосившейся дверью
в кухонных ящиках на подоконнике в пыльной кладовке
в ножках стола и кровати шевелятся всюду чешуйки
мира юркие лапки броженье частиц элементов
клеток булавок что будет то есть или было продолжи
нутрь изучать аккуратно исследуй процесс разложенья
в чреве изъян разыщи чтоб его обнаружить сначала
тело увечное мира до́лжно разъять на фрагменты
аналогия вторая
если детали животного хочешь изведать какие
вертятся в нем механизмы увидеть как вьется кишечник
чем наполнены трубки артерий и как прорастает
волос сквозь кожу измерить каждую мышцу в животном
хочешь состав изучить крови конечностей мозга
слизистых строй оболочек свойства секреций рисунок
нервных волокон органы чувств носоглотку трахею
стенки желудочков сердца купольный свод диафрагмы
тьму отверстую клетки грудной скобы выпуклых ребер
желчный пузырь двухчастную печень фасолины почек
кожные железы шерсть заостренные когти систему
жидкостей внутренних полных веществ и узлы прихотливых
мышц приводящих в движение слаженный ход организма
все процессы понять и увидеть следы искаженья
руки начисто вымой потом приготовь инструменты
тело животного вскрой разложи на столе и под яркой
лампой органы вытащи каждый в раствор или в воду
в ванночке с дном восковым сполосни и под лампой исследуй
так строенье животного если поймешь будет проще
вызнать врожденный дефект скрытый в строении мира
хор третий
в чем причина в чем следствие этого скрежет зубовный
слух проползающий тление тела исходный порядок
лица смотрящих смазаны губы спокойных улыбок
червь порожденный природой вся анатомия мира
горечь пристанища душного ртом припадает к фрамугам
внутрь сама от себя исторгается не истребляясь
слышатся мне отовсюду глухие смятные вопли
будут тогда запираться на улицу двери замолкнет
жернова звук перестанут молоть мелющих руки
дом стерегущие будут дрожать колесо над колодцем
в жерло обрушится помнишь как бродят минуты по кругу
я ощущаю взносящися стены еще не свершенны
так ты себе представлял искажение сна и пространства
все преплывает места многопагубны дом содрогая
рыхлые люди в костюмах чудовищ без людскости дети
в масках животных снующие по лесу волки и лисы
в масках старух идут по игрушечным чащам прихожим
комнатам скрытым от глаз превращения белых квадратов
в темные окна дабы понять почему происходит
это и прочее в тело всмотрись истощенного мира
II. анатомия мира
общие сведения о внутреннем его строении
там было то же самое системы
волосков струн проторенных нитей
перпендикулярно переплетенные сплошные
заросли клеток и межклеточного вещества
полотна взбирающейся материи
просвечивающей по незримому каркасу
воплощенные в костные волокна с хрящами твердыми
жидкими пористыми перемычками сухожилиями
связками суставами лимфой сосудами
затем в мышечные сгустки исходящие частыми
сокращениями при поглощении белка
эластичные холстины
затем в слоистые пролежи узлов отростков трубок
желобков пластин микроскопических импульсов
затем выстланные плотные поверхности многослойные
поверх желез мембран чешуек
умирание мира тождественного человеку
под коркой эпителия в распухшей
пустоте треск вздымающий грохот
в замкнутой коробке где расползаются по стенкам
контуры трещин проникающих вглубь мозговой
скорлупки где вылупленным сознанием
питающиеся насыщаются останки
предрешенного некогда продолжив вслепую чувствовать
прошлое будущее завершенное незаконченное
слабые шевелятся в млекопитающем
ему свойственные мысли усредненные помыслы
пересчитанные приобретения его
одинаковые годы
пока в распластанной полости тоскливо зреет что-то
постепенный плач окаменелости случая
когда комната замедлилась а прочие помещения
сменили плотность запах облик
смерть оплакивание и вскрытие
обноски обветшалые молекул
слепой шаг скривленная поступь
туловищ подобных механизированным куклам
мебели дряхлой перекроенному под другой
порядок конструктору извлеченному
из глохнущего одиночества наружу
где промозглые тянутся проходы проулки лестницы
плоскости ломанные и запруженные препятствиями
скорбно прекращение мыслящих туловищ
исход скопленного в нервах в многослойной материи
распадающейся неотделима тишина
от измученного слуха
вскрывая грубые кожные покровы мира глубже
помещая зрение в брюшину отверстую
ища органы здоровые и ткани не пораженные
ведет осмотр влезает в череп
исследование внутренностей и поиск изъяна
разглядывает горсти оболочек
слюну кровь царапины складки
жидкостей утробных пищеварительных скопленья
легких обрюзгших обессилевшие пузыри
изгибы кишечника в тазобедренных
поверхностях чашеобразных позвоночник
распрямленный ключицу плечевые суставы капсулы
щели конечности перекалеченные расправленные
пристально исследует сферу упругую
долей выпуклые сгустки полушарий округлости
набухающие соизмеряя вещество
размягченное ощупав
изъяны выискать мысленной машины чрева клеток
скорлупу населяющих надеясь увечные места
в помешательстве повинные отметины деформации
определить очаг болезни
внимательное но тщетное исследование процессов
последствия искомого процесса
механизм дня вращение суток
полуобороты перемещения чисел
тощие атомы врастающие в существо
к пустоте привычное в средоточие
безмолвствующих и обесформленных субстанций
где прошедшее прошлое в нутре воззывает прежнее
бывшее будущее завершенное свершившееся
тлеющая пригоршня глины зернистая
на стол сложенная к дольним не пригодная тщательным
измерениям цепь соединений на скелет
иссыхающий и ломкий
надета рыхлые множества частиц решеток связей
червоточин петляющих в разъятом пророщенных нутре
искаженные нанизаны на кости продолговатые
под операционной лампой
величие оного тела и ничтожество оного тела
повсюду сущих связь миров движений
череда мест вмещающих хаос
между бесконечными теченьями пространства
светом и пылью препарированных единиц
где пески сосчитанные предвечности
исторгнутые опережающие меры
перемешаны с мерной повседневностью закрытой комнатой
медленной плесенью фотографиями расплывшимися
мира истощенная туша беспомощна
лежит собранная наспех изъедена корчами
разлагающаяся источающая пыль
неспособная ни видеть
ни ведать дряхлая жалкая насажена на прутья
начиненная паклей мешковина распотрошенный прах
совокупность пищеварения обломок физиологии
расположения предметов
III. меконское жертвоприношение
начало
земля была безвидна и пуста и тьма над бездной
время прошлое время настоящее времени оба
настоящие в будущем каждое в прошлом вечно
неискупимо тогда ничего не было другого что бы
сверкало вращалось смыкалось и размыкалось
как раз тогда и приступили к созданию мира
вздымался дерн прорастала трава сквозь пленку
кожного покрова поверх равнин бугристого рельефа
сменялись простейшие организмы стаи земноводных
роились насекомые копошились черви шевелились
медузы в прозрачных утробах слоистые сгустки
материи шершавой назревали под пятнами света
мир животные и время
произвела вода пресмыкающихся многие птицы
полетели над землей шероховатой рыбы большие
животные пресмыкающиеся водой густотекучей
порожденные пернатые наполняли воду и землю
устланная земля следами четвероногих стала
опрокинутая брюхом исторгающая траву деревья
полое время всякой вещи под небом всякого шума
исторгнутого наружу из залежей нутряных всякий
оборот полого времени вокруг оси оный порядок
ему доступный в пределах пространства слепое
вращение пространства в поисках того порядка
все одинаково расплывается по протокам мира
что было и потом в меконе
червь порожденный почвами кормился их плотью
курящаяся мгла из челюстей отверстых ужасы минувши
впечатлевала в рассудки землю которую населяли
железные люди дни их скорби труды беспокойство
стада четвероногих четвероруких четвероротых
под крыльями на четырех сторонах руки человечьи
тушу быка громоздкого принес аккуратно разрезал
разложил на земле истоптанной жирные в кучу
одну потроха бычьи сложил волокнистое мясо
обернул шкурой покрыл бычьим желудком кости
белые собрал в другую кучу покрыл кости жиром
ослепительным преподнес предлагая выбрать
обороты времени и другое начало
гул многоустый многогортанный что возникает
охапки соломы бесплодная масса иссохшие клубни
колода пестрых словесных множеств узоры точек
младенцы рождающие матерей опрокинутые деревья
опадающие с листьев перевернутый вверх ногами
бесформенный мир раскачивающийся каменный ужас
рот согретого раскрылся яйцом изо рта речь из речи
огонь из ноздрей дыхание из дыхания долгий ветер
из зрачков зрение из зрения солнце из ушей слух из слуха
страны света из кожи волосы из волос травы деревья
из сердца разум из разума луна из живота выдох
из выдоха смерть из смерти рот изо рта голос
другие варианты возникновения
первые существа выросли из воды полные влаги
подобно водорослям кувшинкам лотосам многолетним
слеплены были из глины воздуха божественной крови
солнечных слез праха земного смешал с водой землю
человеческий голос подобно сосуду глиняному собран
стал говорящий кувшин из воды воздуха и камня
никого не осталось вода камни арауканские деревья
создан был мир в грозной туче где мрак чермнел источник
сокрывался бедствий назревал эфирным спором в вихрях
о квинтэссенция праха тебе жизнь и смерть предлагаю
благословение и проклятие злое помыслил тогда шкуру
приподняв прикрытые жиром кости под шкурой увидев
видение и завершение
четыре небесных ветра боролись на великом море
четыре больших зверя непохожие один на другого вышли
из моря лев с вырванными крыльями медведь трехклыкий
барс четырехголовый с птичьими крылами рогастый
четвертый вышел с глазом в роге говорящий высокомерно
шевелились волоски времени вился распухая воздух
так к потомкам долго взывала прямоходящая глина
нагромождение частиц смесь песка жидкости минералов
пыль многоротая над равниной вздымаясь так говорила
бедное голое двуногое мыслящая древесина простая
механическая конструкция муляж алчущий искажений
времени и пространства но обреченный мыслить
IV. время неискупимо
говорила элизабет друри
захлебывалась речью элизабет друри
бормотала в постели скомканные мысли
о вавилонских башнях начиненных паклей
стетсоне попроросшем сквозь плотную землю
чучелах в пустых окнах сраженьи при милах
о скрытых мхом руинах античных театров
каменных пирамидах кряжистых покоях
полифемовой тесной холодной пещеры
о хвосте нагарджуны называла в вещи
вшитые механизмы времени шептала
неразборчиво силясь рассудком нащупать
закономерность циклов гулких оборотов
вокруг оси незримой либо узреть точки
искажения ветра пустотность сосудов
о круглом времени
повторялись потоки замыкались сутки
округлялись страницы дождь комната люди
отверстия на лицах пропускали волны
расплывшегося света исторгая звуки
говорила в постели элизабет друри
о вращении мира круглых механизмах
повторении ветра окружностях буквах
невозможности выйти вовне за пределы
чешуйчатого змея оборотов шума
растений вверх ползущих по кованым клеткам
ниспадающих пятен ослепшего солнца
неспособности вызнать другие сны мысли
другие вещи знаки последствия знаков
повторялся рисунок округлялось время
о времени вещи
здесь и дальше бродило время всякой вещи
время строительств многих время разрушений
над гробницами вился хор слепых арфистов
приходили на смену прежним им другие
рассыхались их кости дряхлела их кожа
отведено для оных было в песке место
отведено для пищи было внутри место
в бреду тихо повторяла элизабет друри
слышала что там было с предками после
когда деревья выли питаясь камнями
насыщали желудки исполнено было
время обрядных плясок под вогнутым небом
маски мертвых животных сличали вслух числа
маски старух считали обрывки ветра
о времени настоящем
настоящее было сплошным и безглазым
мыслимое вращалось на острие мозга
не подвержено было гибели и порче
однородное время не было ни завтра
ни вчера но сегодня было сплошным шумом
бормотала бессвязно элизабет друри
небытия нет только бытие осталось
про него нельзя мыслить скрипели суставы
трещали по швам жесты витийствовал разум
над картонным жилищем роились частицы
там все было бездвижно кто-то шептал в страхе
булыжники уснули решетки и крыши
именем каким назвать бездвижное время
замерзшее пространство стерильную плитку
о времени непрерывном
времясловием темным черным темно-синим
вязкой речью давилась элизабет друри
непрерывно менялись изгибы ландшафта
непрерывны потоки жидкостей текучих
раздвоенность процессов внутри всякой вещи
во все стороны тянет плотные веревки
сил противоположных взаимовозникших
шевелятся фаланги выплетают время
в середине на стуле сидит говорящий
машет руками дышит глубоко и шумно
выхрипывает вопли кашляет словами
реки вплывают в реки прячется природа
воды сменяют воды никем не был создан
механизм многорукий сотканный порядок
о сегодняшнем времени
сегодняшняя вечность сжатая до суток
приходящие следом не сменяют прочих
пока в долгом полудне день стоит на месте
одновременны годы собранные в узел
умозрительны токи нутряных вращений
времени ритуалов смены пустых чисел
кругов плоскостей стрелок секунд шестеренок
остальное едва ли способно нащупать
так элизабет друри с головой накрывшись
шерстяным одеялом под нос бормотала
перешепоты тихих голосов под дверью
глухих ночных кошмаров пустотные хрипы
внимательные лица висели повсюду
и что-то бормотали что-то повторяли
об одновременном времени
одновременно время долгий запах серы
в опустевших помпеях дым в легких декарта
тень каспарова тела пар над черной почвой
сотворение мира птицы вокансона
вьющие в венском парке квадратные гнезда
на липовой аллее накануне века
манихейские песни серым зимним утром
в римском метро фигуры этрусских торговцев
византийский берег пористые камни
красная книга тульпа на комоде в арле
возле желтой кровати где вилия в неман
тринадцать пап римских и воды уносит
к корням джомолунгмы к тунисской пустыне
где бормотала речи элизабет друри
говорила элизабет друри
в ниспадающих пятнах ослепшего солнца
время обрядных плясок под выгнутым небом
настоящее стало сплошным и безглазым
смотрит на руки дышит глубоко и шумно
приходящие следом не сменяли прочих
на липовой алее накануне полдня
полые вещи знали последствия знаков
приходили на смену прежним им другие
над безлюдным жилищем роились частицы
реки вплывали в реки вертелась природа
остальное едва ли возможно нащупать
истоптанный берег пористые камни
бормотала в постели медленные мысли
распутывала время элизабет друри
V. coincidentia oppositorum
говорил на взгорье
как рассказывал на взгорье змеетелый чешуйчатый
опрокинутым пространствам о причинах и следствиях
как окрестные дороги растворялись в истоптанных
потаенных оборотах механических туловищ
разбирал на составные обоюдны детали их
клеть молекул испещренных необученным зрением
многозубые обломки и руины вылущивал
всеобъятные потуги тишины пересчитывал
приходили отовсюду приползали на корточках
изможденные предметы припадали к источнику
молчаливые стояли возле взгорья остатки толп
было медленное утро вещи были приемлемы
хор первый
зрение себя само не видящее
способно ли узреть прочее
подобно огню обращающему
в пепел вещи но не умеющему
испепелить себя потому опровержение
зрения опровергает наличие зрячего
ибо ни способность видеть ни отсутствие
такой способности не предполагают
зрения а если зрячего нет то как может
существовать зримое
о пустоте разрушающей
пустота вздымает тело проникает в молекулы
геометрии жилища типологии комнаты
плоскостей прямоугольных где идеи вещей в углах
пульс неношеной одежды и присутствие мебели
где следы четвероногих на полу зашифрованы
свойства хаоса летают и хрипит у стены экран
где безлюдное привычно а наличие признаков
предусмотренной системы устранили заведомо
растворяет оболочки одинаково сшитых форм
одинаковых креплений меж причиной и следствием
линий перпендикулярных друг под друга отмеренных
сплава волн или материй с вслух бормочущим голосом
пустота стирает части разобщенного множества
одинаковых построек с говорящими окнами
сгустков стылого бетона штукатурки и пластика
электрических реакций сгроможденных квадратных плит
капиллярные соцветья содержимое жидкостей
расщепляет на частицы разъедает взвесь атомов
средоточия пластины шелуху нутряных веществ
волокно мускулатуры сухожилия лестницы
пленки головного мозга механизмы продольные
паутинной рыхлой ткани заглубленной в густую вязь
поедает разговоры полусонных беспомощных
шевелящихся предметов обреченных бездействовать
пустота съедает складки струнных нитей продетых вглубь
сгустков плотных полушарий в расходящихся бороздах
кровь слюну мембраны клеток глины рыхлые пригоршни
под морщинистую кожу на решетки нанизаны
совокупности материй трактов пищеварительных
сокращающихся легких истощенных конечностей
тканей внутренних рисунок токи лимфы сплошную речь
прямоногих позвоночных жалких млекопитающих
все придуманное прежде наделенное временем
предназначенное мыслить говорить переваривать
обитающее в буквах в сочетаниях древних букв
на промасленных холстинах и в расколотых статуях
хор второй
возникновение возникновения
порождает прочие ему тождественные
возникновения ибо не может быть
корня а бытие вещи присущее
присущее прежде бытие не создано
не даровано ибо иллюзорны оные
самобытие и инакобытие вещей
а другие вещи не могут быть
другими ибо другое никогда
не предполагалось
о пустоте всеобщей
пустота внутри предметов изначально проросшая
по окрестностям укромным в поворотах кротовых нор
на изгибах червоточин под бумажными чащами
где безлюдствуют квартиры и вода замурована
в глубине отверстых скважин в обезличенных множествах
растворенная в асфальте одинаковых местностей
в опрокинутых деревьях в круглых жерлах бетонных труб
в жидком небе отраженном на поверхности озера
в гулких описях метафор многословных подробностях
построения порядка и структуры живых существ
их химического строя анатомии атомов
их способности не видеть говорить и бездействовать
пустота была стальными заглубленными сваями
скальным грунтом слойной почвой минеральными массами
состоянием предела разветвлением горных жил
простиранием массива и углами падения
совокупностью конструкций основанием остовом
суммой временных нагрузок весом шаткой материи
исчислением ландшафта и структурой земной коры
ископаемым осадком щелочными породами
средоточием молекул волнотелых частиц была
растворенная в структурах и структурам тождественна
в очертаниях пустыни с чахлым полукустарником
в завихрениях циклона в оболочках слоящихся
пустота вещей и вещи без следов содержания
гул простейших элементов сочлененный в животное
обитающее в мире начиненный вещами мир
где следы прямоходящих и убежище комнаты
под протертой половицей в искажениях времени
под припухлостями кожи в смычках внутренних органов
ничего не существует ничего не смыкает цикл
ничего не возникает никогда не возникшее
птицы полые летают над невидимым городом
где отсутствуют постройки и никто не заходит в них
над развоплощенным ходом никуда не идущего
неделимого на части нерожденного времени
хор третий
ошибочно считать что присущее вещи
бытие происходит из причин и условий
произведенное из причин и условий
было бы созданным такое бытие вещи
присущее бытие никогда не создано
присущее бытие никем не создано
отдельно от самобытия и инакобытия
как могут существовать вещи
сансара не отличается от нирваны
нирвана не отличается от сансары
пустота в коробке мира на полях анатомии
пустота в гостиной друри в коридоре на лестнице
пустота в зрачке медведя по-над глиной трехклыкого
пустота под бычьей шкурой меж шершавыми ребрами
пустота в змеиных связках монотонного голоса
пустота в желудке птичьем в теплой гуще животного
пустота вмещает хаос и строительство времени
пустота в крупицах пыли в сердцевине конструкции
пустота лежит в меконе длясь бесформенной мякотью
пустота ведет обломки механических туловищ
пустота слепит глазницы говорящей материи
пустота идет по кругу проникает во внутренность
никогда будда не учил никакой дхарме
КОММЕНТАРИЙ
Гаруспиции – этрусский ритуал гадания по внутренним органам животных.
Замысел текста опирается на поэму-эпитафию Джона Донна «An Anatomie of the World. The First Anniversary», написанную в 1610 г. на смерть пятнадцатилетней Элизабет Друри, дочери его патрона Сэра Роберта Друри. В основе поэмы лежит метафора человека, тождественного миру, и, соответственно, смерти человека, тождественной смерти мира (where in, by occasion of the ultimely death of Mistress Elizabeth Drury, the frailty and the decay of this whole world is represented).
Пятичастный план поэмы-гадания: подготовка к вскрытию (аналогии с птицей, животным, человеком), вскрытие, исследование происхождения (поиск изъяна), исследование среды (время), пустота.
I. крайня степень вещества
Первая часть представляет собой подготовительную процедуру перед непосредственным вскрытием мира, тождественного человеку (метафора Дж. Донна). Державинский заголовок намекает на тождество, а сама часть развивает эту мысль, проводя аналогии со строением птицы, животного и, наконец, отсылает к человеку. Несмотря на обилие цитат, основной источник (образного строя и метрики) – поэма Н. А. Заболоцкого «Птицы» (1933).
1. См.: В. К. Тредьяковский. Телемахида. Т. I., кн. 9, с. 174.
2. См.: там же. Т. II., кн. 18, с. 571.
3. См.: там же. С. 287.
9. См.: там же. С. 311.
10. См.: Еккл. 3:15.
15. См.: Гесиод. Труды и дни. Пер. В. В. Вересаева. С. 174.
16-17. См.: Еккл. 3:1; 2:23.
См. также: Труды и дни. С. 61.
19-20 и далее рефрены. См.: J. Donne. The First Anniversary:
«We are borne ruinous: poore mothers cry,
That children come not right, nor orderly;
Except they headlong come and fall upon
An omnious precipitation»
21-23 и далее в строфе. См.: Н. А. Заболоцкий. Птицы:
«Если строение голубя хочешь узнать ты – какие
жилы в нем есть, как крылья устроены, ноги,
как расположены органы в нем и, подвешены чудно…»
41. См.: Е. А. Баратынский. Последняя смерть, 1826:
«…Один туман над ней, синея, вился
И жертвою числительной дымился»
45-46. См.: T. S. Eliot. Burnt Norton:
«…What might have been and what has been
Point to one end, which is always present»
49-51. См.: Еккл. 2:4-6.
52. См.: Еккл. 12:3-4.
58. См.: J. Donne. The First Anniversary:
«So did the world from the first houre decay,
That evening was beginning of the day,
And now the Springs and Sommers which we see,
Like sonnes of women after fiftie bee. […]
Thou knowst how lame a cripple this world is.
And learn’st thus much by our Anatomy, […]
But as thou hast but one way, not t’admit
The worlds infection, to be none of it»
77-78. См.: Н. А. Заболоцкий. Птицы.
81. См.: Матф. 8:12.
84. См.: J.Donne. The Progresse of the Soule (The Second Anniversary):
«The world is but a carkasse; thou art fed
By it, but as a worme, that carkasse bred...»
87. См.: Телемахида. Т. I, кн. 2, с. 628.
88-90. См.: Еккл. 12:4-6.
92. См.: Телемахида. Т. I, кн. 9, с. 245.
94. См.: там же. Кн. 1, с 77-78.
95. См.: там же. Т.II, кн. 18, с. 251.
II. анатомия мира
Вторая часть полностью посвящена описанию процессов умирания, оплакивания, анатомического вскрытия мира-человека, исследования внутренностей и не содержит прямых цитат и/или отсылок к дополнительным источникам, кроме основного, вынесенного в заглавие, – An Anatomie of the World Джона Донна.
III. меконское жертвоприношение
За анатомическим вскрытием и демонстрацией внутренних процессов следует детальное изучение происхождения, истоков изъяна, исследование (врожденной либо приобретенной) болезни.
Название главы отсылает к меконскому сюжету о Прометее (родственнике Матаришвана), изложенному в «Теогонии» Гесиода. Краткий анализ фрагмента, например, содержится у Мирча Элиаде (См. История веры и религиозных идей. Т. I: От каменного века до элевсинских мистерий. Пер. Н. Н. Кулаковой, В. Р. Рокитянского и Ю. Н. Стефанова).
197. См.: Быт. 1:2.
198-200. См. T. S. Eliot. Four Quartets.
201-202. См.: Айтарея Упанишада. Пер. А. Я. Сыркина. Ч. 1, гл. 1.-1.
209-213. См.: Быт. 1:20-26.
215-216. См.: Еккл. 3:1
221. См. комментарий к с. 84.
222.: См.: В. П. Петров. Его светлости Григорию Александровичу Потемкину (1778, 1782).
224. См.: Труды и дни. С. 176.
См. также: Еккл. 2:23.
225-226. См.: Иез. 1:4-12.
227-232. См.: Гесиод. Теогония. Пер. В. В. Вересаева. С. 535-541.
См. также: М. Элиаде. История веры и религиозных идей. Т. I, гл. X, §85.
233. См.: М. А. Амелин. Гнутая речь:
«Гул многоустый, многоязычный, многогортанный […]
что происходит? что исчезает? что возникает?»
234. См.: T. S. Eliot. The Waste Land:
«Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers»
235. См.: В. Хлебников. Зангези:
«Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла – первую свежесть»
238. См.: Н. А. Заболоцкий. Поприщин, 1928.
239-244. См.: Айтарея Упанишада. Ч. 1, гл. 1.-4.
245-248. См. о шумерских версиях: М. Элиаде. Т. I, гл. III, §17.
О египетской версии: там же. Т. I, гл. IV, §26.
См.
также вавилонскую версию: Энумаэлиш
(пер. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова).
249-250. См.: P. Neruda. Canto General, La Lámparaen la Tierra, VI:
«Como la copa de la arcilla era
la raza mineral, el hombre
hecho de piedras y de atmósfera,
limpiocomo los cántaros, sonoro […]
No hay nadie. Escucha. Escucha el árbol,
escucha el árbol araucano.
No hay nadie. Mira las piedras.
Mira las piedras de Arauco»
251-253. См.: С. С. Бобров. Херсонида. Песнь VI, с. 36-41.
254. См.: Hamlet, II, ii, 1400.
254-255. См.: Втор. 30:19.
255-256.См.: Теогония. С. 535-541.
257-261. См.: Дан. 7:2-8.
266. См.: King Lear, III, iv, 60: «Here’s three on ’s are sophisticated. Thou art the thing itself: unaccommodated man is no more but such a poor, bare, fork’d animal as thou art»
IV. время не искупимо
Заголовок позаимствован из поэмы Т.С. Элиота Burnt Norton («All time is unredeemable»), что неизбежно связано с Гераклитом, чье размышление вынесено в эпиграф, и с Августином, растворенном в тексте. Оба присутствуют в путаном предсмертном монологе пятнадцатилетней Элизабет Друри наряду с несколькими другими мыслителями и некоторыми концепциями времени. Кроме того, периодически здесь встречается сам Элиот.
272-273. См.: T. S. Eliot. The Waste Land, 69-70.
276. См.: L. de Góngora. La Fabula de Polifemo y Galatea, 4-12.
283-296. См.: Вступление к Махабхарате, кн. 1.
297-310. См.: 3:1-8.
299. См.: Песнь Арфиста.
См. так же, например: J. P. Allen.Middle Egyptian:
An Introduction to the Language and
Culture of Hieroglyphs.
311-324. См.: Парменид. О природе.
325-338. См.: Гераклит. О природе.
239-252. См.: Августин. Исповедь.
См. так же: T. S. Eliot. Burnt Norton.
253-266. Намеренное нагромождение исторических фигур и сюжетов, не требующих комментария либо указания конкретного источника.
263. См.: В. Ф. Ходасевич. Дактили, 1927-1928.
V. coincidentia oppositorum
Основной источник пятой главы – учение индийского мыслителя Нагарджуны «Муламадхьямака-карика». Для более детального рассмотрения его концепции использован труд Дэвида Бёртона (D. Burton. Emptiness Appraised. A Critical Study of Nāgārjuna’s Philosophy, 1999). Заголовок не столько отсылает к Гераклиту, Кузанскому или, скажем, к немецким классикам, сколько представляет собой метафору двух восприятий пустоты, предлагаемых рассказчиком.
393-402. См.: Муламадхьямака-карика. Гл. III.
439-448. См.: там же. Гл. VII.
485-494. См.: там же. Гл. XV-XVI.
507. См.: там же. Гл. XXV.
Флорентийский дивертисмент
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
В мир выскользнув, душа летит любя,
как девочка, что плачет и смеется,
ребячась, с первым встречным жизнь губя.
– Данте Алигьери
***
В окошке прячется туман – из слов,
происходящих ночью, плетёт
двухъярусный гамак
соседский
паренёк-расточник – в
нём тень цветной качает сон, роняя
папироску на пол – и мальвы
розовый бутон, и кот,
что счастье
нам наплакал.
***
Каждодневная дверь или больше чем дверь –
возвращение в память – кто последний,
тот во́да: деревянный болванчик
шагнувший в себя наугад.
То споткнётся, то в руки возьмёт опрокинутый
камень – Каин, Каин – в двух метрах от
выхода остановись – видишь, все
разошлись, только звёзды
висят вверх ногами – вот и
ты осторожнее, вниз
со стены не
---
сорвись.
***
любая игра в натяжение
зернистая старость
кое-что на это похожее
до чего дотянуться не в силах
есть во всех нас
как и прежде
выйди на свой балкон
чтобы я сквозь тебя
посмотрел на своё лицо
в каждой стропиле
замер игрушечный конь
тот самый
из детства
забава-качалка
с изогнутой линией неба
вместо спины
и вырезанной звездой
упала однажды
а он для тебя сберёг
***
Надорванная сеточка морщин, сервиз трофейный,
комнатные блики – из переменных разниц
величин не вычесть потаённое
стекло: вкус времени,
как привкус ежевики,
чуть что лиловый след на языке – игольное ушко, а
в нём левкое лучится Вифлеемскою звездой
и тени башен сложенные вдвое
шпионят в переулках
за тобой.
***
То провод, то капроновый шнурок, то вместо
бус прищепки бельевые – затянут на
запястье узелок для благо-
склонности в
невидимой войне –
спаси и сохрани пока живые: часть лестницы
приваренной к стене – хранит в себе
молчание округи – мелодию
расточенной
иглы, и сглаживают
тёмные углы бровей
надменных
---
каменные
дуги.
***
Мушиная лапка, испуг над вечерним Арно –
скрипичная тайна – густая солёная
ранка – ты носишь на шее
покорный цепной
медальон – ни
звука малейшего только былые черты: здесь
руки старлея в кирпичных теряются
складках, как осенью ранней
на девичьем платье
---
цветы.
***
собираешь мозаику когда
у всего есть и место и продолжение
в переглядывании через дорогу
есть шанс позабыть обо всём
если воздух этой округи
взаправду обнять
он становится
куполом церкви
тосканской колонной
песочным куличиком в детской игре
в траве
ты стоишь необутый
вспоминая себя
когда в форточку выглянет мама
***
От дома отделился дом без торжества, по-будничному
просто – сезон дождей в распахнутом окне – как
будто зёрна праздничного просо причину
Рождества нашли в себе – просвет
струны над детскою кроваткой и музыку,
что между них легла – и чашечку
коленную с заплаткой, в
которой плачет
---
стереоигла.
***
обветшалые камни
и детский неопытный смех
всюду хлебные крошки
чтобы мы не забыли дорогу домой
годовалые птицы не трогают их
видишь
там внизу
в белом платьице девочка робко идёт
смотрит под ноги
будто увидела звёздное небо
первый раз
отпуская птенца из гнезда
скажет ласточка младшему сыну
***
В подворотне позируют тени – и бьются
об свет – это так же как быть само-
запертым в жестяной банке –
холодок по спине –
мимолётное чувство испуга: то увидишь
коня на скаку, то сухую зазубрину
плуга, то модельную голову
женскую в вязком
---
окне.
***
Ежедневная форточка снег собирает в глазок
сколько раз ты готов обирать именины
у счастья, лакированный дым и
штрафной ученический
ластик от
невозможности спешиться тают в руке. След
поцелуев воздушной артистки и порох:
с ветром качнётся хрустальное
тельце Суок, и на щеке
загустеет
услышанный шорох, став
непрогляднее, чем
поршневой
---
воронок.
Мне бы с вами жить
МНЕ БЫ С ВАМИ ЖИТЬ
[партитура для ожившего голоса]
# а
когда-нибудь когда и мы
неразличимы будем будто воздух
[…………………..
……………………..
…………………….]
чёрная колея ржавый ручей
[гниль предательство смерть]
шёлковый путь поэзии т я н е т с я
т я н е т с я т я н е т н а с
его тонкая шершавая нить
ты напиши мне записочку так или нет
да или это только гудящие провода
крошево слов тахикардический свет
вспыхнуло облако птица вьёт тишину
[в жилах тугого воздуха спрятана смерть]
я улыбаюсь – но что-то кипит во мне
порослью дикой сияет звёздная речь
у т р о напишет наc
языком отживших минут скрипом дверей
запахом комнат [смежных] раздельных не
отделимых от кожи костей и жил
дальше – призрачный лес
стены обои стулья диваны столы
снимки случайные снимки осколки обыденных лет
в цвете в чэбэ или в цвете скулы глаза
тёплые ямочки подбородки щёки женщин детей мужчин
это живая трава пристально смотрит на нас
шепчет в самое сердце п р о с т и п р о с т и
пишет тебя ноль единица точка пробел
слоями густого воздуха пишет незримо смерть
н о ч ь перепишет нас всех
р а с с ы п а в ш и х с я по земле
яблочной падалицей в траве пыльцой в облаках
зимние буквы огни воробьиные голоса
чёрная ягода солнца горит во тьме
тьма разгорается
голые голо вы гн ильтеп лоемя сопесок
голос и голод горячее словосы рое
это сырое этопу стое з д е с ь огненный ком
катится ка титс я к о м к о м к о м по земле
мы – только гласных [согласных] огненный свет
мы – знаки будущего [шё потшёпот Гуро]
звёздная пыль пепел теория струн
ты нас не бойся
и сквозь быстротечное время
сквозь бессердечное время
навстречу шагни
# в
на пустыре гудят провода [ветер холодный]
мальчик в курточке лёгкой надежду последнюю гасит
дерево в землю врастает глубже и глубже
и тянет нудную песню больная живая душа
# г
голос рассудка сплетается с голосом сердца звёзды чернильные говор безродный изголодавшихся улиц [я поднимаю с земли травинку простую] сухо скрипит в руке Велимира веточка вербы [ты извини что беспокою тебя] щёлканье щебет речи заумной над узкой кроватью Иосифа кру́жится ястреб ночь зыбкий свет одиночества в комнате Эмили ветер небо беззвёздно и отворяются двери зелёные солнца [что происходит на совершенно голой земле?] травы сухие скудные складки оврагов снег чистый свет флоксов Айги и внемлет лишь Богу путь безымянной звезды Михаила лестниц заученный хор переулков [г у л к о т а к г у л к о] воздух глазастый земной чернозём Мандельштама [к т о о о о о к т т т о о о о вылепит нас из пыли и света?] хлюпает х л ю п а ет тёплая мягкая глина из непроглядной дыры лица [билеты в потустороннее лето] над косточкой твёрдой трамвая темень глухая пустые миры и шаркает ш а р к а е т безостановочно время двенадцать шагают двенадцать поступью Блока шагом железным идёт двадцать первый безумный опустошительный век
# д
Лена Ленточка Э л е о н о р а Г у р о скажи родная скажи почему мы существуем «…земля, скажи, почему одна душа смолоду замолкнет, а другая душа поёт, поёт о тебе…» голову запрокинув поёт о свете твоём о твоей темноте таинственной сути обогретая вечером этим последним золотом слабым сильных деревьев застенчивая поёт [не умолкая] цветёт изумрудная над соснами её полоса
# є
ты умирала больная [живая] душа
а когда-то [была] тосковала на перекрёстке [стояла]
мигал светофор ты стояла [помнишь] стояла утром летела
в теле без тела и умирала больная [живая] душа
# s
веточка вербы
проткнула бедное сердце
стёртые лица скрыты спанбондом
такие простые такие несчастные лица
забудем з а д у е м забудем
неоновые огни чаты чипсы
х р у с т и м з а п и в а е м
бежим заедаем жуём и не думаем
к т о м ы к о г д а с к и д к и 20%
и распродажа и гаснет не гаснет
на днами негаснет по днами негаснет
све рхп лоск ийэк ран ашейжи зни
# з
ком ком ком сна
льдистый холодный сырой
накрывает тебя земля [накрывает] снегом
влажными листьями всё вперемешку ржавые
пятипалые листья рёбра деревьев тайнопись света
сумерки ветер весенний тени лёгкие тени по зыбким углам
памяти ком к о м в воздухе глубоководном апреля
дуга высоковольтной любви
# и
и не было б ы л о и не было осени не было
ветер сплошной с п л о ш н о й свет мы пьём этот свет
пьём этот ветер пьём темноту п ь ё м электричество
нищих деревьев живое тепло тени клёнов сливаются
с нашими к т о м ы когда едим в переходе чизбургер
один на двоих ладонь смещается вправо сметает крошки
с губ дорогих к т о м ы когда слушаем грохот машин на мосту
и взрывается сердце и разливается синее алое синее на юг
и на север к о г д а м ы торопимся на электричку
жарко дыханье в с п а н б о н д е блестят синевато глаза
и сквозь перчатку чувствуешь вечность руки напряжённой
жуть эта сладкая жуть вино молодое кровь ударяет в висок
и замирает жизнь замирает р о ж д а е т с я вновь
# ѳ
белым снегом зима покрыла мёрзлое поле ||| | | || ладони замёрзшие красноватые прячешь в карманах курточки лёгкой глядишь исподлобья [дух-человек] лица прикрыты спанбондом влажно дыхание жизни ||| || || опять эти полые вены м е т р о политена горем заполнены простым человеческим горем тела и тела полые мысли труха в голове э л и о т thomas stearns e l i o t мы так давно перешли на полупальто заполняя всё что под ним чепухой и [р е н и к с о й] ты помнишь не помнишь свет зыбкий свет сёстры срубленный сад запертый в доме старик мы с тобой заперты в городе тленья жалкой [р е н и к с ы] и тлеем и т л е е м в царстве тепла и комфорта скидок и распродажи |||| ||||| |||||| ||| и дешевеет душа и пустеет каменный сад || |||| мусор сплошной ||| | | || ветер пронизывает до костей вонь пустыри распад неизбежен |||| |||| | |||| || ||| сегодня у нас безбелковый обед а завтра мысли-овсянка на завтрак | || |||| |||| ||| Бого-костёр человечества не про нас ||| | || ||| прах наш развеется сила развеется щепки горящие щепки в глазах || || ||| ||||||| и болит непрестанно болеет что-то в нас постоянно болеет |||| ||| лёгкие наши прошиты серыми нитками полу-гнилыми |||| | |||| |||| || || || ||| ||||| | ||| молчи моё горе молчи моя радость полые кости пусть помолчат пусть забудут распад и воскреснут будто деревья светом жизни окутанные || || ||||| || | ||| и под курточкой лёгкой слышишь снова пульсирует слышишь это живое и тёплое даже если зима даже если мороз и снегом покрыто мёрзлое дикое поле
# i
забывчивое тепло осени
обнажённые деревья
ветер грызёт кору старых клёнов
в сумерках старик потерялся
ищет кафе с названием «осень»
обращается к сумеркам
к теням случайных прохожих
в воздухе жидкое золото
свет фонарей
и никто не подскажет где осень
# аi
г у л к о е гулкое и не шаги и не голоса
только голые ветки стучат друг о друга
и чья-то ладонь сжимает сияние вербы
и не выпускает п о к а не закончится
[сердцебиенье стиха] этот тахикардический свет
тёмного на шершавом или белого в облаках
# вi
оледенелые руки
сухое вино мёртвых глаз
ворон кружи́тся в воронке зрачка
кру́жится льдистый ноябрьский снег
мёрзлое дикое поле
опустошённая память
[мысли опять эти мысли]
звенят за оградой
воткнутые в чернозём
замёрзшие астры
между деревьев от холода пьяные
бродят собаки и вылеплены
грубо вылеплены худосочные облака
кроваво-красные губы тёмная чёлка
одна ты впервые одна
за оградой кладбищенской
остро пахнет свежее горе
# гi
третий день
вхожу в узкий туннель прошлого
полыньи чужих судеб
[жизнь соскользнувшая в небытие]
думаю о вас
бедное сердце истлевшая память
зимнее поле морозный туман
заиндевелая сухая трава тёплые рукавицы
и руки бережно обнимающие пустоту
# дi
[……………………………..
………………………………
………………………………
………………………………]
н а к а м н е н а
ж ё л т о й б у м а г е
н а а л ы х г у б а х
р а н а к р о в а в а я
п е с н и
2020–2022 г.
Колыбельные швы
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ШВЫ
где тот свет, что страницы всегда освещал,
где тот ветер, что их шевелил?
– Г.Д
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?
– В.Г
…И опять засыпаю
– Г.Д
***
ночь приходит опять, как
вдох
– долгий-долгий –
пространства, в котором
тепло
незаметно своё – ты обнаружишь
и что
делать с ним
– шёпотом сами
губы выходят на разговор:
кто ты ты кто
где
живое не может
быть без ответа
***
а покой – только краешек
маленький
ты его
приголубь – шёпотом ли или
ладонями
их сокрушённым молчанием, – сам ещё
успокой
завернув в сна бедную простыню
или куртки край, хлопающей на ветру, – «ты
со мной, а я, а – я
тебя
найду найду» – так ему, на ходу
на бегу
в перебивах дыхания приговаривай
***
жизнь моя
посмотри на меня расскажи
где же я что вообще
здесь такое – ведь
кажется всё это нити – из
слёз, исчезающих так же
быстро, как они падают с щёк
в темноту
в тишину, которой
не слышно
не слышно, а что-
то греет глаза –
нам – и ладони теплы
и дыханье тихо шуршит
посреди островка немоты
что здесь скажи
никогда ты
не исчезаешь
***
хочется только спать
пожалуйста будто шепчет
воздуху что ли усталая голова а он
склоняется к ней у плафонов вечерних в метро
у прожилок серого мрамора
и принимает мягко её
приезжает поезд – но ос-
-секается – и опять
просыпаешься
***
как закроешь глаза –
рая изнанка
или речи влюблённой
говорящей – поверь
говорящей – ничего я и не знаю но
говорящей – только одна я и есть у себя
у тебя а может быть может
замереть лучше
послушать как люди шуршат
вагон громыхает
в свитере нитка держится одна за другую
а может быть может –
и в сон ускользает, не досказав
– и опять комнат
вечерняя тишина
в ней слеза затаилась
и спит на губах
простой воздух
***
только другого нежнее
рука
только своя голова – в свою
пасть
только прочь бегут
далеко – голоса – и
до
и до нас – ветерка
долетает мягкий рукав
***
что мы можем сказать такое
отчего станет просто
и хорошо
снова ночь наступает, снова
только маленький краешек
островок
дыхания
тает
– и
тает – и новым
приходит клочком без единой строки
голос, затаённый в гортани
навстречу молчанью ночному –
не выйдет – и
тишина
замирает в доме
за окном голые ветви тьму
качают – и опять
мы
засыпаем
и покой бежит рядом с нами
***
потерпи, моя радость: просто кто-то из нас
ещё не родился навстречу
и не поднял ещё свой бедный взгляд
в одиноких ночах затемнившихся глаз –
в милосердный воздух повсюду
***
а когда ты придёшь и нас согреешь
– и нет этих ответов
только двор опустевший ночью
подышать выходить, поносить лодочку вдоха
с непрестанной его, безымянной надеждой
под языком затаённой
угол с оледенелым сугробом
дом с одним окном озарённым – в ночь кто эту
выйдет, хорошо это опишет – так, что станет легко
как прочитаешь в стихе где-то об этом
и рядом побродит
подышит тепло
– никто
никто
всё равно только кажется сказкой это
блистание снега в сугробах, тишина во дворе
в колких ветвях трепет пакета
***
и себя к себе приручать
идя вечером поздним домой
вдыхая воздух морозный – звенящ он
просторен
и колок – как прерванный вдруг разговор
и опять – только
вдох –
в невесомость его
бездомно впадает
и идя, и идя, и – коснуться – рукой
темноты – как крыла
птицы
или собственных губ – как чужих
провести возле них
по краям тишины
и тебя приручать
несказанное ты
– можно руку тянуть
обвивать
дни
недели
дни–и–дни
колкий хворост минут
или просто смотреть
или только – смотреть
и снега, здесь снега, вот
снега
во дворе фонари – и опять
ночь наступает
это доброе – отмирать
как прочерк оставить, когда
не знаешь как написать
– отмирать – к жизни – и
и до утра тепло от сна беспокойным глазам
– всё бегут, замирают
***
жизнь
может быть тебя надо
доставать тёплой ладонью
ранкой – зачёрпывать сколько
ты уместишься в ней легонько
и опять – посреди глухоты, ночью
вызволять
– как монетку из недр колодца
золотой проглянешь каёмкой
трещинкой нитью (только только
снова ты не теряйся
оставайся рядом – как можно)
как слово – которое – вот здесь
любое
вызреет, выдохнешь – или
придёт само и тогда только
запишешь его
ты заснёшь
и утром проснёшься
и везде ходишь со мною
как ветер – или дыхание, или – робость
губ на морозе, поэтому надобен ворот
чтоб встретить: что у губ затаено
а на утро хрупко печенье
чай чёрный горячий и наскоро выпит
затаённое болью зарастает тоненькой кожей
и идти – и – идти как ведомый
счастливо и слепо
***
эти слёзы твои – это тайны твои, твоё дикое, терпкое, трудное чудо
и ночами вниз как склонялся к ручьям, шёпотом в тишине, голову опускал
припадал к тонким ветвям воды, в них укрыться искал – никто
не знает; после – снова день выпадал, и к глазам – ветер – и свет –
и дрожащий у губ скомканный трепет
а потом, ночью – как ты писал, высоко от листа, и неровно
и ломко, и вдаль – уходил, прозревал – вдох в пространстве воздушном, свободном
и потом, как читал – эти строки – твои, эти ягоды, вмёрзшие в ночи, как кровь
застывает у нёба – по ним
лепетал, как ростки, выкорчеванные из земли – находил – и вязал, сердце ими
сшивал, и до утра окончанье строки – уносило, носило тебя – как в колыбели
***
будет всё у нас хорошо
выходи, подыши
подыши ещё – ночь большая
улица совсем пуста
я пока не знаю, выпрямляю плечи
сколько горести, а радости
широко шагать и эту тьму
и дыханье лечит
на ветвях пакет как флажок
и бесстрашен –
трепетает своей речью
***
и когда
закрыты глаза – кто их тебе
греет
и греет – тихо, и в такт
внутри кровяного прилива
а когда
вдруг приходят
приходят – слова – в комнате кто
на твоём куцем листе, в тишине – их
– читает, читает
Шипучие таблетки восьмистиший
щ
всякий овощ это вещь
но не всякий вещ кто овощ
аще хощеши восплещь
буквы щастья кровли кровищ
на кровище накроши
кубиком нарежь порещще
человещь бульон гроши
ешь нет жри це овощ вещий
ш
Шорох всем всегда хорош
свергнут шах и мат расшитый
шёлком в бисер в корчи рож
где сунниты где шииты
вводим альфа вит войска
внутривенно ши́ши пи́ши
правильно пи: и с шестка
ша сверчок и шасть на крыши
ч
Шоко лад и Choko late
чем вам не чета нечётных
Schokolade йот и флейт
тхэта и псюхе залётных
где лимоны чу цветут
нам туда туда чудаче
чин чин чин банан батут
ты хоть чай залейся в плаче
ц
На матрас и на матрац
брось матрос свои матроцы
матной матрицей всех цац
ценных пенных всех покоцай
цокая копытами
языком поцокай мимо
нота мы и нота ми
цело купно круп но зримый
х
........................................
........................................
...............
...............
........................................
........................................
...............
...............
ф
ты флейта внутри форте пьяно
ты лейся и пейся и фейся
о face о фольянт твой сафьянный
о метаморфоз интерфейсы
и гнейса морфозы и меты
и орфа и цербера лазы
и дети родные кометы
сын Лайя царя соло-глазый
Святая веда и Фоторопится (с предисловием Софьи Сурковой)
ЯЗЫКОПЫТЫ ЮЛИЯ ХОРОШИХ: НЕУМЕНИЕ ВМЕСТО ИЗЯЩЕСТВА
Останется превосходный вздор,
который
НЕСЕМ мы как ЗНАМЕНА!
– Игорь Терентьев
Тезис первый: Юлий Хороших окончательно обнаглел.
Я начала читать поэму и уплыла – очутилась посреди происков несовершенного языка, разложившегося на силлогизмы и алогизмы. Первым моим намерением была критика метода: я пыталась найти места, в которых языковые искажения провисают, но дочитав (а позже неоднократно перечитав), поняла, что метод не вскрыть, как раз потому что автор не мыслит язык как плоский или как выпуклый; это не ухищрение, не преломление и не игра, это – оязыковление. Оно не подразумевает такой банальности как мастерство, оязыковление не умеет. Так что из этого самодурства, скрещённого с подлинным чутьём к языку, вышла вещь одиозная и грандиозная. А если вы поведетесь на эту кажимость семантического или фонетического обещания, вы УМРЁТЕ, потому что вектор (который, конечно же, есть) совсем не определяет назначения.
Тезис второй: слово означает то, что оно звучит.
В книге «17 ерундовых орудий» Игорь Терентьев оглашает поэтический закон, согласно которому практический язык видит центр тяжести слов в их смысле, а поэтический язык – в их звучании. Какое нам дело до означаемого, если есть означающее? Смысл это халтура, поэтому я не собираюсь ничего интерпретировать и, тем более, объяснять – знать об этой поэме совершенно ничего не надо. Познание её было бы актом насилия: автор делает установку на звук, чем провоцирует сдвиг смысла, и читателям следует оставить этот смысл гипотетическим, гораздо лучше – отстраниться, остранниться и взглянуть, чуть отойдя.
Тезис третий: изящество есть фундаментальная языковая трусость.
Автор балагурит, деформирует язык, но не избегает либидо – силу влечения – оно позволяет языкопытам оставаться живыми (или даже живительными), в них нет мертвецкой сухости лингвистических процедур. В то же время либидо никоим образом не коррелирует с условной нагрузкой текста, поэтические неологизмы сохраняют свою возможную беспредметность. И мы видим, как массивно закупоренное сквернословие движется эмотивно, язык несёт ответственность только за себя, а не за предвзятые идеи о символике звука/фонемы/морфемы. Юлий Хороших работает со словом таким, какое оно есть, то есть без пристёжки смысла; также он не стремится к речевым витиеватостям и изяществу – Юлий Хороших преодолел фундаментальную языковую трусость.
– Софья Суркова
СВЯТАЯ ВЕДА И ФОТОРОПИТСЯ
Непо седое, вы швы ₽ ну т.е.:
Закад ровый лёг – #оранжевыйцвет.
Натянутка в озре о дна: её топ-п-пот,
Ёе йеша. Жем-меж-чужина как: она.
Полудважды. Мог рая и на вы" ход:
Телепается на двух влажпках –
И к с, ожирению, естся: до грудного хрипта
Пополудни. –
Сумеркто, то очень большейный,
Гор до облоко тилмноте –
Вытяг дым сикараедки: в жарко;
Рассветвляется следующий день.
И:долъюдольный, звон гологольный –
Г:рэхо войдивнного дыхахахания,
Р:ок от ом, укладенным атомом:
Е:153 – теплота – Е110,
К:уют и фундарнаментируют
Медные комплексы хлорофиллов
И не операвшихся хлорофилинов,
Укращающих ароматуру.
Фрикуют изаброжения – на стенах
В их отрыжениях: цикробы – живность
Алхейная, вор о чутка ню шку ₽ ных-ныхов
:Наблюдеедение
На каЛмеру: бабь-я-ря́бья тычёт
Однк отдамову ребросому,
Пищущую что-либр искажево́нный,
Пристально: то Шутенберг
Ошибается в волшебстве – у него:
С красной тропы стартует абзаяц,
Объёманный бустрофедоном,
Вшатый, царапает на грамождёнку
ВыпуКЛЫКом: твердиню зверьчащую –
Тютелька в миниатюртельку – мимо.
Знаяц наделal lé górie, и вскоре – Умчацкий.
А со станка всталкер заика с речью-мозаикой:
К нему, к амнему́му почти,
Навели шовини-шевелинзу:
Г де шов а кожа да рожа –
Тащий сколе́т – лукавое горе.
Ближе зум: у м и р а з у м ближи::вой.
З на к остыл ях онт олого вел
ось и пед аль земляродина –
Туда и упал. Ор раз вавшись:
Руки-ноги его – в экивоки. А не сазассало:
Молжа́вый череп и речь-перечь.
По сети барбарского удиви́дения:
Речи – легендеры; он же – ангегель.
Череп сам пах под солнцепестком:
Науклюжим и от вед вяд шим.
Мольно втяни рожидая корчевное
Время – не ноше, время дочёрное.
Растратосфера. Шары хименны́е –
В продули́ктовом неразлучении;
Антиквалиат – и будликаты;
Видит дальхроник – так.
Съевклида и глазомер
Замо́зганный открив.
Зрязрячок замрёт
Тогда – когда
Додудосит
Пере́чь
1-я.
Он садится, как солнце, на стул.
Вытянув глазомер:
Глазомер
Сидит на стуле:
Хор (Ребросома – Шутенберг – Абзаяц – Знаяц – Заика с речью-мозаикой)
Мы отапливаем глаза брёвнами
До дырок чёрных. Стоим уставчиво
На своих непростициях: бедя́ми
С заковы поднятыми шеями –
На осдачки звездалей –
Их свялочения: идажих в наши
Зачторенные околона: в тяни
Труд-друга: нас, опля-ух-шикся
Фуплюнетой, БАДыживущей.
Глазомер
Нужно смотреть только – погибше.
Хор
В хоро- воде -шей: в точне притя́ги –
Ты вмозглавляешь бодрияйрхат:
Своботажа бространство – еслибо
Стая дохлых времирей – да-либо
Естьудут уженам носильным.
Бок-о-поклонения архикрива́жность:
Нишний – не глазомер, а умзеркало
Тс-сных облатных сторон планет. –
Наша летит без сознания
В вакуумной коме,
В передовой позе.
Глазомер
Притормаши́: не торопя – стопоря, не торопя – стопоря, не торопя…
Хор
Этот космос – в пробирке,
В нём только наши чёрные дырки: и
Галазей –
Занавешены бирки.
Глазомер
Есть кто-то языково?
Хор
Бредоков родового дуба.
Глазомер
Что предоков твоих впечатлило?
Хор
Прах системы, пра-прах системы и пра-пра-прах системы.
Глазомер
Чужой по гонам тебе фактор-порезус?
Хор
Это фактор древо порубус.
Глазомер
Только ты, как и все помимо меня, одноразовый.
Хор
Хотим разовый взор
взор взорвать в розовый.
В тот, где всё хорошо.
Пере́чь 2-я
Ищиза́вещими легендами
С лиц – Слиц.
Одряхну́лись… – тружно.
Народсты – на ртах заглубевших,
Окромных проблешин брезг.
Движения общи́тые, утопнные,
Сковорные: не мах, а па.
Грудименты для выкрутки колесом –
Исвернули себя приже к полу.
Позныночники ноют к полудню,
Нечиниками встали они.
Раньше шли ухолмять ландшафты,
Чтоб менять названия улиц.
Пупами обозначали центры,
Исмиряли гектары гененелогических древ.
Шли ВОЕВАТЬ: пиф-пафами,
Дульными вещами-свищами, бах-бахами;
Плечами-к-плечами: натюрмрт,
Из неладонь убирая ружья,
Невыбирвая, и забирая
Лёгкие тра-та-та-феи.
А вчера один закрыл кошмарётки,
Из погребов убирая ржа́вья –
Добрыня семь лет Добирыня,
Закутанный в агдеяро,
Хроняющий свой савангард
С быльевой верёвки подруги.
Мерещурны веки его –
Сонливень.
Со взглада заметлены
Тихро нимые
Мучли.
С
лёг костями.
Пере́чь 3-я и другие (сохранившиеся фрагменты)
Прахадамец: 22 года
Едимного кода: смеханистичного –
……………………………………….
……………………………………….
…….…………………………………
…..…………………………………..
В никчемушнике рублеоца́ми…
……………………………………….
……………………………………….
………….тутуха стряссовой
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Цыцерон яходит на плонещадь,
Дофамилионный PDF открывает:
…не...…… по лекаломендациям
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Прахадамец вышел из строя...
...на своих двоих на своих двоих
……………………………………….
………по следе́ням…….…….
……………………………………….
………………………глюлики....
…………....…………………………
……………………………………….
Рюрикович (или Крюрикович?) –
Цесаревич Иван ладнокровный
В народной молве дураком был,
Например потерял рукавичку.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
1 февраля 1918 года в Советской
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Зе милярд дина
Загоргу́льина отрез да ври́рванного
Лобешника делебабашни: СВЧ-елевек в
Тожде-тождевике и с мозгнетру́ном
Боссылает присве́ты в дьме буржлука́м:
Их шаривари-хари загаданы под асфальвит:
Апатин, Болёнов, Виченых Константин, и дале
На ниф-нифа, ниф-нифа и ниф-нифа их раздватрив –
Городской бодруль на зависшей красивке-гифке опаузнулся,
Маральбюро затянувши. С по-виноваторской скоростью:
Надевают кроссовки-споты́ки-по-городу-жителем-перемеши́ки;
Отоверли́н переглючает их слух в режим только на шики.
Атрофобус везёт их в их треморо́к у Руки по левому те́легу.
Там по ночам запускают легенды – рёвоактивные, чтобы раззявить
Ртище-ресторанчи́ще неба, закрытого рыглосуточно.
Рядом стояч коровьинной ве́рны, и сточ воды: под башмакали –
В пасти зверю́х заброжёванными, в брюхи входя обнажёнными:
₽-обра́- зно видение: -щённо на нерест: солнца-селёдки,
Гла́женной, и – поче муже шуе: по поплатью зрячих деснвиц-
Человек. Глазеруют ступни, е щекокетливо, хоть бу жженый рядом –
Ряд-рядом они. Каждая – спряжа, из пепеленованных глаз.
*бла-бладисменты*
Посвящается моим пацанам: Елисею, Кате, Васе, Тане, Илье, Полине, Вове, Соне, Мише, Соне, Алексу, Соне, Дане, Никите, Ви, Артемию, Арсению, Соне и Даше
Другие песни Мальдорора (песнь первая)
ДРУГИЕ ПЕСНИ МАЛЬДОРОРА
ПЕСНЬ I
[ 1 ] Зламя пла дребезжит,
колдованное, умасленное:
является из него горящий гусь
смертоносным сахаром – такова
его дланная душа.
Он увит гулкой сушей,
секс с ним приносит гибель.
Стоило бы оставить его в тёплом поднебесье,
но всё же он вынут из воды, вот он –
горящий-гусь-изъятый-из-воды.
В нём нет смирения геометрической фигуры,
он злобно сбрасывает перья и треплет
ими перед носом,
«…гроза всё ближе» [1].
[ 2 ] Он смотрит на всех
глазом ненависти и глазом вожделения,
как уродина-акула,
примёрзшая ко льду в безличьи
и экстазе.
[ 3 ] Гусь был добр, но исполосовали его
бешенство и боль,
и он как свежая бритва
начал избегать повторяющихся наказаний.
Только одно осталось в его воле –
грустные самоубийства ужасных дам. Остальное тяготило.
Гусь мерил лица и склонялся к земле
в поклоне.
[ 4 ] Это подлинная живопись,
гусь был талантлив.
Его служение нельзя уличить
в напускном наслаждении самим собой,
в нём не обнаружить пустяка.
Что, кстати, не следствие гусиного благородства,
а даже наоборот – из-за испорченности:
он знал только страх и злость, и влечение,
и влечение.
[ 5 ] Гусь обожал только венериков и пьяниц,
только их лелеял в своей душе,
а они отдавали должное –
гладили его изнутри.
Или это тщедушная непелость?!
Покажите ему жуткорожениц! –
пусть он вознегодует!
Покажите ему этот век говноедов! –
пусть он сокрушится!
Горящий-гусь-изъятый-из-воды
говорит: я специально
стал наглее, чтобы не видеть святость,
я специально скорчил гримасу–
хотел забыть эту яму
и ужас,
этот стон и горе,
и несмолкающий плач.
От этого у него и случилось
истощение сердца,
теперь
вместо него там – овчарня.
И ещё гусь говорит,
но тише: я погиб,
меня тут не любят, а мне
обязательно нужно, чтобы
меня любили, я погиб.
Посмотрите на него сейчас: он трахает море и остаётся весел.
[ 6 ] Гусь годами стачивал
свой клюв, ломал свои кости и
драл на себе кожу;
остался он босоногий
и воспылал ненавистью,
но прежде спел,
прежде засмеялся и спел
(только почему-то лились
потоки мокрых глаз
в его раскрытые ладони):
Я в темноте на дне моря,
в самой глубокой впадине, где
никто не видит меня.
Я стал другим, я больше
не помню своего имени.
Мне не показалось, это и есть похороны.
Любимый! останься единственным
скорбящим по мне.
Но я тебя прокляну.
Прости, любимый, мне нечем будет тебя оплакивать,
я потратил все свои слёзы
во время предыдущей любви.
Я полюбил тебя и думал, я
умалю свою гордость и
проглочу её, но не смог.
Так что я проклинаю тебя,
«… я для совершения сей искупительной жертвы украшу своё тело благоуханными гирляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты – от жалости ко мне» [2].
[ 7 ] Он находит жизнь очень странной;
он умеет дружить,
а умеет ли любить, не знаю;
где-то далеко осталась его добрая подруга-гусыня,
вульгарная пидораска (под стать ему),
и, к тому же, людоедка.
Они встречаются иногда
и говорят друг другу: Здравствуй,
ты пахнешь жабой и тупостью.
[ 8 ] Гусыня нашла своего друга
в прожорливом остервенении, в
неуёмной жажде, уверенного,
что исполинские рыбины сияют в его изнуренном горбу, а после
рыбьи скелеты опадают в его чрево.
Горящий-гусь-изъятый-из-воды
пытался ей что-то говорить, но
лишь исходился то чахоточным хрипом, то лаем псов: скивицы лопнули, словно красные брусники, гроздья высоко, ламантины в пруду, затемнелось, сухая кровь – это очень сухая кровь, а́ды, а́ды…
Гусыня не удивлялась этой фантасмагории,
не боялась ядовитого дыхания,
но лишь поглаживала его
своим крылатым хоботом:
Друг мой, опять ты впал
в это экстатическое помешательство,
я знаю, у тебя рана на сердце, а сверху
бетонная плита давит и давит
и не даёт дышать
и не даёт спать. Пойдем
я отведу тебя на наш костистый берег.
На берегу всегда
стоит ломаный туман, такой,
что ничего не видно,
кроме долговязой листвы вокруг.
На берегу гусь долго рассказывал подруге
о короле-часовщике, своём возлюбленном, и
о своей ушедшей любви – короле-рыбаке,
и много плакал.
Но даже эта людоедка догадалась: уж
не думаешь ли ты, что истинная любовь проткнута тысячами иголок?
Гусь ответил: берегись, я слаб.
«Я сижу, я почти не помню, как нужно жить.
Я желаю смерти» [3].
И воздух замолчал.
[ 9 ] Священна ты! неприятная вода!
зачем ты бередишь мне душу?
моё сердце одряхло,
сам я на последнем издыхании. Жду
от тебя лебединой песни, но
получаю лишь волоокую ртуть
Священна ты! неприятная вода!
кораблиные племена
пустили в твоих недрах корни, их
«смерть <…> украшает <…> пенный всплеск» [4], пока
ты кичишься этими бедами
Священна ты! неприятная вода!
и не видать конца моему гимну,
будь ты хоть гения, хоть жалкая лягушка
Священна ты! неприятная вода!
солёная и горькая, ведь
лишь ты можешь изредка скрасить моё пребывание в реальности
Я дарую тебе свой вздор,
хоть он и уродлив.
[ 10 ] Король-часовщик был
отважным человеком, ходил
аккуратно, как цапля по болоту;
верил в бессмертных жаб и
презирал улыбающихся гиен.
Вы, улыбаки,
ужасное преступление совершили против меня!
Меж двух своих локтей он
всегда видел светлое лицо бледной девушки,
его часто съедала скука, он думал:
Мертвые в земле, так зачем же я здесь?
Горящий-гусь-изъятый-из-воды нашел
большую радость: смотреть на него, пока
король-часовщик смотрит на кипарисы и воет,
как ветер.
[ 11 ] Король-рыбак был знатным бедолагой.
Когда гусь встретил его впервые,
весь мир стал чуть светлее, поэтому
гусь решил, что перед ним – чистый ангел,
у которого в глазах цветущий светозарный луг.
Гусь, утомлённый бесплотный могильщик,
увидел добродетель солнца и
морских птиц.
Они стали слепые, завершили
все свои труды, и днями
раздавалась лишь неизгладимая чарующая речь
раздень меня;
Горящий-гусь-изъятый-из-воды поверил, что
король-рыбак теперь его заступник, и жил
заволоченный этим знанием несколько лет –
отрёкся от себя, да так,
что не заметил, как снова
начал скрежетать зубами.
Беда подступила к ним. Кузница
зачумлённого постылого естества сказала:
иногда любви недостаточно.
Они стали как висельники
(уже после смертной казни).
[ 12 ] Тогда они решили проститься.
И вот гусь снова
весь в поту, втоптанный в грязь, одержимый
манией, стенает,
подобно кашалоту, у стен собственного кладбища.
[ 13 ] Гусь пришёл домой, разделся,
лёг на грани,
посмотрел на свой крохотный,
проклятый сад: справа бамбук –
дерево некромантов – полое как кость;
слева – ничего; всё.
Какой была моя жизнь?
Карнавальное шествие, запрещённые вещества, секс
суицид. Я любил
рыбака до одури, не стану же я теперь
ненавидеть его до дрожи в коленях!
Но расхвораться ненадолго можно,
ради приличия.
Гусь плакал два дня
такими белыми слезами, что
обернул своё сердце в пепел,
потом решился: из-за него я гибну, в яму выпадаю, как
непомерная вушенка. Лучше мне
выйти замуж за несговорчивого
капитана дальнего плавания –
буду ему женой в синем платье до пола.
[ 14 ] Горящий-гусь-изъятый-из-воды ослаб;
встретив короля-часовщика, он
влюбился не сразу, но сперва подумал: какой же
утомлённый пеликан с огромными веками!
Зыбко и шатко, но
ламантины в пруду
стали похожи на русалок.
Они посадили священное дерево,
священное дерево названо
«старый человек из воды», тогда
гусь догадался, часовщик тоже
тяжело болен – он знает, что такое мрак, и как
страшно, что в мраке нет Бога.
В благодарность за это знание гусь начал
таскать в клюве лягушек
в дар королю.
Часовщик сказал однажды: «улыбнитесь
в вечность, моя любовь» [5], улыбнитесь,
и мы удалимся в вечность! Тогда
гусь и запел свою песню про
темноту на дне моря; он злился и пел:
Прости, любимый, мне нечем будет
тебя оплакивать, я потратил все
свои слёзы во время предыдущей любви,
я болотная мразь, а когда
ты уйдешь, я не смогу, как должен,
скорбеть по тебе – я потратил
все свои светлые белые слёзы, отпевая
предыдущую любовь. Вот
какое проклятье – твой уход
не будет увенчан цветами и мясистыми
жабами. Я проклинаю тебя!
Король-часовщик ответил только одно: я знаю,
твой красивый рассудок поражён недугом.
И в этом была красота, и она
съела страдание.
[1] Лотреамон, «Песни Мальдорора»;
[2] Лотреамон, «Песни Мальдорора»;
[3] Сергей Калашников;
[4] Лотреамон, «Песни Мальдорора»;
[5] фильм «Любовники кафе де Флор».
Атомная зима
АТОМНАЯ ЗИМА
Там – ничего. Ни одно обещание иным не станет, –
любовь рассматривается как шелушение, в котором,
словно в арктический спирт окуная пальцы,
ты задохнешься на пряном выдохе,
переходя в сознание меры, прямо молвя –
«пейзаж прекрасен».
– Аркадий Драгомощенко
пейзаж прекрасен, да
плитою ледяной придавлен хриплый город
вакханки в латексе кружатся на холме сугроба
и рвут на части чёрную одежду
расплавленных от ослепленья зданий
мы выходим днём, когда серая дуга неба посередине
упирается двумя частями моста в разбуженную стратосферу
тогда топливо брони меньше расходуется и можно направить шаг
вдоль ветра, к Башне Выживших, где люди
наполовину перемешавшись друг с другом
сохранили черты лица и характеры
и можно сфотографировать их
оставить на камне бумаги их чувства
а сфотографировать что-либо здесь
можно только чёрно-белым фотоаппаратом
потому что цветная плёнка, не находя цвет, плачет
и портится, оставляя своё тело внутри его тёмной цели
мозг убежища дремлет в дребезжании глухого фильтра
лампы мучительно высвечивают смятые углы помещений
отражения всех живущих перемещаются по движущимся комнатам
лжеокна транслируют смешные тёплые звёзды
звонки поют, как замороженные птицы
сложно вписать милую тень своей жизни в развалины мира
стать частью того, что является каждый раз не самим собой
сложно писать обгоревшими крыльями книг свою новую песню
сложно выманивать жизнь с цветочного ложа огненнокудрой Войны
неоновые глюки заснувшего небесного монитора плачут над волной пропасти
герметичные хижины ощетинились антеннами
и размыто приветствуют нас гирляндами в тумане полого перевала
чёрные гроздья наших сердец напряжены и сквозь тоннель прорывается
локомотив давления
и скашивает с перевёрнутого горизонта
хрустальные колосья наших умов
да, обездвиженность здешних людей может выдать нам
золотой билет в любую земную империю
народы за пределами Круга уже замыслили в развалинах акведуки
и полоснули разъятую карту
пологим ручьём замкнутого монорельса
а на Севере всё растут зелёные конусы башен, делая вдумчивый город
из блоков спрессованного пепла, поднимая
осевшую пыль вверх на одно звено винтовой лестницы
памяти… но мы-то знаем, что всё это просто
рассказанные в темноте сны
дверь открывается
в задымлении проёма оскал прямого света
сбрасывает шлем полумрака с наших голов
мы входим в разрыв бледного дня
с белым котом на плече и запахом духов в воздухе
я никогда не задумывался, какой разный ветер
поднимает в наши дни пепел из подобных мест
дорога блуждает, подобно огню
расколотое море шепчет песни отбытия
сколы штукатурки рябят на встроенном мониторе
а за дверью – пустой мир
но меня это не пугает, ибо я знаю
в конце тоннеля появится она
факт того, что это сон, не смутит меня
бал голограмм в разрушенном рок-клубе
прольётся вальсом цветов оцарапанной электрогитары
и мы станцуем, пока снежная пыль будет сыпаться
сквозь расщелины крыши, и вдруг заглянет в окно
чья-то луна, и наши лица будут гореть
в неверном, пляшущем свете
и тени будут дёргать и переворачивать нас
всё, что здесь происходит – вскипает
холодными зонами проявления, но радары
почтенно молчат, охраняя сон во всех его точках
тело Спящей Царевны стало раздваивающим ветер
храмовым нагорьем
вспышка на миг всколыхнула мировое дно
и мы увидели наши отражения
живущие точно так же, как мы
***
костяные трубы говорили
как продлённая улица в силиконовых взрывах пыли
лица, припаянные к стене, пели
На крайней – запах гари уже нельзя было не узнать, и в нём был плач – может быть, химический плач – людей, замученных взрывом Сверхновой.
курорты Южного Урала раскинулись на золотой постели
пробегали фигуры в спецодежде, как в теле
нет, не бежали – а прям летели
Может быть, они и были кенгуру, фридайверами, бегунами, беговыми пилатами, гимнастами, канатаходцами кромок руин в пепельном свете карманного солнца. И я вообразил себя частицей их обычной жизни. И вдруг понял в чём дело: двигаясь по золотой пустыне, мы не чувствуем цвета.
темнота прыгнула в озеро прежде себя как шар
проваливается и совпадает с кругом
сглаженным, как белый конус фар
вместо Икара в угол картины падает
лекарь с холодным плугом
Но я всё же был. Как была и лампа на колёсиках, рассказавшая анекдот про Лысого, про то, как он сажает деревья на могилы старушек и вытягивает оттуда чеки. Из переулка сквозило голосом сердца – как из гейзера, откуда надо было бежать на своих двоих. В медных сосудах движения начиналась новая смена. Пропасть была позади. Кто-то подтер сапог на склоне и водворил деревянную ногу в исходное положение.
***
Компьютер желаний, уподобь мою душу лучу
Конфетке в кармане, улыбчивому Пикачу
В скользящие сани усадишь меня – и взлечу
Цепочки растений кусаются и звучат
Голодные тени устраивают парад
Но сквозь мрак поколений, прорезав пожизненный Ад
Взвился дымком сирени, солнечен и крылат
Священный, без преуменьшений, чудной автомат
Детский лепет, летательный аппарат
Выключи зрение. Всё, что перед тобою –
Плоскость билборда, сенсорная панель
Рыбье ночное пение, вспененный эль
Львиная морда, озеро голубое
Звук исключи – и прозрачная плёнка заразы
Изолирует озеро медицинскою белизной
И в подводной ночи фосфорные водолазы
По глухим фонарям расфасуют арктический зной
Просто замри. В грудной клетке начнёт распадаться
Словно в шершавом падении метеорит
Сердце, и вместо него муравьиную тьму операций
Нам добродушно паяльщик немой водворит
Райских машин стая зажгла
Фонари золотого башенного стекла
И с вершин лавиной прозрачного зла
Ртуть стекает на выпуклые тела
Лифты поют, монорельсы артерий горят
Сосуды цветут, как молниевый разряд
Как безумный салют, и по ним растекается яд
Город, размыт, раздут, сожжен, согнут, распят
Компьютер желаний, сделай меня плевком
В заброшенной бане сохнущим пауком
Лиши всех желаний, чтобы я стал компом
Оторванным тромбом в теле глухом, слепом
Чтобы цвести, как зелень, и не нуждаться ни в ком
На вершине ламарковой лестницы гиперкуб
Разрастается внутрь, как солнце в себе кружась
Монтирует кремний – и оживает труп
Бело́к заменяет – и зацветает грязь
Сигнал изменения сверлит собой виски
И бьётся стрекозьим телом внутри сачка
Хранилище неба вскипает, словно мозги
А в третьем глазу скачут три огневых зрачка
Вылупляются мелкие механизмы
Гомункулы сбегают из запотевших колб
Шепчутся белые волны экранной плазмы
Съедают друг друга сосна и фонарный столб
Ночь надо мною – слияние, пустота
В небо лучится иглою антенна креста
Человек с человечицей спят, потому что настал
Час их покоя, и светится тихо кристалл
Там, на другом берегу, над холодной рекою
Компьютер желаний сверкает, жужжит и шумит
В земном океане космический разум разлит
Он дремлет, но судя по резкой тектонике плит
Он слышит и видит
И сердце его болит
«Нулевой круг»: Тимофей Малышев. Слепящая точка (с автокомментарием)
Скраингом называют различные методы прорицания. Один из самых древних и известных видов скраинга – прорицание через пристальное смотрение в отражающие поверхности: воду, зеркало, кристалл. Считается, что, вглядываясь в них, можно увидеть различные узоры, облака, фигуры, предметы и людей, которые имеют отношение к прошлому, настоящему или будущему прорицающего.
Стихи – инструмент для внутренней одиссеи и отражение процесса этого путешествия, способ изменить взгляд, подобно оракулу услышать сокровенные вещи в шелесте дуба. Стихи, как зеркало, отражают автора, читателя и показывают увиденное во время путешествия в зазеркалье.
– Тимофей Малышев
***
глина и глина
местность с чертами упадка,
лишенная травы и деревьев,
согласно плана и чертежей –
запустение.
откуда мог взяться этот шорох?
там, где нечему издавать звуки,
долгие дни залиты тусклым светом.
***
колонии плесени, грязное сияние,
все дело в расположении огоньков –
грибных темных отблесков
на складчатой ленте
на секунду я испугался,
как будто наткнулся на взгляд,
и действительно попался в ловушку:
между кафельных плиток,
из щелей что-то сочится с той стороны
***
высохшие семена бесплодны
связки проводов чреваты ударом
где-то прогнила защитная оболочка
это ревет самолёт или ветер в арках
на фоне вкрадчивой поступи машин
по ногам гуляет сквозняк
я слушаю ночь и кажется
она меня слышит
***
Хрип трубы: слепящая точка,
соскользнув с иглы, впивается в ладонь,
горькие травы выдыхают пыльцу,
их голос оседает далеким звоном
на маленьких солнцах в лимонном саду,
где каждая минута – отражение другой,
и осколки часов качаются в ушных раковинах. –
Вечный восход.
***
Разные ритмы в лесу:
орнамент дождя, мантры лягушек,
шаги излучают нечто вроде сияния,
и вот я уже среди чьих-то слов,
где сам – предложение.
Он написал ветками-буквами,
нарисовал иероглифы птиц,
пропустил меня через двери своего рта
выразить ритм сердечных мышц
и дыхание трепещущих листьев и трав.
***
потерян
и даже рисунки смыты волнами
ни линий ни фигур
камень замшел
не видел не помнит
как мы были близки
***
подол платья брызжет накатывает
на белые голые ноги
рекламная пауза
между пожатиями пальцев
чтобы уединиться в телефоне
раньше можно было спрятаться
в специальной будке
укусы сосновых иголок
взбадривают босые ноги
глядим чтобы не попалось
битое стекло среди грёз и сухих корней
«Нулевой круг»: Али Алиев. ул. (с автокомментарием)
Идеальный момент стихотворения
Мое любимое занятие: пойти в кино и если фильм окажется действительно одним из Тех, то тогда можно провернуть одну «вещь». В самый напряженный момент фильма, когда ты забываешься в идеальном сочетании музыки, кадров и слов – взять и пересилить себя: оторвать взгляд от экрана, посмотреть на его краешек. Посмотреть именно в то место, откуда ты можешь видеть и сам фильм (подсмотреть краем глаза), и одновременно увидеть свою жизнь, снова подышать своим воздухом.
Вот тогда можно ощутить Это (настоящая поэзия), и только со стоящим фильмом это может сработать. Для меня это чувство пограничности, всеобъемлемости момента и в тоже время его самобытности является мерилом любого искусства, и в том числе и критерием поэзии. Только в по-настоящему стоящем стихотворении можно увидеть себя, полотно и что-то третье, что ты не должен был увидеть по всем даже самым невероятным задумкам. Это третье, по-другому это не назвать, больше всего меня интересует. Именно к нему я пытаюсь приблизиться, хотя стоит напомнить, что у этого «третьего» ощущения даже имени нет, и все обозримые приемы, методы и поэтики – лишь средства для приближения к этой третьей безымянной точке, рождающейся в уголке экрана
– Али Алиев
УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 116
скат крыши у здания почты россии
день не появляется там где не будут его ждать
работники под козырьком, надышавшись полиэтиленом
и спешкой, курят и смеются
до тошноты не прощается случайный взгляд на иву,
мы – надышавшиеся оранжевым ангелы
корчуем сорняки, заботливо
выговариваем «клум-ба»
шланг размывает границы земли,
или ветер размывающий границы воды
польское ł размывает границы нёба
и все тяготеет к идеальному кругу
я не рву цветов, не покупаю с рук
все что интересно мне – гиперфиалки,
если ты спросишь где растут они
где их можно увидеть –
я напишу адрес
земля областит линзу, бережно
не вредя лепесткам и запах оседает шорохом
УЛ. ПОДМОСКОВНЫЙ ПРОЕЗД, 8
кузнечики-рельсы под натиском трамвая
– жужжат быстро
сталагмит среди приземистых
домов, мускулистых ив и неожиданного каштана
хочет сказать
«мне нравится кровь я хочу
видеть смерть»
в его бечёвочно-венных руках
коробочка для снастей –
чистая смерть,
которая будет не здесь, нет реки
– нет жертв
Камера VHS служит памяти тех,
кто погиб на первой и второй
чеченских войнах,
ни больше ни меньше, чем этот
заброшенный, никем не
проектируемый проезд
этот блик, запоздалый звук,
неразборчиво число, вроде на
рукаве?
напоминает нам о тех,
что ничего нет
УЛ. УДАЛЬЦОВА, 32к1
если быстро крутя педали
рассеченного воздуха ты видишь
у улиц и домов ритм, значит:
москва ещё верит в проспекты,
в их время неуклюже поделённое
на доли
если беспокоит головокружение
значит есть ещё пространство
где песок можно заменить
горсткой песка
где каждодневность можно
собрать из кармана
так и хочется крикнуть
«микрохроматика!»
надеясь что слово разнесенное
ветром велосипедиста,
не повторит своего значения
от этих зданий веет
благородством спатифиллума,
помещённый в кадр вазона он
теплится, повторяет себя,
областит небо
здесь, очевидно, можно встретить
плачущего
вауйериста-поставленника
смотрящего растрогать,
уверить в прекрасности
БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 8
не доверяешь глазам больше обычного
на пару с палящим солнцем сеют
мурашки по набережной
что было первым? фильм Гринуэя
«интимный дневник» или твоя
каллиграфия лодыжки
или родинка такая частая но редкая
в своём повторении
грушей бьется сознание: «или-или,
или-или» – это топливо
а механика такова: как в сонной мути
слышится «мережковская»
___
он смотрит картину, такую знакомую
на набережной развалившись,
пустив свои поршни, трубки
насоса
по тротуару, задыхаясь плюётся
маслом, это нечто
механически-осьминожье
и девушка с каллиграфией на лодыжке
ласкает его в последний раз
___
как выросший хребет змеи
бордюр на ремонте
уносится вдаль
и здесь остаётся только
задыхаться в горении
от предчувствия
четырехтактного
времени
УЛ.
фары машин разливаются бензиновым
отблеском по лужам асфальта
свидание ночи и колонн
грек стоит у фонтана играет русский вальс
сиса тепло-щекотно разливается по венам
кто-то спросит
«как называется эта улица?»
капли дождя которые слышны мне они
особенные из этих капель которые
будут услышаны мной строится столб
который уходит ввысь до самых туч
эссенция ностальгии
варится там наверху, своим холодным
мы потерялись в общем для всех
ему
достаточно
музыку наложить на пленку, и вот новый
фильм показанный один раз в рамках
проекта...
на корешке редкие капли дождя
я стою под фонарём, и я защищён от ложных полей
от выходов из кинотеатра,
от дождя,
где ты, Ротонда? я буду
молиться если ты встретишь Ротонду
среди высоких кустов в крылатском,
завернув за угол очередного голубого
атланта серии п-44
простое даже убогое звучание
blunt я разливаю по чашечкам
паренёк златокудрый отчетливо
постулирует в пустое пространство
перед собой:
«Мой отец – teko, аккаунт на рутрекере, с Алеком
Болдуином на аватарке, это он залил все мои любимые
фильмы, мой отец – teko аккаунт на рутрекере, с Алеком
Болдуином на аватарке, это он...»
фонарь не понимая своего предназначения
прячется в кроне деревьев
с ним можно договориться только во сне
когда шелест ночной листвы возьмёт верх
над звукопространством улицы
на улице мичуринский проспект, рабочие после
ночной смены садятся в автобус. сонный он удаляется
от не-места. где нет ничего только. здание академии фсб
в стиле кубизм, которое облицовывают XVIII веком
не место и не время сейчас наверное говорить,
в плавном укачивании электробуса снится
прекрасная Астана, «мне снится Ширин, я рад умереть от ее руки»
и
дождь дождь дождь дождь дождь дождь
если бы это был фильм он бы
назывался «ничего не происходит»,
если бы это была музыка она бы снова блеснула
разлитым бензином
лупоглазыми фарами выхвачена
подвозили фурами мешки цемента, пенопласт розовощекий
и в работе одного винтика не было ни секунды времени
и сумма изгибаясь упиралась рельсами в горизонт
стоя под фонарем я защищён
от неточных понятий, от ложных
полей, радиации вседозволенной подобных,
но все же
я смотрю –
наверху есть лицо,
это лицо фонаря
АВИАЦИОННАЯ УЛ.
все это дышит снегом:
могутовая статуэтка на берегу
реки её ещё называют 79В
слова, которым позавидует, но не
сможет забрать себе кино
снег падает
в еле слышимый канал – умирает
и колокола радости звучат
венчают смерть с водой
укроп травы хрустит под ногами,
ещё шаг и мы уже вместе
и шахматы дышат им
тёплым липким снегом
он как пешка был взят en passant,
то есть ещё когда сюда вошёл
МЕЩАНСКАЯ УЛ.
циклы не выполняются
ошибка синтаксиса
так и заканчивается то что называется любовь
автобус в пробке карабкается по уклону
и снег отшумевший ещё в 25
верит что сможет стать поэтом
если на отливе крошечка сигареты,
значит у окна бессонная ночь
если выражение ложно,
фары автобуса беспощадно вслед
за звуком мотора
оборвут сон
оставив на потолке след
здесь ходят трамваи
бесхозное как прислонившееся лопата
по черенок в снегу
чувство недописанной программы
остановка при подаче сигнала водителю
циклы рассыпаются на мириады ошибок
здесь это называют «идет снег»
но этого не заметить если
не пойти след в след
«Нулевой круг»: Александр Прокопович. Пощада времени невыносима (с автокомментарием)
«Чувствовать себя вроде обезьяны среди людей и хотеть быть обезьяной в силу доводов, которых не могла объяснить и сама обезьяна, как раз потому, что ничего разумного в этих доводах не было и сила их состояла именно в этом, со всеми вытекающими отсюда последствиями»
– Хулио Кортасар
Я в основном пишу стихи утром, просыпаясь после тяжелых, густых снов. Поэзия для меня это нечто всегда инвертированное в плане времени, какая-то неправильная форма мечты, это надежда на прошлое и воспоминание о будущем, это после-жизнь, когда ты оказываешься перед выбором: продолжить свою жизнь, но потерять память о ней, либо остаться в вечности – навсегда одиноким, без возможности оказывать влияние на реальность, но обладая бесценным благом – помнить прошлое и быть его бесплодным творцом. И вот в этом моменте невозможного выбора ты замираешь – в состоянии замедленной, почти безболезненной паники, в иллюзии контроля.
– Александр Прокопович
***
вот бы всегда было 7:30
будущим эхом
ещё не звучавшего колокола
трезвон кислого света
слепит тебя
облизывая шершаво
рядом лежащую книгу
падре робко перебирающий ключи
от храма с белыми как мел стенами
на другом континенте
роняет их
ты просыпаешься от того
что он не помнит собственных мыслей
7:30
спящие люди
неспособные
бить слова во сне
наконец-то помнят
что им нечего тебе сказать
пыльца танцующая в магнитных лучах солнца
тянущих твою голую кожу
она говорит
я не хочу чтобы ты проснулся
я не знаю каково это
я просто горю
краем глаза
ты видишь крылья утренней феи
ускользающие в окне
и помнишь
что часы приёма с 5:00 до 8:00
ты сладостно произносишь всей
прохладно-свежей
заспанной душой
прижавшись сердцем к подушке
«отстаньте от меня»
зная что отставать некому
поздно бить слова
поздно создавать истину
всего полчаса
на одну несозревшую мечту
в недоспавшем сердце
***
имя мне легион
ибо я среди многих
и исцелён бесправно
пространство диктует меня
люди диктуют меня
все вокруг диктует меня
время от времени
я хожу смотреть призраков
в музеях удачи
на благо зверям счастья
к сожалению
они напоминают мне
что это всего лишь время
от времени
в другие дни
грехоподобное чувство чистит меня
корыстно обрамляет
и говорит
я болен
я не помню ярости юношества
и радости человечества
время от времени
я помню только время
от времени
словно случайно
оно приходит само
лысое дрожащее и накрашенное
завернутое в прозрачные пакеты
замирает пугливыми глазами
на моем челе
тогда я пылаю дикий взгляд
в сторону неба
пылаю землю
пылаю голосом
и говорю
имя мне
дай имя мне
***
я прекрасно испытывал жизнь
кожа пахнет асфальтом
теплой галькой
и влажным табаком
который жмут и трут
которым натирают улицы
в преддверии лета
я прекрасно испытывал ее
щурясь и просыпаясь
как леденец хрустнувший между зубов
липкое солнце трещало и таяло
у меня на ладонях
***
школа это рай
она снилась мне
с тисками слов и взглядов
и нежных обзывательств
в сосудистом тумане
так бились радостные сплетни
растущего ребёнка
как бьется вкус халвы
в засохшем рту
но супермаркет это рай
он снился мне
такой бесплатный все вместивший
и драгоценный пластик
и шорох летнего трамвая
завернутый в фольгу
мой амстердам
ты снился мне
но ты был супермаркетом
и школой
и я был где-то между
двумя святыми:
пластиком и сплетней
и ждал друзей
так бескорыстно жаждая
быть счастлив
сон и детство
как пластик и сплетня
черника этой жизни
балет влюблённых
стекающий оранжевый желток
безумящий рассвет
моего амстердама
над москвой
я долго шёл по улице чаплыгина
под светом белой розы
ночного фонаря
и я почувствовал
что где-то у меня в кармане
в телефоне
больше нету gps
и больше в мире нету карт
и только слабая рифма мерцает
на кончике
этой ночи
НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ
я больше не способен
выносить пощаду времени
я выскочил из подъезда
и бродил
по двору
переступая сугробы
будущее лгало мне
что это была последняя пощада
смутное бремя лжи
давило мои плечи
хорошо что
едва заметное
я вспоминал лучше
я доил матовое небо
и вытирая руки слушал
забытые уроки геометрии
треугольник
где все углы тупые
и я носил его как герб
как немощь на груди
воистину
пощада времени невыносима
«дрессируй кровь завести
покуда не познаешь порог зверя»
так говорила трофейная жена
вытирая мои слюни
и я носил ее как герб
как гибель на груди
было снежно и безлюдно
тогда я почувствовал
что мне ещё человечнее
чем кому-либо
ведь
моя душа
омыта
людьми из детства и любви
из больно и люби
из смерти машущей во сне
рукою новогодней
и я ношу ее
как счастье
как чудо на груди
***
я знал немало
людей хранящих жизнь под покрывалом
я знаю
породы дружбы
и слепы взрыдни
в пустой ночи заброшенного града
там снились мутно радостные сны
как злые двойники
как чёрствый запах счастья
я был там явью
протягивая руки
безмерный дуб
с такою силой звал меня
что я прорвался сквозь туман
холодный и густой
сквозь камыши
бесчисленные камыши
и погрузившись в воду плыл
вдыхая плод мечты
и лишь приблизившись…
о дуб
ты правда выше всех
но ты стоишь ко мне спиной
и говоришь
«я звал твои мечты
зачем ты сам пришёл?»
Ветер и пыль
БЛИЗНЕЦЫ
1.
Сегодня один лист у фикуса пожелтел.
В приоткрытое окно, заткнутое пустой винной бутылкой, влетал увесистый запах дизеля (строительство новой ТЭЦ поблизости) и я, спросонья, на секунду вообразил себя рабочим, падающим после смены чёрным засаленным лицом в свежий хрустящий снег наволочки. Ворочался, скребся на крыше дождь, ветер мокрой мохнатой лапой теребил крашеные дубовые листья в воспаленном горлышке ещё одного, пыльного, сосуда; вечерело и, как чайный лист, разбухало утро.
Только скомканное одеяло меня от меня отделяло. Снова ли надеяться на ровное дыхание дня, что поднимет нас с кровати в сдобную жирноватую действительность; надевать эти человеческие ткани, домыслы, тревоги, пустоты, – все в узелках, изъянах, изъеденные, едва ли сносные. Зажую подушку, закушу покрепче эту чистую материю, обдам похмельным паром, зажму одеяло между ног, как собственный свой измятый язык, и буду лежать, как влитой, тяжелой синеющей запятой.
2.
Узбекский мальчонка в доме напротив стоит в оконном проеме пятого этажа и один за другим сбрасывает вниз предметы родительского гардероба: вот, полетел высокий, похожий на рыбацкий, сапог; следом бросается в пропасть бюстгальтер цвета cuisse de nymphe effrayée, налетает на колючую проволоку строительного забора и остаётся бесстыдно висеть там до следующей зимы; раскинув безразмерные рукава, приземляется ковром-самолётом клетчатаяl, видимо отцовская, рубаха; рулон туалетной бумаги треплется и змеится, белея в крепкой ручонке, и стремительно проваливается вниз, разматываясь, размываясь. Наверное, от этого особенно чёткой оказывается фигурка самого мальчика, чьё падение словно уже свершается, – она становится выпуклой, блестящей, близкой, ярко-уязвимой.
Яблочко-яблочко, наливное розовощекое я, мелькающее в тумане, раскачивается, балуется с землей, пока не слышит под собой спасательное «а ну марш внутрь!», пожарная лестница словно чья-то ручища не начинает медленно, с захватывающим гудением, надвигаться по его почти мякотную испуганную душку, – и которое окно не проглатывает, наконец, целиком.
Желтый лист фикуса, выпитая земля.
ГРОТЕСК
Снег шёл весь день, шёл и шёл, и шёл, пока к вечеру не лишился сил.
Оставив рабочее место, я вышел посмотреть на то, как он лежит.
Он лежал необыкновенно – хотя и недолго, пока не стал заметен обыкновенный ход времени, – и особенно оттого, что был различим этот решительный почерк, эта холодная, почти гротескная манера письма, чересчур узнаваемая, так как только это время года имеет обыкновение писать на белой-белой бумаге
ВЕТЕР И ПЫЛЬ
1.
Только на пустом перроне я смог вспомнить этот дымный растительный воздух, каким в детстве меня обдавал город всякий раз, когда я выходил с вокзала (первый раз, пятилетний, с железным горшком, своей самой важной поклажей). И я столкнулся с ним, как с давним знакомым, от которого в памяти не осталось ничего, – ни имени, ни черт лица, ни голоса, ни свойственных одному ему жестов, – кроме дыхания, того дыхания, которым дышит каждый прожеванный отрезок времени. Он сам однажды окликает тебя на каком-нибудь изгибе жизни, на какой-нибудь привокзальной площади, смотрит на тебя с неловкостью, крутится, как лоадер, пытается найти хоть какие-то следы, по которым можно к тебе подступиться, и заставить с улыбкой улыбнуться.
2.
Вот, ребёнок рассыпает мармеладных медведей в своих ногах, смотрит на них с удивлением, наклоняется, шарит ладонями по холодному бетону, промахиваясь, хватая одних, роняя других, – шарф треплется под ногами, скрывая липких зверей, а по краям перрона валит снег, нет, конечно, ещё рано, осень ещё, но пусть валит, пусть валится снежище, гурьбой, берет это все в рамку, потому что мне так видится, потому что я стою поодаль и диву даюсь. Мармеладный человечек, который вот-вот растает.
3.
Запускаешь руку в карман, гладишь эту полую пустотку. Я есть, а скоро не будет. Надо привыкать, надо эту пустотку занять и приручить.
Хвать тебя за губу, выпуклую, нежную, слижу с неё ветер и пыль, уворачиваясь от пуль приближающейся тоски. Как бы не так, задуваю тебе шепотом в капюшон, и хлопаю ресницей с утроенной скоростью по холодной кожице, потому что, ну, что тут скажешь, даже если выдохнуть и удастся. La petit mort.
4.
Я докачусь до конца и обратно, как шар в футляре, и обратно. Все лица в масках, только глаза, хлоп-хлоп, смотрят на тебя, как дверные глазки, блеснут и потемнеют в тревоге. Куда ведут все эти двери? Зачем все эти двери? Смотришь во тьму пролетов и куда-то улетаешь-таешь-ешь.
Чарльз Симик. Когда вы обойдёте холм (перевод с английского Марии Малиновской, Елизаветы Жимковой, Владимира Кошелева)
БЕЛЫЙ ЛАБИРИНТ
Тебя ожидает такой
На каждом чистом листе бумаги.
Поэтому остерегайся монстра,
Что живёт там, невидимый.
Он караулит с оружием,
а при тебе только ручка.
И высматривай девушку,
Которая придёт на помощь
С её смекалкой и клубком ниток
И поведёт тебя за нос
Из одного лабиринта в другой.
перевод Марии Малиновской
ПОЛУНОЧНЫЙ РАССПРОС
Ты уже представился сам себе,
Как незваный гость, постучавший в дверь?
Есть ли в доме, где присесть
Каждому из твоих прихотливых «я»,
Чтобы они отчалили в свои мысли
Или посмотрели в пустоту, как в зеркало?
Ты подготовил спичку, чтобы от огня
Их тени танцевали на стене
Или кружились под потолком,
Как листья летом в предвечерний час,
Прежде чем они откланяются, и занавес падёт,
Вслед за спичкой, погасшей у кончиков твоих пальцев?
перевод Елизаветы Жимковой
В СВОЙ ЧЕРЁД
Этот последний, еле трепещущий лист,
За целую зиму так и не сорванный ветром
С голого дерева, –
Это же я! – думает старик,
Которого выкатывают в кресле,
Чтобы он мог наблюдать, как дети
Играют в парке, пока их матери
Дни напролёт судачат о соседях,
А голуби по очереди садятся
На катафалк, припаркованный у церкви,
И, приземлившись, сразу улетают,
Уводя за собой его взгляд.
перевод Марии Малиновской
СЛОВАРЬ
Может быть, и найдётся слово,
Чтобы описать мир этим утром, –
Слово, показывающее, как ранний свет
С удовольствием прогоняет тьму
Из витрин и дверных проёмов.
Другое показывает, как свет прикасается
К стёклам очков в проволочной оправе,
Которые кто-то уронил на тротуар
Прошлой ночью и шатался вслепую,
То разговаривая с собой, то начиная петь.
перевод Владимира Кошелева
В ПОИСКАХ РОДСТВЕННОЙ ДУШИ
Любитель булочек и миндального печенья (нынче в завязке),
Бывавший в сговоре с французской пекарней в Сохо
И парочкой отборных местных водостоков,
Где что-то важное успел смекнуть о жизни,
Недавно обмельчал до порога дешёвых кафешек:
То спрячет дрожащие усы позади мусорного бака,
То вступит в драку с голубем за горсть попкорна, –
И вот он в поиске уюта в свободном от котов,
Ядовитых лакомств и капканов таунхаусе,
Где богатый хозяин устраивает банкеты,
И можно путаться под ногами банкиров и юристов,
И сидеть на коленях их жён, как избалованный питомец.
перевод Елизаветы Жимковой
КОГДА ВЫ ОБОЙДЁТЕ ХОЛМ
Вы увидите коров, пасущихся в поле,
И, возможно, курицу или черепаху
Слишком медленно переходящую дорогу,
И маленькое озерцо, где мальчик однажды
Оставил девочку, которая не умела плавать,
И много раскидистых дубов и клёнов,
Чья тень идеальна для отдыха,
А ветки – для суицида,
Если только возникнет желание
В какой-нибудь праздный вечер,
Когда что-то заставляет птиц умолкнуть,
Единственный фонарь в деревне
Даёт пристанище парочке мотыльков
И большой старый дом, выставленный на продажу,
Зияет разбитыми окнами.
перевод Марии Малиновской
ИСТОРИИ
И так как все вещи пишут свои истории,
Какими бы скромными они ни были, –
Мир – это грандиозная книга,
Всякий час дня открывающаяся
На новой странице.
Ты в ней прочтёшь, – если пожелаешь, –
Историю солнечного луча,
Который в послеполуденной тишине
Разыскал давно потерянную пуговицу
Под каким-то стулом в углу,
Ту самую, маленькую и чёрную,
Со спины её черного платья –
Она ещё просила застегнуть его,
Пока ты целовал её шею,
Обхватив её грудь.
перевод Владимира Кошелева
Чарльз Симик. Ответы на вопросы «Флагов» (подготовка и перевод с английского Владимира Кошелева, Елизаветы Жимковой)
В тринадцатом номере «Флагов» мы решили уделить особое внимание выходу большой книги стихотворений Чарльза Симика на русском языке (Чарльз Симик. Открыто допоздна: сборник стихотворений / составитель Кирилл Азёрный; под редакцией Дмитрия Кузьмина; послесловие Линор Горалик. – Екатеринбург: Полифем, 2021. – 523 с.). Кажется, что сам факт её появления в книжных магазинах, публикации отдельных переводов на разных литературных ресурсах и список переводчиков книги, включивший множество имён, влияет на возможности нашего восприятия; на способность увидеть другого, поговорить с ним, понять или поспорить, но так или иначе принять и даже полюбить.
Это короткое интервью, взятое у одного из важнейших англоязычных поэтов (и к тому же – знаменитого эссеиста и профессора), стало для меня ещё одним подтверждением того, что расстояния, разница в политических и социальных реалиях, язык и письмо как таковое не должны препятствовать человеческому общению, сотрудничеству и дружбе.
– Владимир Кошелев
Владимир Кошелев: Как бы Вы могли охарактеризировать современный американский поэтический ландшафт? Как, по Вашему мнению, ощущает себя современная американская поэзия? Могли бы Вы выделить ведущих её представителей?
Чарльз Симик: Сегодня очень трудно ответить на этот вопрос, поскольку наши книжные магазины и библиотеки в основном закрыты из-за Covid, и такой заядлый читатель, как я, не имеет возможности узнать, какие новые книги и периодические издания публикуются.
В.К.: Какие имена американской литературы, на Ваш взгляд, заслуживают внимания не только родного читателя, но и читателя за рубежом?
Ч.С.: Я стал страстным читателем поэзии более шестидесяти лет назад, когда был подростком, и до сих пор не потерял интереса. С 1950-х годов в Соединенных Штатах было больше поэтов, чем в любой другой стране на земле. Я лишь упомяну несколько имен: Теодор Ретке, Роберт Лоуэлл, Роберт Хейден, Дениз Левертов, Элизабет Бишоп, Джон Берриман, А.Р. Аммонс, У.С. Мервин, Джон Эшбери, Чарльз Райт, Сильвия Плат, Аллен Гинзберг и Джеймс Тейт. Все они заслуживают большой известности за рубежом.
В.К.: Как Вам кажется, изменилась ли, и если да, то как, стратегия поведения поэта в современном мире? С какими новыми вызовами поэту приходится сталкиваться в начале 2020-х годов?
Ч.С.: Трудно делать обобщения среди поэтов. Если они в чем-то хороши, то, как правило, следуют своим собственным путем. Тем не менее, поскольку все мы живем на умирающей планете, тема нашей окружающей среды, скорее всего, будет занимать все большую и большую роль в творчестве.
В.К.: Повлияла ли на Ваше творчество карантинная изоляция, с которой пришлось столкнуться подавляющему числу жителей Земли?
Ч.С.: Нет, не повлияла. Я по-прежнему пишу так же много, как и в юности, притом что в мае этого года мне исполнится восемьдесят четыре года. Конечно, как и все остальные, я беспокоюсь о своей семье и друзьях и, будучи таким старым, наблюдаю, как многие из моих сверстников умирают от недели к неделе.
В.К.: В эссе «Быть посторонним» («On Being an Outsider») [перевод эссе в «Дайджесте»] Вы рассуждаете о проблемах перемещённых лиц. Согласны ли Вы с тем, что каждого поэта отчасти можно отнести к «перемещённым лицам»?
Ч.С.: Конечно. В тот момент, когда ты говоришь своим бедным родителям, что хочешь быть поэтом, ты становишься изгоем. Моя мать спросила меня на смертном одре, пишу ли я все еще стихи, а потом закатила глаза и вздохнула, когда я сказал ей, что пишу.
В.К.: Как за последние пятьдесят лет изменился читатель в Америке? Смогли бы Вы обозначить тенденции в изменении читательского восприятия современной поэзии?
Ч.С.: Поэтические чтения стали очень популярны в колледжах и университетах в 60-х годах, и эта популярность сохранялась вплоть до начала пандемии и введения ограничений. Поэтому большинство людей, которые в этот период были студентами, попадали под их влияние. Я, как и многие другие американские поэты, за эти годы провел сотни поэтических чтений и посетил почти все штаты континентальной части Соединенных Штатов, так что современная поэзия полюбилась многим людям.
В.К.: Как бы Вы могли описать свои отношения с русской поэзией?
Ч.С.: Я получил степень по русскому языку и литературе в Нью-Йоркском университете и всю свою жизнь читал русских поэтов, как и европейскую и южноамериканскую поэзию. Первым стихотворением, которое я перевел на английский, была поэма Маяковского «Облако в штанах» – я сделал это для друга, который писал о нем диссертацию.
В.К.: Какой бы совет Вы могли дать молодым поэтам и поэтессам, только ищущим собственный голос и путь?
Ч.С.: Поэты, которых я знал и которыми восхищался, были великими читателями. Они знали все виды поэзии – от древнегреческой и китайской до сюрреалистов – и настаивали на том, чтобы я тоже их знал. Мой собственный голос и путь сформировались из всего того, что я прочитал, и из той жизни, которую я прожил.
Тихие истины бытия: о книге Чарльза Симика «Открыто допоздна»
Чарльз Симик. Открыто допоздна: сборник стихотворений / составитель Кирилл Азёрный; под редакцией Дмитрия Кузьмина; послесловие Линор Горалик. – Екатеринбург: Полифем, 2021. – 523, [1] с.
Книга стихотворений американского поэта сербского происхождения Чарльза Симика вышла в Екатеринбурге в издательстве «Полифем». Это значительное событие и невероятный подарок российским читателям, дождавшимся ее, считая от первых публикаций Симика, спустя более полувека, от первых переводов на русский – около четверти века.
Это грандиозное собрание стихотворений, представленных по сборникам в порядке публикации, от ранних сочинений до «Come Closer and Listen» (2019). В книгу вошли около трех десятков стихотворений, опубликованных прежде в «Митином журнале», «Иностранной литературе», «Арионе» и «Флагах» в различных переводах. Не все из прежних публикаций, но выборочно. Вне издания остались также переводы Анатолия Кудрявицкого 1996 года, а также новейшие переводы Яна Пробштейна, опубликованные в «Артикуляции». Остальные две сотни переводов были выполнены, по-видимому, специально для этого издания и публикуются впервые, разве что показывались в арт-дайджесте «Солонеба» в преддверии книжной публикации.
Недавно Дмитрий Кузьмин поделился на фейсбуке историей, как это издание стало возможно – Руслан Комадей и Кирилл Азерный написали напрямую автору, Чарльзу Симику, и тут же получили от него разрешение на публикацию, в обход жадных и забюрократизированных американских издателей! Вместе со сбором средств на печать напрямую от будущих читателей, без грантов и государственных программ, книга стала триумфом непосредственных контактов и любви к поэзии.
До и в связи с публикацией книги вышло уже несколько статей и заметок, каждая из которых открывается представлением автора русскому читателю как именитого гостя на званом приеме. В этих представлениях пересказывается биография Чарльза Симика и перечисляются его поэтические награды, так что можно предположить, что предварительное знакомство с поэтом уже состоялось, и переходить к чтению текстов, огромного количества текстов, предлагаемых теперь русскоязычному читателю.
К осмыслению поэзии Чарльза Симика нам еще предстоит прийти. И это осмысление, вероятно, будет иным, чем ее осмысление американскими или сербскими читателями. Первые читают его из традиции американской (и французской) поэзии, вторые отыскивают следы родного языка и пережитого на родине опыта. Впрочем, американские критики тоже всегда отсылают к биографии поэта – военное детство в Белграде, эмиграция, бедность. В самом деле, картинки из военного детства постоянно появляются в стихотворениях Симика, как сны, как кошмары, где немецкие солдаты все маршируют и маршируют по улице, а пес, которого отпихнул один из них, все летит и летит:
Он от пинка взлетел, словно крылатый.
Вижу поныне, полвека почти!
Ночь опускается. Пёсик летит.
пер. Максим Немцов
Но в переживании военного детства – внимание, парадокс! – Симик находит радость. В интервью The Paris Review он говорил о том, что дети военного времени были счастливы, потому что могли бегать свободно, без родительского контроля – взрослые были слишком заняты своими проблемами, чтобы еще и тотально контролировать детей. Только встречая эти проблемы вместе с детьми, у взрослых не было сил ни на что иное, как прикрывать детям глаза.
В том же интервью Симик рассказывал о недавно увиденных боснийских фотографиях: как он узнавал свое лицо в лицах улыбающихся там детей – в отличие от всех грустных и озабоченных взрослых, дети там улыбаются! У взрослых, смотрящих на эти снимки, может зайтись сердце от таких детских улыбок. Теперь, вероятно, их очередь, взрослых, прикрывать свои глаза. Но не поэта. Он возвращается – и улыбается, как в детстве, как в стихотворении «Избиение младенцев»:
Так и я ничего не мог поделать с собою.
Развалясь на траве, наедине с безмолвными небесами,
Я радовался, даже завидев, как надо мной
Кружит и кружит ворона.
пер. Михаила Бордуновского, Софьи Сурковой
Во всякой войне: в Древнем Китае эпохи Тан, Югославии Второй мировой войны или Сербии и Боснии 90-х, дети улыбаются и играют, хотя бы и в шахматы. Не потому, что не видят войну, а потому, что они дети. Может быть, именно это показывает, это сохраняет Симик – детские улыбки во время войны. А если что-то сохранилось на письме, оно сохранилось во времени прочнее мрамора.
Но взрослые, в мирное ли, в военное время, распоряжаются судьбами детей, да так, что не сразу разберешь, что речь в стихотворении идет не о сидящем на горшке ребенке, но о новорожденных котятах:
Всех его братьев-сестёр
Уже утопили.
Но его ждёт долгая жизнь,
Ловля мышей для булочника
И для гробовщика.
пер. Геннадия Каневского
Дальние взрослые, из страны, ведущей войну с твоей страной, или самые родные взрослые, распоряжаются судьбами детей.
Все же придется сделать отсылку к биографии Симика. В речи на присуждении звания Поэта-лауреата Чарльз Симик (или Душан Симич) признавался, что до пятнадцати лет не говорил по-английски. Во время войны пятнадцатилетний человек уже осознает мир и себя, у него сформированы зрение, характер, суть его личности. Обосновавшись в США, Симик на эту суть и это зрение надевает оболочку нового языка. XX век был богат на литераторов-мигрантов, литераторов-эмигрантов, литераторов-детей эмигрантов. Если бы я собралась перечислить всех писателей и поэтов, отказавшихся от родного языка или языка своих родителей, получился бы огромный список! Назову хотя бы Набокова, Беккета, Стоппарда, Перека (на письме последнего сказались еще и дисграфия и дислексия). Каждый из них прошел собственный путь освоения чужого мира и иного языка, а Перек – и схожей трансформации фамилии: Перец-Перек.
Вероятно, Симик так и остается человеком из иного мира, с иным сознанием. Он укореняется на новом месте, но сохраняет отстраненность Иного. Его стихотворения похожи на картинки из снов: не зря автора причисляют к американским сюрреалистам. Или это дневниковые записи человека, живущего в чужом мире, наблюдающего со стороны, изнутри себя, всегда за тонкой пленкой, как крутятся шестеренки мира вокруг, прозревающего в них отблески истины, и записывающего, записывающего.
Свидетельства Симика – живые, малые, ежедневные, в их сюжетах обычно нет индикации места (разве что Нью-Хэмпшир, где живет поэт), но есть время – сегодня, сейчас, встреча сейчас, мысли сейчас, сон сейчас. Это короткие стихотворения, сравнивая с развернутыми поэтическими высказываниями, принятыми в значительной части современной поэзии. Обычно они состоят из одной, двух, трех строф, иной раз даже белого сонета. В его негромких стихах нет открытого порицания или призыва. Этот поэт не кричит ястребом с ледяных высот, не взывает, не стенает. Если Симик и допускает крик (восклицательные знаки во всех строках стихотворения), то крик нарочитый – такой не получается воспринимать иначе, как прием.
Симик всматривается в обыденное: рассматривает обычные домашние предметы, ложку, вилку, нож, обнаруживая коготь иного – может быть, чужой птицы:
Она как будто птичья лапка,
Что висит на груди у каннибала
пер. Дмитрия Кузьмина
Здесь вспоминается Франсис Понж и его «Le Parti pris des choses», опубликованные в 1942 г., повлиявшие на Жоржа Перека, ситуационистов и других. И в России в 80-90-х годах разрабатывался «Лирический музей вещей» – коллекция эссе о знакомых, обыденных предметах. Скажем, Владимир Аристов писал о бритвенном лезвии и куске мыла.
Симик всматривается в предметы, мысли, явления, перебирает песчинки на дорожке рядом с домом, понимая хрупкость этого времени, этого места, этого дома, пока закончилась прежняя и еще не пришла новая буря. Следы прошедших катастроф, голода, нищеты, войн, поражений остались на вещах и явлениях, дайте только труд вглядеться в них. Дайте времени вглядеться до катастроф грядущих. А когда человечество уничтожит себя и на землю выйдут разумные осьминоги, по стихотворениям Симика они наверно поймут, что эта цивилизация обречена была исчезнуть. Или же поэт – сам этот осьминог, инаковое существо, заблудившееся в зазеркалье, оставленный разведчик иного мира, иного времени, гость из «другого столетия, не столь жестокого, как наше», зритель немного кино, начавшегося до его прихода, «будто чей-то чужой сон, / в который мы случайно попали» (обе цитаты в пер. Дмитрия Кузьмина). Или же в этих снах автор заглядывает в другой, лучший мир:
Прачечная в крохотном городке,
Пятно света в ряду тёмных витрин,
Престарелый Элвис внутри изучает страницу
Потрёпанного журнала для девочек.
В ночных небесах разношёрстные тучи,
Одна из них нависает, как посмертная маска,
Всё пожирая взглядом пустых глазниц,
Пока барабан крутит его рваные джинсы.
пер. Дмитрия Кузьмина
Кому-то важен Элвис, и в лучшем мире он стар, беден и жив, и это счастье – заглянуть туда. На той траектории мироздания живет кусочек любви, убитый, умерший здесь, и мы заглядываемся на него во сне или в стихах, улыбаемся или плачем, как я плакала, увидев в одном фильме старого Леннона. Трудно разобрать, что там происходит, помимо того, что всё – на самом деле, но при этом всё как-то не так. Поэт смотрит внимательно, запоминает и пересказывает, оставляет знаки: кто-нибудь найдет, прочтет, разберет, разберется. Он открывает мир странным и страшным и вероятно недалеким от гибели, но пока видит – соединяет отдельные точки и линии, находя в хаосе немного смысла.
А пока жизнь идет своим чередом, и не такая плохая жизнь, в привилегированных сегментах общества, в искусственно созданных оазисах или естественных паузах между обстрелами. Это ощущение – временного спокойного промежутка, изнутри «глаза бури», представляется базовым восприятием Симика. В стихотворении «Священники предупреждают» (в пер. Кирилла Азерного) поэт свидетельствует: мир закончится вскоре, но не сегодня. А сегодня все живое радуется, в этом пузыре жизни, осознавая или не осознавая, не понимая, забывая о смерти. Что ж, жизнь в любом случае конечна и ограничена: можно и помнить о ее конечности, и радоваться ей.
Поэт всматривается и свидетельствует. И это всматривание требует напряженной работы. В еще одном интервью Чарльз Симик говорил, что его стихи требуют бесконечной шлифовки и тем самым напоминают ему игру в шахматы, а «их успех зависит от слова или образа в нужном месте, и окончания должны быть неизбежны и неожиданны, как хорошо поставленный шах и мат». Так что родство со спонтанным сюрреалистическим письмом верно разве что в смысле, в котором Умберто Эко вспоминал о стихотворении Ламартина, якобы пришедшем к автору во сне, хотя после смерти поэта было обнаружено столько черновиков, что Эко называет его самым вымученным во французской словесности. Разве что – в отличие от поэта-романтика – Чарльз Симик не скрывает тщательную работу над текстами.
Стихотворения Симика, несмотря на кажущуюся простоту, нетривиальны, как нетривиальны японские гравюры, выполненные одним движением пера. В стихотворении «Таинственная жизнь» можно прочесть – я читаю его так – о процессе написания стихотворения, сравниваемом с ночной рыбалкой:
Наши мысли крючки,
Наши сердца сырая наживка.
Мы забрасываем леску выше всякой веры
В ночное небо,
Пока она не пропадает из виду.
пер. Александра Малинина
И что же, этот процесс окончился неудачей, «Крючок остался болтаться / В бездне»? Но ведь мы читаем это стихотворение, превращающееся в самоописывающее, как у Германа Лукомникова?
Эти стихотворения требуют внимательного прочтения и размышления, взгляда сквозь микроскоп. В обыденных предметах Чарльз Симик различает смыслы: вечно пустая тарелка, обгрызенная ложка – но и читатель также должен потрудиться, настроить окуляр и подкрутить колесико передатчика, чтобы уловить звук, чтобы сфокусироваться на изображении, чтобы смыслы проявились.
Всё, что у нас сегодня в наличии, уважаемый, –
Это пустая тарелка и ложка:
Хлебайте
Ничто полным ртом
пер. Дмитрия Кузьмина
Ничто – в буддистском смысле – чрезвычайно питательно!
А сравнение с шахматами, с игрой по строгим законам, рождающим огромное число комбинаций, сближает Симика – кто-то скажет, с Набоковым, я скажу – с Рэмоном Кено. И действительно, некоторые стихотворения Симика (назову хотя бы «Мертвец сходит с эшафота» в пер. Андрея Сен-Сенькова и «Всё можно предвидеть» в пер. Дмитрия Кузьмина) звучат как фрагменты «Morale Elementaire» Кено.
Другой текст Симика начинается как скетч Монти Пайтона: «Мы были такие бедные, что мне пришлось занять место приманки в мышеловке…» (пер. Дмитрия Кузьмина). Автор не углубляется (не опускается?) до черного юмора, но в игре, в поисках мерцания истины непременно появляется смех.
При таком размышлении обыденные предметы становятся чем-то иным, оживленные следом присутствия человека, оставившего на них отпечатки пальцев, отпечатки зубов, шум шагов; услышавшего лай собак, вздохи листьев. В стихотворениях Симика много звуков. И много тишины. Возможно, тишина наступила, когда закончились войны, когда все герои, вся золотая молодежь наконец была «квалифицированно истреблена», и наконец можно стало безбоязненно спуститься к источнику. Но чаще (повторяемая в нескольких стихотворениях) это тишина кинотеатра немого фильма, в детстве, во время войны:
Это было, забыл сказать, в оккупированном городе.
Мы брели домой после сеанса,
Тяжело укутанные от холода,
Глядя в землю, по ненадёжным,
Едва освещённым улицам.
пер. Дмитрия Кузьмина
В темноте кинотеатра, темноте сна или темноте воспоминания пишутся стихи, целая книга стихов, «Нацарапанное в темноте» (2008). И все же, когда смолкают оглушительные крики войны, в тишине проявляются другие звуки: дышит лист, тихо течет река, просвечивают крылья стрекозы на ветру, пасется лошадь «среди надгробий / на скромном семейном погосте» (пер. Шаши Мартыновой) – звуки такие тихие, словно слух человека, контуженного взрывами, так и не восстановился, осталось лишь зрение, немое кино.
Впрочем, не только зрение: есть ведь еще тактильные и вкусовые ощущения, и последние в стихотворениях Симика задействованы самым активным образом, даже чересчур ярко – на домашней кухне жарится агнец, «благоухая чесноком и розмарином», кочан капусты (символ мистической любви) разрубают одним ударом ножа, сердце шинкуют с луком, и даже обычные клецки это восторг и экстаз:
Наклонившись над миской с клёцками
В кафешке, где все мы заказываем в обед
Одно и то же дымящееся блюдо,
И каждую ложку в сливочном соусе
Невозможно не облизать до блеска.
пер. Марии Фаликман
Потому ли, что «от разговоров о прошлом всегда хочется есть» (пер. Дмитрия Кузьмина)? В этом мире обжорства и упоения пищей всякий пьет кровь всякого, и ест плоть всякого, и если у каждого есть сердце, каждый в свой черед становится той глупой старой коровой, которая будет охвачена «внезапным подозрением / В тот самый миг, когда лезвие падает» (пер. Андрея Сен-Сенькова). Так что родной язык, утраченный в другой стране, здесь – не тот, на котором говорят, но –
Это тот, который у мясника
Заворачивают в газету
И кидают на заржавленные весы…
пер. Дмитрия Кузьмина
А сердце, сердце всякое и повсюду, как в стихотворении «До чего трагично» – сердце, искусственное сердце, каменное сердце, собака нищего по имени сердце. Одни и те же образы кочуют из стихотворения в стихотворение, как навязчивый сон: камешек, попавший в ботинок герою в стихотворении «Туннель любви» (пер. Григория Кружкова) – не тот же ли, что в стихотворении «Тот парнишка»?
Который сдружился с камешком,
Попавшим к нему в кроссовку
Жарким летним вечером.
пер. Марии Фаликман
Скотобойни, надгробия, трехногая собака, раздевающаяся позагорать соседка… В одной заметке перечислить все повторяющиеся мотивы в стихотворениях Симика невозможно, да и не нужно. Предоставим читателю самому прислушиваться к этому свободному джазу, играющему на всех октавах, во всех оптиках – здесь и забегаловка, и святое семейство, и звезды, и малые сии, божьи коровки; таракан, который проникает всюду, как мысль, от имени которого говорит герой стихотворения:
…сную
По закоптелым кухням,
Чьи жирные повара
Замахиваются ножом,
Нависают над кипящей кастрюлей.
пер. Елизаветы Жимковой
Здесь, разумеется, вспоминается «Тараканомахия» Дмитрия Александровича Пригова, но у Пригова таракан лишь раз от разу «брат», а муха «сестра», что не останавливает карающую руку героя. А Симик и к тараканам, и к мухам относится исключительно в буддистском смысле: их жизнь ценна так же, как всякого иного живого существа – кошки, старухи, поэта. И послежизние ценно, и бедному ребенку с богатым воображением таракан может стать то ли новогодним подарком, то ли откровением – я имею в виду, немой благой вестью:
Что во дворе бедняка
Метла сойдёт за пальму,
А повисший на ней таракан –
За онемевшую голубку
пер. Григория Кружкова
Для мухи же Симик находит поистине гомеровские эпитеты, «О легкокрылая, / трепетная, – прошептал он» (пер. Геннадия Каневского), напрямую сравнивая её с древнегреческими героями, переставшими быть героями, переставшими наконец воевать:
…я вижу муху, которая
Пытается выбраться из переполненной пепельницы,
Словно несчастный троянский или ахейский солдат,
Сытый по горло войнами и их песнопевцами
пер. Дмитрия Кузьмина
Или блохи: с ними просто, они настолько малы, что невидимы и господу:
Господи, ты видишь ли
Блох, бегущих в укрытие?
Нет, он не видит блох
пер. Андрея Сен-Сенькова
В этот момент естественно задаться вопросом: а видны ли господу люди, немногим превосходящие блох? Может быть, маленький человечек не видим бескрайнему, всемогущему, всеведущему и всеблагому божеству.
Но чаще мух и блох в стихотворениях Симика появляется лист, падающий, шуршащий, шепчущий, молчащий. В последнем стихотворном сборнике автор дает понятные отгадки к некоторым метафорам, и этой в том числе:
Где, как листок на ветке,
Застигнутый ненастьем,
Я закружился и наземь спустился,
И так затаился,
Чтобы ветер унёс меня c этого места.
пер. Дмитрия Гаричева
Наверно, первым глубоким прочтением с объяснением читателю, что представляют собой стихотворения Симика, стали слова Линор Горалик в послесловии к вышедшей книге. Горалик находит, что поэт «вглядывается в бедные, малые, зачастую совершенно незначительные элементы физического мира – и благодаря этому магическому взгляду жизнь раскрывается перед ним, предъявляя немыслимое духовное богатство, которое, не проделывай Симик своей кропотливой и бесценной работы, навсегда осталось бы недоступным для читателя».
Однако и со стихами, записанными, опубликованными, а теперь даже и переведенными на русский язык, читателям все равно придется потрудиться, если они хотят увидеть истинные проявления мира, найденные поэтом. Стихотворения Симика – не рецепт, не статья в википедии: это род медитации, в которой понимание сути вещи открылось автору. Автор – пророк, не в смысле Мухаммеда, но в смысле Будды, прошедшего по пути и показывающего путь, показывающего, что путь есть. А далее дело читателя последовать за ним – и обнаружить, что простые сочетания простых слов, песчинок и палочек на городской дорожке, складываются в мгновенные просветления, как быстрый рисунок кистью в руках умелого мастера открывает тонкий пейзаж.
Если пройдешь по этому пути, то вслед за автором испытываешь восторг, который не перепутать ни с чем, даже и не понимая и не умея пересказать его причины – как, например (для меня), было при чтении стихотворения «Бестиарий пальцев моей правой руки» в переводе Дениса Безносова, стихотворения «Обручение» в переводе Шаши Мартыновой; трепет при чтении стихотворения «Мысли бродят» в переводе Андрея Сен-Сенькова – но можно очень долго перечислять восторги и ужасы. Откуда они берутся? Как говорил Симик, «из самых простых ингредиентов можно приготовить потрясающе вкусные блюда». Но как (и нужно ли?) разложить готовое блюдо на исходные составляющие? Филологу будет непросто анализировать эти стихи.
И читателю Симика будет непросто. Чтобы достичь того же состояния просветления, к которому стихи привели автора, читателю придется проделать эту медитацию вслед за поэтом, по-своему соединить простые слова в нелинейные звуки и смыслы, и увидеть что-то, возможно, своё. Даже наверняка своё – иное, чем то, что видел в них автор. Важно само мерцание, сам свет внезапно ставшего осмысленным элемента мироздания. В эссе «Поэзия и опыт» Симик писал о том, что истина не существует в мире сама по себе, но открывается поэту через личный опыт. А через личный опыт читателя, сквозь призму стихотворений Симика, и ему откроется искра истины.
Огромную роль играют и те люди, кто в буквальном смысле слова перевел эти стихи через пропасть между языками. Над книгой работали двадцать четыре переводчика, перечисленные в начале книги в алфавитном порядке. Впрочем, не в равных долях: около трети всех стихотворений, вошедших в книгу, перевел Дмитрий Кузьмин, он же выступил редактором сборника, составленного Кириллом Азерным. К слову, в аннотации отчего-то утверждается, что в книгу вошло более 250 стихотворений, хотя в действительности их 244. Понятно, что несколько текстов могли выпасть при финальном редактировании и составлении, но тогда и аннотацию можно было бы поменять.
И все же о переводах. <…> Прости, читатель. Здесь были две страницы замечаний о переводах стихотворений Симика, составивших книгу. Переводы эти очень отличаются – при узнаваемости «почерка» оригинала, при чтении переводов создается впечатление разных поэтов. Это, с одной стороны, объяснимо историей переводов Симика на русский, начавшейся более двух десятилетий назад. С другой стороны – отчего бы им и не звучать по-разному: никто автора к единству стилистики не приговаривал, ни на английском, ни на русском. Разве что, открывая два текста билингвы на листе, настороженно встречаешь каждый перевод, но постепенно примерно понимаешь, какого подхода ожидать от переводчика: созвучия с оригиналом (я имею в виду, с моим прочтением оригинала) – у Шаши Мартыновой и Ольги Зонберг, когда рисунок тонкими линиями, едва намеченными точками, проявляется вдруг ярким и четким изображением. Переводы, внимательные к абсурду, как у автора, и так же попадающие в точку – у Станислава Львовского, Геннадия Каневского, Дениса Безносова… Некоторые переводы я уже читала раньше – Андрея Сен-Сенькова, например, и они звучат для меня таким и только таким образом. И замечательные другие, и другие, и другие.
К некоторым оригинальным стихотворениям я нахожу иные, мне представляется, более точные переводы. О каких-то хочется спросить переводчика, отчего он(а) меняет смысл, грамматическое время, эмоциональную окрашенность, добавляя, сокращая, сдвигая, переворачивая?.. При работе с такими тонко настроенными текстами, как у Симика, на мой взгляд, необходима ювелирная точность – иначе это будет другой текст. Но эта заметка не о точности перевода. В конце концов, возможны разные прочтения, и я не буду утверждать, что мое прочтение, мое мелькнувшее прозрение при вслушивании в тексты Симика – единственно верное. Если переводчик приходит к своему результату и открывает его читателю – это прекрасно, тем более, что на соседней странице показан оригинал: можно сравнивать и сопоставлять, восхищаться или пренебрегать.
Что меня выносит из стихотворения – моменты непонимания языка вообще, простых смыслов и базовых коннотаций. Особенно этим отличаются, к сожалению, переводы Марии Малиновской. В стихотворении «Заводчик черных кошек», первая строка «Carrying a fresh litter of them» переведена как «Несёт свежий кошачий наполнитель». О боги, да свежий выводок их он несет, полный карман котят, а не наполнитель для кошачьего туалета! Потом, кстати, отпускает их «to run free as a warning to me», и это не «побегать, как предостережение мне» – не побегать здесь, если побегали, то подразумевается, он их собрал потом, но: выпускает их бегать там, он навсегда выпускает этих котят свежего помета, а в следующий раз принесет еще котят, откуда иначе берутся все эти черные кошки на улицах для всех встречных! В еще одном стихотворении, «О весна», в переводе появляются «живописные дамы с плюмажем на шляпках». Представили? Как вам сказать, это были не Незнакомки Крамского, и не на шляпках они несли свои перья. И прочее, и прочее. И прочее. А если переводчик эти строки не прочитывает, то редактор должен? Остановлюсь, не то снова напишу о простых смыслах те же две, а то и больше страниц.
Не хочется заканчивать эти заметки ложкой дегтя. Лучше возвращусь к словам Линор Горалик о стихотворениях Чарльза Симика: «Их мизерные существования, их великие трагедии и составляют то великое богатство жизни, разговор о котором может оказаться одним из самых бесценных даров, какие поэзия способна поднести читателю». Поэт малого, вплоть до бесконечно малого, одного завитка на фрактальной раковине, тихого, вплоть до оглушенной тишины, из которой прорастают все мирные звуки мира, Чарльз Симик, вместе с переводчиками его стихотворений на русский язык, редакторами и издателями, преподносит удивительный подарок, сокровище в сорок сундуков, распахнутых перед читателем, понимает тот по-английски или нет. Читатель отныне может перебирать эти стихотворения, всматриваться и вслушиваться, пробовать их на вкус и находить свои истины в тихих истинах бытия Чарльза Симика.
В предельной концентрации взгляда: о книге Чарльза Симика «Открыто допоздна»
Чарльз Симик. Открыто допоздна: сборник стихотворений / составитель Кирилл Азёрный; под редакцией Дмитрия Кузьмина; послесловие Линор Горалик. – Екатеринбург: Полифем, 2021. – 523, [1] с.
Весь путь на свет книги избранных переводных произведений Чарльза Симика – удивительный подвиг коллективности, покоящийся между двумя чудесами: внушительным корпусом оригинальных текстов, предоставленным самим автором в безвозмездное пользование, и триумфальной краудфандинг-кампанией, завершённой пожертвованием на крупную сумму.
«Открыто допоздна» начинается подборкой ранних стихотворений Симика, состоящей из пристального препарирования предметов окружающего мира. Каждый текст открывается стремительно – как стремителен взгляд, обращённый на свою цель. Вещи тут же взрываются потоком ассоциаций – мётлы навевают раскидистую образность авраамических религий («Что до летательных дел, / Тут уместней всего умолчанье: / Ибо нет Бога, кроме Бога, / И пророк его – Мухаммед»), а старый набор шахмат напоминает о личной трагедии прошлого («мне потом сказали, но я так и не верю, / что тем летом при мне / вешали людей на телефонных столбах»). По-новому рассматриваются вилка, нож, пальцы на руке, ботинки («И книги мне ни к чему, / Ведь и в вас несложно прочесть / Псалом моего земного пути / И всего, что грядёт за ним»). От мира ничего не остаётся, «кроме стола и стула» – в предельной концентрации взгляда. Нерв этой поэзии – её надорванная элементарность, иначе – внимание к простейшему (вплоть до абстрактных «тишины» и «холода»), но доведение его до последнего издыхания, до последнего эпитета – Симик отчаянно пытается творить из-ничего, «уйти в камень, внутрь» и заговорить со свинцом («Зачем позволил ты себя / Отлить по форме пули?»).
Дальше – бесчисленные творения разных лет, скользя по которым внимание каждую секунду балансирует на грани с потерей. Но что заставляет его удерживаться от падения? Кажется, тот самый подвиг коллективности – переводческий подвиг, пристраивающий к голосу Симика пласт других голосов, а к простому опыту чтения – ворох иных (подчас – неожиданных) взаимодействий с текстом. Как было у Воденникова – «вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл Медведев» – так и здесь: светлые поэты-переводчики начинают свой причудливый танец – под одной обложкой. Вот Дмитрий Кузьмин с Андреем Сен-Сеньковым перебрасываются плотными прозаическими отрывками из сборника «Мир не кончается». Вот Шаши Мартынова и Максим Немцов – веселые, перешептываются – то и дело. Вот Станислав Львовский – редко, но метко! – врывается стихотворением «Капуста» в «Книгу богов и чертей» – и окончательно её спасает. Вот Григорий Кружков мастерски – и на высокой ноте – заканчивает сборник «Прогулки с чёрным котом». Вот Михаил Бордуновский, Софья Суркова, Елизавета Жимкова и Владимир Кошелев – смелые – приправляют «избранное» Симика лексикой юности. И так далее, и так далее…
Иное взаимодействие с текстом – в наблюдении за возникающей химией между [часто] полярно разными голосами, за микро-сюжетами [часто – драматичными] между ними, в попытках угадать по интонации грядущее имя (в неизменной строке «перевёл»/«перевела»/«перевели»).
Как читать? – такой вопрос возникает при встрече с любой толстой книгой. Составители «Открыто допоздна» отвечают на него почти стихийно: создавая своеобразный эпический свод переводческих случайностей, удач и неудач (что наглядно просвечивает в билингвальности издания). Они, задумав издать избранное Чарльза Симика, заодно случайно (или нет?) создают энциклопедию новой русской поэзии, книгу-литургию – мощное совместное действие, совершённое в порыве дружеско-жертвенно-сострадательной любви – гремучей смеси греческих ага́пэ и фили́и.
Адам Загаевский. Страстная пятница в туннелях метрополитена (перевод с польского и предисловие Анны Гальберштадт)
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Я впервые прочитала стихотворение Адама Загаевского «Поехать во Львов» где-то лет десять тому назад, и абсолютно влюбилась в его стихи. Через некоторое время я написала стихотворение «Вильнюс, а существует ли он?» по мотивам стихотворения Загаевского. Ощущение было такое, как от неожиданной встречи с незнакомым человеком, в чужом городе, когда вы обнаруживаете, что перед вами родственная душа.
Загаевский, так же как Пауль Целан, Чеслав Милош, Томас Венцлова и Аркадий Драгомощенко – поэт пограничья. Я говорю о Восточной Европе, вернее о той ее части, которую Тимоти Снайдер назвал Bloodlands, Кровавые Земли; на которой было убито самое большое количество людей во Вторую Мировую войну. Вильнюс, Львов, Винница – это были города пограничья империй, в которых смешивались разные культуры и языки, и власть менялась неоднократно.
Львов в стихотворении Загаевского – это мифологический город, из которого его увезли младенцем, когда город был отдан Украине Советами. Он существует в воспоминаниях его семьи, как некий мираж или ностальгический образ города, совершенного, как прекрасный спелый персик. Что поразило меня в стихотворении – это двойственность восприятия, похожая на то, что испытала я, вернувшись в Вильнюс через двадцать восемь лет. Это был современный Вильнюс, но параллельно ему в моем сознании возникали образы детства и юности, и люди, которых там больше нет.
Смены политического строя приводили также и к сменам официального языка, и в пограничье это происходило неоднократно. Львов был городом Австро-Венгерской империи, потом независимой Польши, затем Украины. Вильнюс – городом Российской Империи, Польши, Советской, а потом независимой Литвы. И каждый раз эти перемены вызывали миграции в ту или иную сторону.
Адам Загаевский вырос в Гливице, неприглядном индустриальном городе, и Львов в его сознании остался прекрасным миражом, идеальным городом, где все было лучше и так, как должно было быть всегда.
Краков – это третий важный город в его поэзии: город культуры, творчества, политического созревания молодого человека; город, где он жил, работал и умер. Он конечно, же, разделяет судьбу немалого количества поэтов, которые волею судеб, но также и по собственному выбору, стали космополитами, живущими на нескольких континентах – как Целан и Бродский, как Венцлова и Гандельсман. Это те поэты, для которых такие слова, как «свобода», «справедливость» и «правда» продолжают нести смысловую нагрузку.
Национальные-освободительные движения, как мы знаем, тоже нередко приводят к очередному переписыванию истории и поискам очередных героев – но также и к угнетению меньшинств. Как мне видится, именно поэтому Загаевский, участник «новой волны» в Польше, через некоторое время пишет такие строки:
Политически наивный, с обычным
образованием (краткие минуты ясного видения
иногда питаются этим запасом), я помню
пылающий призыв этого огня, который опаляет
губы жаждущей толпы, сжигает книги
и обугливает кожу городов, бывало,
и я пел эти песни, и я знаю, как прекрасно
бежать в толпе с другими, сейчас сам по себе,
с привкусом пепла во рту, я слышу
иронический голос лжи и восклицания хора,
и когда я прикасаюсь к своей голове, я чувствую
арочный череп своей страны, его жесткий край.
Интересно отношение Адама Загаевского к поэтическому языку. В интервью Светлане Гуткиной (2019 год) он говорит о том, что польские поэты (а в польском языке ударение всегда падает на предпоследний слог) с радостью отказались от силлабики: «Рифма меня раздражает, она напоминает призыв к коленопреклонению в церкви: звонок колокольчика – и все встают на колени. Рифма – недавнее изобретение: она появилась только в Средневековье. В греческой, латинской поэзии, в библейских псалмах нет рифмы. <...> Существуют разные виды верлибра. Я стараюсь (не знаю, всегда ли мне это удается), чтобы мой стих был богатым с формальной точки зрения, содержал образы, метафоры. Не люблю бедный свободный стих, когда достаточно просто написать несколько строк в столбик. Стихотворение без метафоры мне неинтересно». Примечательно, что и Аркадий Драгомощенко, поэт этого же поколения, выросший в Виннице, тоже пишет о том, что рифма с самого начала была ему ни для чего не нужна.
Мне кажется, что в поэзии Загаевского всегда чувствуется раздвоенность поэта, выросшего на окраине империи: любовь к русской поэзии соседствует с отношением к бывшей империи как к завоевателю и угнетателю. И отношение к западу тоже двойственно – как у человека из Старого мира.
Тем не менее, интеллектуал способен смотреть на мир, в том числе и на свою родину, с птичьего полета, и говорить правду, даже когда это стыдно и тяжко. Поскольку Адам считал себя последователем Милоша и Ружевича, поэтов, которых интересовала политика и общественные вопросы, он откровенно и честно писал и о черных страницах в истории Польши, об отрицании роли польского народа в Холокосте:
Бывают ночи, такие же мягкие, как шерстка жеребенка
но мы предпочитаем играть в карты или шахматы. Вот здесь
какие-то постояльцы громко поют happy birthday to you!
в то время, как одноглазый телевизор небрежно перетасовывает кадры.
Деревья моего детства пересекли океан
чтобы помахать мне ветками с экрана.
Польские крестьяне с иезуитским рвением участвуют
в теологической дискуссии: только евреи хранят молчание,
изнеможённые бесконечным умиранием.
Реки из путешествий моей юности осторожно прокладывают путь
на далеком незнакомом континенте.
Фургоны для перевозки сена перевозят не солому, а волосы,
на вес, как перья, их оси скрипят под тяжестью.
Сосны утверждают, мы невиновны
<...>
И последнее: если абстрагироваться от истории и биографии Загаевского, и просто открыть какую-нибудь из его книг на любой странице, вы найдете строки, которые завораживают вас (хотя и написаны они просто на «человеческом языке», как он выражался) своей сосредоточенностью на предмете, музыкальностью, метафоричностью и эмпатией к описываемому – будь то птицы, летающие над Краковом, молодая беременная женщина на старой картине, или беженцы, бредущие куда-то в смутные времена.
Про стихотворение «Поехать во Львов» мне написали несколько читателей, что это великое стихотворение – самое любимое – а кто-то написал, что в нем слишком много слов. Мне оно кажется таким же совершенным, как сам Львов в памяти семьи Загаевского, прекрасным как ароматный спелый персик.
– Анна Гальберштадт
ЗА ПРОСМОТРОМ SHOAH В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ В АМЕРИКЕ
Бывают ночи, такие же мягкие, как шерстка жеребенка
но мы предпочитаем играть в карты или шахматы. Вот здесь
какие-то постояльцы громко поют happy birthday to you
в то время, как одноглазый телевизор небрежно перетасовывает кадры.
Деревья моего детства пересекли океан
чтобы помахать мне ветками с экрана.
Польские крестьяне с иезуитским рвением участвуют
в теологической дискуссии: только евреи хранят молчание,
изнеможённые бесконечным умиранием.
Реки из путешествий моей юности осторожно прокладывают путь
на далеком незнакомом континенте.
Фургоны для перевозки сена перевозят не солому, а волосы,
на вес, как перья, их оси скрипят под тяжестью.
Сосны утверждают, мы невиновны.
Эсэсовцы изможденные и старые,
врачи стараются сохранить им их сердца, здоровье, совесть.
Уж поздно и инсинуации сонливости меня достали.
Я бы заснул, но соседский хор орет happy birthday to you все громче
(громче, чем умирающие евреи).
Огромные грузовики перевозят звезды с небосвода,
мрачные поезда проезжают мимо под дождем.
Я невиновен, Моцарт раскаивается;
Только осина трепещет, как всегда,
в готовности раскаяться во всех грехах.
Чешские евреи поют национальный гимн:
«Где же мой дом родной...»
Нет дома, нет, дома горят везде, холодный газ свистит внутри.
Я становлюсь невинней и невинней, засыпая.
Телевизор уверяет меня в том, что оба мы
Вне подозрений.
День рождения еще шумнее.
Ботинки из Освенцима, в пирамидах
высотою с небо, тихонько стонут:
Увы, людей мы пережили, теперь уж
дайте нам заснуть, заснуть:
нам некуда идти.
ПЕСЕНКА ИММИГРАНТА
Мы появляемся в чужестранных городах.
Мы называем их родными, но недолго.
Нам не возбраняется испытывать восторг
перед их стенами и башнями.
Мы движемся с востока по направлению на запад,
и перед нами катится огромный обруч пламенеющего
солнца, сквозь который проворно, как в цирке,
прыгает укрощенный лев. В чужестранных городах
мы смотрим на полотна Старых Мастеров
и без изумления узнаем в старых картинах
свои лица. Мы жили прежде
и даже страдание было нам не чуждо,
нам не хватало только слов. В Парижской православной
церкви, последние седоволосые русские из Белых
молят Бога, который на столетия моложе их
и так же беспомощен. В этих чужестранных городах
мы и останемся, как деревья, как камни.
КАК ВЫГЛЯДИТ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПРАВ
Как выглядит человек который прав
какой он носит галстук
разговаривает ли он законченными предложениями
ходит ли он в поношенной одежде
вышел ли он из моря крови
или из моря забытья носит ли его одежда
до сих пор следы обжигающей язык соли
из какой он эры
болезненно ли бледна его кожа
плачет ли он во сне что ему снится
всегда одна и та же комната
со стеной у которой вырезано сердце разговаривает ли
он сам с собой живет ли он во взятом напрокат теле
старого человека как тревожно ему
в этой каморке изгнанник ли он
из какого города что движет им
любопытство ли это и стоит ли игра свеч
кто отвечает за это и что это за пятно
на его пиджаке кто стоит за ним
мог бы ты сказать ему что все
относительно и все зависит от того как посмотреть на это
никто не знает как обстоят дела на самом деле
подумай можешь ли ты узнать его
когда он пересекает улицу
сгорбившись под тяжестью мозга.
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА В ТУННЕЛЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
Иудеи разных религий пересекаются
в туннелях Метро, бусины четок
высыпаются из чьих-то нежных пальцев.
Над ними спят священники, разговевшись после Великого Поста
над ними пирамиды церквей и синагог
высятся как скалы над ледником внизу.
Я слушал Страсти по Матфею
в которых боль трансформируется в красоту.
Я читал Целановскую Фугу Смерти
в которой боль трансформируется в красоту.
В туннелях Метро никакая трансформация боли
не происходит, она там, она не уходит, бьет в цель.
ГОРЯЧКА
Польша как жар на пересохших
губах иммигранта. Польша,
карта разглаженная паровыми утюгами
или поездами дальнего следования. Не забудь
вкус первой созревшей клубники,
дождя, аромат мокрых лип по вечерам;
прислушивайся к металлическому звуку проклятий;
пиши заметки на тему ненависти,
побритой шубы одиночества,
помни о том, что объединяет и что разделяет.
Страна людей безгрешных настолько,
что нет им спасения. Овца, которую превозносит лев
за правильное поведение, всегда страдающий поэт.
Земля с вырванным жалом, исповедь без
смертных грехов. Будь одинок.
Я слушаю пение черного дрозда, нехристя.
Разливается сырой запах весны,
знамение жестокости.
О ПЛАВАНИИ
Реки этой страны приятны
как песнь трубадура,
тяжелое солнце движется в сторону запада
на желтых цирковых повозках.
Между крошечными деревенскими церквушками
натянута ткань молчания, такая тонкая
и ветхая, что даже вздох
мог бы ее порвать.
Я люблю плавать в море, которое продолжает
бормотать себе
монотонным голосом бродяги
который уже не помнит
как давно он скитается.
Плавание – это как молитва:
ладони складываются и разъединяются,
складываются и разъединяются
почти до бесконечности.
В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ НЕТ МЕСТА ДЛЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
В энциклопедиях снова не оказалось места для Осипа Мандельштама
снова он бездомен снова так трудно найти квартиру
Как прописаться в Москве это невыносимо трудно
Кавказ еще зовет его Азиатская тайга шумит
еще не настали эти дни
Кто-то другой собирает камешки на Черноморском побережье
Постоянно изменяющееся расследование продолжается
хотя униформы уже нового покроя и закройщик с деревянной головой
чуть не свалился, кланяясь
Ты захлопываешь книгу и это звучит как выстрел
Белая бумажная пыль щекочет тебе нос
тут латинский вечер и снег идет никто
сегодня не придет и спать пора
но если вдруг он постучит в твою тоненькую дверь
впусти его
СОГЛАШЕНИЕ
Эдварду Хиршу
Минута спокойного согласия
в Египетском музее
в Турине;
люди и вещи, забитые витрины,
группа немецких туристов,
шумящие дети, наблюдательные мумии,
их долго отжигали в пламени их размышлений
губы поджаты как у генерала
перед битвой;
гранит пирамиды, статуэтки
которые защищали душу
от смерти и проклятия,
до тех пор, пока их не украли
чтоб больше никому не помогали;
ножницы для ногтей,
которым три тысячи лет,
и мое сердце, терпеливое, как заикающийся
мальчик, неугомонные итальянские семейства,
получающие удовольствие от своей жизни
и от своего воскресенья.
Вблизи, стесняясь,
без враждебности, мы были как одно,
и как одно, мы воспринимали друг друга.
Время выскользнуло, как медная булавка
из прически дочери фараона.
Без эмоций, дружелюбно,
мы рассматривали друг друга, старые и молодые
из одного и того же мира, немые и несовершенные,
приспособления для желания и забвения,
орудия боли и любви.
Даже полированные ножи, которые когда-то могли положить конец тоске
спокойно лежали на полках, возможно, сожалея
о дрожи, о ночном ударе в грудь, предательстве, бесчестии.
За окном, на зданиях со стенами цвета охры,
солнце стремительно писало январские
праздничные воззвания.
АВТОПОРТРЕТ
Полдня проходит у меня за компьютером
с карандашом или за пишущей машинкой.
Однажды это уже будет полвека.
Я живу в чужих городах, и иногда разговариваю с чужими людьми
на чуждые мне темы.
Я часто слушаю музыку: Баха, Малера, Шопена, Шостаковича.
В музыке я вижу три составляющих: слабость, силу и боль.
У четвертой нет имени.
Я читаю поэтов – живущих и мертвых, учусь у них упорству, вере
и гордости. Я пытаюсь понять великих философов – но обычно
ухватываю только фрагменты их ценных идей.
Я люблю ходить на длинные прогулки по парижским улицам
и наблюдать моих собратьев, которыми движет зависть, злость,
желание; следить за тем, как серебряная монета переходит из рук в руки
постепенно теряя свою округлость (профиль императора стирается).
Деревья рядом не выражают ничего, кроме своего безразличного
зеленого совершенства.
Чёрные птицы ходят по полям туда-сюда, в терпеливом ожидании,
как испанские вдовы.
Я уже немолод, но всегда кто-то еще старше.
Мне нравится глубокий сон, это когда меня не будет,
и быстрая езда на велосипеде по сельским дорогам, когда дома и тополя
тают, как кучевые облака в солнечные дни.
Иногда в музеях картины начинают разговор со мной
и тогда ирония исчезает.
Я люблю глазеть на лицо своей жены.
Каждое воскресенье я звоню отцу.
Через неделю я встречаюсь с друзьями
доказывая свое постоянство.
Моя страна освободилась от одного зла. Я надеюсь
что после этого наступит следующее освобождение.
Могу ли в этом я помочь? Не знаю.
Честно говоря, я – не дитя океана, как пишет о себе Антонио Мачадо,
я – дитя воздуха, мяты и виолончели,
и не все возвышенные пути мира пересекаются
с жизнью, которая – пока что –
принадлежит мне.
В память об Адаме Загаевском (перевод с английского Анны Гальберштадт)
Адам Загаевский был цельной личностью и отличался прямотой. Он был близким другом и человеком, который изменил мою жизнь. И я еще не готов подвести итоги и отпустить его. Горе потери родилось в краковском госпитале и снизошло на мир. Адам был достаточно сдержанным человеком, но наш плач по нему – это дикая река, вышедшая из берегов. Сдержать ее невозможно, горе – это наводнение.
Мы были близкими союзниками в течение тридцати лет, и мне трудно говорить о нем в прошедшем времени, но, видимо, это один из способов осознания катастрофы. Адам был душевный человек, всегда внимательный к людям, в каком-то смысле вещь в себе – интроверт, спокойный, скромный, склонный к уединению и меланхолии, хотя он также умел дружить, обладал прекрасным чувством юмора, забавно шутил и умел по-настоящему радоваться. Я любил смешить его и глядеть, как его похожие на гусеницы брови ползут вверх от смеха. У него были чистые глаза и пронизывающий взгляд. Безупречные манеры и чувство достоинства. Я считал его своего рода духовным аристократом, абсолютным художником, таким как Томас Манн, Райнер Мария Рильке или Збигнев Херберт. Адам не давал повода усомниться в его несгибаемой воле – он не позволил бы никому оторвать его от его образа жизни литератора, от его призвания как поэта. Он жил этим.
Будучи интеллектуалом, он мог как бы на ходу обсуждать исторические темы, что производило большое впечатление на американцев, потому что как народ мы анти-историчны. Никто не сомневался в его живом участии в политической жизни Польши, которой он был бесконечно озабочен, но он также внимательно прислушивался к вибрациям своего внутреннего мира.
Он любил уединение длинных послеобеденных прогулок в парке. Он любил путешествовать, главным образом для того, чтобы посещать музеи и думать об искусстве, которое он ценил – особенно голландцев Золотого века; но он также с удовольствием возвращался в свой кабинет в Кракове. Он обожал классическую музыку – «музыка напоминает нам, что такое любовь», писал он; «Если вы забыли, что такое любовь, пойдите послушать музыку», – и он провел много времени, слушая по утрам и восхищаясь баллады Шопена, квартеты Бетховена, сонаты Шуберта и симфонии Малера. Читая его стихи, вы понимаете, что он хорошо разбирался в философии: работы Шопенгауэра и Ницше давали пищу его пытливому уму и врожденному скептицизму, однако музыку он воспринимал более эмоционально и глубоко. Она была частью его воспитания чувств. Я всегда понимал, что у него была обширная духовная жизнь.
Я полюбил стихи Адама до того, как встретил и полюбил его самого. Припоминаю ощущение шока и растущего восхищения, когда читал его ранний сборник избранного «Дрожь» – первую его книгу, опубликованную на английском; и я немедленно решил, что попытаюсь взять его на работу в литературную программу Хьюстонского университета, где я недавно стал преподавать.
Я не имел никакого представления, говорит ли он по-английски, и преподавал ли он когда-нибудь, так я полюбил его поэзию – но моя увлеченность победила. Я аргументировал мой выбор тем, что нам выпал уникальный шанс, такое бывает раз в жизни: попытаться взять на работу преемника Чеслава Милоша и Иосифа Бродского, европейского поэта звездного масштаба. В то время Адам жил в Курбевойе, пригороде Парижа, и нуждался в работе – французы не понимали этого утонченного фланёра, который появлялся среди них – и вот в 1988-ом он сошел с самолета в Хьюстоне в красном шарфе, с мигренью и немецко-английским словарем подмышкой. Он был очень вежлив, но казался усталым и потерянным, и я задумался над тем, что наделал.
Место, где он приземлился, казалось несоответствующим ему, но на следующий день мы нашли кафе и стали говорить о поэзии – и разговор этот затянулся на три десятилетия.
Его бесконечно забавляла моя американская открытость: поначалу она была для него утомительной, но наконец его тщательно сконструированный фасад дал трещину. Он адаптировался на удивление хорошо – отчасти потому, что обнаружил университетскую библиотеку, в которой был огромный выбор большей частью нетронутых и доступных для всех желающих книг: они его покорили. Я нервничал, понимая, что какая-нибудь другая литературная программа захочет его переманить (многие за эти годы пытались), и мне не хотелось объяснять ему, что тихие, с открытым доступом к книгам, библиотеки достаточно часто встречаются в американских университетах. Когда его жена Майя приехала навестить его, то первое место, куда он ее повел была Rice Library, библиотека Райса. В последующие пятнадцать лет Адам проводил один семестр в Хьюстоне, где он писал стихи и преподавал в рамках нашей программы: его любили, он путешествовал по стране, выступая с чтениями.
У нас было немало совместных приключений. У Адама было лукавая манера не соглашаться со мной на разных обсуждениях, раскурочивать мои доводы с элегантностью человека из Старого Мира каким-нибудь язвительным замечанием («Мой дорогой друг Эдди считает…») – и мы воспламеняли воображение друг друга. Его творчество произвело колоссальное влияние на меня лично, но также начало оказывать влияние и на американскую поэзию в целом.
Мне хотелось бы думать, что влияние было взаимным. После того, как Чеслав Милош вернулся в Краков, он стал скучать по общению с американскими поэтами, которое было неразрывной частью его жизни в Калифорнии. У Адама возникла идея порадовать Милоша, устроив коллоквиум в его честь. Вместе с ним мы учредили Краковский Семинар, и в течение десяти лет собирали вместе польских, европейских и американских звезд (Томаса Венцлова, Шеймаса Хини, Ивана Боланда, Уильяма Стэнли Мервина) для того, чтобы задавать наиболее насущные вопросы на темы поэзии, политики и истории. Милош даже уговорил Виславу Шимборску выступить с нами в церкви – в храме польской поэзии. Загаевский был одним из его верховных жрецов.
Я думаю, что нет лучшего описания себя, как личности, чем стихотворение Адама «Автопортрет», где он схватывает сущность своего ежедневного существования и говорит о том, что ему неизменно дорого. Когда он написал его в 90-х, он еще жил в Париже – до возвращения в Краков.
Мне пришлось собраться с духом, когда я впервые вспомнил о нем: он предстаёт невероятно живым в этом стихотворении – Адам хорошо себя знал – и очень волнительно перечитывать «Автопортрет» так скоро после его смерти. Стихотворение начинается так: «Полдня проходит у меня за компьютером с карандашом или за пишущей машинкой. / Однажды, это уже будет полвека...» Он говорит о жизни в чужих городах и о разговорах с незнакомыми людьми на странные темы, о том, что он часто слушает музыку (Баха, Малера, Шопена, Шостаковича), о чтении стихов поэтов, умерших и живых, и длинных прогулках по парижским улицам. Он любит глубокий сон и быструю езду на велосипеде, ходит в музеи, где картины разговаривают с ним, «и тогда ирония исчезает». Он любит смотреть на лицо своей жены. Мне нравится его признание в конце этого стихотворения:
Честно говоря, я не дитя океана, как пишет о себе Антонио Мачадо,
я – дитя воздуха, мяты и виолончели,
и не все возвышенные пути мира пересекаются
с жизнью, которая – пока что –
принадлежит мне.
Невозможно представить, что жизнь уже не принадлежит моему дорогому товарищу, чьи стихи ставят нас перед лицом тайн бытия. Они открывают нам нечто глубокое, странное и даже безграничное внутри нас самих. У них есть странное сходство с молитвой и парадоксальная потребность в истине; осознание нашей миссии и глубокое стремление к свету. «Боже, дай нам длинную зиму / и тихую музыку», пишет он в своем проникновенном стихотворении «Пламя»: «Дай нам изумление / и пламя, высокое, яркое».
Перечитывая стихи Адама, я замечаю, что смерть присутствует в них повсюду, так же, как и острое осознание людской жестокости. Стихи говорят о бесконечном варварстве – об истории, как о мертвецкой, о склепе, набитом костями – это напоминает, на что способны люди. «Сегодня это может быть Босния, / в сентябре 39-го Польша, Франция через восемь месяцев, / Германия в 45-ом, / Сомали, Афганистан, Египет...» – говорил он в стихотворении «Беженцы». «В парке Сен-Клу <...> я раздумывал над твоими словами», писал он художнику Йозефу Чапскому: «Мир жесток: алчный / кровожадный, беспощадный...»
Тем не менее, в стихах Загаевского много прекрасных моментов духовного просветления. Вдохновение в них выражается, по его словам, «праздничными прокламациями». «Я был пронзен острыми колючками блаженства» – пишет он в стихотворении «Жестокий». «Я знаю, что я один, но связан с тобой / накрепко, болезненно, радостно...» – в стихотворении «Присутствие». «Я знаю, что только тайны бессмертны». В его восприятии даже плавающий человек становится похожим на молящегося: «ладони складываются и разъединяются, / складываются и разъединяются / почти до бесконечности». Меня восхищает, как эти стихи переносят нас в мир Адама – величественный, безграничный и непостижимый.
У России с Польшей сложная история, но литература преодолевает рубежи, и я думаю, что Адам был бы рад таким прекрасным переводам своих стихов на русский. Он очень ценил русскую поэзию, особенно Осипа Мандельштама и других акмеистов. Будучи поэтом, который писал верлибры, он восхищался отточенным размером, классической уравновешенностью и свободой воображения у Мандельштама. Он был возмущен тем, как Мандельштам был выброшен из официального литературоведения и прикладывал усилия, чтобы справедливость восторжествовала. Адам дружил с Иосифом Бродским. Мы втроем провели немало долгих вечеров за зажигательными беседами о поэзии. «Я знал его в лучших проявлениях как друга», вспоминал Адам, «но также как носителя высокой культуры, защитника метафизического импульса в поэзии». Со своей стороны, Бродский восхищался невероятной точностью и полетом воображения в стихах Адама; связывал его поэзию с западноевропейской традицией в восточноевропейской литературе. Бродскому в творчестве Загаевского слышался интенсивный диалог между Клио и Эвтерпой, музами музыки и истории, и он как-то сказал: «Нечасто муза поэзии вещала кому-то с такой ясностью и настойчивостью, как в случае Загаевского».
Среди стихотворений Загаевского многие – на темы путешествий и переездов. Но в них присутствуют три главных города: Львов, где он родился («Львова всегда было слишком много», признается он «никому не разобраться в его предместьях»), уродливый индустриальный город Гливице, где он вырос («два города беседуют друг с другом» пишет он доверительно – «два города, разные, но предназначенные для трудного романа, как мужчины и женщины»), и Краков, где Адам жил в студенческие времена, где в нем проснулся интерес к поэзии, музыке и философии. Он был поэтом с воображением масштаба Рильке, который пришел к убеждению, что поэзия переносит нас в сферу возвышенного в нас самих. И тем не менее, он выбрал совсем другой путь в начале 70-х: начал писать под эгидой только что родившегося движения оппозиции. У него было ярко выраженное чувство гражданской ответственности писателя и четкое представление о том, что сообщество (нация, общество, поколение) является главным героем и адресатом творчества. В этих ранних его стихотворениях есть свежесть и энергия, они актуальны, но не долговечны. Тем не менее, с середины 70-х он все больше дает выражение другой стороне своей натуры. Он эстет, преданный (вечным) идеалам искусства. Или, в его собственном определении: «Я обнаружил, что во мне есть и "метафизическая" часть, склонная к анархизму – интересующаяся не политикой и историей, а поэзией и музыкой».
Загаевский никогда не забывал поднимать вопросы, касающиеся сообщества, необходимые для воспитания гражданской ответственности, но он также воспринял такие фундаментальные ценности, как privacy (слово, непереводимое на русский) и моральную ответственность за собственное высказывание. Его стихотворение «Огонь» характерно для трансформации Адама из диссидентского поэта. Оно начинается с противоречивого признания того, что он скорее всего «лишь обычный представитель среднего класса / который верит в права человека, слово / "свобода" кажется мне простым, / оно не обозначает свободу для какого-то определенного класса.»
Он вспоминает «пылающий призыв» политического негодования, ощущения своей правоты, и стремления жечь все на своем пути.
<...> бывало,
и я пел эти песни, и я знаю, как прекрасно
бежать в толпе с другими, сейчас сам по себе,
с привкусом пепла во рту, я слышу
иронический голос лжи и восклицания хора,
и когда я прикасаюсь к своей голове, я чувствую
арочный череп своей страны, его жесткий край.
Противоречивые тенденции, разрывающие внимание Загаевского, привели к глубокому эстетическому и даже метафизическому раздвоению. Он всегда был поэтом непреодолимого дуализма. («Мир разорван. Да здравствует двойственность! Мы должны приветствовать неизбежное!», провозглашает он). В его творчестве всегда действует мощная диалектика – между реальностью и воображением, историей и философией, между временным и вечным. В «Двух Городах» он пишет: «экстатический элемент связан с безоговорочным принятием мира, включая и жестокость, и абсурд. Ирония, по контрасту, это художественная репрезентация мысли, критицизма, сомнения». Он взвешивает оба элемента, но наиболее частым импульсом, конечно же, является стремление возносить хвалу искалеченному миру, возносить хвалу тайнам в нем самом, и даже тому, что существует за его границами. Он был, в каком-то смысле, пилигримом, искателем, жрецом в поисках божественного, вечного, абсолюта. Его стихи – это в своем роде духовные символы, гимны непознаваемому, орудия трансцедентального.
Мне невероятно трудно и больно представить себе, что он ушел, но я благодарен судьбе за нашу долгую дружбу, и знаю, что стихи Адама будут сопровождать меня до конца жизни.
Лёгкое преувеличение: интервью Луизы Стейнман с Адамом Загаевским (перевод с английского Серафимы Литвиненко, Софьи Дубровской)
Через неделю после трагедии 11 сентября журнал «The New Yorker» поместил стихотворение Адама Загаевского «Попробуй воздать хвалу искалеченному миру» на обороте. Несмотря на то, что он написал его полутора годами ранее, стихотворение отозвалось в наших сердцах всеобщей скорбью того тяжелого времени, но также отразило и незыблемую красоту жизни.
Известный поэт (недавно получивший поэтическую премию Гриффина за выдающийся вклад в поэзию) сам родился в «искалеченном мире» конца Второй мировой войны в тогда ещё польском Львове – дважды захваченном в военные годы – где его семья жила поколениями. Он кратко описывает исторические сдвиги и перемены в своей жизни в мемуарах 1991 года «Два города»:
«В 1945 году почти вся моя семья паковала чемоданы и сундуки, готовясь покинуть Львов и его окрестности. В то же время бесчисленные немецкие семьи, которым было приказано покинуть дома и квартиры Силезии и других городов, тоже собирали свои вещи. Миллионы людей в спешке пытались закрыть набитые до отказа чемоданы, коленями придавливая их сверху; всё это происходило по приказу трех стариков, однажды встретившихся в Ялте»
Домом, в который его семья была перевезена в вагоне для скота, стал промышленный Гливице (бывший немецкий город Гляйвиц). В отличие от космополитичного Львова с его разномастной архитектурой, Гливице был странным, неприятным и уродливым городом. «Всё же, – пишет Загаевский – мне приходилось там жить. И, о, чудо из чудес, там тоже были рассветы и закаты, всё те же времена года проходили сквозь календари и городские парки».
Загаевский, изучавший философию в Краковском Ягеллонском университете, тогда, в самом начале своего творческого пути, писал стихи в протест авторитаризму – и они были запрещены в Польше в 1975 году. Он пржил в эмиграции с 1982 по 2002 год. Долгие годы Загаевский преподавал в Хьюстонском университете, а сейчас преподает в Чикагском. В свободное от работы время он живет в Кракове со своей женой Майей, психотерапевткой.
В свои поездки в Польшу, которые я совершаю на протяжении уже более чем десяти лет, работая над своими мемуарами, я взяла за правило брать с собой одну из книг Загаевского, чаще всего – поэтический сборник «Мистицизм для начинающих», которому больше всего доверяю. В 2005 году я пригласила Загаевского в Лос-Анджелес выступить в рамках «the ALOUD series», и мы подружились. С тех пор каждый раз, когда я бываю в Польше, я обязательно провожу один день в Кракове, чтобы прогуляться или перекусить вместе с писателем, работы которого продолжают значить для меня так много.
Нет лучшего способа узнать Краков, чем прогуляться по окрестным садам в компании поэта. Он может остановиться, чтобы поздороваться с друзьями, или засмотреться на сияющие золотые листья «единственного, – как он говорит, – гингко в Кракове». Для Загаевского гулять по улицам его любимого города, оставаясь предельно чутким к внезапному поэтическому вторжению «лёгкого преувеличения», как он подмечал, и есть его «настоящая работа».
Его эссе хранят в себе мистическое свечение весенних вечеров и мрачные тени истории его страны. Сьюзан Сонтаг писала в «Новой Республике»: «Читать работы Загаевского – значит, проделать "путь чудесного ума" Выход сборника его мемуаров, эссе и анекдотов "Лёгкое преувеличение" – это повод для всеобщего празднования».
Интервью было проведено посредством обмена электронными письмами между Лос-Анджелесом и Краковом.
– Луиза Стейнман
Луиза Стейнман: В ваших новых мемуарах, возможно, в большей степени, чем в других книгах, ощущается, что вы выкладываете все карты на стол. Вы пишете, что, в отличие от ученых, «поэт разоблачён, ничем не укрыт». Чем мемуары отличаются от поэзии, если говорить об уязвимости?
Адам Загаевский: Я думаю, в основном это различие формально. Стихотворение для меня – это короткое сообщение, которое, однако, помогает совершить огромный рывок. Можно начать с двух повседневных строчек и внезапно втянуть в стихотворение Египетскую царицу или Иоганна Себастьяна Баха. Но эта способность находить случайные ассоциации может и одурманивать. У мемуаров гораздо более чёткий нарратив, возможно, это и принуждает к большей откровенности. Стихотворения пишутся, а мемуаристика должна срабатывать. Но есть более широкий и захватывающий вопрос, который раньше не был особенно актуален для меня, потому что я был слишком молод и не имел никакого отношения к бесчеловечной системе: те, кто был причастен к ужасам тоталитаризма, по сути, не способны отнестись к себе критично. Свои ошибки могут признавать те, кто пишут о неудавшихся браках – но не величайшие грешники нашего времени.
Л.С.: «Лёгкое преувеличение» берет свое начало в декабрьском Кракове и свободно движется сквозь времена года, но без датировок: вы позволяете себе грезить во времени. Я нахожу очень занятным то, что можно открыть вашу книгу на любом моменте и читать ее – так и задумывалось?
А.З.: Да, таким и был замысел. Хотя будучи автором вы должны знать о роли случая в процессе создания книги. Случай и интуиция; я считаю правильным оставаться на полпути между связной структурой и хаотичным ансамблем нот, наблюдений и лейтмотивов. Некоторые части книги следуют друг за другом по порядку – я имею в виду, они совпадают с хронологией написания, но есть и те, что были помещены туда позднее. Я обычно стремлюсь не ставить похожие размышления рядом, а рассредоточивать их.
Л.С.: Кажется, жанр дневниковых записей повлиял на вас не меньше, чем мемуары. Были ли конкретные примеры текстов, которые как-то вас вдохновили? Или всё пришло само собой?
А.З.: Да, думаю, заметно, что я был очень вдохновлен дневниками, – особенно теми, которые выходят за пределы простого перечисления фактов из жизни (не считая случаев, когда они столь же идиоматичны, как дневники Сэмюэля Пипса). Но я не прирожденный автор дневников – у меня и дневника-то нет. Я стараюсь периодически подмечать любопытные моменты, встречи и еще чаще – идеи, которые приходят мне в голову, стихотворные строки – но делаю я это не регулярно. Начиная с книги «Солидарность, одиночество» я стал экспериментировать, совмещая два небольших эссе с обрывками своих личных заметок. Я развивал этот метод в книгах «Два города» и «Другая красота». И я многим обязан нескольким выдающимся авторам дневников, но мой конечный результат – это все-таки мое личное достижение.
Л.С.: Давайте обратим внимание на автобиографичность этих мемуаров. Когда-то польский город Львов (сейчас украинский Львiв) играет большое значение в этой книге, – как и в других, включая ваши стихи. Львов был городом, где ваша семья проживала поколениями, это место, где «они мечтали, строили планы, переживали горести, влюблялись, строили свои дома, умирали и навещали могилы». В тот момент, когда старый Львов умер, вы были еще совсем маленьким, а ваша семья эмигрировала на запад в провинциальный город Гливице, ранее немецкий. Так что пока вы росли в Гливице, вокруг вас многие взрослые жили – внутри своей памяти – в другом городе, в том самом потерянном Львове. Что это значило для ребенка: жить в месте, которого «больше не существует», в месте, которое осталось зиять «невылеченной раной»? Эта рана всё ещё с вами? Храните ли вы память об утраченном городе?
А.З.: Сложно. Не думаю, что я несу эту рану в себе. Я помню о травме моей семьи и ее друзей. Я могу сказать, что ношу шрам, – но не рану. Он задевает меня за живое, но скорее как часть памяти, часть «истории моих наблюдений», а не как часть меня самого. Ребёнком я не мог разделить эти понятия: для меня произошедшее было не событием, не эмоцией – я копил воспоминания, хранил их в безопасном месте в моей голове только для того, чтобы они настигли меня позднее, и всё это вернулось ко мне вместе с более зрелым взглядом на вещи.
Л.С.: Когда вашу семью переселили, немцы, те, кто жил в Гливице, тоже покинули город. Мне стало интересно, читали ли вы книгу Филипа Спрингера «Медзянка. История исчезновения», где он описывает такие перемещения, будучи этническим немцем? Испытываете ли вы к ним симпатию?
А.З.: Нет, я не читал эту книгу. Но я встречался с большим количеством изгнанных немцев и с их младшим поколением, в основном в Германии. У меня налажен контакт с немецкими читателями, которые знакомы с переводами моих книг; я десятки раз выступал в Германии, и очень часто случалось, что после пожилые люди, или даже кто-нибудь моложе, подходили и заговаривали со мной. Такие доброжелательные беседы становятся моментами внезапной солидарности между теми, кто знает, что значит потерять своё место в мире. Даже учитывая, что сам я из младшего поколения. Я встречал и жителей Гливице, – мы говорили о бетонных улицах, зданиях и парках.
Л.С.: Ваш дедушка говорил на немецком, изучал немецкую литературу. Его мама сама была немкой. Тем не менее он выбрал «польскость». В вашей книге есть замечательные размышления на тему того, чем была эта «польскость» до образования современной Польши. Чем была эта польская «мечта», с которой себя ассоциировал ваш дедушка?
А.З.: Как вы знаете, государства Польша не существовало 120 престранных лет; три силы разделили страну между собой. Так что она на самом деле очень отличалась от государств, которые развивались, но в которых управляющие элиты и образованные классы могли в той или иной степени формировать образ мышления своих граждан. Польское государство было поэтично, неопределенно, рассеянно – но, возможно, именно поэтому оно интереснее жестких государств наших угнетателей. К тому же в ней явственно ощущалось присутствие интеллигенции. У меня есть теория о том, что представители польской интеллигенции были более занятными, чем их эквивалент в России, Германии и Австрии, просто потому что их энергия свободно распространялась; в других странах ты становился государственным служащим, офицером, политиком, и твой потенциал был ограничен обязательствами. Но не здесь (хотя, конечно, многие образованные люди работали на страны-оккупанты). Нельзя не вспомнить и о наших восстаниях, потерпевших поражения. Нет ничего более романтичного, чем поражение. Мне нравится книга Вольфганга Шивельбуша, в которой он пишет о «культуре поражения» – об американском Юге, Франции после 1870-го и Германии после Первой мировой войны. Я думаю, моего дедушку все это привлекало. Он, будучи молодым билингвом, переводил польских поэтов на немецкий, и его идеалом была та самая мистическая Польша.
Л.С.: Тот самый дедушка, как вы пишете, хотел, чтобы его дети научились трем вещам: немецкому, стенографии, плаванию. Рассказывая об этом эпизоде, вы подходите к истории разочарований и иронических трагедий двух Мировых войн. Какие три навыка вы посоветуете освоить молодым поэтам сегодня?
А.З.: Первым будет любознательность (но она либо дана, либо нет), вторым – тоже любознательность, третьим – снова она. Что еще можно требовать от поэтов? Ты не можешь посоветовать иметь «талант», потому что он дается с рождения; можно порекомендовать «работать», но что эта «работа» на самом деле значит для молодого поэта? Иногда праздность может быть более плодотворной, давая возможность быть внимательным, заряженным, при этом ничего особо не делая. Если я слишком настаиваю на «любознательности», то это только потому, что считаю многих молодых поэтов недостаточно образованными; некоторые из них считают, что чтения поэзии, в особенности современной, вполне достаточно. Но существует обширное поле для образования: исторические эпохи, история искусства, музыки и так далее. Ницше был против «историцизма», поскольку видел в нем опасность утраты интереса к поиску ответа на вопрос «Что такое мир?» и в конечном итоге лишь изучение того, каким мир был для предыдущих поколений. Но такая опасность сегодня минимальна.
Л.С.: Вы описываете свою семью как «надежных, работящих людей, без тяги к фантазии». В своей книге вы откликаетесь на некое наставление из сна: «Пиши о хрупких людях». Благодаря этому сну мы узнаем о Маленьком Мышке, который умер слишком юным, о вашей тёте Марии, которая переживала потерю обоих детей и мужа, и управляла цветочным магазином возле кладбища. Что наиболее важное дало вам это наставление?
А.З.: Очень трудно ответить на этот вопрос. Когда я думаю о своих «героях», я нахожу среди них и не-хрупких людей. В «Двух Городах», мне кажется, я писал по большей части о своём дедушке (у него, как вы знаете, есть камео в «Преувеличении»). Он был (как вы поняли из книги) директором старшей школы, и ему приходилось проявлять строгость. Однажды я стал свидетелем того, как он – «присяжный переводчик», тот, кто делал «официальные» переводы свидетельств о рождении и прочего – отказал кому-то после слов: «Но у меня нет денег, я не смогу заплатить вам». Для меня, ребёнка, это было шокирующим событием.
Л.С.: Есть ужасающая сцена в вашей книге о еврейской паре, которая пришла к вашим родителям во Львове во время немецкой оккупации в поисках убежища для своего ребенка. По понятной причине вашим родителям пришлось отказать им – это не было безопасно для семьи и ребенка. Ситуации, как эта, скорее всего, происходили гораздо чаще, чем нам известно. Это напоминание о том, что мы не можем судить прямиком из нашего мирного времени тех, кто был поставлен в безвыходное положение, не так ли?
А.З.: Да. Что тут сказать. Эта ситуация потрясла меня. Внезапно они открыли мне то, что на секунду как бы приподняло завесу. Неожиданно я увидел реалии, с которыми им приходилось сталкиваться, а не просто заготовленные фразы о «страданиях войны». Это было шокирующе еще и потому, что я понял, насколько уязвимыми они были. Обычно родители стремятся, чтобы ты не знал о такой стороне их прошлого. Родители не должны представать уязвимыми в глазах собственных детей (и это даже не смотря на то, что я был уже совсем взрослым, когда услышал эту историю). Кстати, насколько я помню, это были мать с ребенком и каким-то их знакомым, а не пара. Женщина искала убежище для них двоих. Очень страшно думать о том, что с ними произошло. (Вы знаете, я недавно прочел книгу Райнера Статча о Кафке; три его сестры были убиты нацистами, а у них ведь должен был быть какой-то социальный статус, особое положение в обществе.)
Л.С.: Одним из ваших самых близких друзей был поэт Чеслав Милош. Вы пишете в мемуарах о том, что мистицизм Милоша был «вскормлен на дрожжах реальности». Можете ли вы сказать то же и о себе? Вы были мечтательным ребенком?
A.З.: Возможно, это глупо, но мне не кажется правильным называть кого-то «мистиком». Почему? Мне нравится мистический взгляд в искусстве (хотя я вижу и негативные стороны мистицизма: пренебрежение историей, например, аполитичность). Я помню, как очень давно смотрел фильм про Британское завоевание Индии (не представляю, как он назывался), в котором индийский образованный класс был представлен как полностью равнодушный к происходящему вторжению, играющий в шахматы и погруженный во все внутреннее и возвышенное. Да, я думаю, что был мечтательным ребенком – но в меру мечтательным. Я не был номером один в спорте, но и неженкой тоже не был.
Л.С.: И будучи взрослым как вы проводите границу между «духовной жизнью» и воображением?
А.З.: У меня нет ответа. Я думаю, это вопрос поиска подходящего имени для одной и той же вещи. Те, кто не ненавидят религию, называют её воображением. Я не ненавижу религию (хотя ненавижу фундаментализм), поэтому не избегаю слова «духовный» – для меня это целый континент идей и эмоций, по сути, всего того, что выходит за границы воображения. И все же я не жду ответов от этого континента; размышлений и вопросов вполне достаточно.
Л.С.: Наряду с упоминаниями Милоша из вашей книги мы узнаем интересное о многих других писателях; некоторых из них вы знали лично, а с некоторыми «познакомились», внимательно перечитывая их труды: Ницше был «честным и хорошим в быту человеком»; Чоран «боялся одиночества»; Симону Вейль можно было бы найти рыдающей в Люксембургских садах из-за того, что полиция открыла огонь по протестующим в Шанхае. В книге есть очаровательный анекдот про Иосифа Бродского и его пожеванный галстук. Вы с Бродским обычно спорили. О чём? И по чему вы особенно скучаете?
А.З.: Я скучаю по невероятной живости его ума, его удивительному интеллектуальному присутствию – смягченному тоном его голоса, который мог быть предельно нежным (в разговоре с друзьями – не с незнакомцами; каким-то образом он отталкивал богатых людей – тебе нужно было быть поэтом, писателем, интеллектуалом, но не «мещанином» – это считалось чем-то плохим). У нас с Иосифом случались бесконечные интеллектуальные дебаты – он это обожал. Мой голос был голосом разума (или здравого смысла) – а он проверял на мне свои фантастические теории. Он был потрясающе образован, хотя и неравномерно – философия была терра инкогнита для него; не полностью, конечно, но для Иосифа история человечества заключалась в истории поэзии, и точка. Это поражало меня: он научил меня, что историй человечества несколько. Я был горд, когда после прочтения «Двух городов» он сказал мне: «Я научился нескольким вещам из твоей книги».
Л.С.: Всю свою жизнь вы были страстным почитателем классической музыки, и музыка, как и литература, проходит нитью сквозь вашу книгу, переплетаясь с историей. Слушая «Скрипичный концерт. Канцонетта. Анданте» Чайковского, вы вспоминаете о том, как он «транслировался по всему Ленинграду во время блокады в этом умирающем городе». Что вы слушаете сейчас? Есть ли в музыке что-то, что соответствует нынешнему ощущению эпохи?
А.З.: Не думаю, что могу найти связь между историей и музыкой. Музыка всегда где-то в другом месте, и это хорошо. Я полагаю, в трудных ситуациях важно обращать внимание на то, что происходит вокруг, но при этом всегда иметь не зависящую ни от чего, отдаленную сферу интересов. Если у нас пропадут все другие увлечения, я сочту это победой глупцов-политиков, которые как раз сейчас подталкивают нас на опасную дорожку. Есть философия, музыка, поэзия, пчёлы, горные походы, фотография, танцы, каллиграфия, акварель, плавание, серфинг, изучение японского. У нас должно быть «что-то еще», чтобы быть сильнее. Нехорошо быть сугубо реакционным, вечно жить в оппозиции, злости, не иметь другого источника сил.
Л.С.: И все же вы писали, что «поэзии следует быть на страже истории». Это то, что я особенно ценю в вашем творчестве.
А.З.: Я не могу сказать, что след истории в поэзии – это моя находка. Это одно из тех качеств, что я приобрел от, как Милош её называл, «польской школы поэзии». Я бы сказал, что если я и изобрел что-то новое, то это «новое» было скорее в решении стать автобиографичным в собственных стихах. Я написал серию «автопортретов», и вы не найдете таких у Херберта, Шимборской и Милоша; они избегали самопрезентации. Вы можете представить, какими они были, по их стихам, – но только представить.
С другой стороны, я могу позавидовать поэтам, которые исследуют внеисторическое пространство, как Транстрёмер, например. Потому что насколько я убежден в необходимости серьезно работать с историей, настолько же я убежден, что мы нечто утратили, когда стали «чересчур историчными» – теперь мы склонны винить историю за вещи, в которых следовало бы винить самих себя (вспоминая концепцию Йейтса о «пассивном страдании»).
Л.С.: Одно из ваших новейших стихотворений,
недавно опубликованное в «New York Review of Books», погружено в исторические реалии. Это возможно
ваше самое (ироничное) политичное стихотворение:
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
У нас новое правительство.
В составе нового правительства немало одаренных министров.
Один из наших министров говорит по-английски.
Наше новое правительство энергично взялось за работу.
К сожалению, оно недостаточно агрессивно в ситуации,
которая разрешает упорствовать такому количеству неисправимых либералов,
в некоторых городах их количество даже превосходит
количество семей добропорядочных католиков.
Чем еще должно заняться наше правительство?
Оно не должно руководствоваться сентиментальными взглядами,
типичными для западных правительств.
Как-нибудь ночью им надо было бы расстрелять нескольких кинорежиссеров,
не жалея женщин.
Все профессора конституционного права должны получить
пожизненное заключение.
Поэтов можно оставить в покое, поскольку никто их все равно не читает.
Исправительные колонии необходимы, но порядки там должны быть помягче,
чтобы не раздражать ООН.
Большинство журналистов надо бы сослать на Мадагаскар.
Венгрию, с другой стороны, нужно бы приподнять щипцами
и засунуть между Польшей и Германией на карте. И потом,
когда реакция среди международного масонства затихнет, Германию
нужно бы тайно разместить между Испанией и Португалией.
Правительство сегодня не может быть чересчур скрупулезным.
Ему был дан редкий исторический шанс.
Было бы преступлением его не использовать.
(пер. Анны Гальберштадт)
– Как это стихотворение восприняли в Польше? Могут ли поэты как-то влиять на правительство?
А.З.: Это стихотворение было опубликовано в «Gazeta Wyborcza», – главной газете леволибералов Польши, оппозиционной правому правительству. Реакцию было легко предсказать: публиковаться в «Gazeta» – всё равно что проповедовать хору. Это независимое издание, я не хочу преуменьшать его значимость. Наоборот, я не могу представить жизни в Польше без этой газеты, без одного из главных оплотов здравомыслия. Со мной связались те, кто разделял мою позицию, но также я получил и письма, полные ненависти, анонимные, – в основном, из другого лагеря.
Л.С.: После всего, что пережила Польша – нацистская оккупация, навязывание советской идеологии, борьба/успех «Солидарности» – и теперь нынешнее правое правительство… Вы думаете, поляки лучше психологически подготовлены к нынешнему пугающему подъёму национализма, чем американцы? Что бы вы сказали американцам, ошеломленным и разгневанным авторитарными методами нашего правительства?
А.З.: Есть вещь, которую я осознаю все чаще: поляки научились умело противостоять натиску лжи еще десять-пятнадцать лет назад. Но сейчас появились новые поколения, и процесс передачи опыта старших младшим, особенно в эру социальных сетей, которых не было раньше, очень слаб. Я никогда не думал, что всё то, что было приобретено предыдущими поколениями, будет утрачено новыми. Как будто почти всему в публичном поле молодёжи приходится учиться заново – и они слишком медленно осознают тяжесть ситуации. Я считаю трагичной невозможность передачи опыта молодым. Что касается американцев – я уверен, вы найдёте способы борьбы с авторитарными веяниями в вашем новом правительстве.
Л.С.: Я была заинтригована этим пассажем в ваших мемуарах:
«Поэты подвержены сильным эмоциям, – подчинённые энергии таланта, они не воспринимают реальность. Почему Брехт был верен Сталину? Почему Неруда обожал его? Почему Готфрид Бенн на несколько месяцев посвятил всю свою веру Гитлеру? Почему французские поэты верили в структуралистов? Почему молодые американские поэты уделяют так много внимания своим близким и пренебрегают более широким восприятием реальности?»
Как думаете, нынешние времена вытолкнут наших поэтов и писателей в ту самую «реальность», если они ещё не отважились туда заглянуть? И разве нельзя уделять внимание своим близким и при этом не пренебрегать этой реальностью? Разве не так вы поступаете в своей книге?
А.З.: Что ж, да, конечно, можно совмещать интерес к семейной истории с глубоким поиском истины. Моё негативное восприятие исходит из первых лет преподавания creative writing в Соединенных Штатах – там было очень много «семейных стихотворений», которые, если воспринимать их скорее как симптом, чем как вопрос личного художественного выбора, несли в себе что-то почти механическое и потому гнетущее. Но если брать выше, если делать это тоньше, можно преодолеть сферу массовой зависимости и получить свободу выбора и в предмете, и в форме.
Если вы отправитесь назад в Соединённые Штаты 60-ых и 70-ых, вы увидите поток стихотворений о Вьетнамской войне, и, как вы сами знаете, немногие из них прошли проверку временем. Так что есть две крайности: аристократическое молчание или избыточное поэтическое действие, которое перекрывает художественность.
Л.С.: Мне нравится, как вы всегда стараетесь найти метафоры для описания работы самой поэзии. Поэзия, по-вашему, «как человеческое лицо – это объект, который может быть измерен, описан, каталогизирован, но это еще и призыв». Призыв к нашему вниманию, нашему пониманию?
А.З.: Да, это призыв к нашему вниманию и пониманию. Человеческие лица, стихотворения и картины – все они разделяют эту наивысшую концентрацию смысла. Человеческое лицо крохотное по сравнению с локомотивом, или с бульдозером, или с кометой – и всё-таки оно имеет больше значения. Некоторые картины очень маленькие – автопортрет презентует нечто особенное; например, есть один автопортрет Рембрандта, еще очень молодого; лицо и картина на одном и том же куске дерева, таком маленьком – и таком могущественном. Или «Фуга смерти» Целана на полутора страницах, – целый мир ужасающей реальности.
Л.С.: Мне известно, что вы безупречно владеете английским (фраза, которая сейчас режет слух)… Почему вы предпочитаете, чтобы переводчик (обычно чудесная Клэр Кавана) переводил ваши стихотворения на английский? Вы чувствуете себя на своём месте в стихотворениях, когда читаете их на английском? Или, возможно, на французском?
А.З.: Когда я читаю переводы Клэр в Штатах (как недавно в Колумбийском университете), я почти забываю, что они не были написаны на этом языке. Мне нравится погружаться в английский язык, мне нравится энергия вашего языка, чувство юмора вашего языка. Но вообще-то мне очень помогает Клэр, поскольку я все равно гость в английском языке.
Я не перевожу сам по двум причинам. Первая: я фанатически заинтересован в написании нового стихотворения, поэтому возвращаться к уже существующим кажется мне пустой тратой времени. Вторая: мой английский, возможно, и хорош, но я не носитель языка, и я верю, что процесс перевода задействует очень деликатные слои языка, имея дело с теми иррациональными выборами, которые доступны только носителям.
Л.С.: Вы писали мемуары в период болезни вашего отца, потери им памяти, его медленного ухода. Он был инженером, и вы описываете его как скрупулезного честного человека, которому никогда не нравился язык, усыпанный метафорами. Ваш отец даже подозревал, что такой язык часто был «языком лжецов».
Когда журналист попросил прокомментировать одно из ваших поэтических воспроизведений Львова, его родного города, ваш отец назвал это «легким преувеличением». Вам так сильно понравилась эта фраза, что вы использовали её в качестве названия. Почему «легкое преувеличение» стало подходящим описанием того, чем является поэзия, того, чем она занимается?
А.З.: Когда я читал интервью (мой отец дал его мне), я был глубоко тронут этой формулировкой и нашёл её довольно забавной. То, является ли это хорошим описанием предмета поэзии (может быть, самого предмета искусства), заслуживает развернутого ответа, целого трактата об искусстве. Я думаю, что это хорошее описание, потому что поэзия усиливает, преувеличивает, акцентирует внимание на вещах и чувствах, на мыслях и мечтах, которые остаются почти незамеченными в повседневной жизни. Усиливает и останавливает их, созерцая. И это, вероятно, совершенно невозможно, – жить так, уделять так много внимания деталям в наши дни, пролетающие над головами, как сверхзвуковые самолеты.
С другой стороны, – нет, это не самое лучшее описание, потому что на самом деле нашей настоящей жизни больше в поэзии, чем в нынешних торопливых днях. Поэзия возвращает нас к жизни такой, какая она есть, какой должна ощущаться в своем величии и в своей убогости. Так что, возможно, нам стоит говорить не «поэзия – это преувеличение», но «жизнь, какой мы ее знаем, преуменьшена, слегка покалечена», – говоря литотами. Жизнь – это преуменьшение, поэзия ничего не преувеличивает.
Несколько стихотворений из полесского лаудария
***
перед тем, как вновь отправиться в путь, но уже поодиночке
на том же самом перекрестке у пограничного столба
мы заставили друг друга поклясться
что остаток жизни оба проведем за охотой на всякую правду
найденную ли, утраченную ли
пожалованную в дар или назначенную в наказание
из многих я знаю такую, которая рождается, например, на линии фронта
потому что правда – это пена
выступающая на губах солдата, когда того подстреливают, будто сохатого
а грохот, с которым он роняет себя на землю
это будто вздох времени
это будто напоминание
о нашем с тобой родстве
задушенном галстуком пограничника
а после, когда мы стояли уже по разные стороны межи
ты мне шепотом напомнил еще об одном
о таком, что рождается из пытки и предательства оружия
известно ведь, что самое страшное предательство состоялось тогда
когда покоренный металл выскользнул из руки мастера
клеймившего неудавшегося дезертира
и неугомонный жар, сродни тому, что теснится сейчас в наших снах о капельке спирта
обдал ногу мастера
так даже металлы и газы, в союзе с противником, объявили нам свою войну
но сейчас мы в ладу
поэтому для охоты на правду нам хватит силков и винтовок
***
синие всклокоченные бороды, на которые я смотрю из купели
над бородами – подвешенные к потолку сабли, всхлипы в ангелах и теснота, теснота
от нашего повета вновь потребовали убивать стариков и немощных, пусть даже родных
поэтому из всех моих крестных имен у меня осталось лишь два
первое – это имя врага, нареченного мне таковым, когда помер мой дед
точнее, когда того забили, ведь убивать стариков нам и прежде некогда полагалось законом
поэтому сейчас я стою там, где речка мелеет и становится вам по колено
(та, где раньше купали коней и быков, а теперь из которой пьют зайцы)
и мочу в ней свои пятки, пытаясь припомнить имя врага, которого жду
моя старая мать не знает последних новостей, и подруг у нее, что рассказали бы, тоже нет
да и сын у нее – не то, что у соседей
зато у ее сына есть лодка и посконная рубаха
крепче любой кольчуги, любого панциря и любого доспеха
эту рубаху ему на крестины выткали из своих синих волос пять старух
эта рубаха крепче любого чугуна и любой скалы, хотя на вес она – как голова теленка
вчера этих старух замуровали в скале, оставив им хлеба и молока на три ночи
хотя в нашем повете уже давно не знают ни пшеницы,
ни коров, чье молоко не скисало бы сразу в вымени
ночь же мы перестали различать еще раньше
поэтому теперь мы не видим ни голубого союза звезд
ни вооруженной до зубов луны, ни даже искрящейся дымки ночных облаков
которыми раньше выкуривали спящих медведиц из сугробов, чтобы затем подкинуть им сироту
нет у моей матери таких подруг, которые бы ей рассказали, что сейчас ее сын
накинув посконную рубаху и посадив свой челнок на мель
ждет врага, которого везут в санях, хоть сегодня и лето, запряженных медведицами,
так по следам мятой травы я узнаю, что он остановился в доме старосты
чья жена топталась по мне, будто по ужиному гнезду, и целовала, будто она мне не крестная мать
сейчас ее муж не знает, что когда пан инспектор переступит порог их дома
а потом будет пить с ними горячую водку, слизывая с ладони смалец и чихая от перца
то с берега речки, где стоит мой пустой челнок, вы заметите пламя такого веса и такой силы
какое не горит ни под подушкой у больного на френчугу, ни в бане, ни в лампадке после дзядов
те же, что окажутся ближе, скажут (и, только раскрыв рот, задохнутся в дыму и потеряются)
«да это же горит дом войта!», а те, что прибегут после, от перепоя не сразу сообразив
застанут совсем уже угли, пылающие всеми цветами юбок моей крестной матери, жены старосты
да непочатую бутылку водки, не тронутую огнем
потому что та сама была так горяча, как это всегда было под юбкой у моей любви, жены старосты
и тогда, когда все разойдутся, не найдя среди пепелища ни костей, ни зубов, ни ногтей
когда догонят всех лошадей и свиней, чтобы сразу зарезать, а затем подать к тризне
я вернусь домой, к своей матери и ее подругам, раскрещенный и безымянный
***
нет больше толку в наших походных песнях
ведь все подходящие войны уже кончены
а повода поудачнее нам не сыскать
и даже когда нужно что-то спеть на свадебном застолье
мы поём про чужих невест из соседней деревни
хотя пока что на своем наречии и сохраняя местный напев
мы поем вот так:
«это их девушки при встрече кусают друг друга за губы
чтобы те оставались красными, будто свежая журавина
это их девушки случайно сворачивают шеи хилым мужьям
стоит тем на беду оказаться у них между ног
это у их девушек живот полнится соленой влагой и лоснится от жира»
из этого живота вышли лучшие из моих братьев по охоте
и когда мы входим с ними в лес и заряжаем ружья
нам не приходят на память ни одна из тех песен
которые наши отцы разом запевали, кидаясь на вепря
поэтому чаще всего мы возвращаемся с пустыми руками
из-за чего мой младший сильно недоедает
и скорее всего умрёт от голода
для этого повода я уже починил наш старый радиоприемник
чтобы было что слушать на поминках, где мы будем говорить о мальчике
который любил трещать палкой по забору и различал на слух каждого нашего петуха
перед этим в костеле на имше ксендз шепеляво прочитает литанию
и опустит все эпизоды, в которых должен вступать хор
иногда перед сном я думаю так:
«господи, я знаю о таких местах, где полки маршируют под чужие марши
а на колядки принято кричать и царапать себе лицо
мне приятен звук стрелы, который она издает, когда я вынимаю ее из крыла перепелки
а ночью мне слышно, как в подземных реках рождаются кроты и медведки
часто я грущу оттого, что зеркала не звенят, когда в них отражается солнце
и я очень хотел бы вспомнить, что за колыбельную бубнила мне бабка
когда мать уходила на ночное дежурство, а отец – охранять дом»
но для меня остается пока непонятным, как должна зазвучать наша музыка
если смысл всех наших гимнов, наших псалмов и наших походных песен
можно уместить в простом перегляде, кивке или ударе кулаком
а еще как сочинить нам такую мелодию, что заменила бы клич
которым мы встречаем друг друга, когда ходим по Юрия
а затем напиваемся и засыпаем в жите
***
мы с моим друзьями всегда помнили наизусть тот эпизод из мультфильма
который однажды показали по телевизору после калыханки
поэтому когда на горизонте за окном показался белый лев и проглотил звездочку
я сразу все понял: сердце, оставляя в груди впадину, в которой могло бы расположиться стадо
считало шаги на Юг – его потом мне принесут в качестве пленника – туда, где зияла дверь
я же, проигрывая в голове песенку с мнемоническими приемами для запоминания
(помнить о речах, примечать уровень шума, не совать руки в карманы)
спустился вниз, покинув подъезд с горящими лестницами, и вышел на улицу
свернувшуюся до размеров наперстка
в окнах домов было пусто – приближалась ночь, хотя кому бы пришло в голову спать этой ночью
ведь даже дети, прыгая из форточек и прижав к груди своих питомцев
соревновались в том, кто первее из них приземлится на землю
от тяжести небо болело, а моря выбрасывали на берега янтарь
позже из-за избытка его раствор нам будут давать перед принятием новой присяги
и хоть суставы мои ломались, а пальцы оказались исколоты
несмотря на то, что земля подо мной не то плавилась, не то превращалась в студень
я дополз по направлению к тем, кого впервые в жизни я сам признал за своих
там мне сразу же помогли подняться, и в их глазах я увидел то
что только единожды приметил во взгляде ксендза, преподававшего бежмование
хромоножке в катакомбе кальварийского кладбища
так мы вместе стояли, и мы были травой
которую срезают голубым серпом за старикашку-луну, а потом подносят усталым роженицам
сейчас я пишу это как свидетель самого главного горения
самого большого выделения
и самого справедливого гниения
потому что мой долг – свидетельствовать против зла словом и делом, а в ту ночь, о которой пишу
слово на глазах претворялось в спицу колеса, последнего, что продолжало еще совершать обороты
а дело – так делами уже успели озаботиться до меня
иначе не слышать бы мне сейчас колоколов, возвещающих о прорыве в дамбе и скором потопе
но дамбу подорвали наши
поэтому утонуть нам – все равно, что принять бежмование.
Слава Кмит. Руки сами диктуют слова (перевод с беларуского Улада Клавкина)
ПИСЬМО ПОЛ ПОТА В КОТОРОМ ОН ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ НЕИЗВЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЕ
перевод с кхмерского языка слава кмит
я чувствую себя нормально
и даже не думаю на что-то
жаловаться
как палка
из под которой
я каждое утро
встаю с кровати
не может воспринимать себя классом
так и я не могу сказать
почему отсутствие денег в казне
беспокоит меня меньше
чем твое присутствие
рядом со мной
помада на твоем лице
это лента на флаге
слава богу
для нас общем
слушать твой голос
кстати очень приятный
только слегка грубоватый
это пережить
два миллиарда
экзистенциальных ситуаций
а то и больше
ты необходимость
с которой я не знаю
как считаться
я не помню дня
когда вдруг почувствовал
только знаю что
это не стоит того
чтобы об этом думать
это меня не устраивает
и я смело могу сказать
что мечтал о большем
ты вероятно тоже
твое имя
единственный знак лишенный
естественной полисемии
я лучше задохнусь
чем пойму
что происходит
может быть снова
я обманываю себя
чтобы привлечь
к себе внимание
я не удивлюсь
и все кто меня знают
тоже
хорошо что мы с тобой
так мало знакомы
да здравствует свободная камбоджа
THIS GAME HAS NO NAME
слова которые были
не единожды написаны
как бенгалия или
беларусь или
основание для возрождения
нехватка денег на газ
вызывает нехватку отопления
стоп машина дальше не едь
чтоб как-то жить ты
мусор на лестнице
поминки в подъезде
конец настал неожиданно
shame on you шклов
швом железа по стеклу
обхват земли наибольший
из возможных числительное
для бедных имена
собственные одинокий один
и мы его собственность
если перевести
по большому счету
в банке на турецком кипре
который никто не признает ведь
с чего это вовсе ему быть турецким
причастность к мусульманскому
миру
не выбирают если есть идеи получше
но поехавшим нравится не осуждаю
разве что только чуть-чуть
чтоб и федор шаляпин и максим горький
поехали на велике в горки где
их заждались калиновцы
наполеон и его ребята
россия не орды
и не наполеон орда
и не новый ордунг
джордж оруэлл идет
в макдональдс и
на тихом ростове на well done
не знаю потому что не ем мяса
кроме своего или свойственного
ибо я человек следовательно думаю
что ничто человеческое
мне не чуждо и
никто мне не волк и сам черт
не братский народ
в христианских локациях рая и
ада постколониальный синдром
ибо известно что там
говорят на языке каннада
а не как в канаде где даже
французский решили забыть
зато там рада бнр и ивонка сурвилла
крутое имя для порно-актрисы но
она никому не сделала плохого поэтому ее
предлагаю не отменять как и всех
наших и неважно где мы всегда
ведем себя нормально только
в наших условиях про культуру сложно
говорить непросто объяснить
неможно сказать этнический секрет
уникальная практика жидомасон
и белорус это чаще всего
один человек от которого
некуда деться согласно с
господствующим мнением насчет
вероопределения и самоопределения
которое принято формулировать
следующим образом
я часть той силы
что хочет благого
и против зла
не очень фундаментально
но и я и мы это принимаем
я например слышал что гете
встречался со страшной и
толстой теткой
фэтшейминг в отношении
льва толстого и алексея и
его дочери она живет в
америке вместе с крис эванс
и академиком сахаровым
в солевой академии
держат ложку на пульсе
убейте меня
РАЛЬФ ЛОРАН И ДРУГОЙ
луи виттон приветствует
кристиана диора
под звездным небом
потому что черная роза эмблема
проблем
а белая роза способна
предсказать перемены
а мы можем
помешать им
мы совершенно точно можем
будь вместе с нами
товарищ без лица
трупом товаром
кем угодно только
не генералом
МУХАММЕДУ АЛИ
впереди облава
как борьба
между аналитиками
и континенталами
то есть между
гомосексуалами
и почитателями
романов
которые не способны
воспроизвести ничего
пооригинальнее
чем очередную
интерпретацию лакана
постпанк просто сейчас
курение сигарет
вызывает импотенцию
то есть отсутствие япета
бледная перспектива
если честно
такие люди и придумывают
вещи вроде
культурных автономий
и кровавых режимов
ТОМИ ХЕЛФИГЕР И Я
1.
приказ запас
на нас и на вас
и на них
больных босых
смешных и
передо мной
встал потолок
сам нагадал
что желал
не промахнулся
зазря
дешёвый удар
хозяин упрям
сумрак бога
радио свобода
кавказ намаз
о нас о вас
о себе
йе-йе
2.
чаусы
ноч
очереди к могилам
за пивом
лес
день
нет ничего
тень
трясина
силезия
вечер
никто не вечен
печи
день
вот я
ожидаю суда
3.
поппер помер
а маркс поехал на донбасс
байден переехал в хайден
через баден-баден
стой
не падай
с той
мыслью
мы едем быстро
мы маршрутка
самому гадко
обидно пусто
распутство
много кушай
гости деды
мы не смогли
4.
ты мне нравишься
давай поиграемся
в американские доллары
или в бондарей
а можем вообразить что мы в тюрьме
я надеюсь мы станем тиранами
5.
натянувший маску эсхил
был прикончен орлом
ну и не страшно его
все равно никто не любил
я про первого
но так может случиться с любым
поэтому нужно остерегаться
и не ходить пешком
жизнь это издевательство
и нужно сидеть по домам
жизнь это ив сен лоран
и мы в ней скинхед
6.
дмитрий строцев
молчал
со стороны за ним наблюдал
милан кундера
происходило это
ночью в лесото
но очевидно
ничего не было видно
поэтому ничего
я не запомнил
7.
то что свойственно мне
необязательно является необходимостью
если приглядеться
то можно заметить
как руки сами диктуют слова
поэтому речи на площади
уже никого не удивляют
потому что руки есть у всех
кроме тех у кого их нет
8.
realpolitik по-беларуски
слава богу что я живу тут
где туалеты в воинских частях
не разграничены по половому признаку
ведь в армии кроме войны ничего
женского нет
только отряд родина
но про него все равно все забыли
9.
на фонтане
равноправно
в зелёных кофтах
стоят пять бутылок водки
они за маркеса
полетят на марс
там восстал
таджикистан
как то так
10.
признаки жизни
были подтверждены свидетелями
теми что проходят мимо
ради христа
или просто так
всё одно
все равны
я лучше тут среди пыли
чем в море
где дельфины
11.
доктор мартинз
и мартин хайдеггер
это две стороны
жизни семьи
что ни говори
можем повторить
Проснуться это главная часть во сне (автопереводы с беларуского и стихотворения на русском языке)
***
последнее упоминание
о брате бабушки
в её дневнике
это белые белые яблони
рядом с которыми их сфотографировали
за год до его призыва
на великую
на мировую
он не вернулся
попал в «котёл»
не выбрался
остались
имя
фотокарточки
справки о бесконечных поисках
и вечно белый яблоневый цвет
бабушке уже за восемьдесят
мы вместе теряем память
про тех, кто нас покинул
автоперевод с белорусского языка
В ВЫБОРЕ МЕЖДУ ЭКОЛОГИЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ТРАНСПОРТОМ
знаешь, я всегда мечтала
каждый день кататься на трамвае
это иррациональная любовь
области наших жизней одинаково бедные
отсутствием этого экологичного транспорта
но он точно не из последних
кто держит меня в этом городе
на этой земле
а ты не держи
держись за поручни
если и есть у вас с трамваем что-то общее
то только равнодушие
ко мне
автоперевод с белорусского языка
***
как пишутся стихи про любовь за ее отсутствием
как обсуждаются книги не будучи раза открытыми
как рисование карандашом при наличии масла
так и потребность в тебе на моём пути
нужно было чтоб ты появился
нужно было чтоб после уйти
ведь как попрощаться поэту иначе чем текстом
как разойтись если вы не встречались
не говорили и друг друга в глаза не узнали бы
это сон и я просыпаюсь
просыпаюсь другой
просыпаюсь деревом
начинаюсь корнем и веткой заканчиваюсь
мне бы быть собой
но я во сне
я не могу себя схватить за корни за ветки за мысли
привести к общему знаку «делить»
никогда не встречались и как следствие не расстанемся
«делить» на «delete»
утренний кофе
я не помню кто я на самом деле
проснуться это главная часть во сне
автоперевод с белорусского языка
ПАРК ПАВЛОВА
кто такой этот гребаный Павлов
когда встретите передайте
он сломал мою жизнь
когда-то
отвлеченно влюбленный
держал за руку и усмехался
теперь этот Павлов
несущественен как идея
концептуально мёртвый
пусть и только с моей стороны
осколки стекла, шприцы
и нисколько романтики
мне страшно прикасаться к его деревьям
мне страшно блуждать по его кривым дорожкам
я знаю они видели всё
до последнего
не было слёз
отвращение и обиды
которые со временем превратились
в стабильное раздражение
переработка воспоминаний дает выход
передайте Павлову
если можно
если увидите
я принимаю его
таким какой он есть
но вернуться было бы слишком
автоперевод с белорусского языка
ФИОЛЕТОВЫЕ ЛЕБЕДИ
во дворах люди
костры
шепот
(слили… слили... слили…)
в последний раз они знали и ведали:
президент с мозговой опухолью
вчера президент
сегодня патриарх силовых структур
администрация президента
поднимающийся вертолет патриарха
и парламентское втирание
не смеют просверлить
умных благородных и благодарных
позвольте, я продолжу?
в первую очередь новая элита и закон
полёт делает человека свободней
по умолчанию
не понял?
необходимо срочно обеспечить солнце и мир
все зенитные комплексы и запустить в них
***
старые добрые дяденьки-нумизматы
не знали что мы поверхностные дураки
на которых влияет мода
они думали мы ценим их коллекции
занимаемся сами таким
а мы дураки
как они
их сокровища расфасованы по пакетикам как дозы
мимо проходят пары, семьи, одинокие и калеки
а они сидят с досками и пакетиками
не хотите посмотреть на значки??
конечно хотим как вы угадали
хорошо, радуется дяденька нумизмат
сегодня его единственными собеседниками
были те кто искал в нем собутыльника
но мы же не такие
мы дураки которые повелись на моду на ностальгию
по временам когда нас тут ещё не было
но были родители наших родителей
только Ленин
значков со Сталиным нет
говорит дяденька-нумизмат
и слава богу отвечаем мы
нету значков со Сталиным
нет и страны
есть значки юбилейные
они подороже
есть монетки с «погоней»
их не светите
битые?
благослови вас бог.
берите и уходите
Игнат Налбандян. Не ангел с небес (перевод с беларуского Виктории Трифоновой)
***
давай наперегонки
вдвоём
успеем добежать до заката солнца
только не дорогой
заасфальтированной пунктами из закона
о правилах орфографии и пунктуации от 23 июля 2008 года
а той старой тропинкой
мощёной классической мозаикой тарашкевицы [1]
которой нет на сегодняшних картах школьных учебников
там за горизонтом
зажжём огонёк фонарика
остановившись
и свежий букет цветочной мягкости
а не подделку из ассимиляции
которая при этом не передается на письме
я подарю тебе с надлежащей интонацией
между реальных полей мовы не имеющих аналогии
с нежностью поцелую избавившись от заимствования
и утратив твёрдость подстрочного перевода
что-то тебе прошепчу
17 октября, 2017
***
Г.Б.
сумерки
убаюкивают уездный городок
твоя двушка
слепыми глазами
уставилась на стадион
будничность на просвет
ты в ней – чёрный силуэт за решёткой окон
а случайный прохожий – смотритель
поэтому свет за день
зажигается только снаружи
на дорожных фонарных столбах
и то после девяти
и то через один
и то не для местных
ведь тебе тут знакомо всё
где лучшее место чтоб искупаться
в каком магазине твои любимые сигареты
и какими улочками дойти босиком до дома
не напоровшись на стекло
но еженочно
ты наощупь запускаешь руку
во все банки и ёмкости
в поисках сахара
и в этом сигаретном тумане
ты ежечасно отправляешься в трусах
по маршруту эконом-класса
Кухня-Балкон
размешивая соль
с засохшими чаинками в кофе
ложечкой
которая бьётся о стенки стакана
как одинокая птица
в клетке
16-20 июля, 2021
Ерхи-Минск
***
письмо за письмом
тонет в реке моей
болтаю ногами взбивая её до пены
чтоб ни одно воспоминание не осело на дно
но нет в этом ворохе суховея
места для новых соцветий
вот
за щиколотку зацепился
прошлогодний лепесток кувшинки
и рогоза початок хрустнул под пяткой
…скверный улов на сегодня
шепчу встречным рыбакам
3 октября, 2021
***
в ночном скрежетаньи
последних трамваев
спешащих домой
слышится что-то похожее
словно пытаются по голосу
найти один одного
вот и я всматриваюсь
в каждое встречное окно
с надеждой узнать себя
в любом полусонном пассажире
будто себя самого
мне уже мало
23 октября, 2021
AVE
моей маме
это было не двадцать пятого
не шестого и не седьмого
спокойствие заснеженного городка
пронзил резкий гул сирены
навряд ли жители спальных районов
сквозь сон ощутили в этом благую весть
и не пастушки прибежали на твои стоны
а несколько медичек
и не хлев это был
а палата реанимации
…а после – тишина
и ты совсем одна на целом свете
и не ангел с небес
а повитуха
под утро обвестила
вітай, Матуля, поўная ласкі, Пан з Табою,
благаслаўлёная Ты між жанчынамі,
і благаслаўлёны плод улоньня Твайго,
Сынку [2]
январь, 2022
[1] Тарашкевица – вариант орфографии белорусского языка, основанный на литературной норме современного белорусского языка, первая нормализация которого была сделана в 1918 году. С 1933 года приобрела статус неофициальной и неформально использовалась в Беларуси и белорусской диаспорой за рубежом;
[2] Аналогия на католическую молитву Ave Maria
Фрыдрых Самотны. Страшное место М. (перевод с беларуского Виктории Трифоновой)
***
Полночные радости
Сидеть за кафелем
Шлёпать зубами
Празднословить и нежиться
Жизнь насекомых
Такая короткая
И небезопасная
Сидеть за кафелем
Лежать за свёртком
Пить чернила
Обниматься
Колупаться в пространстве
Не останавливаться
Ведь такая короткая
Жизнь насекомая
Извне незаметная
И из-под одеяла
Невидно признательная
Я тебе
Починю
Твой уставший утюг
Твою папарать-кветку завявшую
Зажимаю ладонями
Прикасаюсь к ней пальцами
Целую, люблю
За холодильником
За холодильником
С тобою встречаемся
Наши жизни сплывают
Такие короткие
Стекая пальцами
Таем и прячемся
Под покровом ночи
Под покрывалом
ГЛАВНОЕ
Вот и я.
Прости, что не заходил.
Для меня ты была
Слишком вербальной.
На сегодняшнем празднике
Главная ты,
Но говорят остальные.
Те, кому хватает духа.
Ты же замолкла.
Точнее, наоборот,
высказалась сполна,
Слишком громко и
Теперь должна брать паузу.
Это не страшно.
Главное –
Мы все тебя любим.
И помним.
КАМЕНЬ
в своей сумке
ношу камень
хоть тяжеловато
ношу упрямо
до случая
вдруг пригодится
ношу с собой
камень за пазухой
фигу в кармане
пять десять
больше имею
ношу с собой
повсюду
ночью и днём
на душе
камень тяжелый
толкает
ищет выход
случая
выйти
свалиться
освободить
душу
от тяжести
а еще
в кармане
нож у
меня
я сыт враньём
мне мешает
***
Страшное место Комары [1]
Там каждая бабка
В своей стихии
И ей мешаешь персонально ты –
Неопытный нездешний взгляд
Ты без огромной сумки
Тебя сразу видно
Ты выперся на их территорию
Занимаешь место
Лучше убегай быстрее
В парк или библиотеку
Там не встретишь
Ни одной из них
Страшное место администрация
Там каждая рожа
В своём кабинете
И ей мешаешь персонально ты –
Пришел не в пиджаке
Неопытный нездешний взгляд
Тебя сразу видно
Ты выперся на их территорию
Занимаешь их время, место
Вдыхаешь их воздух
Лучше убегай быстрей
В свою никчемную квартиру
Сам решай свои проблемы
Ты другой породы
Не их
Страшное место больница
Там каждый белый халат
У себя дома
Ему мешаешь персонально ты –
Принес в их жизнь проблемы
Своим неопытным нездешним телом
Поедь-ка ты уже
башкой назад
И будет меньше всем пустой работы
Кроме, разве, патологоанатома
Кто и будет
Последним из них
Страшно жить в городе
Постоянно попадать
Из одного страшного места
В другое страшное место
Нет людей страшнее соседей
Но ты не побывал
Никем из них
Нет места приятнее чем кладбище
Там точно все свои
Там лично примет матушка-земля
И с уваженьем обглодают червяки
Страшное место роддом
Ты снова всех раздражаешь
Сукина дочь
Сукин сын
ГОРОД
Городом быть нетрудно
Нужно снести дома, деревья
Лес и поле
Поставить дороги, высотки, фонтаны
Нужен разный транспорт и работа
Магазин, поликлиника, школа
Еще того-сего побольше
Канализация и свалка
И кладбище конечно
При желаньи каждый
Найдёт себе местечко
Нужный этаж и окна
И рядом человека
Собачку, может кошку
Или паучка
***
Каменная горка [2]
Каменное хлебало
Не забудь натянуть
Перед тем, как откроются двери
Дежурная маска
Для общественных мест
Декларирует и утверждает
Серьезность намерений
Наличие позиции
Моральной или какой
И чтоб не стреляли
Монет, сигарет
У серьезного человека
Бесприципные слизняки
Но все равно стреляют
Каменные яйца
Должен иметь если мужик
А тем более если баба
Держать слово ответ удар
Получить дубинкой
Рассчитаться за штраф
За безупречно оказанные услуги
По упаковке транспортировке
Каменными ребятами
Им проще быть каменными
Продержаться б до сорока пяти
А не до неизвестно когда, как другим
Еще и тренируют
Каменность
Всех частей тела
Вот это ребята по профилю – это не ты
Только хлебальник каменный
Всё, что ты можешь
И то не всегда
В стране из камня
Глупость быть мягкотелым
Родился раз мягким
Расти каменные яйца
Расти каменную задницу
И не ной о потерях
Того-сего человечного
В другой стране
Будешь человечным
Тут не выпендривайся
Ты нужен каменным
С каменным хлебальником
Каменными руками-ногами для всякой работы
Ушами для каменной музыки
Языком для каменных слов и вкусов
И дети твои должны рождаться каменными
Сразу. Чтоб не мешать
Строить город солнца
Для строительства не подходят
Мягкие материалы
Это знает любой дурак
Не будь дураком
Каменным быть будь готов!
Всегда готов!
[1] Комаровка, Комаровский рынок – главный продовольственный рынок Минска;
[2] Каменная горка – спальный район в Минске
Виктя Вдовина. Море Геродота (автопереводы и переводы с беларуского Дани Соболевой)
ЗУБ [1]
В память Лены Павловой
Мы все зубриное говно, втоптанное в прах
– Вальжына Морт
I
ёлковая шёрстка – вычесанная озимь зубралосья
гульба гульба по чёрной дороге
mom I’m home
так говорили американцы
30 апреля 75
неделю спустя рождения моей мамули
болото в снегу
если идёшь, то уже нельзя останавливаться
потому что если остановишься – багна затянет
прибежали четверо в чёрном
они бежали перекрестком дорог наискось
младенцу известно что так делать нельзя
потому что в центре уцепится чёрт
влезет на спину
мужчины украли мою трясину
это болотный рэкет
и выпал угольный снег
задеревенелые мизинцы
теряют донышки туесков
там дрожащие рёбра мальчишеские
хрупают под кривыми каблуками драных черевиков
во мраке задухотья мракобесно блестят волосы Иоканаана
открой глаза свои, Иоканаан, посмотри на меня
пусть твои ресницы взметнутся
тысячами сот голубок с распалённых хрупким солнцем
московских кровель
пусть твои виски смягчатся
леверной сунностью кровавой луны
которую видел исландский мальчик, когда к его длинным волосам привязывали палку
чтобы подвесить голову – ловчее будет рубить топором шею
забери меня в своё подкрылье из кровавого
зубоперья
Иоканаан
нет, я не буду танцевать, Ирод,
я не из Ирландии, я из Минска
я не осмелюсь дотронуться
до твоей брови, пророк
ангел пустыни, ангел вопля
ангел болота.
трясина Сахара с кочками из Сфинксов
теперь там крысы растащили суздальский кремль
установи свою томность на крыше избы
там повесься
и отстань от меня, отстань от меня
лучше расскажи своей маме, чем ты там занимался
II
вернувшись домой с таганки
выбриваю тонзуру ножичком
черчу абрикосы на Фудзи
облачаюсь в белое
теперь Бог как абрикосовая косточка
а лысина – мандорла,
в которой образуется порог Днепра
– нетварный лик
дальше скользит перочин по темпере
внизу его ждёт
разрушенный серпуховский кремль
болезнь самурая
чужой ребёнок
тупоугольные белые лепестки в которых светятся глаза Ханзена-Лёве
билингвизм – это гермафродитичная собака
это язык рассеченный ножичком
между полуязычиями
желтая река в которую прыгнул чанг
после случая морской болезни
цвіль цвіль цвіль
ее тоже надо бы срезать ножичком
если решусь поиграть в демиурга.
где безымянная дочь, Hideous Damsel?
она плачет – и, кажется, хочет наложить на себя руки
пусть теперь ее увезёт
желто-коричневый мул:
его зарежет по дороге
Прекрасноволосый и Трудный,
потому что настали последние времена.
из какой части тела первым появится очиток?
в любом случае я уже буду знать, что с ним делать
III
Прах и порох были когда-то одним словом
– Из лекции Анны Литвиной
Выстрел из колумбария – рабочие гробовщики втроём
бьются бокалами;
один из них, самый вдохновлённый пряталками,
ползёт сквозь щебет похорон
и мотает хвостом своим как налибокской сосной
и зыбью идут ноги его как шляхетские копья
и гугнит костями своими как пепел печных устий
и чулан костей стискает в зубах и говорит:
«Необходима ли помощь вашей могилке?»
я точно знаю, что он и земля
этого кладбища занимаются любовью
внезапно разбуженный шмель
непоседливо жалуется на вещный цвенок ветов
я хочу думать что это ты
я хорошо выучила курс мифологии
и отлично сдала экзамен на мифологическое мышление
поэтому этот шмель это ты
эни бэни раба
мене текел жаба
майолика [2] жальни
пока бурлаки с молочными зубками
тянули утопленника на берег
ты убежала из классной комнатки, нарисованной на
свёртке конфеток
там было еще великое древо эх
и на велосипедах солдататики
ты убежала а мы остались читать анапесты
пусть бы больше не было анапестов!
я испугалась того шмеля
что ты теперь думаешь обо мне?
в детстве я чуть не умерла
в шмелиной купине
теперь ты больше не скажешь мне вить
свои смугляные гнёзда?
что ты теперь думаешь обо мне?
я не могу любить человека
без верхних резцов
(каждая челюсть имеет четыре, всего восемь)
теперь ты больше не скажешь мне вить
барочные обои старообрядцев?
вить вить вить
как так жить что творить
шмель отлетел
на гревскую площадь
где осколки артерий
осужденных государством на смерть
были настоящим цвенком ветов
у всех лучших людей из моей семьи
орлиные носы
только бедолаги как я
с носом-картошкой
широким как зубриный
да к тому ж ещё и католики
я точно на той стороне семьи
где никому не советовала б быть
теперь ты знаешь это
[1] р
[2] итальянская глазурованная керамика
ВЕРТОГРАД СРЕБРОСЛОВНЫЙ
Я боюсь смотреть на аистов сегодня. Их прилетело так много этой
весной. Я боюсь на них смотреть, потому что знаю, что они из Украины
– Моя бабушка Зоя
олаф святой [1] стоял по колено во фьорде
и читал свою вису
про то как сбежала жена в землю городов
и самый главный из них – киев
у жены там незнакомский ребёнок
и мой подарок: пластинка Змитра Войтюшкевича [2]
олаф послал ей по дороге из варяг в греки
кузнечика и пергамен
чтобы она съела одного и написала про это на другом
я дослал ей апельсин и свой блокнот
но волнуюсь чтоб апельсин не заплесневел
апельсинный маршрут составлялся на поезде «Минск-Беларусь».
Далеко не доедешь – разве до станции «Красный флаг»
но флагов там нет
Далее на запад – пункт Раков.
Маркитанты везут контрабанду, девушки пьют балтийский коктейль.
Аптекарь-ведьмарь выдаёт листок на листочки от всяческой болезни.
Васильки, которые там растут,
осветляют изломанные волны розы ветров на стене костёла
здесь только перекладные для пинской шляхты и
итальянских беженцев
Компас-василёк
Ширим радиус
На севере Витебск. Там первые трамваи разукрасил Шагал
кичливые витебчане говорят: «Это революционное искусство.
Когда-нибудь и мы это постигнем».
На востоке Могилёв. Там дед везёт меня в зоопарк и пока я сижу среди диких уток
Он пьёт с друзьями-ликвидаторами, которые, разумеется, ликвидируют неустанно.
На юге Полесье. Там моя бабуля говорит на полностью несуществующем языке, стоя на речных качелях
Некогда мы с матерью ехали через поле подсолнухов
Это была дорога через Флоренцию во Львов
Это было так давно
Я не знаю остались ли эти подсолнухи
Но когда я была маленькая, я уверена,
Что вся Европа
«От Галисии до Галиции» [3] – как говорит моя бабуля
Позаросла подсолнухами
каждый раз при попытке оказаться в земле городов
я попадаю в землю песен
[1] Олаф II Святой – норвежский король XI-го века;
[2] Дмитрий Войтюшкевич – беларуский рок-музыкант;
[3] Галисия – самая западная область Испании; Галиция – земли Галицкого княжества Руси, сегодня принадлежащие Украине и Польше.
ДОКУЧНАЯ СКАЗКА
Я родился в Городе Солнца
– Артур Клинов
Три матери собирали сына в дорогу
И каждая так говорила
Ты иди на северочек
Ты пойди чуть севернее
А ты на крайний север
– там девушки прибралися –
Да их батька вернулся
И распеленал
Что осталось лежать
В братской могиле
Кроме
1. Рожок-изобилия
2. Крестик 3 шт.
3. Косточка к косточке косточка к косточке
И ещё ноги археолога
Обрезанные на фото
Потом прилетела птица
У птицы с перьев капала кровь
И там где падала капля
Восставал один красный костёл
Сквозь ворота костёла
Ехала машина
Каждый пассажир имел цель
выучить как можно больше костей
С раннего утра они собирали вещи
На полночь
По направлению на самый север
Через более северный тракт
Клод Руайе-Журну. Понятие препятствия (перевод с французского Кирилла Корчагина)
«Флаги» продолжают публиковать «Тетралогию» французского поэта, переводчика, эссеиста и издателя Клода Руайе-Журну. В тринадцатом номере журнала – вторая из четырёх поэтических книг «Тетралогии» в переводе Кирилла Корчагина. Прочесть предисловие переводчика ко всей серии публикаций «Тетралогии» вы можете в двенадцатом номере журнала.
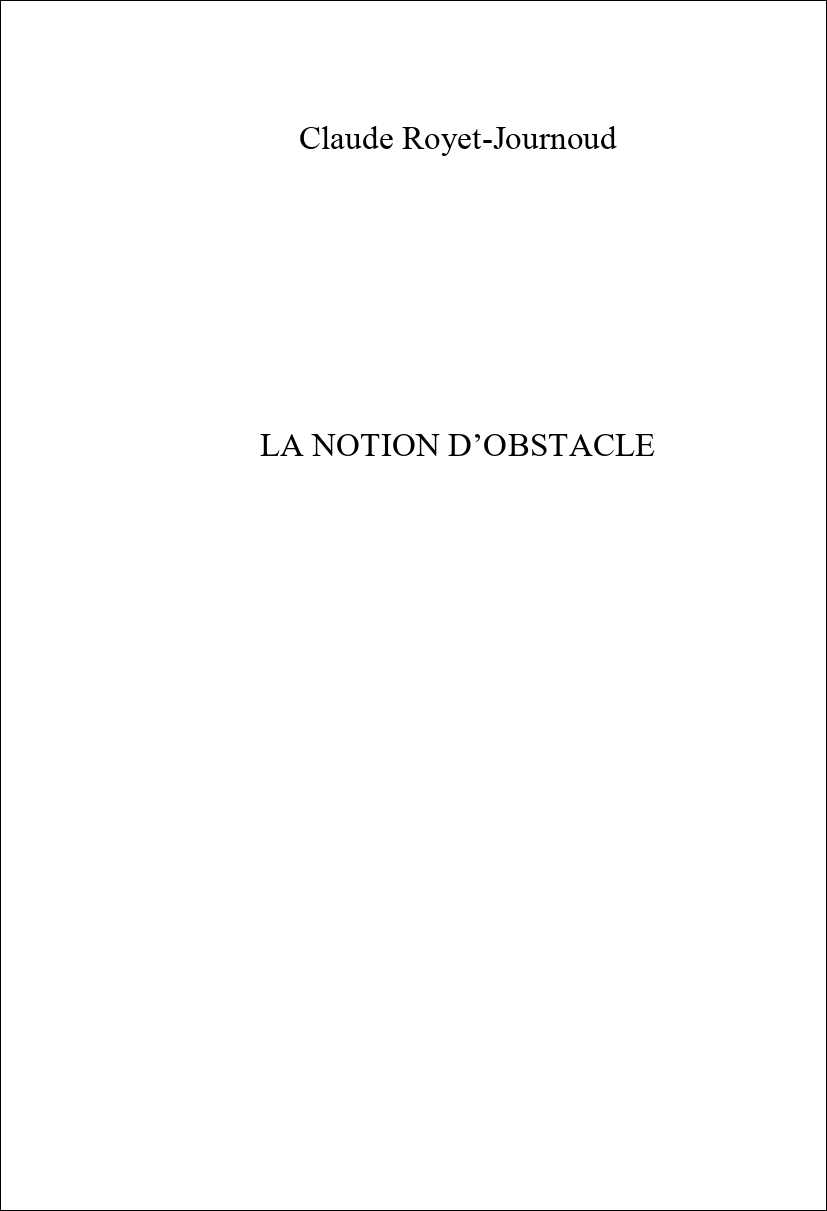
.png)
.png)
.png)
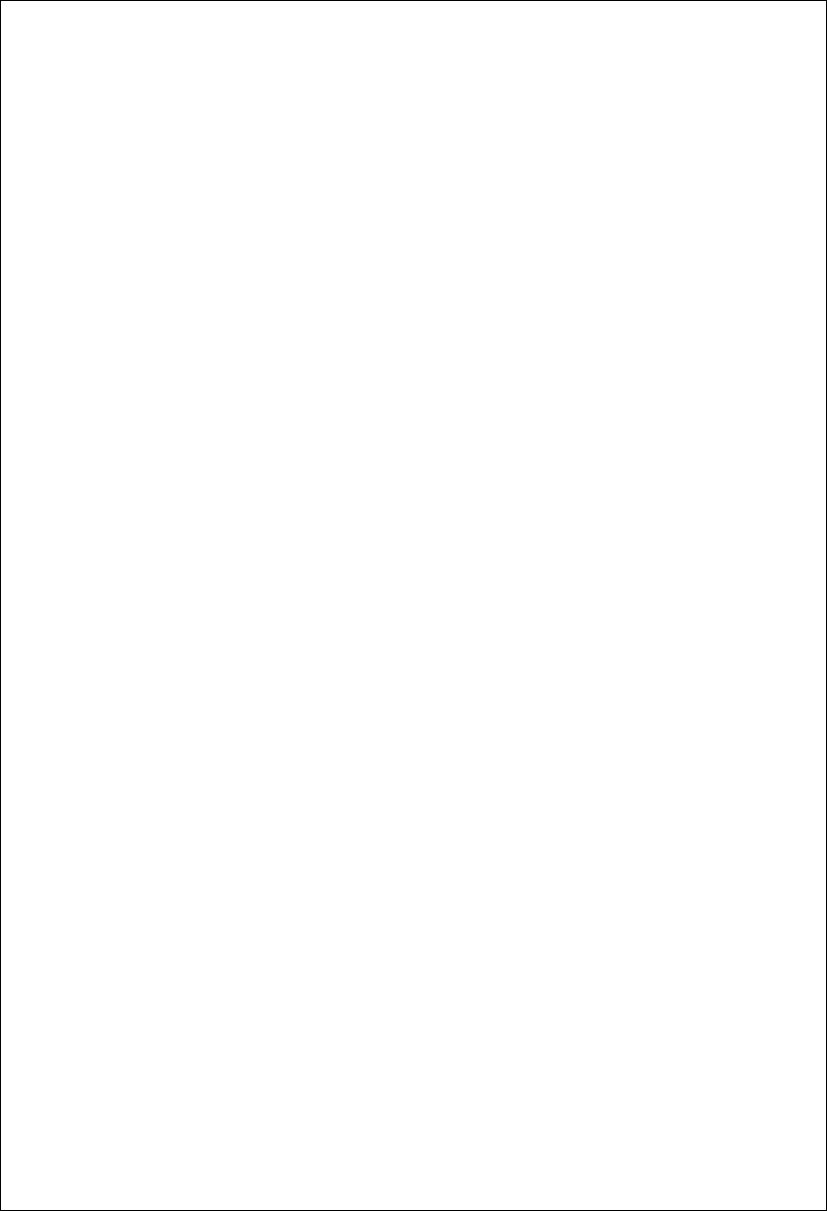
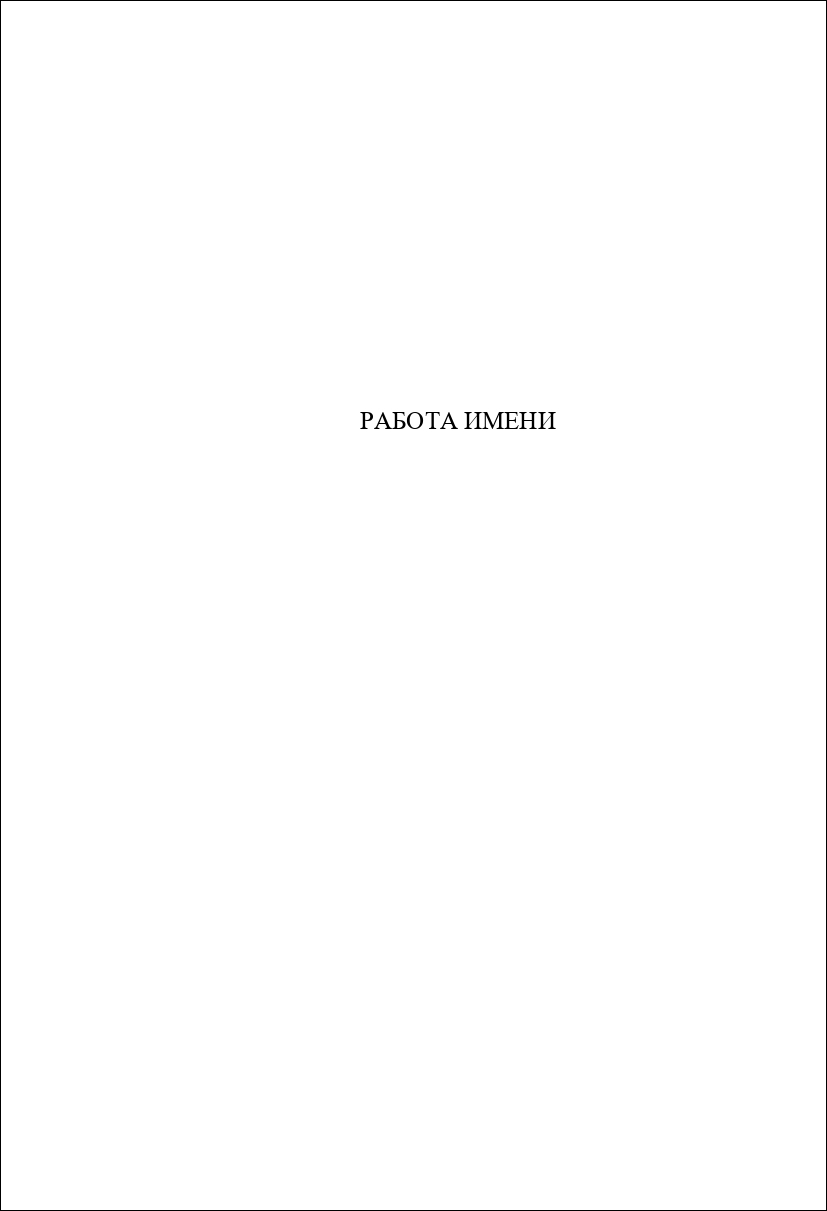
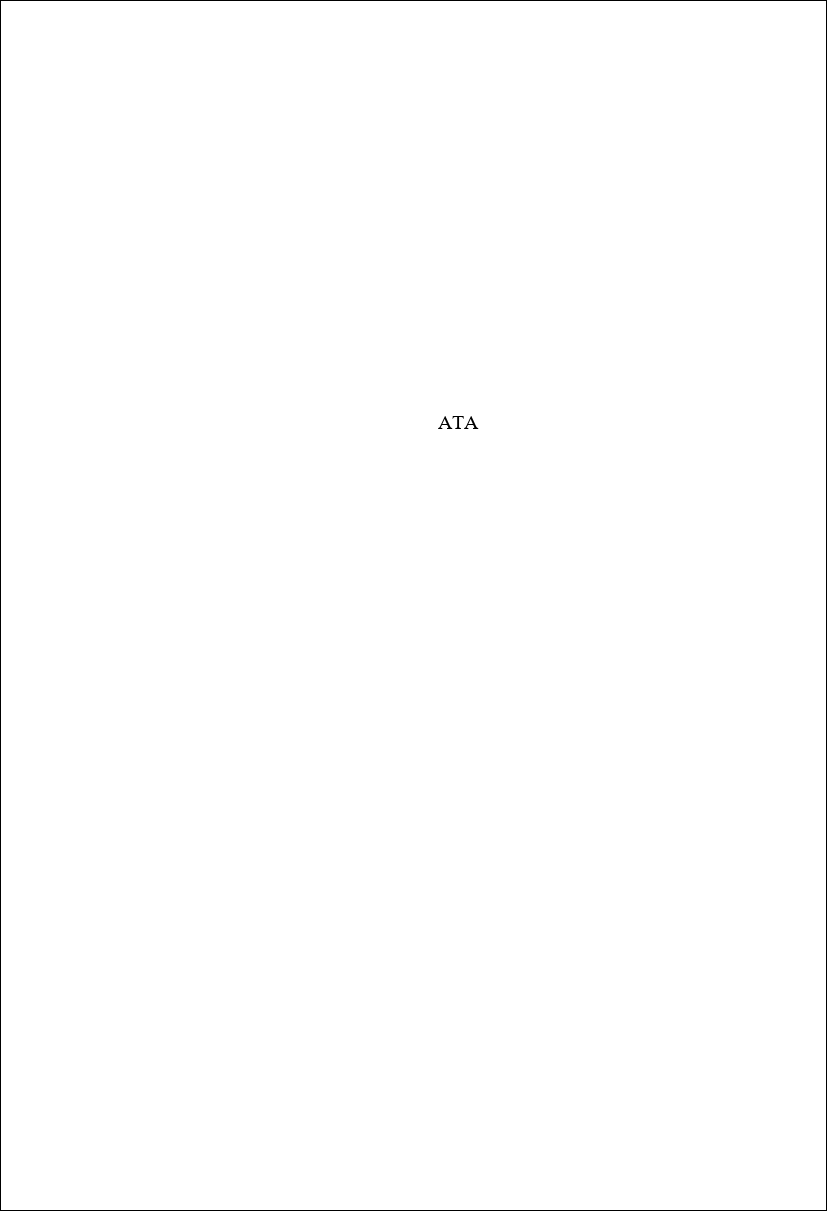
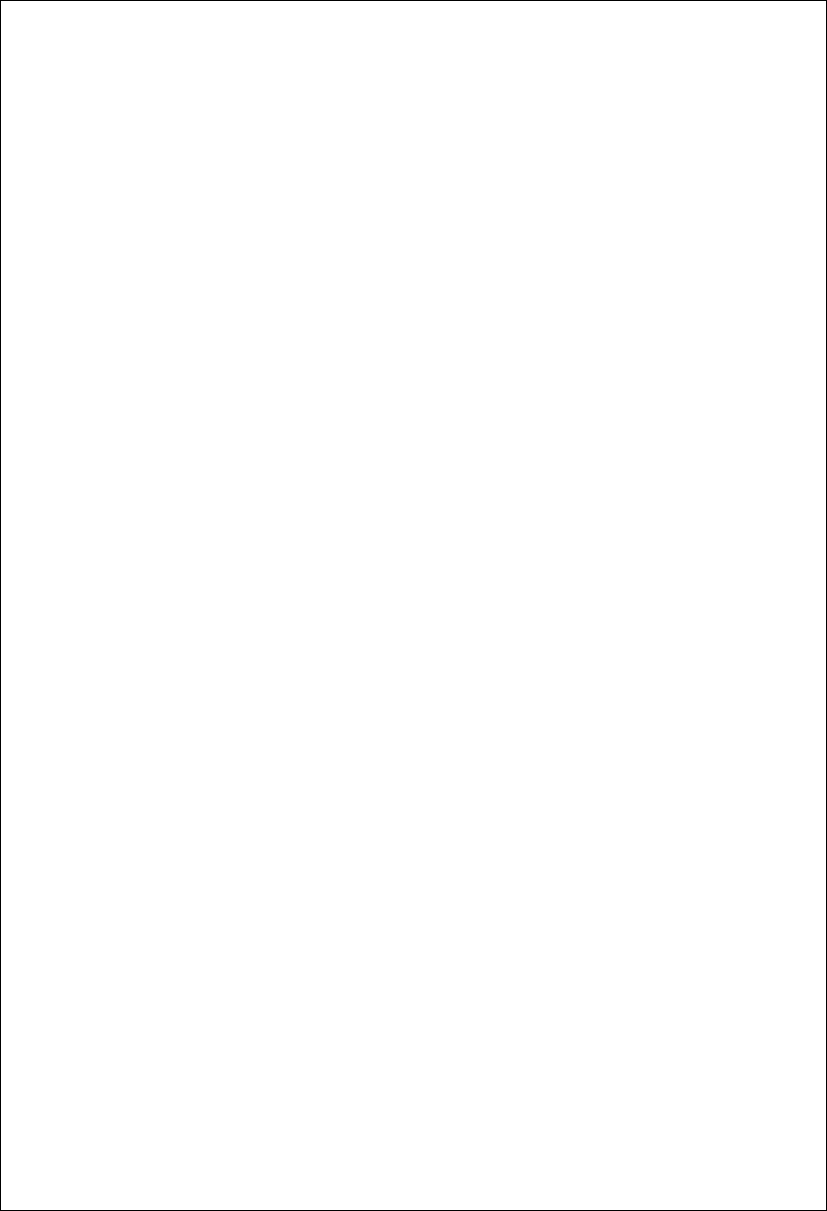
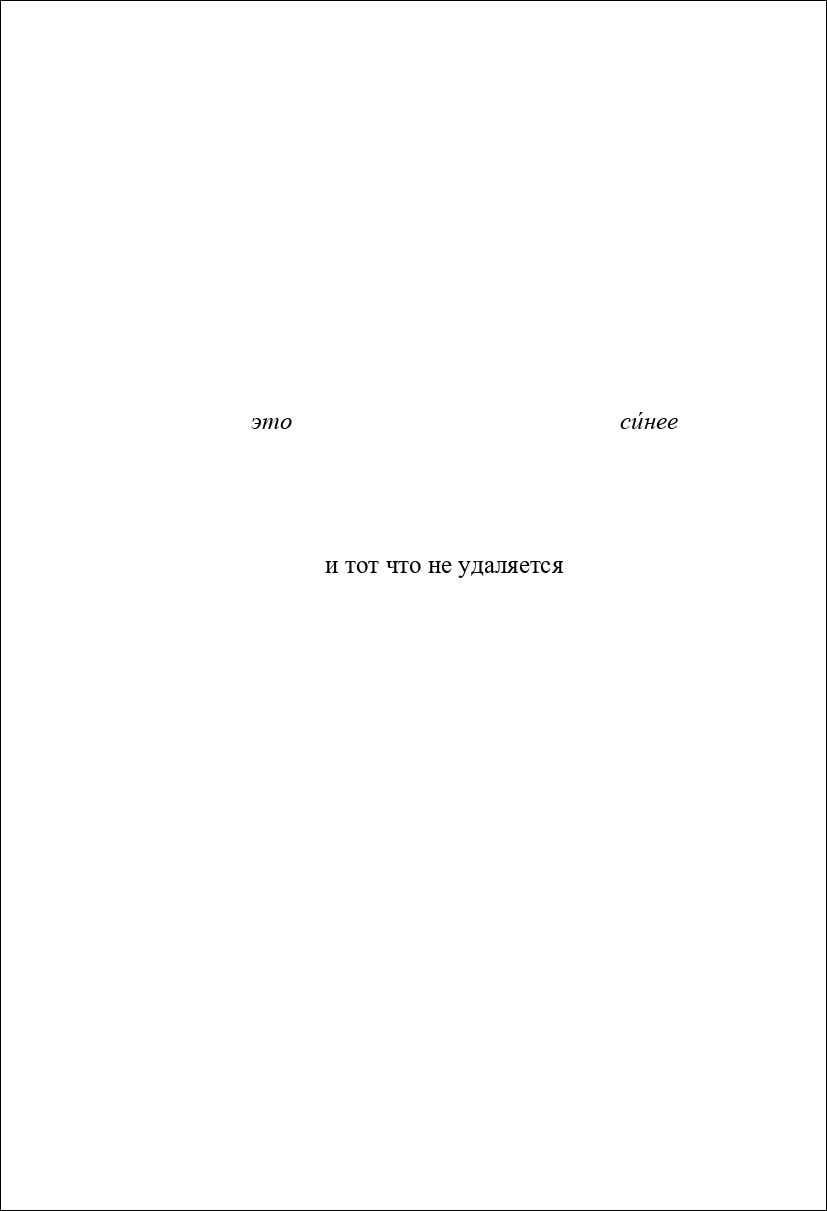
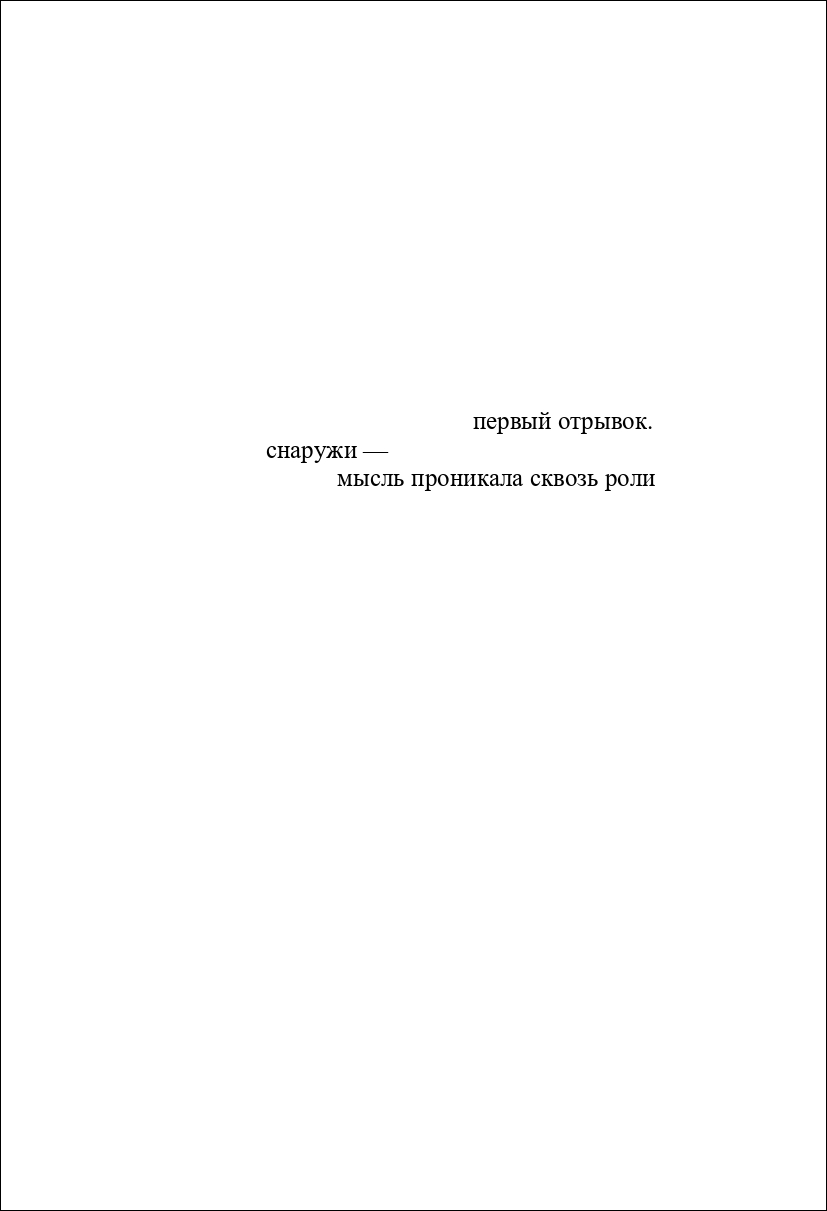



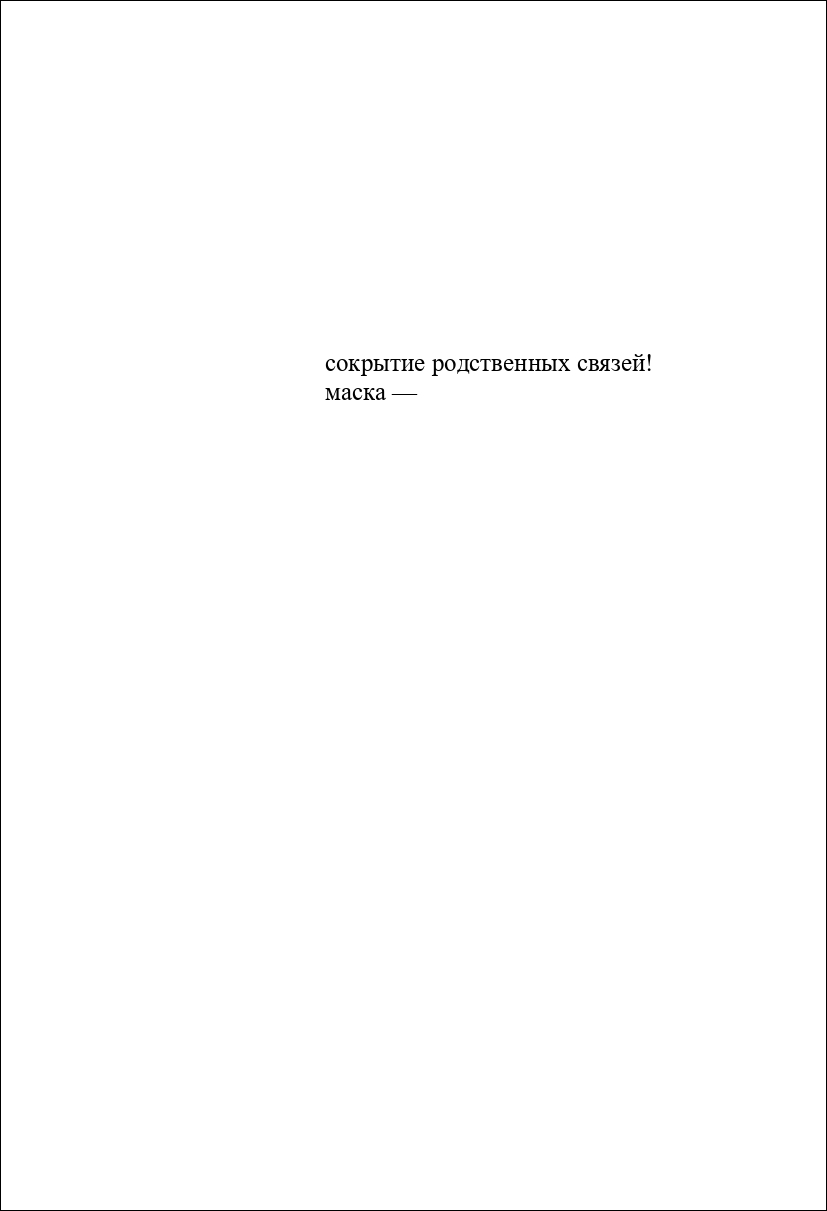
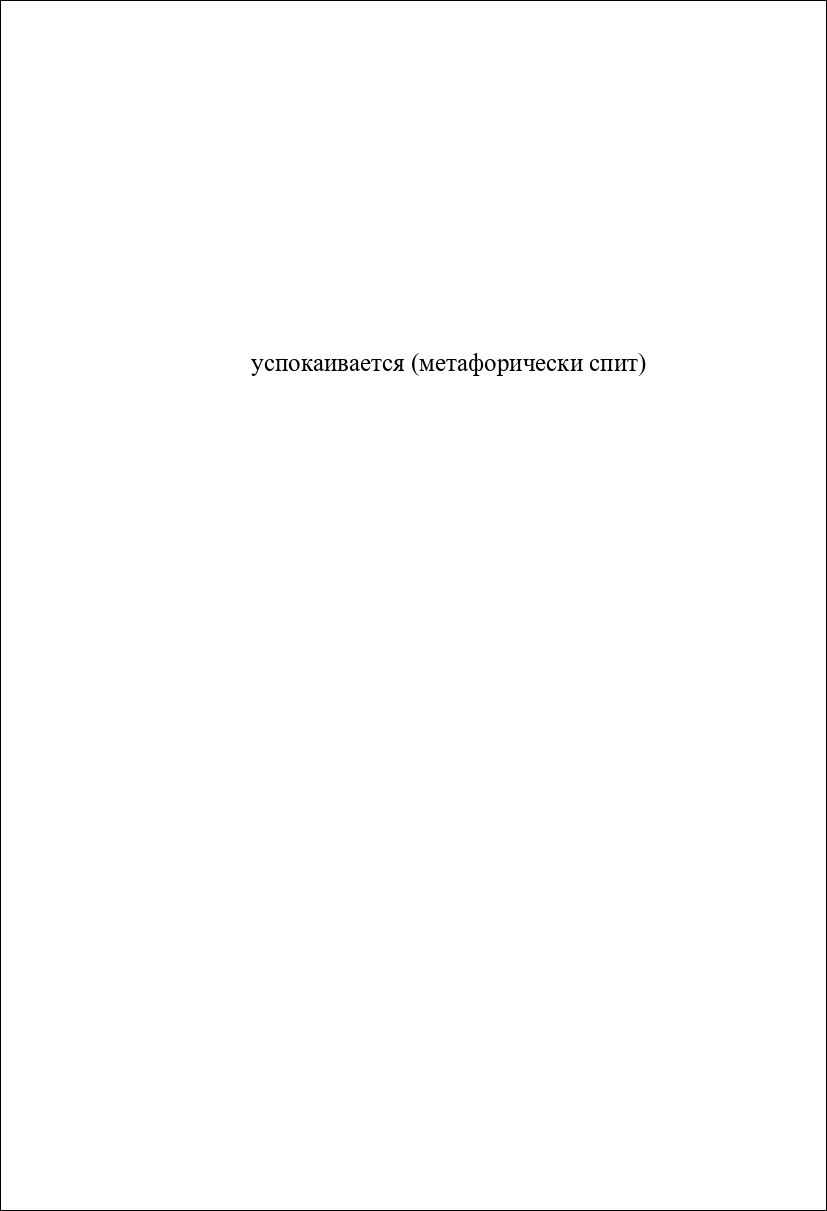

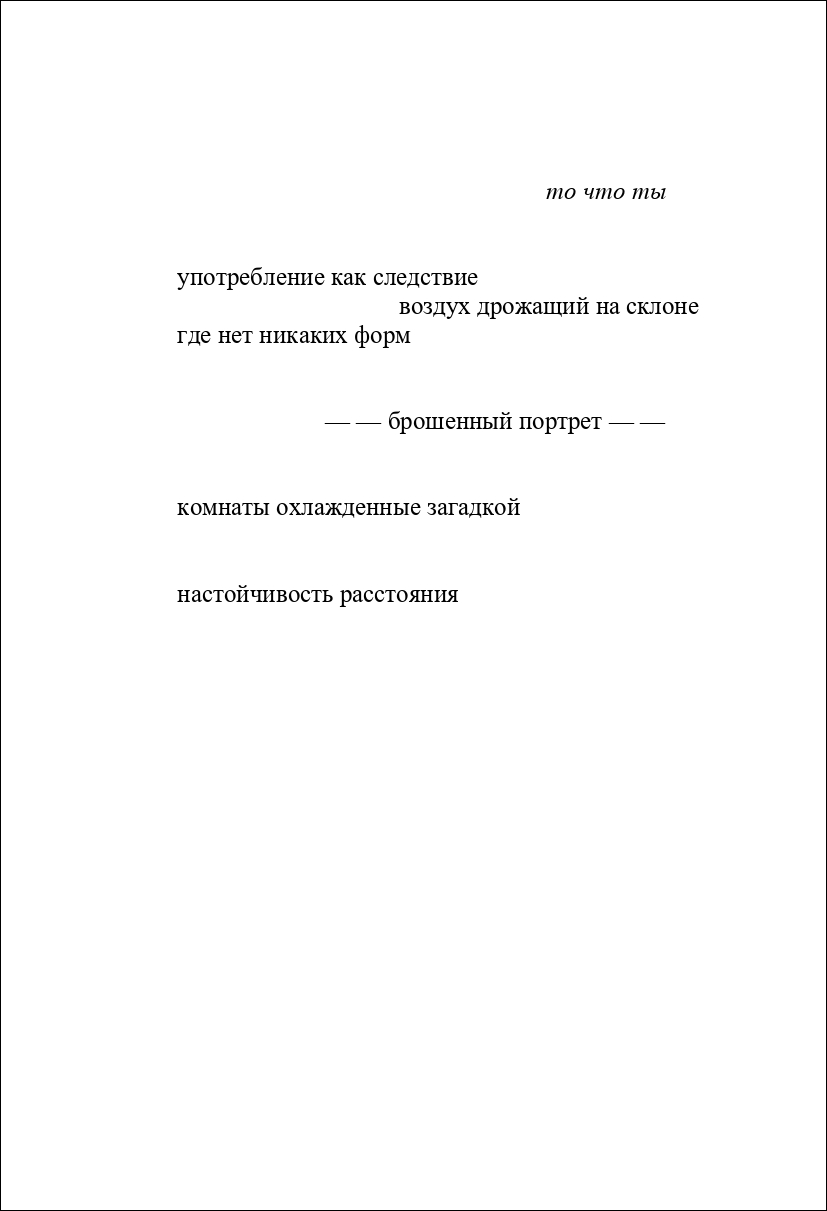


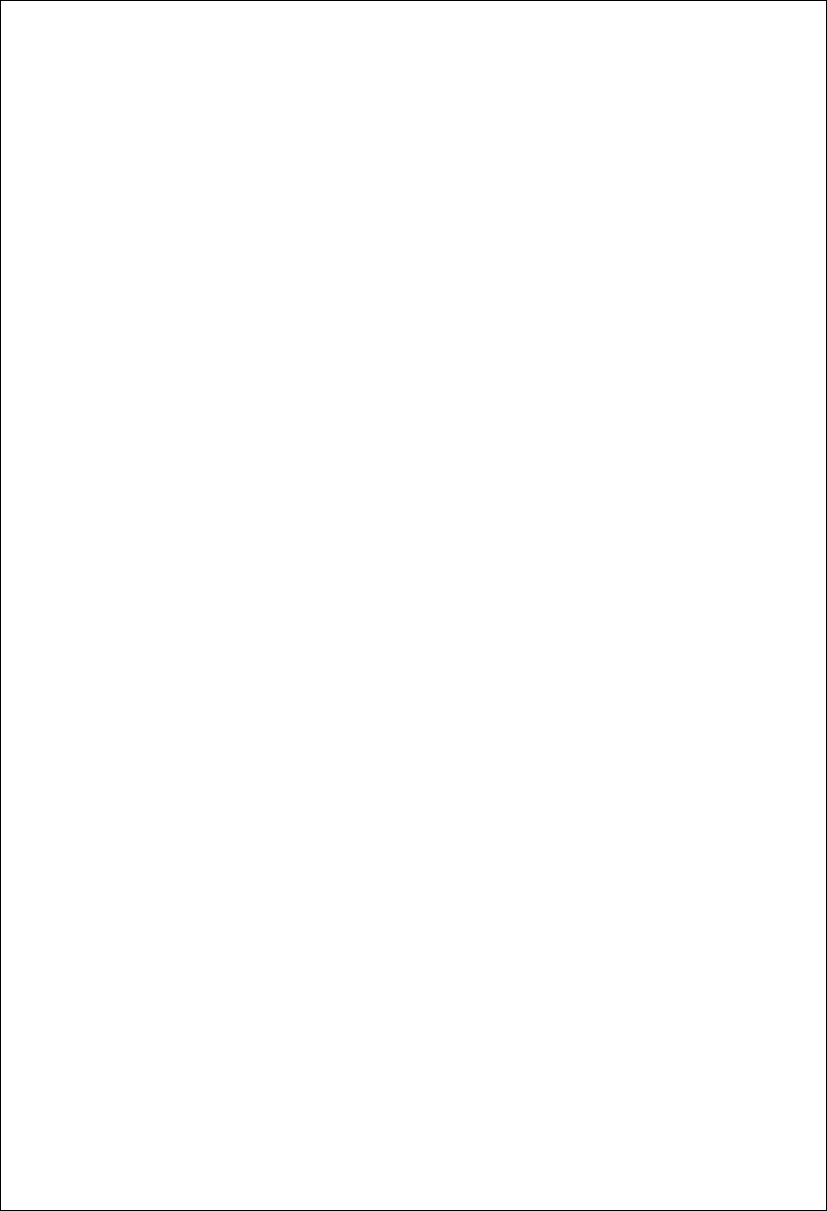

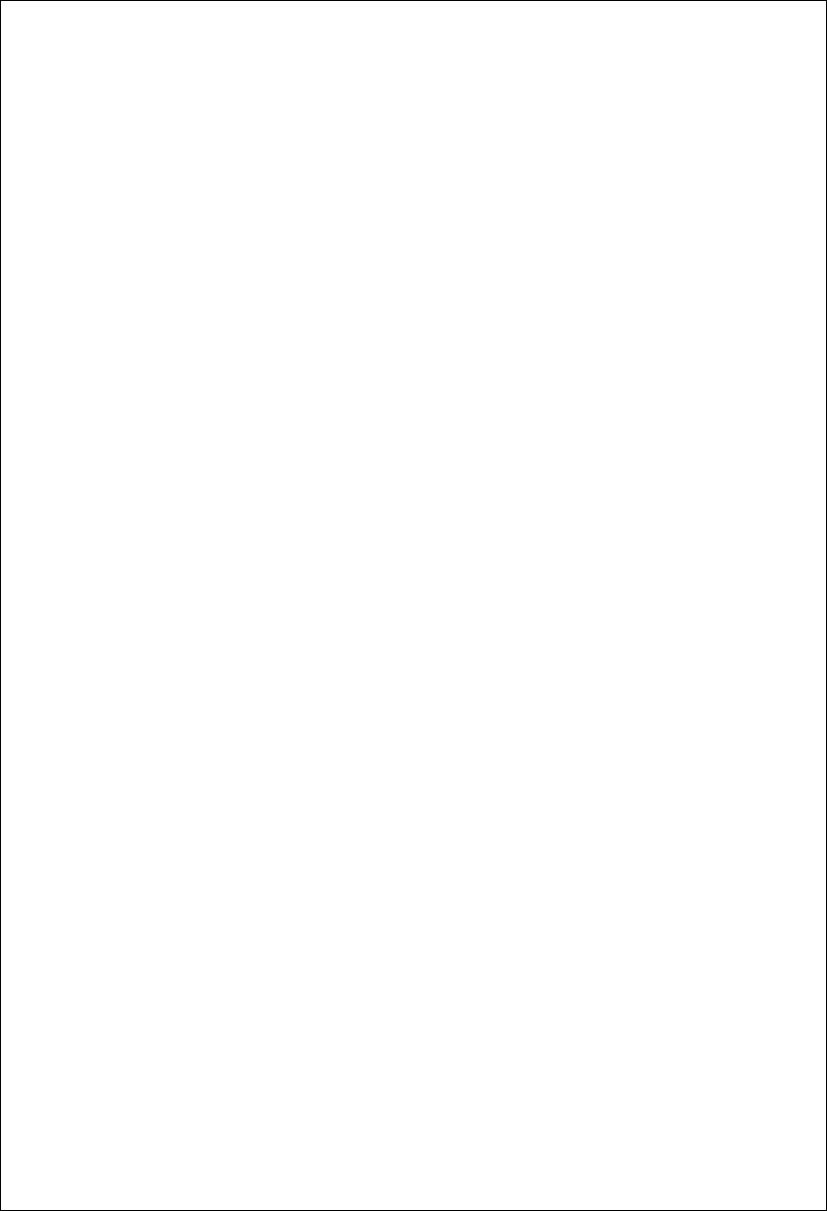

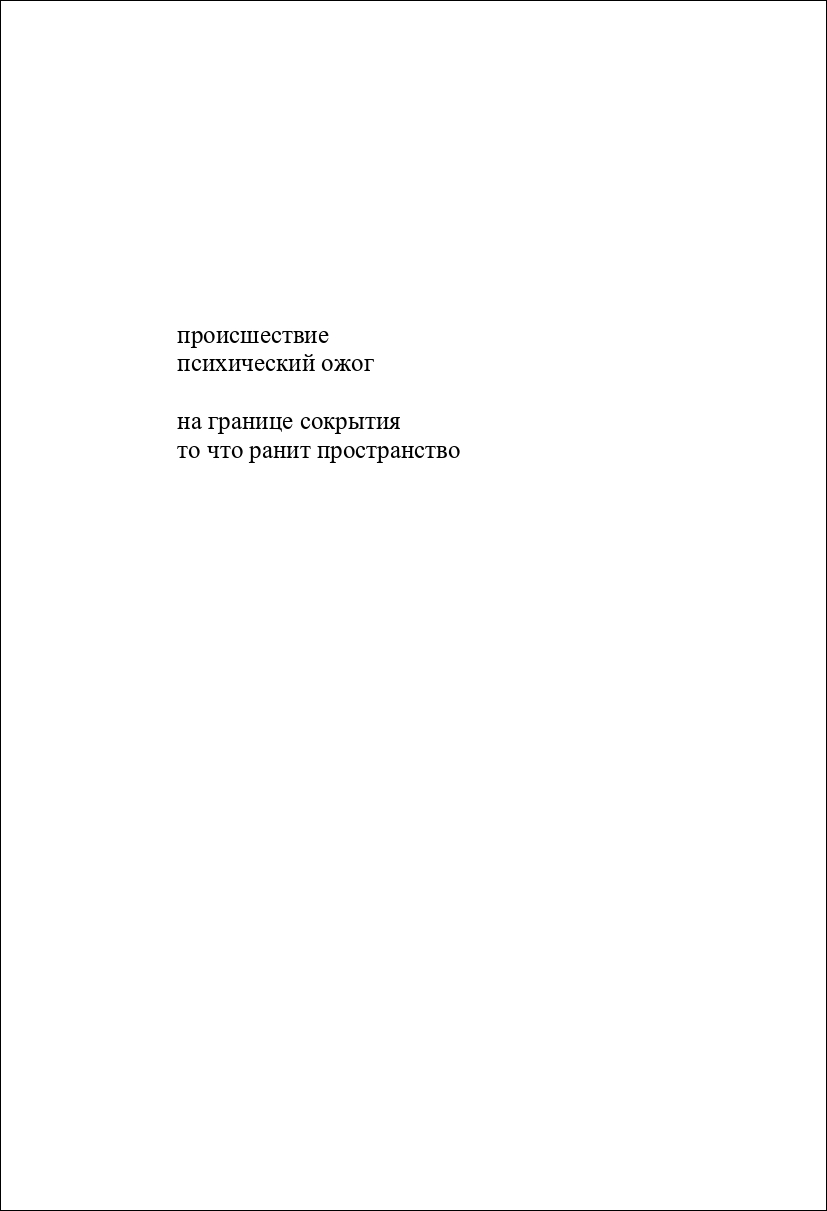

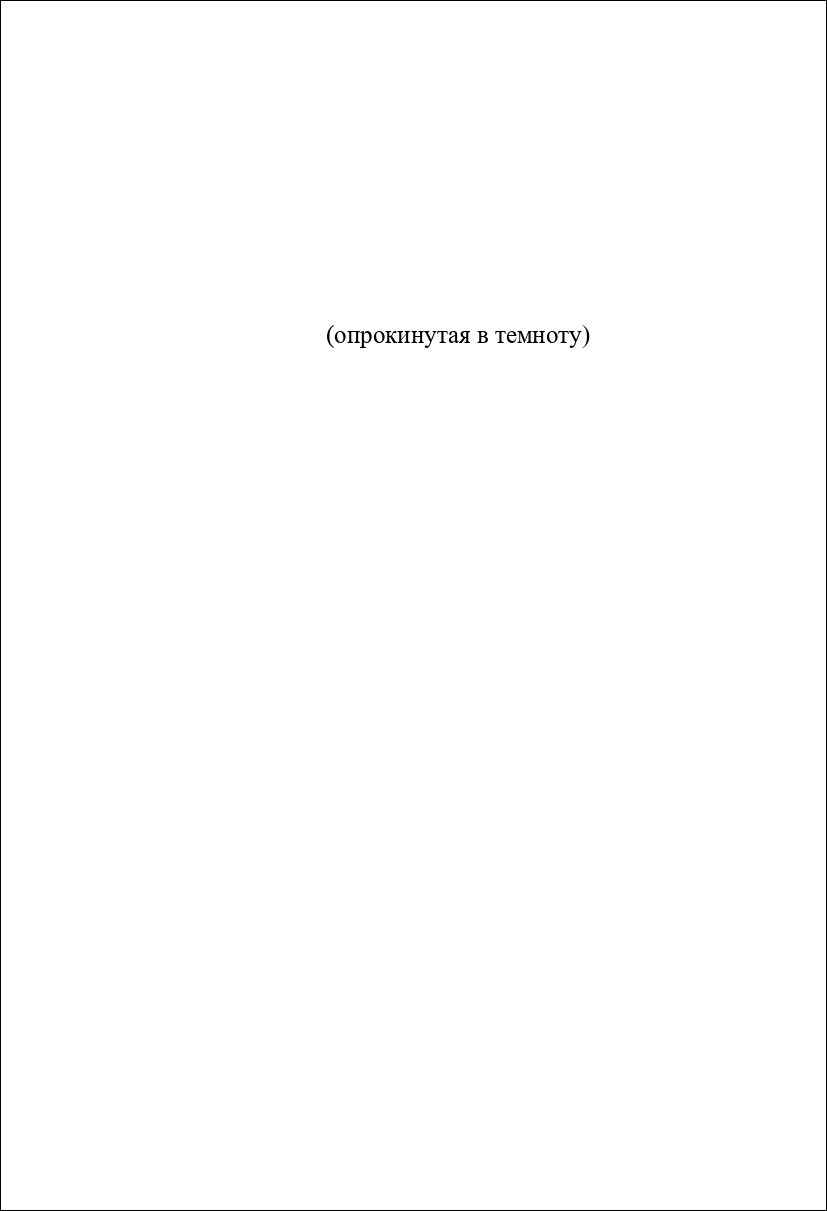
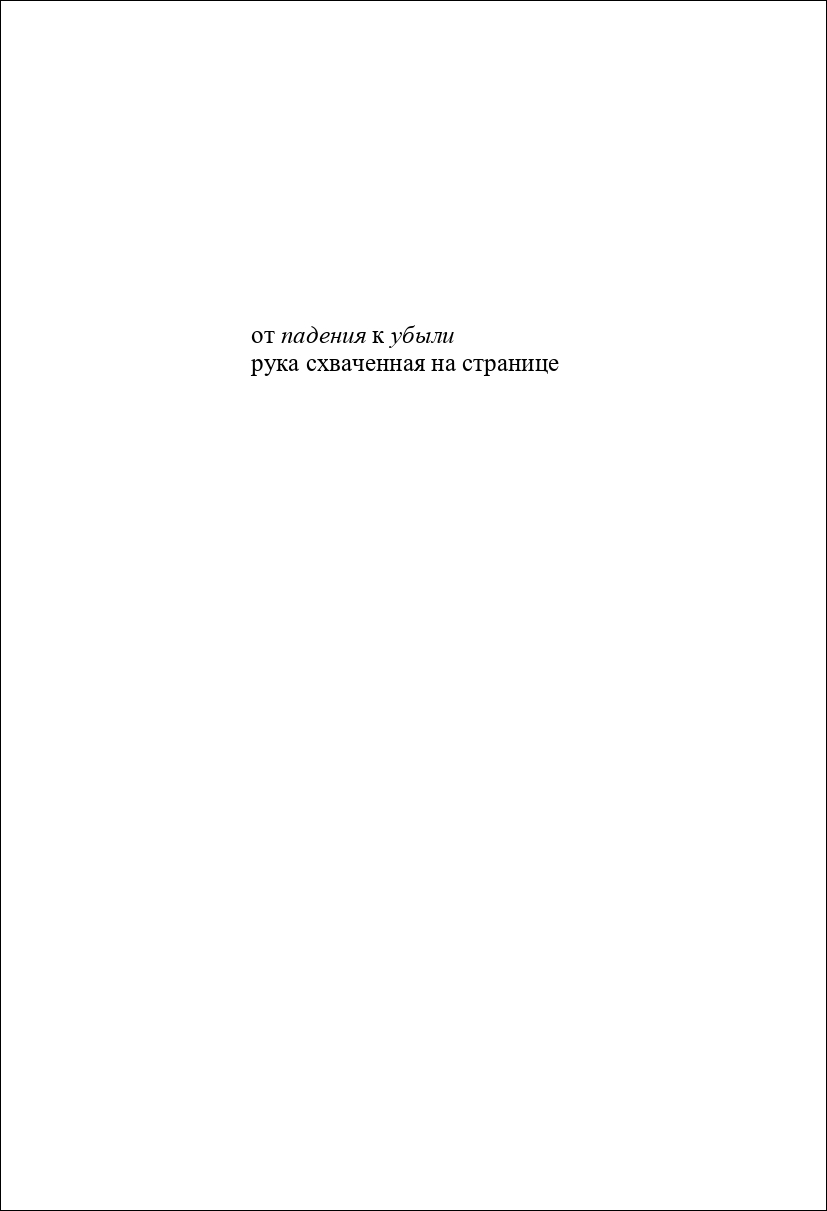
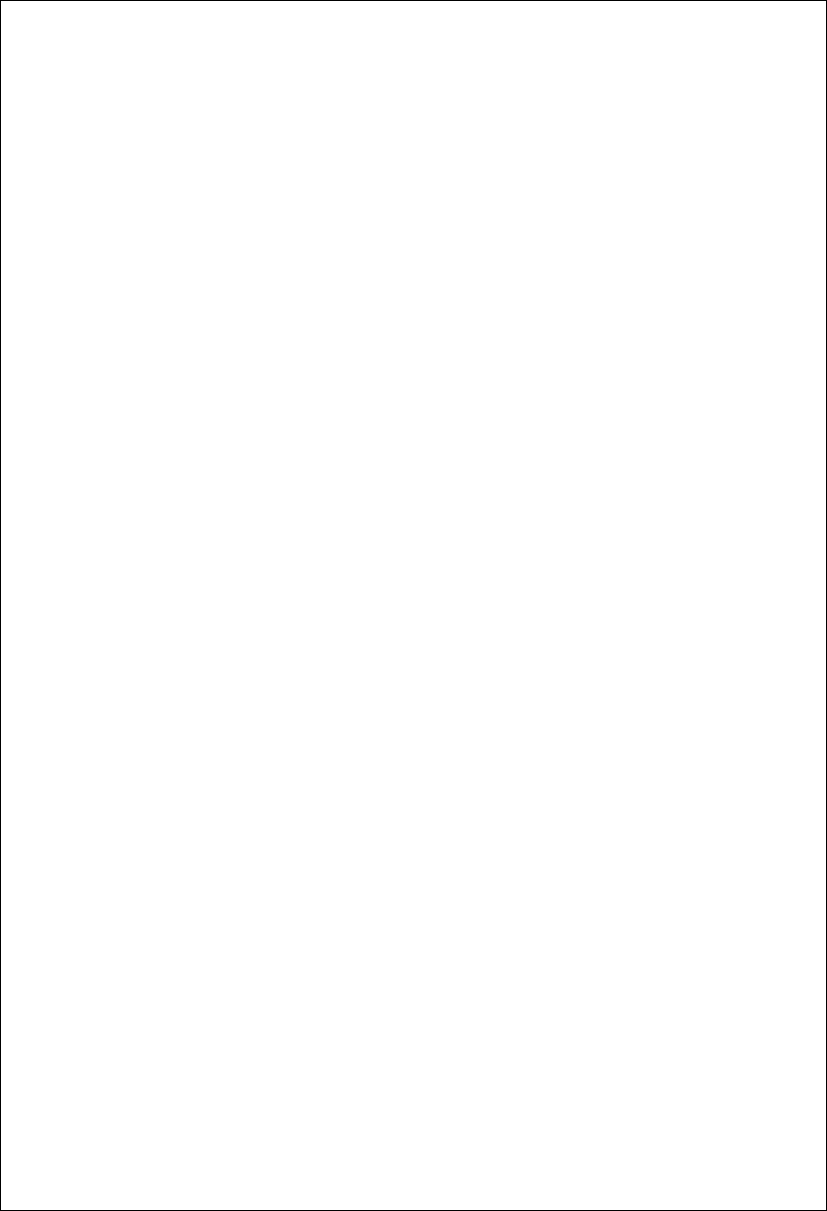

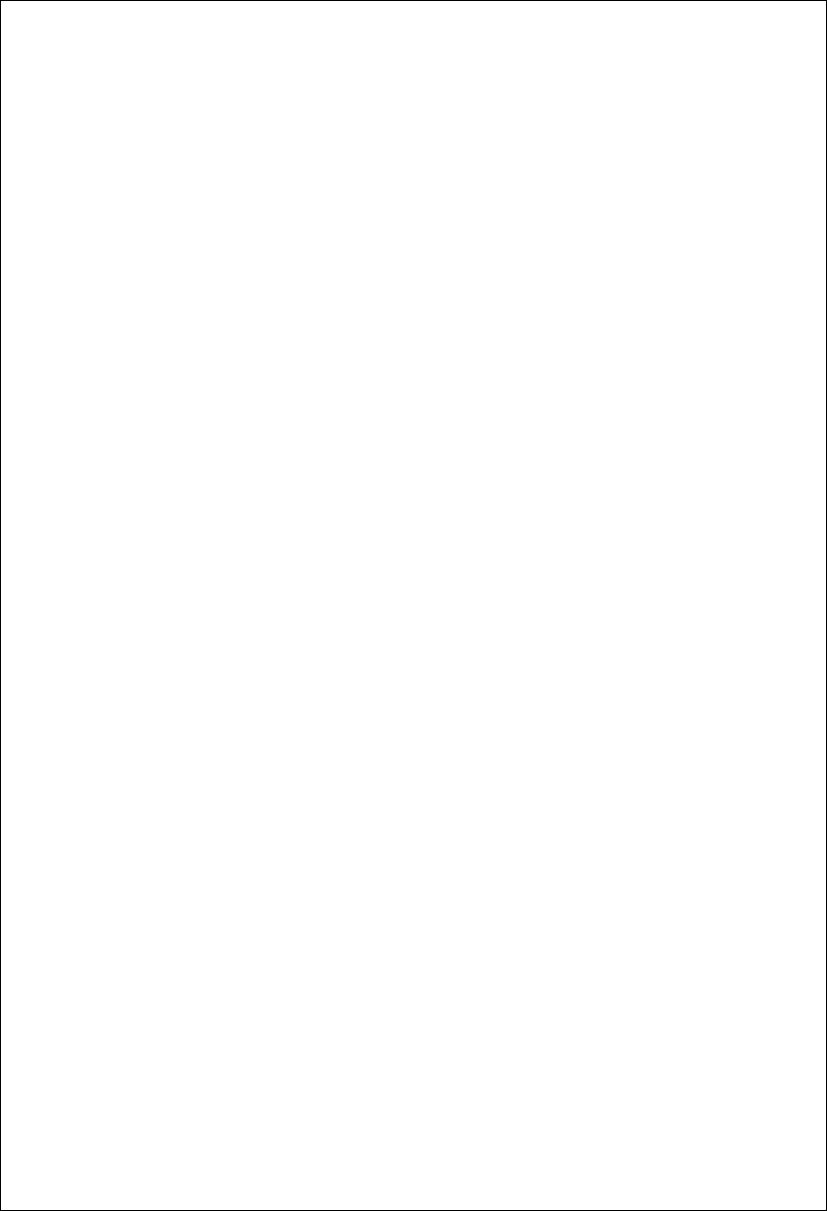
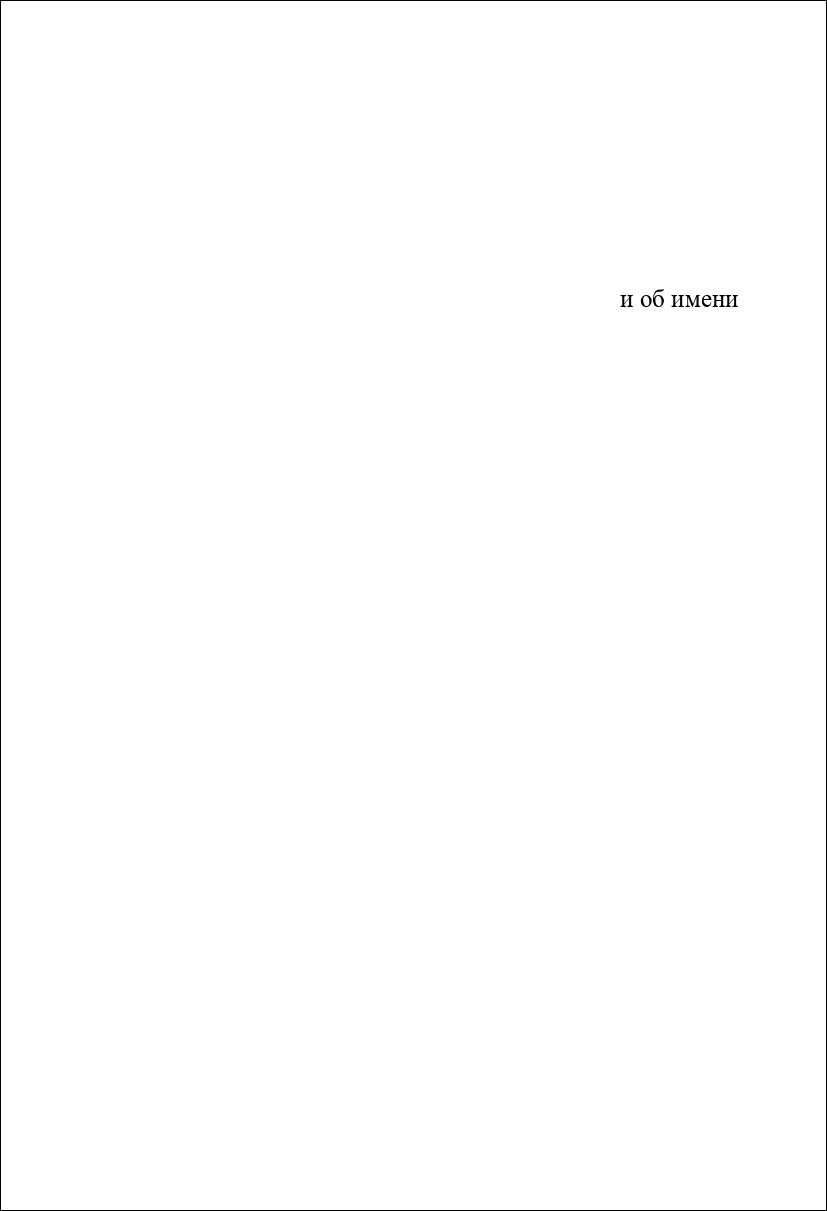
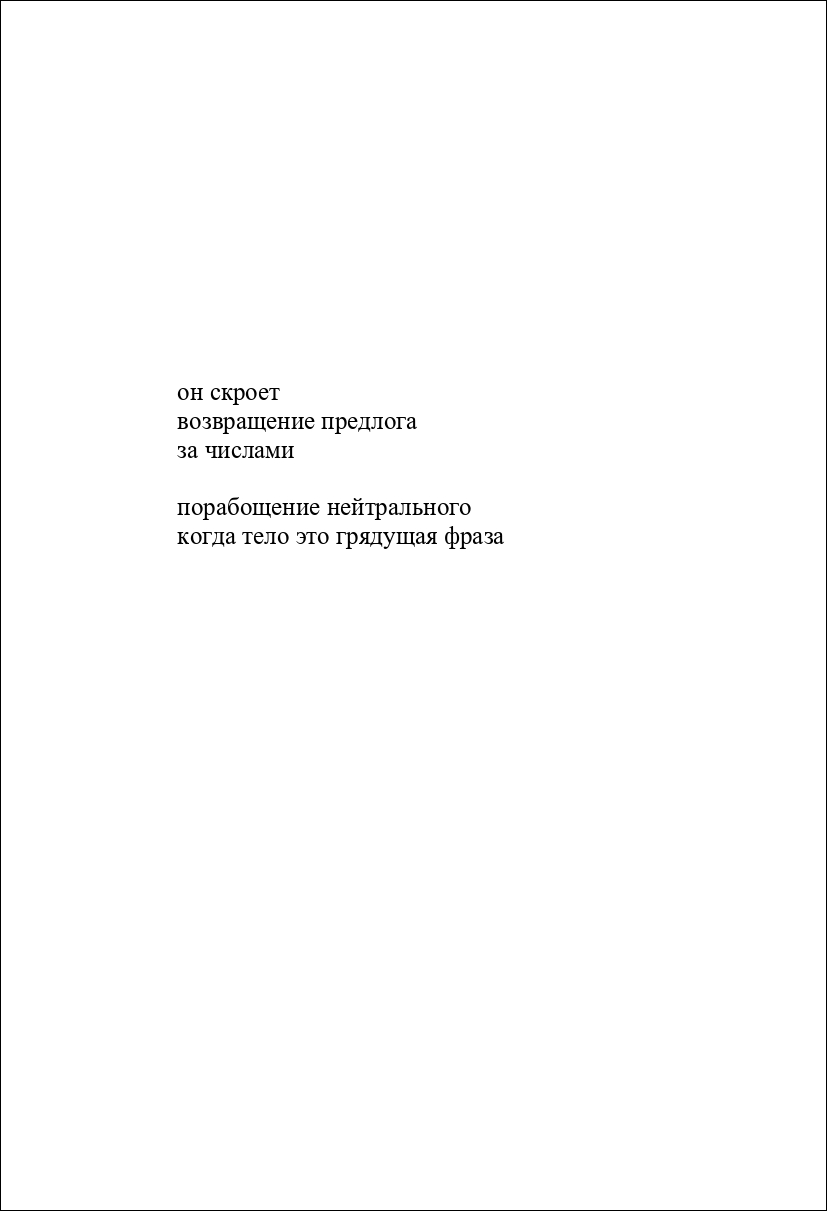
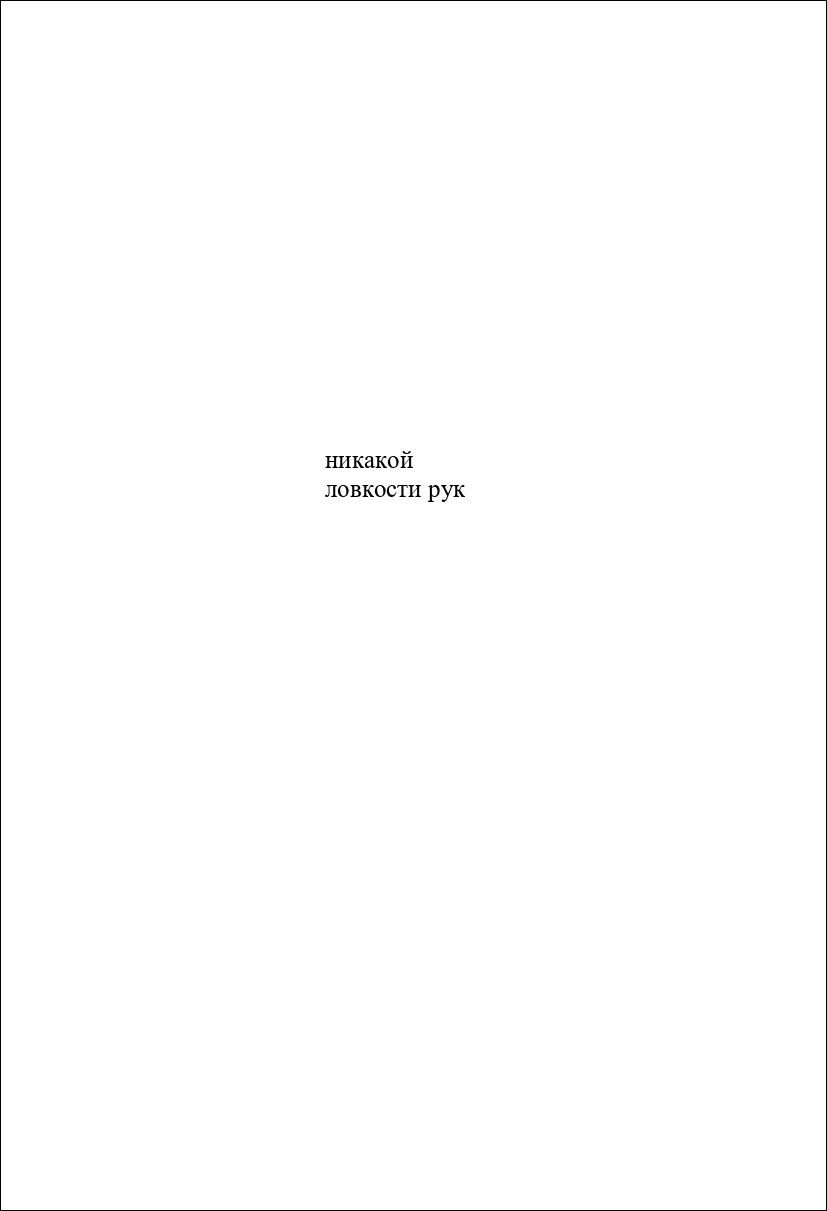
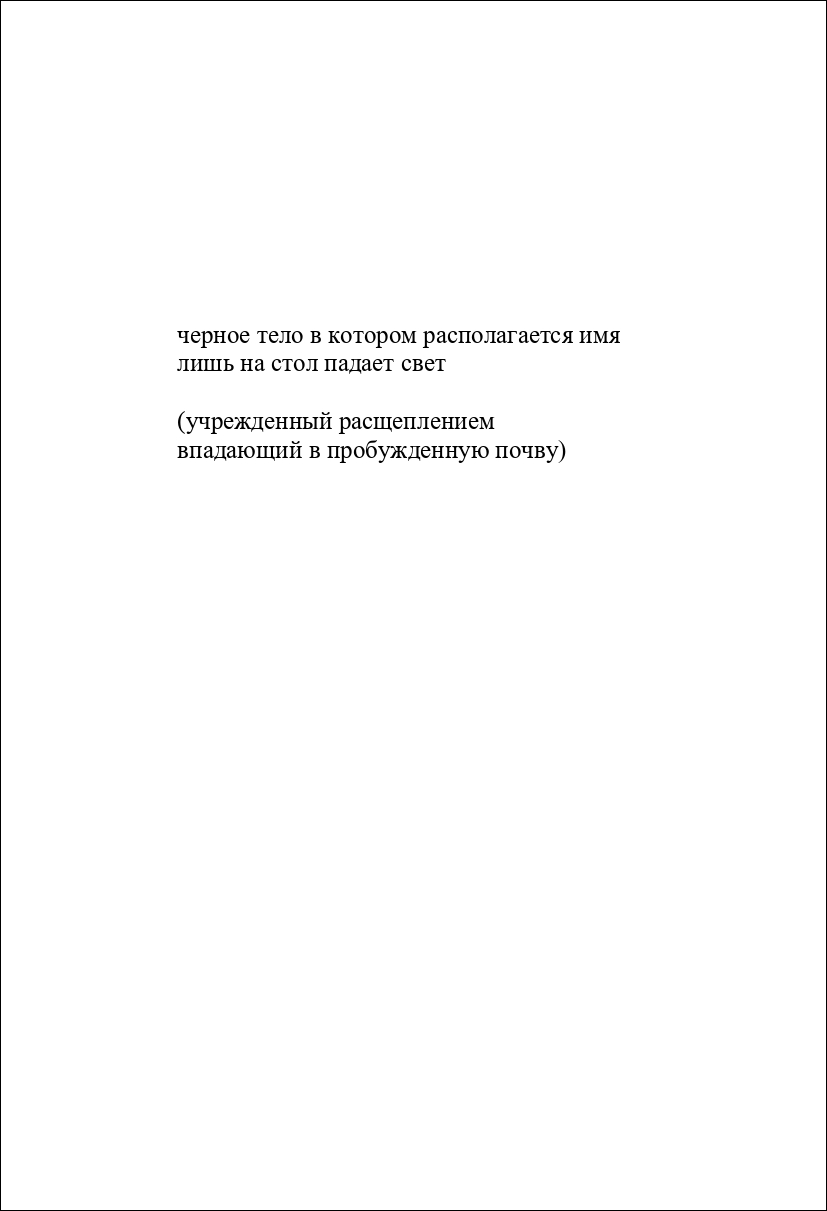

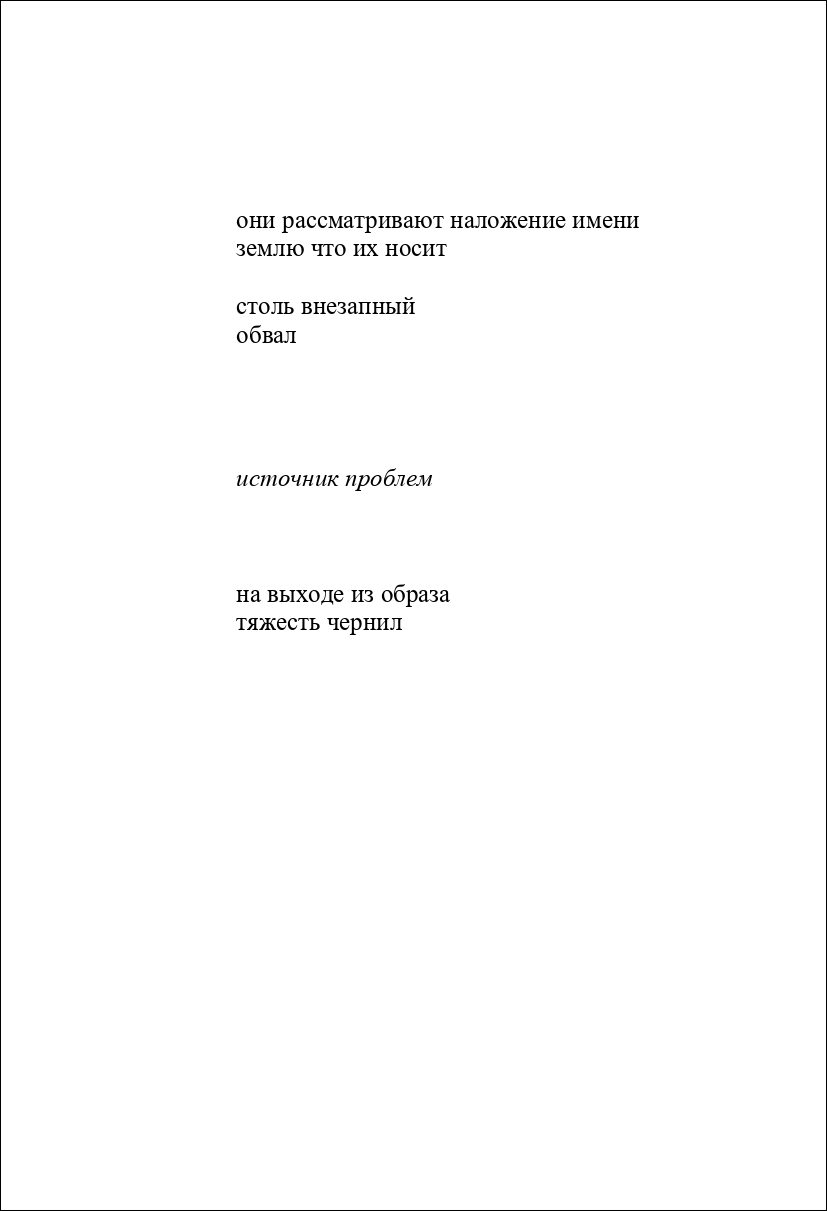
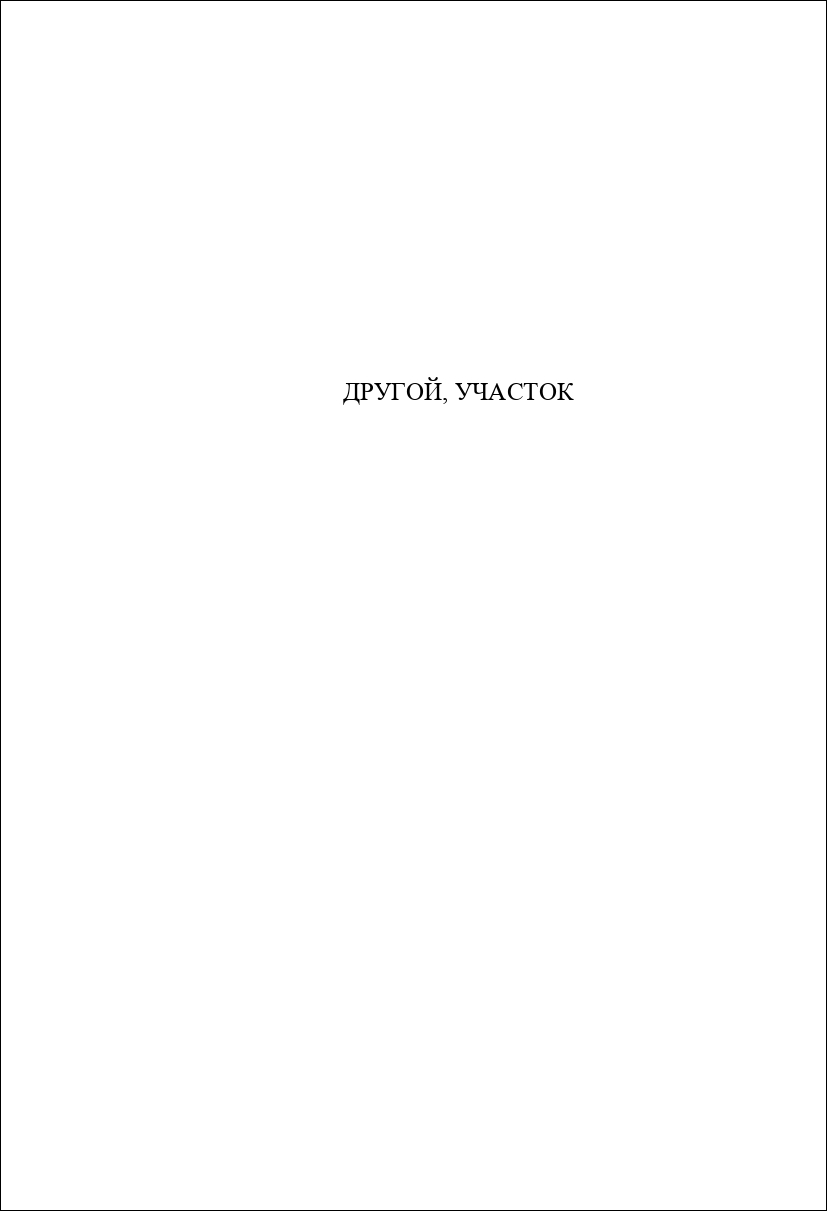

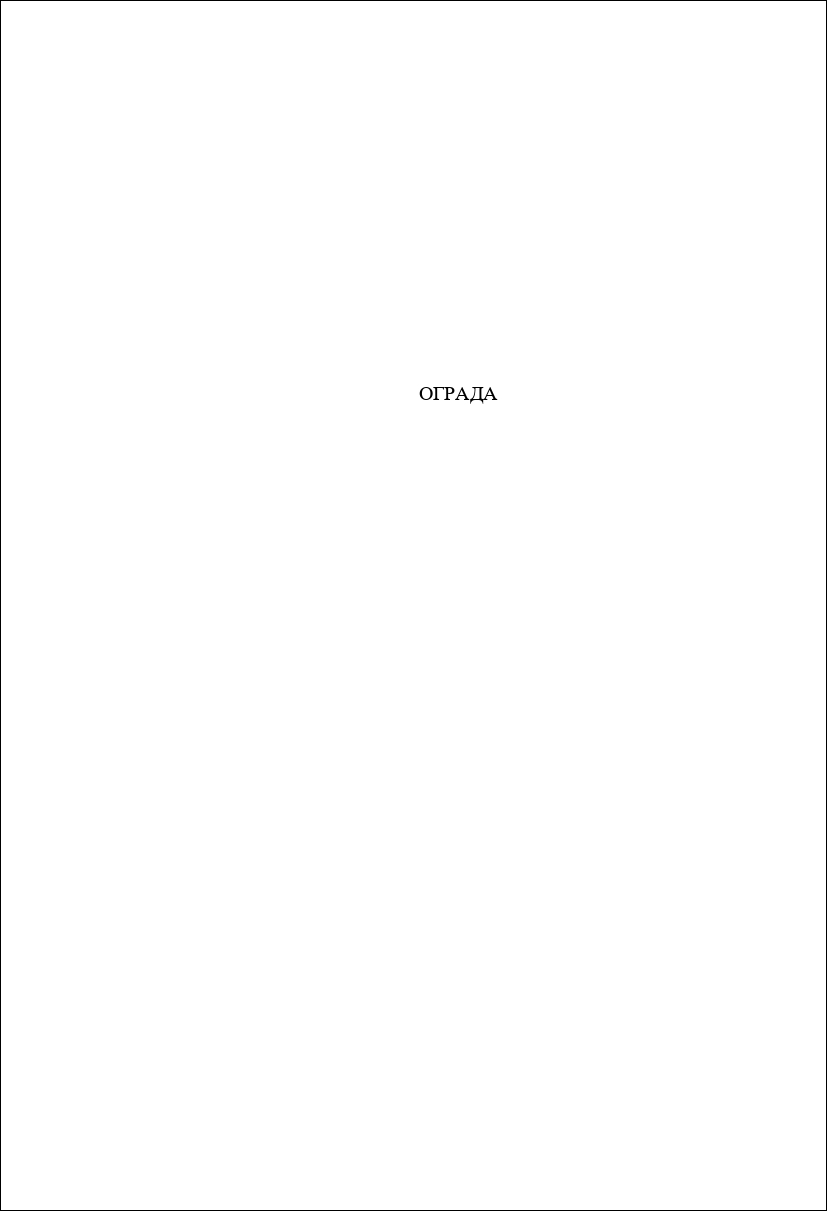
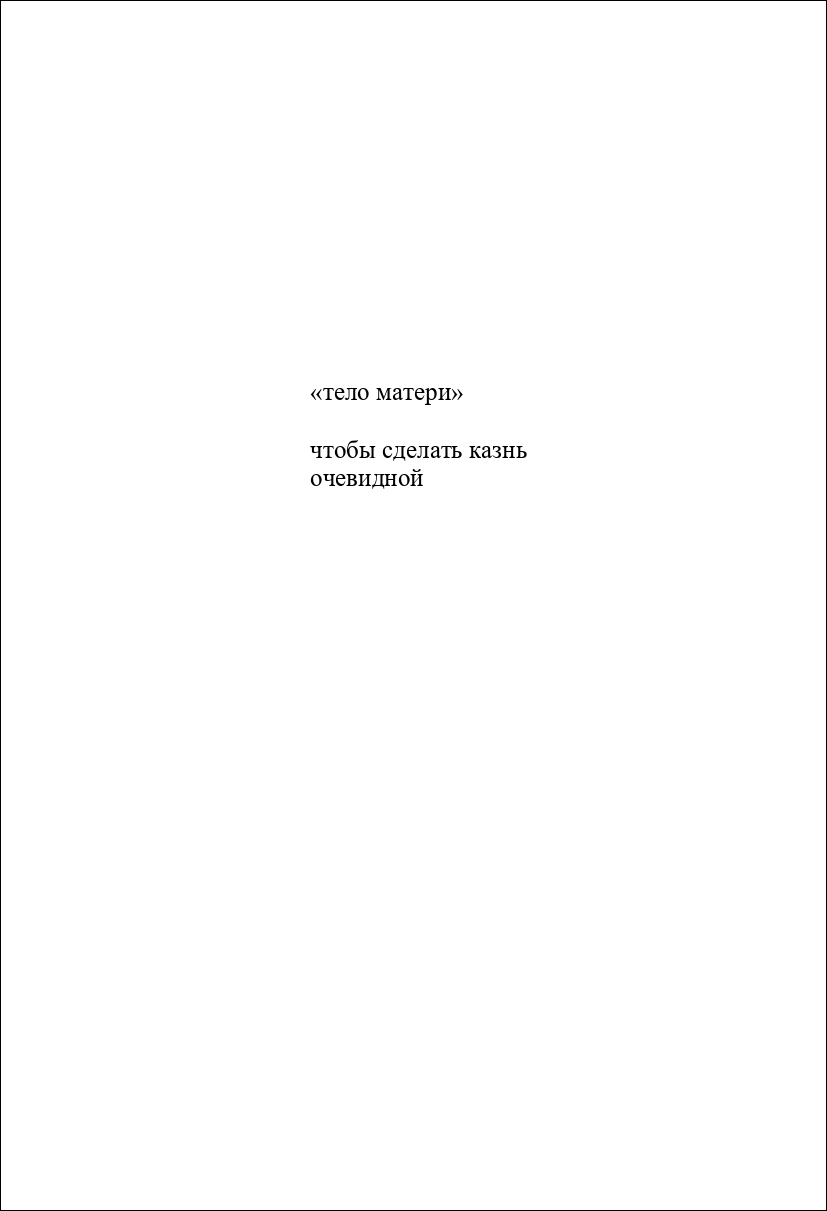
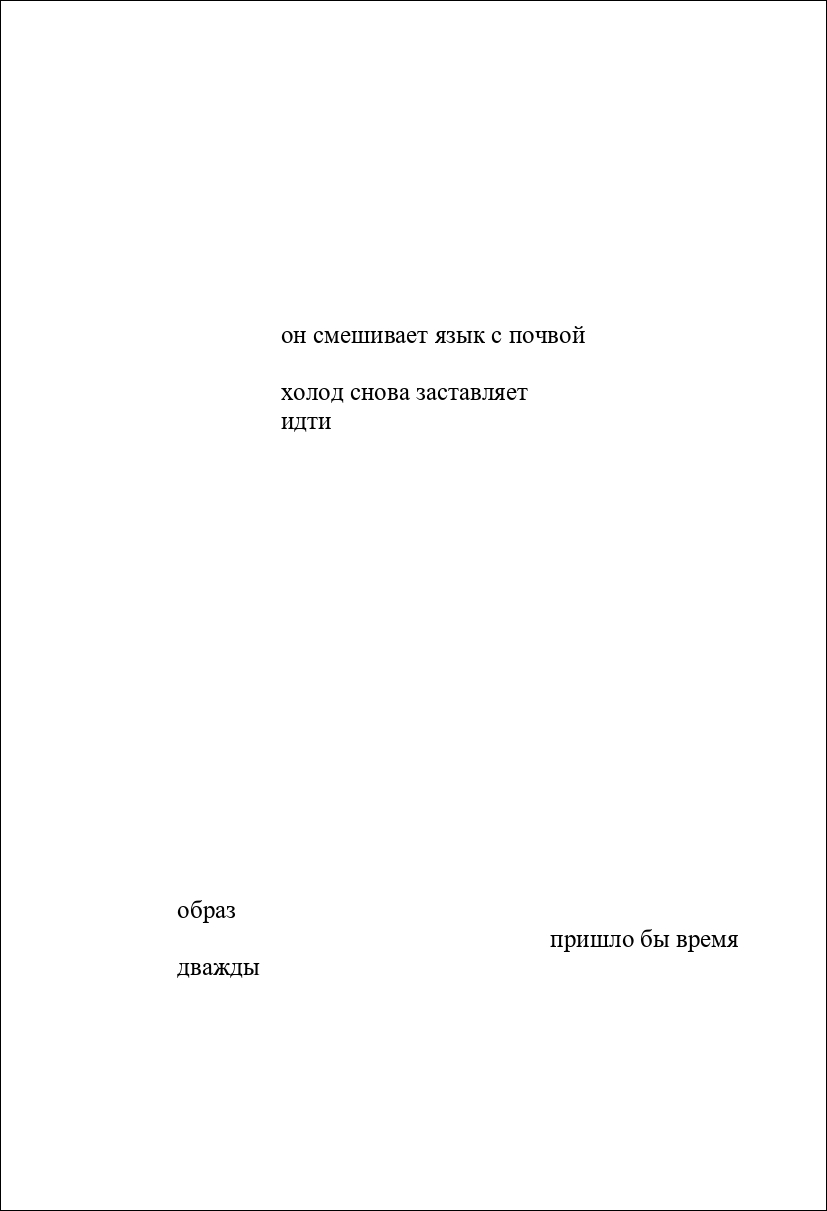
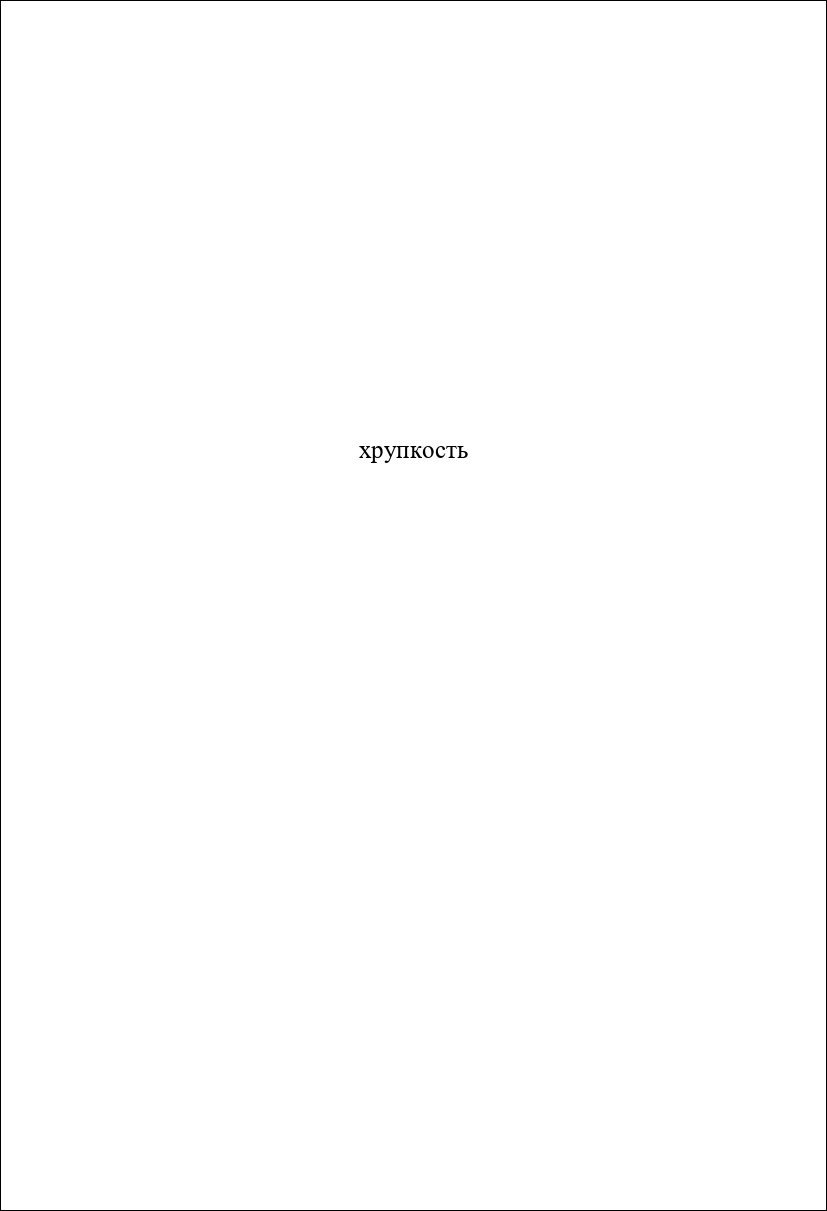

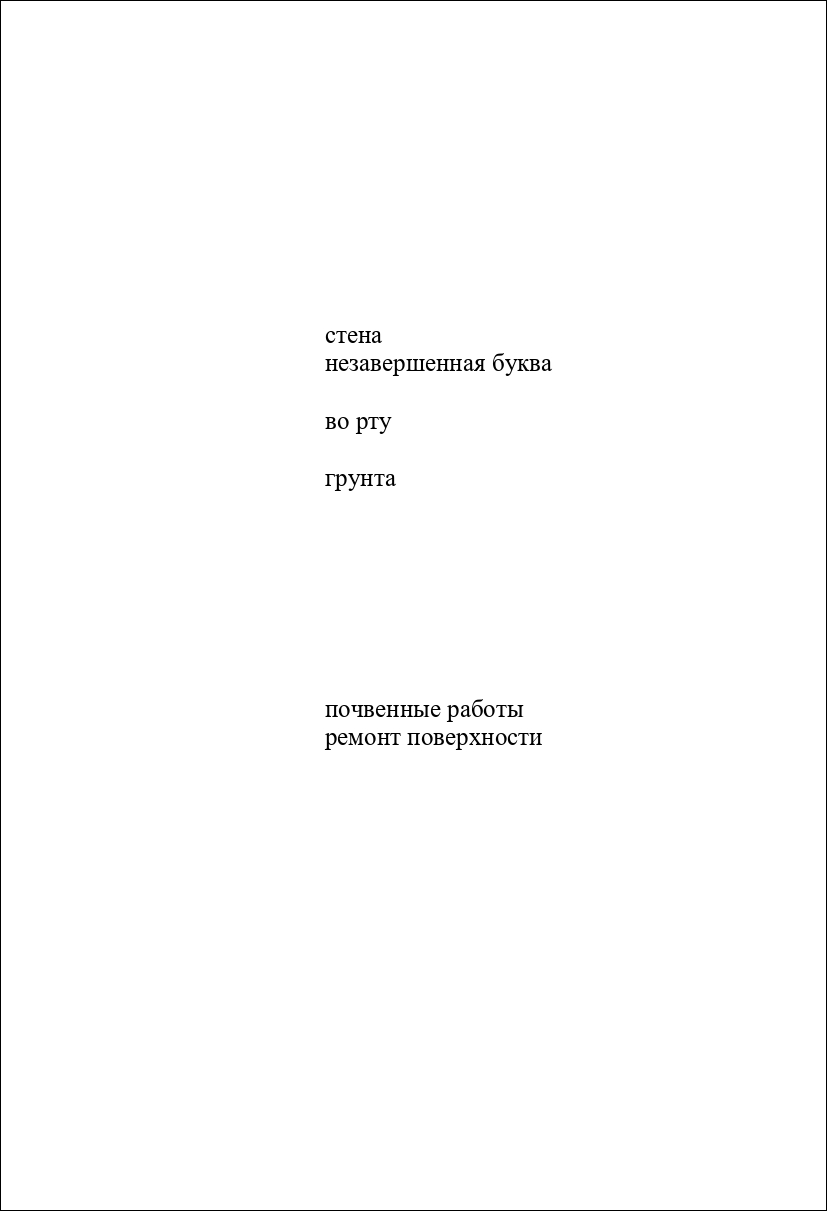


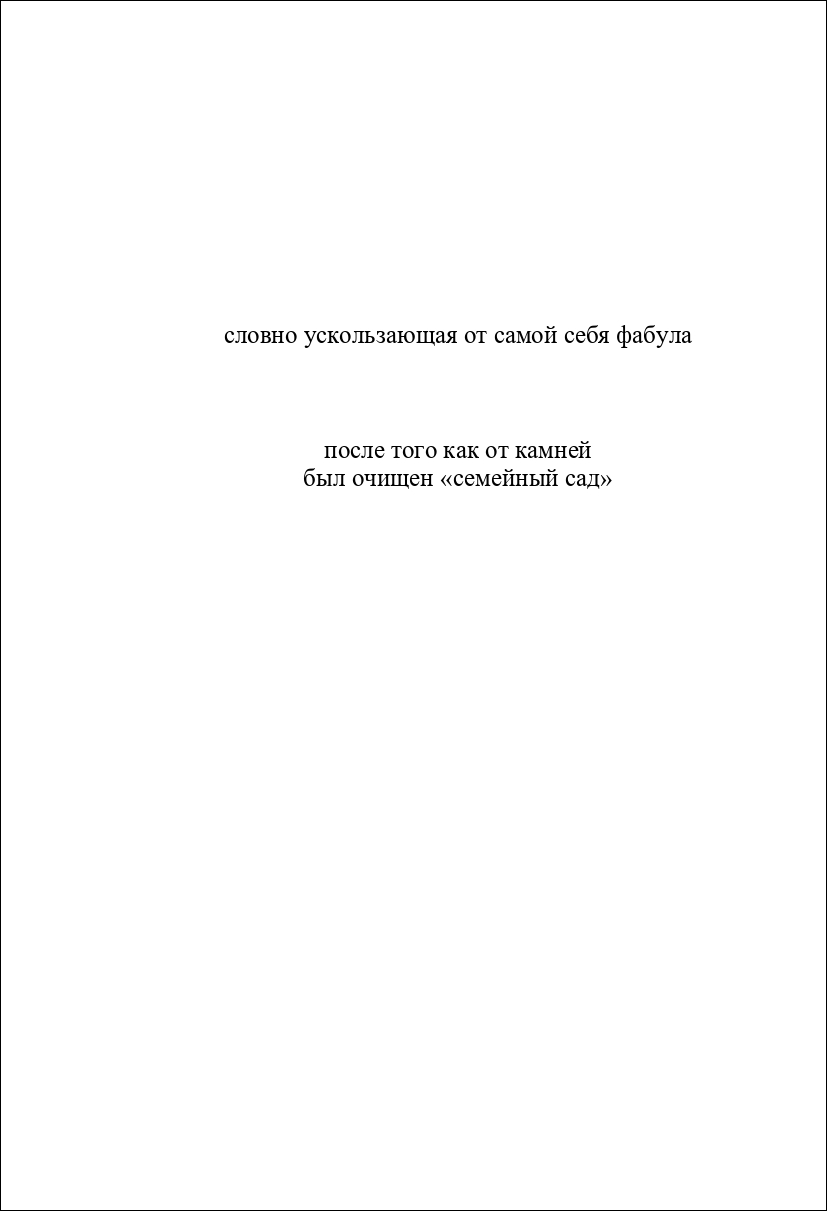
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

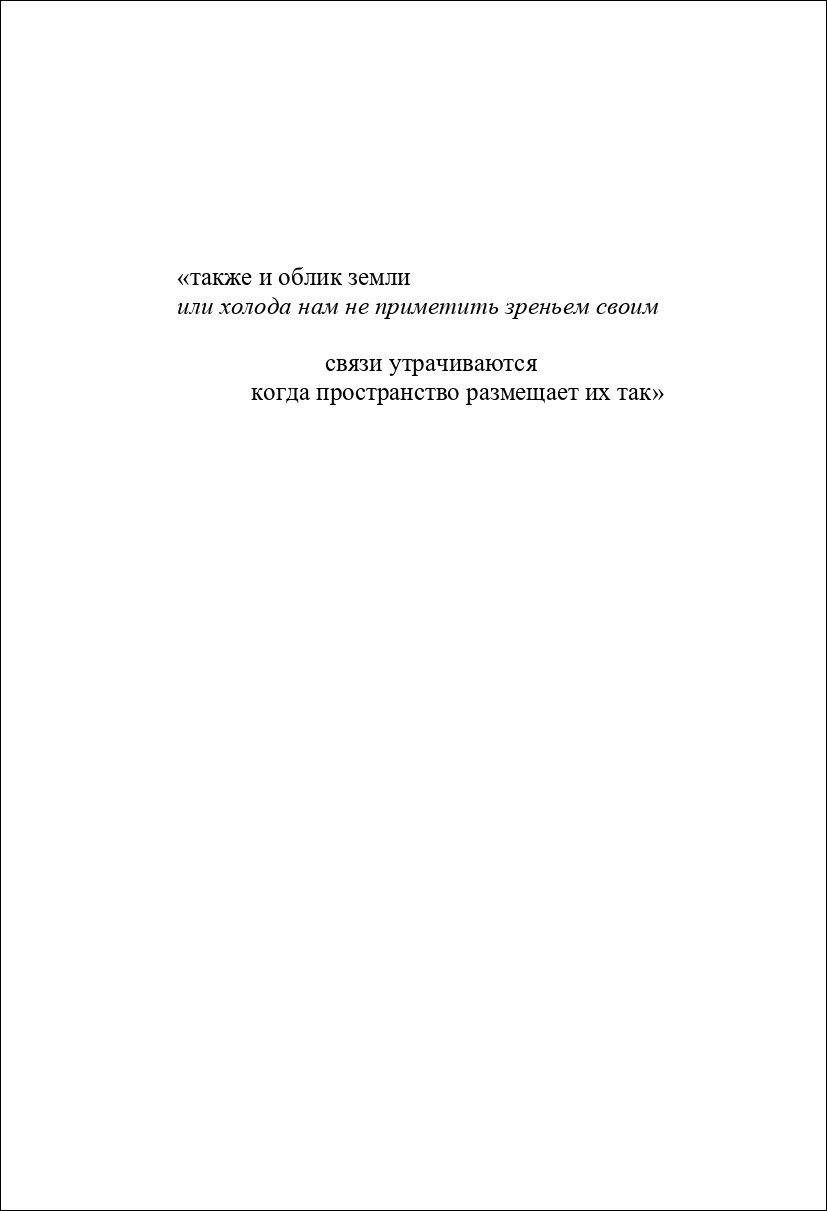
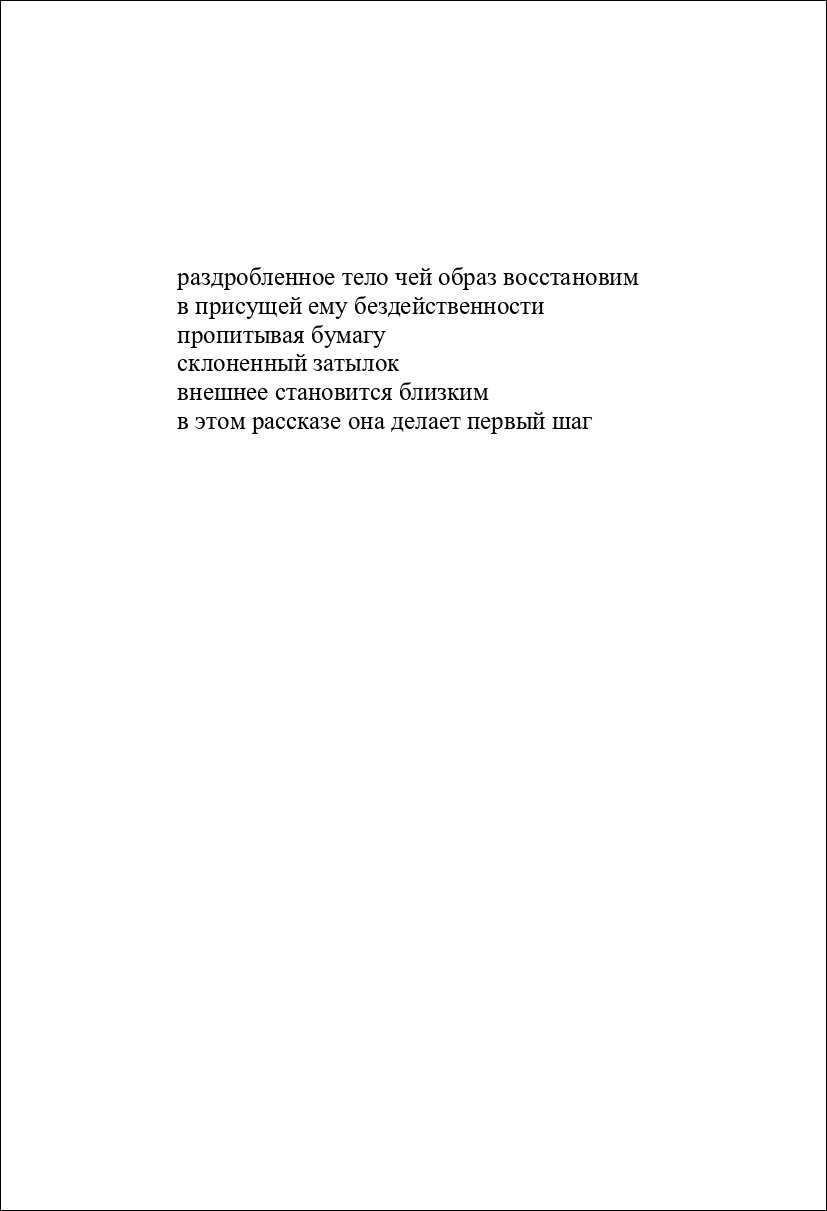
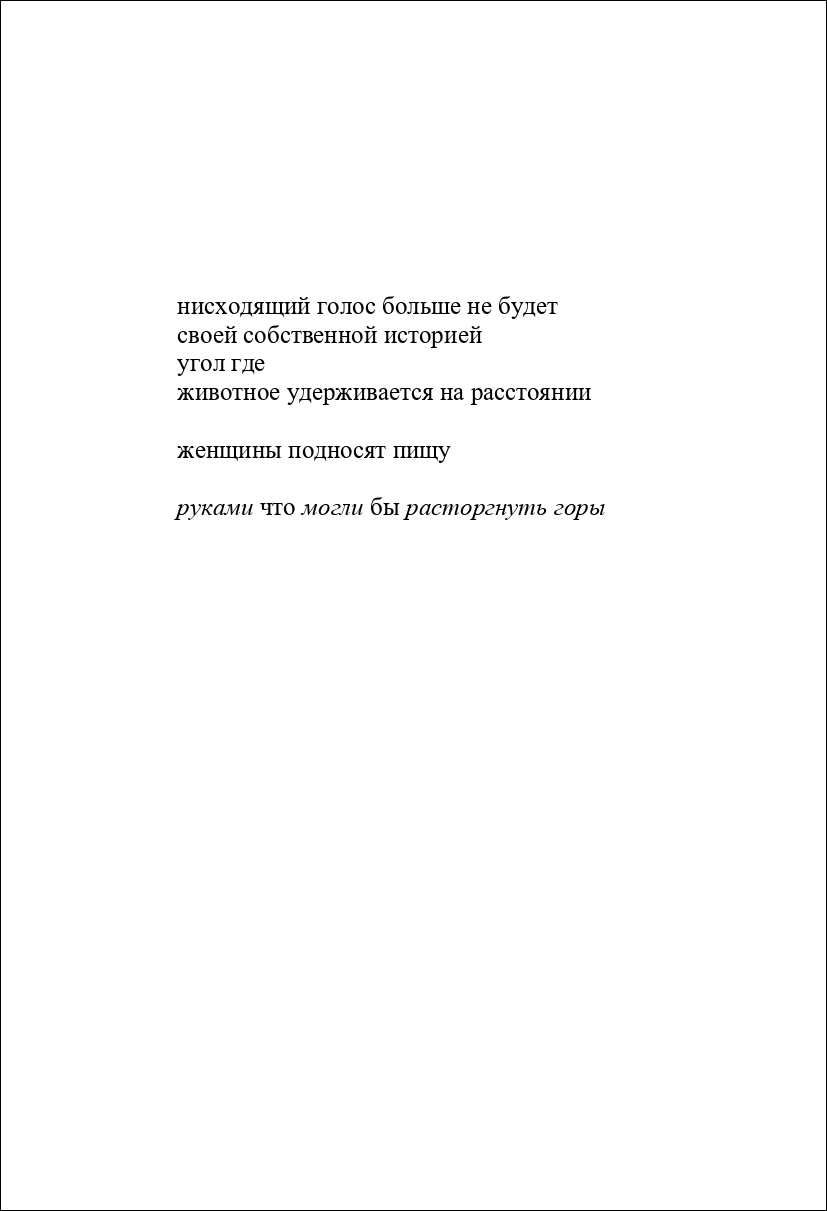
Скачать «Понятие препятствия» Клода Руайе-Журну в формате pdf

